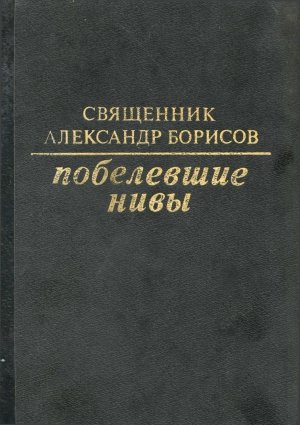
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для кого и зачем написаны эти страницы?
Россия переживает удивительный период своей истории. Закончилось 70–летнее «вавилонское пленение» страны партией, называвшей себя коммунистической. Как бы ни относиться к этой партии и ее идеологии, несомненно, что это время было исторически неизбежным для страны и ее народа. Будущие исследования ответят нам на вопрос — почему мы прошли по такому пути и какой в этом был смысл. Сейчас же нам необходимо выйти на новый виток нашей истории, нам, уставшим от бессмысленных жертв, безответственности и бесхозяйственности, от того, что за нас все время решали «сверху» — что нам можно и нужно и чего нельзя и не нужно. И в начале этого витка нам необходимо понять смысл и значение многих вещей, которые в любом нормальном обществе существовали непрерывно в течение веков, но в нашем обществе на протяжении трех–четырех поколений находились где–то под спудом, в тени. К этим подспудным составляющим нашей жизни для миллионов наших соотечественников относилась до недавнего времени и Русская Православная Церковь.
Что это такое? Что в ней и с ней происходит? Что это — тихая заводь, отделенная от остального мира малопонятным языком, обрядами, особым стилем жизни, погруженная в свое особенное, беспроблемное существование? Или часть общенародной жизни, пронизанная общими недугами? Каждый, конечно, знает, что Русь начала свою подлинную историческую жизнь незадолго перед Крещением и именно с ним вошла в семью христианских народов, обрела направление своей государственности и культуры. Православие было одним из трех оснований русской жизни, сформулированных окончательно в XIX веке по известной формуле: «православие, самодержавие, народность». С крушением самодержавия Русская Церковь превратилась из одухотворяющего мощного источника, поддерживающего всю народную жизнь, в некое временно терпимое зло. Сначала ее жестоко гнали. По некоторым данным за период с 1918 по конец 30–х годов было уничтожено 42 тысячи священников. Затем, в середине последней войны, Сталин отвел Церкви скромную роль исторического заповедника, поддерживающего патриотические чувства и, одновременно, безопасной для его режима, тихой гавани для пенсионеров.
И вот 1000–летний юбилей Крещения Руси: значительность самой даты совпала с радикальным изменением отношения нашего государства к Церкви. Случайно ли? На наших глазах крупными смелыми мазками творится история. Видим ли и понимаем ли мы это? Священнослужители становятся желательными и чуть ли не модными фигурами повсюду, начиная с сессий Верховного Совета и кончая утренниками, посвященными началу учебного года в школах.
Но что же происходит в самой Церкви? Так ли тиха и безоблачна была и есть ее жизнь? В тоталитарном обществе не могло быть ни одного общественного института, который не находился бы под бдительным оком всевластного государства. И чем ближе та или иная структура к мировоззренческим, идеологическим сферам, тем внимательнее контролировалась вся ее деятельность. Принцип «держать и не пущать» пронизывал не только культуру, науку и вообще всякое творческое направление человеческой жизни, но также и Церковь. Отделение Церкви от государства означало лишь неучастие Церкви в делах государства, но никак не наоборот. Используя общепринятый политический язык, можно сказать, что Русская Православная Церковь также переживала период «застоя» со всеми его печальными последствиями. Так что сейчас она в значительной мере напоминает собой человека, на протяжении долгого времени лежавшего связанным по рукам и ногам. Теперь с него сняли веревки и говорят: «Ну, давай, давай, действуй!» Понятно, должно пройти какое–то время, прежде чем его затекшие от бездействия члены станут способны к настоящей работе. Но время не ждет. Для более быстрого восстановления необходимо видеть, где и что застоялось и нуждается в пристальном внимании и скорейшем исцелении.
Предлагаемые читателю размышления будут, вероятно, интересны и для тех, кто не будучи человеком церковным, тем не менее относится к Церкви всерьез, как к главному источнику религиозных и вообще духовных ценностей в обществе. В то же время прийти к этому источнику мешают как всякого рода личные проблемы, так и целый ряд мнимых или действительных особенностей жизни нашей Церкви, которые затрудняют принятие ее современным человеком, не получившим религиозного воспитания.
Теперь отвечу на второй вопрос: зачем?
Основным стимулом для автора явились многолетние наблюдения того несоответствия, которое имелось между тем, что ожидали от Церкви очень многие люди, переступавшие ее порог, и тем ответом, который они чаще всего получали или получают. Люди приходят с мучительными вопросами и проблемами: «Для чего я живу? Почему моя жизнь складывается не так, как хотелось бы? В чем мне найти опору в жизни? Я зашел в тупик, помогите мне!» Что предлагалось им до недавнего времени на нашем православном богослужении и предлагается в большинстве наших храмов и сейчас? Везде ли встречают их с той же любовью и радостью, с какой встретил отец своего заблудшего сына в известной притче? Душа человека, пришедшего с надеждой получить ответ на свои часто даже еще не вполне ясные вопросы, чувствует близость какого–то иного бытия, каких–то иных жизненных принципов, но без конкретной поддержки и помощи в этом совершенно новом и незнакомом мире люди нередко уходят разочарованными.
Таким образом, происходит странная вещь: с одной стороны — Церковь влечет к себе, так как она, несомненно, несет самую возвышенную истину, с другой стороны — в ее жизни есть, очевидно, много такого, что становится преградой между этой истиной и людьми, которые в ней нуждаются.
Почему так происходит? Что является такой преградой?
В этих заметках читатель встретится с критикой нашей Церкви, подчас, быть может, довольно резкой. Неизбежно возникает вопрос: нужна ли вообще критика? Не гораздо ли важнее писать о Христе, писать о Евангелии, то есть проповедовать? Ведь если проповедь будет благословенной, то и недостатков, заслуживающих критики, будет тем самым все меньше и меньше. Критика вообще вещь неблагодарная, да и к тому же небезопасная.
На это можно ответить следующее:
1. Без критики всего того, что мешает проповеди Евангелия, невозможна и сама проповедь.
2. Подобно тому, как без размышлений над личными недостатками невозможно никакое движение вперед, к большей зрелости, точно так же без размышлений о недостатках нашей Церкви, в том, что касается человеческой стороны ее, невозможно и ее возрастание.
3. Критика архаических и просто нехристианских моментов в жизни нашей Церкви, исходящая от самих членов Церкви, создаст больше доверия к нам и нашей вере. Очень часто принятию христианства и вхождению в Церковь препятствуют вещи, имеющие мало общего как с подлинным христианством, так и с подлинной Церковью, — то есть искажения и заблуждения, и если мы сами будем об этом думать и говорить, то мы уберем преграды с пути ко Христу для многих людей.
Могут также возразить, что подобная критика приличествует лишь епископам и Поместным Соборам. Однако известно, что Соборы и собирались именно для того, чтобы выносить решения по тем вопросам, которые ставила сама жизнь всей Церкви.
То, что Русская Православная Церковь нуждается в существенных реформах, было очевидно для многих еще в конце прошлого — начале нашего века. Однако те условия, в которых находилась тогда наша Церковь, не позволяли осуществиться многочисленным преобразованиям, предложенным в то время. Последующая ситуация также исключала возможность каких–либо реформ. И все же периоды, когда внешние действия почти невозможны, представляют собой благоприятное время для внутренней работы: критической оценки прошлого и настоящего и размышлений над возможным будущим. Будущее уже содержится в настоящем. Все изменения имели для себя почву в предшествующих периодах кажущегося бездействия.
Так и настоящая работа была написана в 1983 году, когда каких–либо возможностей для ее опубликования, так же как и для каких–либо изменений в жизни нашей Церкви, предположить было совершенно невозможно. Однако «революция сверху», пережитая нами и именуемая «перестройкой», открыла и для Русской Православной Церкви совершенно новые перспективы.
В связи с этим мне вспоминаются слова замечательного человека, удивительного и яркого религиозного писателя, о. Сергия Желудкова, ныне, увы, уже покойного, сказанные лет 15 назад: «Мне часто представляется как некий кошмар: вот разрешат нам завтра свободно проповедовать нашу христианскую веру, скажут — идите на площади и улицы, предоставляем вам радио и телевидение. И может случиться так, что нам нечего будет сказать. Вот о чем надо задуматься сейчас, заранее. И это гораздо важнее, чем самоотверженные хлопоты по поводу беспрепятственного крещения младенцев».
Опасения о. Сергия, к сожалению, в какой–то мере подтвердились. С начала 1990 г. священнослужителям нашей Церкви предоставляются и радио, и телевидение, и страницы прессы. В январе 1991 года впервые была уже прямая трансляция Рождественского богослужения из Богоявленского собора Москвы. Так же и на Пасху 1991 и 1992 годов. Красоту и величие православной церковной службы впервые смогли увидеть миллионы людей. И вместе с тем даже у вполне доброжелательно настроенных к христианству работников радио и телевидения и у многих верующих сейчас нередко появляются опасения: не будет ли «перебора» с религиозными программами? Сами эти опасения заставляют задуматься о главном — о качестве программ. Насколько соответствуют они тому, что Господь хочет сегодня сказать миллионам сердец, ничего о Нем не знающим? Стоит ли за всем тем, что говорится и показывается, подлинный опыт духовной жизни со Христом или всего лишь богословские взгляды проповедующего? Несут ли эти передачи и публикации нашему обществу, нуждающемуся более всего в выработке нравственных критериев оценки происходящего, подлинный мир Христов? Его любовь? Или же многие из них вместо этого еще глубже стремятся провести борозду между «своими» и «чужими», вместо призыва к покаянию всего народа опять занимаются поисками его «врагов» — «виновников» наших несчастий?
Итак, к написанию этих заметок автора побуждало стремление осмыслить те препятствия на пути ко Христу, которые возникают перед нашим современником, переступающим порог православного храма, а также возможности преодоления или устранения этих препятствий сейчас или в будущем.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, КАК НАС ВОСПИТЫВАЛИ?!»
Сейчас уже отходят в область истории и воспоминаний 70–е годы и начало 80–х годов, когда, так же как и в предшествующие десятилетия, наша страна, согласно официальным утверждениям, была страной массового атеизма, когда лишь «отдельные граждане все еще придерживались религиозного мировоззрения». Но даже тогда, если бы мы задали, скажем, десяти нашим знакомым, вроде бы неверующим людям, простой вопрос: «Есть ли Бог?» — первым немедленным ответом, скорее всего, был бы: «Нет, Бога нет!» Потом, после минутного раздумья, девять из десяти сказали бы: «А вообще–то, конечно, «что–то» есть».
За этим признанием стоял и стоит не просто суеверный страх, оговорка «на всякий случай», а нечто гораздо большее, нередко глубокое и сложное ощущение некоей духовной реальности, существующей помимо видимого мира, какого–то другого измерения бытия. Назвать эту реальность Богом как–то не хватает смелости. Это бывает так же трудно, как, например, первый раз перекреститься. Впечатление такое, что произнесение самого этого слова «Бог» всерьез, а не с маленькой в то время буквы газетно–бытового контекста, сразу же и обязывает к чему–то серьезному. Это первое «Да» должно повлечь за собой множество других «да», вынуждающих к пересмотру очень многого в жизни. Поэтому для всех нецерковных людей, конечно, и честнее и правильнее оставить за этой непонятной и таинственной духовной реальностью неопределенное и ни к чему особенно не обязывающее «что–то есть».
Нередко такое представление сопровождалось, особенно во время каких–нибудь откровенных разговоров, утверждением, что у каждого есть «своя вера». Заметьте: никогда не говорилось — «своя религия». Нет, утверждалось, на наш взгляд, очень тонко и правильно, наличие «своей веры». Под этим, чаще всего, понимаются все–таки духовные вещи — те или иные правила нравственности, что хорошо, а что плохо, а также некоторые, правда довольно неопределенные, религиозные понятия. Они включают в себя, в частности, уверенность в том, что ребенка надо окрестить, умерших родителей и родных — отпеть в церкви и что на могиле все–таки лучше поставить крест или изобразить его на каменной плите–памятнике. На языке богословия это можно было бы назвать естественной нравственностью и естественной религиозностью. Последняя, при всей своей туманности и неопределенности, тем не менее, несомненно, свидетельствует о наличии у нашего народа здорового религиозного инстинкта, который, несмотря на многолетнюю антирелигиозную пропаганду и почти полное отсутствие в нашем обществе проповеди христианства, не только не исчез, но даже усиливался с каждым десятилетием.
В начале 80–х годов преобладало ощущение, что за предшествующие примерно 20 лет для все большего и большего числа людей (самых разных возрастов) все более серьезное значение приобретали размышления, связанные, в конечном счете, с самым главным для человека вопросом — о смысле нашего существования. В 20—30–е годы в сознании людей преобладающим было то, что связывалось с победой нового строя, преодолением всего старого, отжившего, с заботами просто выжить в условиях радикальных изменений всего жизненного уклада и частых внутренних, нередко искусственно создаваемых конфликтов. Затем смыслом жизни стала победа в жестокой войне, опять же выживание в тяжелые послевоенные годы, желание вернуть жизнь к нормальным условиям. Жизнь действительно становилась легче: снижались цены, появились холодильники, телевизоры, отдельные квартиры. Смерть Сталина и последующее разоблачение культа личности также создавали ощущение не совсем ясных, но все же радостных перспектив. Наконец, с началом 60–х годов, жизнь стабилизировалась, стала если не зажиточной, то, во всяком случае, относительно спокойной. Но вместе со спокойствием пришло однообразие. Постоянное ожидание чего–то нового, свойственное концу 40–х и 50–м годам, сменилось чувством, что ничего особенного, нового в масштабах страны уже не будет и какие–то улучшения в судьбе каждого зависят лишь от личного умения продвинуться, «устроиться», «достать» и т. п. Пафос всеобщего созидания и светлых надежд сменился прагматизмом личной карьеры. В этих условиях очень многие люди, естественно, уже могут позволить себе задуматься над вопросом: а для чего же, собственно, я живу? Конечно, не все формулировали его именно в таком обнаженном виде, но он ощущался в меняющемся отношении наших соотечественников к таким явлениям, как вера, религия и Церковь.
С приходом к власти М. С. Горбачева и наступлением «перестройки» в обществе, сначала медленно, а затем со все большим ускорением, начались грандиозные процессы переосмысления последних 70 лет нашей истории. Все накопившееся недовольство ложью и фальшью излилось на страницы прессы, в радиопередачи, книги, разговоры, споры и митинги. Пошел почти неуправляемый процесс пересмотра всего и всех. В сущности, самое главное и неоспоримое достижение перестройки — небывалая еще в России за всю ее историю свобода слова. Сходный в этом отношении период от февраля до октября 1917 г. был, конечно, несравненно короче. При этом все болезни общества оказались на виду. Весь спектр мнений — от ортодоксальных коммунистов до русских фашистов — получил возможность быть услышанным. Но во всем этом проявилась главная беда нашего общества — отсутствие сложившихся, апробированных, разделяемых достаточно весомым большинством населения нравственных критериев жизни. Проще говоря, в обществе нет отчетливых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Взятка, спекуляция, незаконная переплата в государственной торговле, просто воровство всего, что «плохо лежит», — пороки обыденные и почти естественные.
Неимоверно быстро происходит падение престижности высшего образования, ученых степеней, вообще всякой солидной и определенной профессии. Вместо этого — повальное устремление молодежи в кооперативы. Причем, чаще всего, речь не идет о каком–то солидном или действительно нужном стране производстве. По большей части это торговля, перекупка, в крайнем случае производство всякого ширпотреба — джинсов, кроссовок и т. п., в отношении которых не знаешь, чему больше удивляться — их низкому качеству или астрономическим ценам.
В интеллигентских кругах страстные, за полночь споры о нарушении прав человека, о смысле жизни, о вере почти нацело вытеснились обсуждением «ехать или не ехать», если «ехать», то «куда» (Израиль, США, Канада, Австралия?) и «как». Впрочем, эти проблемы перестали быть чисто «интеллигентскими». Среди молодежи все шире возникает желание либо уехать вообще, либо чтобы подработать, «встать на ноги» и затем «начать жить».
Желание уехать объясняют очень просто. Очевидно, что за ближайшие 5—10 лет жизнь в стране не наладится. А время идет. Хочется «пожить по–человечески», то есть так, как живут на Западе. По всем сведениям, там в любом случае, то есть занимая даже самую непрестижную должность, жить будешь лучше, чем здесь. Вывод ясен — уезжать любым способом. Некоторые даже приходят в церковь за справкой о крещении и характеристикой — понимают, что так больше шансов где–нибудь поприличней устроиться. Не принимаются во внимание ни неизбежные многочисленные унижения при самом выезде и в дальнейшем устройстве, ни то, что мы «там» никому не нужны, ни даже очевидное соображение: всех Запад просто не вместит и не переварит, поскольку это неизбежно повлечет за собой снижение материального и нравственного уровня его собственной жизни. Словом, в народе нашем молниеносно распространяется психология отсталой страны, принадлежащей к третьему миру, когда люди готовы ехать на Запад любыми путями, выполнять там любую работу — быть судомойками, мусорщиками и т. п. лишь бы хоть в какой–то мере прилепиться к жизни, соответствующей стандартам западной цивилизации.
Самое печальное еще в том, что уехать стремятся и активные христиане, причем разных конфессий. Среди них есть и пятидесятники, и баптисты, люди, прошедшие в свое время лагеря и ссылки, мужественно отстаивавшие свое право верить во Христа и свидетельствовать о своей вере другим. Сейчас, когда открывается полная свобода для проповеди, эти же самые люди вдруг используют то, за что некогда пострадали, для получения статуса политических беженцев со всеми вытекающими из него благоприятными последствиями и уезжают на Запад. Так же и среди православных: люди, в минувшие трудные годы проводившие работу по евангелизации и катехизации, сейчас вдруг предпочитают блага западной цивилизации возможности, наконец, пользоваться полной свободой для христианской проповеди здесь, в России, где это так необходимо, где на счету каждый здравомыслящий человек. Ведь, казалось бы, людей должна была бы удерживать простая мысль: кому я там, на Западе, особенно нужен? между тем, как здесь, в России, — непочатый край работы! Но по–видимому, спокойное, безопасное, обеспеченное, по нашим меркам, существование за границей представляется более заманчивым, чем суматоха и крайнее напряжение нашей российской жизни, в которой еще неизвестно, чем все кончится.
Как–то в одной компании шел разговор о том, что Максимилиан Волошин в 1917 году и позже, когда у него была полная возможность уехать за границу, предпочел остаться в России, в своем Коктебеле. Крым в то время был ареной кровопролитных боев и последующего красного террора. Волошин тогда говорил: «Когда мать в беде — нельзя ее бросать!» Один из собеседников заметил: «А если мать страдает каннибализмом?!»
В народе нашем произошла поразительная метаморфоза патриотического чувства: оно либо просто исчезло, атрофировалось, либо приобрело гротескные очертания нового мифа о Великой России, с бездумной идеализацией всего прошлого, ненавистью ко всем, думающим иначе, высокомерным самопревозношением перед другими странами и культурами. Патриотизм, как чувство, прежде всего, элементарной ответственности перед Богом за все то, что он поручил каждому из нас, призвав нас к жизни именно в это время и на этом месте, — такого рода «нормальный» патриотизм, одновременно уважающий других людей с их верованиями и идеологиями, непохожими на наши собственные, остается слишком неприметным.
Одним словом, народ наш оказался в состоянии идейного вакуума — старое мировоззрение, окрашенное в коммунистические цвета большей или меньшей интенсивности, рухнуло, новое еще не возникло. Речь идет, разумеется, не об обязательной идеологии «сверху», а о принятии большинством народа некоей суммы идей и взглядов — системы ценностей, —определяющих его духовный облик, как, скажем, христианский или исламский и т. п. С крушением навязанной тоталитарным режимом коммунистической идеологии такое состояние неизбежно, однако мириться с ним ни в коем случае нельзя. Иначе может получиться по известной евангельской притче: бес, будучи изгнанным из человека, ищет себе покоя и не находит, затем возвращается обратно и застает дом незанятым. Тогда берет с собой семь других духов, злейших, чем он, и снова поселяется там же, и бывает для человека того последнее горше первого.
Тем не менее, было бы неверным представлять нынешнюю нашу ситуацию, исключительно в черных тонах. Народ, во всяком случае в России, пока держится как некое единое целое, объединяемое общностью языка, пусть обедненной и обкромсанной, но все же по–прежнему значимой русской культурой, общностью истории и, наконец, судьбы.
События 19—21 августа 1991 года показали это удивительное, несмотря ни на что сохранившееся единство народа перед лицом опасности коммунизма. Когда рука об руку на баррикады встали депутаты, рабочие, артисты писатели, интеллектуалы, таксисты, женщины, студенты, школьники…
Это было, конечно, чудо Божие, но чудо, явившееся через наш народ, готовый умереть, но не вернуться в прежнее болото рабства и тотальной лжи. Все еще раз увидели, что русские (правильнее — россияне) — это не единство биологического происхождения, а единство принадлежности к российскому социуму, к российской культуре. То, что среди трех раздавленных танками, таких красивых, даже внешне, молодых людей, один был еврей, — великий символ и призыв Божий ко всем: не сводите национальные счеты! Бог собрал разные народы в Россию, чтобы создать удивительную страну и культуру, могущую вместить все лучшее из особенностей тех народов, которые разными судьбами встретились и живут на просторах России. В России, слава Богу, пока нет разрушительных конфликтов, подобных Карабахскому, нет голода, нет крайней разрухи. Думаю, что самым позитивным фактором современной России является практически полное отсутствие призывов к насилию. Разве за исключением отдельных окаменелых коммунистов и фашистов, которых, в сущности, никто не слушает. Ни демократы, ни коммунисты (в массе своей), ни анархисты, либералы и другие к насилию не призывают.
Вспомним XIX век, когда в общем–то интеллигентные люди, Белинский и Чернышевский, были убежденными сторонниками насилия ради будущего всеобщего счастья. А ведь оба властители дум молодежи, идеологи, благороднейшие, с точки зрения тогдашней интеллигенции, люди.
Насколько отличаются от них, например, А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, Д. С. Лихачев, уважаемые миллионами наших сограждан. Собственно говоря, мы и держимся пока еще «на плаву» именно благодаря отсутствию крупных вооруженных конфликтов внутри страны, подобных тем, какие начались в первые же месяцы после октябрьского переворота. Из сравнения нашего времени с тем периодом видно, насколько же бесконечно безнравственным был призыв к гражданской войне в 1917–м и в последующие годы.
На этом общественном фоне потрясающе быстро стало меняться и отношение к религии и к Церкви «миллионов людей. Совершенно справедливо самым решительным моментом начала этих изменений уже не раз назывался 1000–летний юбилей Крещения Руси в 1988 г. Встреча М. С. Горбачева с патриархом Пименом и членами Синода весной 1988 г., накануне празднования юбилея, широкая кампания культурных и церковных мероприятий — все это обозначило изменение самой атмосферы взаимоотношений Церкви и государства, а также настроение и образ действия миллионов людей.
Параллельно шли общественные и юридические процессы. Начиная с 1989 г. стали активно приглашать священников в школы, вузы, лектории, дома культуры и т. п. Очень скоро предложение стало значительно превышать возможности всех христианских конфессий, так что священнослужителям все чаще приходится отказываться просто из–за физической невозможности бывать везде, куда приглашают.
Одновременно 9 октября 1990 г. были изданы законы о свободе совести — Верховным Советом СССР, а несколько позже и Верховным Советом РСФСР Наконец, религиозным организациям разрешили то, что было запрещено с весны 1918 года, — свободную религиозную проповедь, религиозную работу с молодежью, благотворительность, беспрепятственное образование новых религиозных общин и т. п. и т. д. Можно без преувеличения сказать, что религиозные общества, в том числе Русская Православная Церковь, получили возможности, которых не имели не только при Советской власти, он и за все 1000 лет христианства на Руси.
Самое существенное в этом процессе нормализации положения религии состоит в том, что впервые за все время существования Советской власти объявленное законодательство реализуется вполне честно — нет никакого разрыва между законом и практикой жизни. Имеющиеся трудности связаны всегда лишь с предоставлением помещения — один из постоянных дефицитов нашей жизни.
Как сказывается все это на духовном состоянии наших соотечественников? Какова реакция людей, выросших в условиях 70–летнего господства атеизма и гонений на религию, на то, что «теперь все это стало можно»?
Если вспомнить отношение к религии и Церкви лет 30— 35 назад, то уже в доперестроечное время изменения в настроении нашего народа были явно в лучшую сторону. Вместо насмешливого и презрительного отношения к вере в 50–е и в начале 60–х годов с появлением диссидентских настроений пришли интерес и уважение подавляющего большинства людей, с которыми приходилось сталкиваться. Это субъективное впечатление подкреплялось и объективными фактами. Такая странная вещь, как возникшая в начале 70–х годов среди молодежи мода на ношение крестиков, в общем–то неугасшая до сих пор, говорит о доброжелательном отношении к этому самому главному символу христианства. Конечно, очевидно, что за этим нет еще ни веры, ни вообще чего бы то ни было серьезного, однако факт симпатии налицо. Недаром эта мода неустанно порицалась со страниц «Комсомольской правды».
Вот другое явление, того же внешнего порядка: на могилах уже с конца 70–х годов практически все ставят кресты. Как бы это ни называть — модой, традицией — факт остается фактом: обелиски и пирамиды со звездочкой, не прижились. На новых кладбищах, рядом с конторой, где оформляются документы, находится мастерская, где могут быть приобретены кресты заводского изготовления. Среди множества свежих могил я не видел ни одной, на которой не было креста — независимо от того, похоронили там старушку или передовика производства. Вероятно, есть могилы и без крестов, но их, наверное, единицы. На более старых участках на смену временным дешевым железным крестам многие устанавливают кресты больших размеров, из хорошего дерева, тщательно обработанные. Духовой оркестр, дежурящий на кладбище, наряду с обычным в таких случаях репертуаром из Моцарта и Бетховена, стал играть мелодию тропаря 6–го гласа: «Воскресение Твое, Христе Спасе…»
Последние 10—15 лет тысячи людей на Пасху едут на кладбища. Приятно, кстати, отметить, что реакция на это со стороны властей уже в те годы была, скорее, положительная: в Москве множество автобусов снималось с малозагруженных маршрутов и экспрессами курсировало между кладбищем и ближайшим метро; ставятся ограждения, выделяются наряды милиции, чтобы предотвратить какую–либо давку. Почему именно на Пасху? Почему на кладбища? Ведь собственно церковное пасхальное поминовение усопших совершается лишь на девятый день после Пасхи, всегда во вторник, в день, называемый Радоница. Традиция посещать кладбища на Пасху в таком массовом варианте сложилась буквально на наших глазах. Люди чувствуют какую–то необходимость связать самое загадочное и непоправимое в жизни — смерть — с самым большим и радостным религиозным праздником.
Я говорю об этих очень разноплановых и малозначительных на первый взгляд вещах для того, чтобы подчеркнуть обстоятельство весьма существенное и важное. В народе нашем с каждым десятилетием все больше и больше ощущался духовный вакуум, духовный голод, утолить который предстоит нашей Русской Православной Церкви.
А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
(Ин. 4: 35)
Какое бы распространение ни получали увлечения йогой, парапсихологией, экстрасенсами, индуизмом, снежными людьми и летающими тарелками — все это всерьез захватывало лишь небольшие по численности группы интеллигенции.
Правда, с перестройкой и увеличением числа всевозможных свобод, открылся широчайший простор и для всех оккультных, парапсихологических и других подобных направлений. Астрологические прогнозы и рекомендации стали печататься чуть ли не в центральной прессе. Издаются книги наиболее известных астрологов. На всяких вечерах и встречах они стали просто нарасхват. Так что сейчас круг людей, обращающихся к экстрасенсам, астрологам, сознанию Кришны, учению Блаватской, последователям Елены Рерих и т. п. и т. Д., существенно расширился. Впрочем, все это затрагивает немногочисленную часть населения. То же самое можно сказать и о сеансах всевозможных «колдунов», которым некоторые кинотеатры и дома культуры представляют помещения. Понятно, что свобода в светлом понимании — это свобода для всего — и положительного и отрицательного, и для добра и для зла. Это естественно, так как нынешние государственные структуры — Советы всех уровней — совершенно адекватно отражают состояние нашего общества, в основном лишенного нравственных критериев. Понятие свободы в этом случае совпадает со вседозволенностью, поскольку депутаты, предлагающие и принимающие те или иные законодательные положения, будучи в религиозном отношении, как правило, людьми совершенно невежественными, не видят разницы между христианством, кришнаизмом, астрологией, рерихианством и т. д. Для них все это идет под рубрикой «свободы совести», в то время как степень осознания ответственности государственных законодательных структур за направление духовного и нравственного развития собственного народа пока оставляет желать лучшего.
Конечно, это печально, но на данном этапе состояния нашего общества это неизбежно и просто предполагает со стороны христиан активную миссионерскую деятельность внутри собственного народа. При этом я берусь утверждать, что для большинства нашего народа слово «Бог» все же мгновенно связывается со словом «Церковь». Причем не католическая, не протестантская, а именно православная. Существует мнение, что в случае действительно полной свободы вероисповедания Православие едва ли останется преобладающей конфессией: интеллигенция в большинстве своем уйдет в католичество, а рабочие — к баптистам. Ни в коей мере не будучи врагом католичества или баптизма, вместе с тем оставаясь православным, я все–таки убежден, что преобладающим в нашей стране в обозримом будущем останется все–таки Православие. Принятие тем или иным народом именно этого, а не другого христианского вероисповедания не является исторической случайностью. Тот факт, что поляки в большинстве своем стали католиками, а русские, болгары и сербы — православными, говорит о глубоком соответствии каких–то черт народного характера именно данной конфессии. И отдельные обращения в католичество или в баптизм (именно из православия, а не из атеизма) ничего не доказывают в этом смысле.
Именно Русская Православная Церковь, в каком бы состоянии она ни находилась, самим фактом своего существования является для подавляющего большинства нашего народа символом, знаком присутствия Бога в мире. Это тот источник, к которому даже нецерковные люди в случае крайней нужды обращаются в первую очередь. Когда появляется у человека мысль о Боге, тоска по духовному, именно к Православной Церкви обращает он свой взор. И в этом не следует видеть какую–то особенную заслугу нашей Церкви или ее служителей. Просто Бог избрал именно такой путь для нашего народа, именно Православие оказалось тем христианским вероисповеданием, которое нашло отклик в душе нашего народа, именно через него была принесена нам Евангельская весть.
С отменой в 1988 г. обязательной регистрации паспортов родителей, желающих крестить своих детей, введенной Хрущевым в 1961 г., число крестин резко возросло. В городских храмах, вероятно, в 2—3 раза, так что в выходные дни в некоторых храмах совершается от 80 до 120 крестин. Число отпеваний увеличилось, но это не так заметно, причем главным образом так называемых «заочных», то есть когда усопшего в храм не привозят. Заметнее всего возросло число венчаний. Если до 1988 г. в обычном московском приходе венчаний было 1—2 в месяц, то сейчас от 5 до 20 за неделю.
Таким образом, в народе нашем происходит существенная перемена по отношению к Богу и Церкви. Наблюдается совершенно немыслимое всего лишь 5 лет назад: просьбы освятить банк, аптеку, школу! Я уже не говорю о квартирах, здесь просьб настолько много, что, к сожалению, нередко приходится откладывать их исполнение на довольно продолжительный срок.
Что же изменилось по сравнению с чувством «что–то есть», которое преобладало лет 10 назад? Сейчас ведь нередко приходят на исповедь пожилые, которым уже за 60? а то и за 70, признаваясь, что они пришли первый раз в жизни. Да и среди желающих креститься не редкость встретить людей такого же возраста. Это вполне понятно. Ведь людям, родившимся, скажем, в 17–м или 20–м годах, когда шла самая решительная борьба с «опиумом для народа», сейчас уже около 70, а то и больше. Нередко приходят люди, не уверенные, крестила ли их бабушка где–то тайком в 20—30–е годы, или это только семейное предание о ее благочестивом намерении. На эти случаи имеется определенное указание о необходимости крестить таких людей с соответствующей оговоркой в крещальной формуле: …аще не крещена есть…
Такой массовый приход людей, в том числе и пожилых, в Церковь — знаменателен. Очевидно, что прожитая жизнь оставила чувство неудовлетворенности, чего–то несовершившегося, между тем очень важного.
Печально, однако, то, что, как и во многих других жизненных проявлениях советского человека, здесь также обнаруживается какое–то фундаментальное искажение внутреннего самоощущения, внутренней позиции. Один из моих друзей после поездки в США очень хорошо сформулировал это различие между нами и человеком Запада. В Европе и США, в странах с укоренившейся христианской этикой, имеется четкое осознание личной ответственности: «Бог за мои грехи спросит с меня». Отсюда я сам и должен отвечать за мои дела и поступки. Для советского человека, напротив, характерно чувство коллективной ответственности, — Hе «я», но «мы». Поэтому люди, приходящие сейчас в Церковь от не вполне определенного и осознанного «что–то есть», идут не столько с чувством собственной вины за жизнь, прожитую без Бога, сколько с чувством, что им чего–то в жизни недодали, и вот они пришли теперь наверстать свое. Здесь, наряду с чувством естественного в незнакомом месте стеснения, присутствует также и чувство, что им опять–таки «должны». Вот это чисто наша, советская, требовательность, когда на первом плане стоит не моя вина, а промахи, недостатки или недочеты других, при одновременно весьма ослабленном ощущении собственных обязанностей и собственной возможной вины. Эту же самую требовательность люди приносят с собой в храм. Нередко приходится слышать нарекания, что в церкви и воду (освященную) дают не там и не так, что долго ждать крестин (потому что просто приходится крестить в две партии) и что венчаться мы хотим непременно отдельно, а не вместе с другими парами («за свои деньги мы имеем право…»!) и т. п. и д.
Людям, как это ни странно, просто не приходит в голову, что все эти раздражающие их неудобства (причем чисто внешнего плана) вызваны просто малым числом храмов, за что уж никак нельзя обвинять саму Церковь, а тем более конкретный приход. Нередко приходится слышать упреки, что вот, дескать, там–то надо еще открыть храм, там–то расширить имеющийся. Причем это должен сделать кто–то, а мы вправе только требовать. Надо сказать, что когда дело доходит до реальных действий, связанных с регистрацией новой общины–прихода, то весьма нелегко найти просто дееспособных людей, готовых взять на себя всевозможные хлопоты, связанные с этим непростым делом.
Такое же настроение требовательности и претензий, в общем–то, переносится и на внутреннюю жизнь уже в самой Церкви. Человек, пришедший первый раз за свои 60—70 лет на исповедь, не чувствует никакой вины за жизнь, прожитую без Бога и без Церкви. Конечно, Господь радуется каждому приходящему в Его Церковь, но мы–то ведь должны приходить не с нашими требованиями, а с чувством вины, как блудный сын по известной притче из Евангелия от Луки. И у нас на устах должны быть те же слова, что и у решившего вернуться к отвергнутому и оскорбленному отцу: «Отче! согрешил я против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим».
Конечно, уже одно то, что человек после долгих лет жизни вне Церкви решился переступить ее порог, прийти на исповедь, само по себе совершенно замечательно и удивительно. И скорее не вина, а беда наших сограждан, что они приходят в Церковь с теми же жизненными стереотипами, что и в любое другое место. На вопрос о том, читали ли вы Евангелие, «молитесь ли утром и вечером, как правило, звучит один и тот же ответ: «Ну, нет, конечно! Вы же знаете, как нас воспитывали?!» За этим почти отсутствует осознание личной вины перед Богом. Стараешься как можно мягче привести в пример других людей: «Посмотрите вокруг, ведь вы видите людей вашего же возраста и даже моложе. Они жили в тех же самых условиях, что и вы, однако они нашли путь и к Евангелию, и к Церкви». Но людям, особенно нашим, воспитанным в искаженных представлениях о достоинстве и гордости (едва ли отличающейся от гордыни), бывает очень трудно изменить направление поиска вины с внешнего мира на самих себя.
Когда видишь людей, явно пришедших впервые, и спрашиваешь: «Что вас привело в Церковь, что вы хотели бы здесь обрести?» — чаще всего слышишь откровенно наивный ответ: «Ну, ведь теперь стало можно! Может, как–то со здоровьем получше будет, в жизни будет больше везти… Так и хочется сказать: «А если завтра опять будет «нельзя», то что тогда? Опять исчезнете? Опять будете не только сторониться храма, но и поддерживать активно или пассивно антицерковную атеистическую политику правящей верхушки?»
Такое утилитарное отношение к вере и Церкви довольно типично, и от этого никуда не деться. В сущности, люди даже нашего электронно–компьютерного конца XX века инстинктивно чувствуют, что в мире есть невидимое измерение, которое может оказать некое воздействие на нашу жизнь. И то обстоятельство, что первичное отношение к этой Невидимой Сущности не выходит за рамки привычных житейских потребностей, не должно огорчать, но должно приниматься как та почва, невозделанная, неухоженная, заваленная многочисленными камнями заблуждений, невежества, предрассудков, которую, однако, Господь дает нам для труда. Это Его нива, ожидающая работников.
В то же время для очень многих наших современников (не говорю для всех) встреча с Православием не становится подлинным изменением их жизни, обращением. Чаще всего это в значительной мере внешнее, формальное принятие таинств без подлинного включения, вхождения в жизнь Церкви. Даже при желании веры, желании жить не самим по себе, а так, как хочет от нас Бог, соединения с жизнью Церкви, воцерковления у многих не происходит. Как мне кажется, было бы слишком поверхностным спешить возлагать ответственность за эту несостоявшуюся жизнь в Церкви на самих этих людей, обвиняя их в недостатке, скажем, смирения или просто ссылаясь на то, что «много званых, а мало избранных». Быть может, следует задуматься: нет ли в жизни самой нашей Церкви чего–то такого, что препятствует вхождению в нее многих ищущих веры? Не разумнее ли будет нам, пребывающим в Церкви, спросить себя: нет ли у нас самих тех «бревен», которые мешают нам «вынуть сучец» из духовных очей наших братьев?
Итак, с полным осознанием возможных ошибок в высказываемых мнениях и суждениях и вместе с тем ответственности предпринимаемого дела давайте честно посмотрим на нашу Церковь, не вдаваясь в закулисные проблемы, а возьмем лишь то, что лежит на поверхности и, как говорится, видно невооруженным глазом…
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ
Акафист
Тихий летний вечер. В затихающем шуме города раздаются мерные удары колокола. Это звонят в церкви неподалеку от моего дома. Мне в этом отношении повезло — не каждый может похвастаться такой близостью храма. В Москве положение еще, можно сказать, благополучное. В 1988 году было 50 действующих храмов. В настоящее время число их все время увеличивается, особенно начиная с 1990 г., и уже приближается к 100. В 1992 г. в Москве действует уже 130 православных храмов (примеч. А. Б.). На 8 миллионов москвичей это, конечно, немного. Ну, а что говорить про области Средней России, где по 15—20 храмов на всю область; в Сибири ближайший храм может находиться за 500— 1000 километров. На Камчатке в 1980 г. храмов вообще не было, сейчас открылся один.
Сегодня четверг — это значит, звонят к акафисту. Негромкие, звучные удары следуют один за другим. Они как бы идут к нам из глубины истории нашей Московской Руси, напоминая о той вечности, которая всегда рядом с нами, стоит только протянуть руку — и она здесь, неизменная и не навязывающая себя. В то же время в этом есть что–то глубоко таинственное и неуловимое — это какое–то измерение бытия, которое нельзя остановить, подчинить себе. Оно неслышным, мощным потоком катится в каком–то другом пространстве, пронизывающем, тем не менее, собой нашу жизнь.
В начале нашего века во время церковных праздников в Москве просто гул стоял от множества звонящих колоколов. Церкви определяли всю архитектуру Москвы, да и всю ее жизнь. Кнут Гамсун писал, что Москва произвела на него большее впечатление, чем даже Константинополь. Большинство московских улиц и переулков своими названиями было обязано располагавшимся на них храмам и монастырям: Воздвижежка, Пречистенка, Якиманка, Варварка, Никольская и т. д. Теперь ни такого гула, ни таких названий почти нет. Однако те немногие колокола, которые остались, все же звонят. Звонят, заставляют задумываться, почему же так мало осталось вас, колоколов и церквей? Что же случилось с вами? Что было и что будет? А главное — что есть сейчас? Потому что завтрашнее уже содержится, хотя часто неразличимо, в сегодняшнем.
Я очень хорошо знаю, что происходит сейчас в храме. В алтаре неспешно облачается батюшка. На клирос один за другим тянутся и ворчат «левые» певчие, всегда чем–то недовольные. Это, если поет левый хор, — старушки. Если сегодня будет правый, то это певцы–профессионалы, просто по большей части подрабатывающие. Верующих среди них мало. Эти пока что оживленно делятся последними новостями и анекдотами.
Здесь следует сделать маленькое отступление. Дело в том, что данная книга была написана, в 1983 году и имела некоторое хождение в «самиздате». Ситуация в стране и в Русской Православной Церкви во многом радикально изменилась. Однако совсем изымать те места, которые обрисовывают церковную жизнь в то время, автор счел нецелесообразным, поскольку они дают возможность увидеть некую историческую динамику жизни нашей Церкви в последние 10 лет Поэтому, оставляя многое из написанного ранее, одновременно автор будет обрисовывать современное положение.
Так, надо сказать, что в отношении певчих дело в значительной степени изменилось к лучшему. Во–первых, в 1991 г. упразднен институт «уполномоченных» Совета по делам религии. «Государево око» — чиновники, подчиненные одновременно ЦК КПСС и КГБ, жестко контролировали всю церковно–приходскую жизнь, чтобы она ни на йоту не вышла за рамки писаных законов и неписаных «инструкций». Например, уполномоченный более или менее зорко следил за тем, чтобы на клиросе не было молодежи, ни поющей, ни читающей, ни прислуживающей. Разрешалось все это делать только пенсионерам. Присутствие молодого человека на клиросе всегда было некой поблажкой со стороны уполномоченного, за которую его следовало регулярно «благодарить», как, впрочем, и за многое другое. Поэтому левый, то есть будничный, хор (левый — то есть стоящий на левом клиросе: на правом — праздничный хор профессиональных певцов) состоял, главным образом, из старушек, более или менее могущих петь. Это, как правило, самые давнишние прихожане данного храма. Будучи людьмиочень верующимии весьма строгих правил, они осознают себя носительницами и хранительницами местной церковной традиции, не без некоторого, впрочем, превозношения, свойственного старожилам.
В настоящее время такого рода запрет на молодежь, слава Богу, снят, так что левые клиросы значительно «омолодились», пополнившись верующими и вполне благочестивыми молодыми людьми и девушками, нередко с неплохими голосами.
Во–вторых, что касается правых хоров, то сложности, помимо уполномоченного, состояли еще и в том, что певцы–профессионалы, как правило, были вынуждены скрывать на своей основной работе, что они еще поют и в церкви. Сейчас такое препятствие также исчезло, и на клиросе появились не только люди, «умеющие договориться» со светскими руководителями, но и просто верующие, быть может и не очень глубоко, но внешне вполне благочестивые певцы–профессионалы.
Но вернемся к нашему повествованию. В храме располагаются по привычным «своим» местам десятка два–три старушек–завсегдатаев. Тихонько крестятся, ставят свечки. Сейчас начнется служба — вечерняя с акафистом, в которой каждое слово, каждое движение заранее известно и расписано, причем основное содержание ее астрономически далеко от нашей жизни со всеми ее проблемами и заботами. Звучат приятные песнопения, торжественные возгласы священника, изредка из малопонятного языка прорываются отдельные различимые благочестивые слова. Горят свечи, полумрак.
Иногда, правда, умильное настроение какой–либо из бабушек без всякого перехода сменяется гневным шепотом на какого–нибудь молодого человека или девушку, зашедших на службу и своим смущенным видом или неловким движением (не той рукой свечку передали, не там встали) нарушивших привычную атмосферу. После чего бабушка, отчитавшая нарушителя и восстановившая должный порядок, оглядывается на стоящих вокруг, еще более истово крестится, как бы говоря всем своим видом: «Господи, прости! Но ты сам видишь, и Ангел потерял бы терпение от такого безобразия». И никого из присутствующих, по–видимому, не беспокоит вопрос, что же стоит за всеми этими малопонятными текстами. Напротив, все это как–то успокаивает, и даже сама непонятность слов создает ощущение гарантии того, что все в мире как–то само, даже без нашего участия, устроится и совершится так, как «Богу угодно».
Беспокойство
Но не об этом главная забота и главная боль. Она о тех сотнях, а, может быть, за многие годы и тысячах молодых в основном людей, которые, как им кажется, случайно или из любопытства впервые переступают порог храма. В их глазах, лицах, во всем их облике столько того самого подлинного человеческого чувства, которое Священное Писание называет страхом Божиим. Такая в них видится надежда на то, что вот здесь наверняка есть что–то такое, чего нет больше нигде, что–то такое, что сделает понятным самое главное, сокровенное и глубокое в их жизни, ответит на те вопросы, которые еще и не заданы, даже еще не сформулированы в их сознании, но уже тревожат, уже не дают жить просто и бездумно.
И какой ответ они получают в наших храмах? Замечательные напевы, живой огонь свечей, особая атмосфера, которую не может не уловить чуткое сердце. Но одновременно с этим — почти полная непонятность происходящего, начиная с богослужебного языка и многочисленных икон и кончая действиями священнослужителей, то выходящих в середину храма, то вновь скрывающихся за красивыми резными дверями с нарисованными на них изображениями. А тут еще какая–нибудь бабушка обрушивается с бранью: что–то не так сделал. А что?
Помню, как я сам более 35 лет назад в первый раз в жизни побывал в церкви. С чего началось, уж не помню, помню только, что мы с моим приятелем, таким же 17–летним парнишкой, решили, что пора кончать с нашей необразованностью и посетить сначала церковь, потом баптистский дам, потом, уж не помню, то ли мечеть, то ли синагогу. Во избежание недоразумений признаюсь, что к баптистам, я зашел лишь через 20 лет, а в мечети и в синагоге так до сих пор и не был. Но в церковь мы пошли в тот же вечер. Это была церковочка неподалеку от его дома в Брюсовском переулке, что напротив консерватории.
Потоптавшись вокруг и приметив открытые боковые двери, мы вошли в храм. Как я сейчас пониманию, шла всенощная. Тогда я, разумеется, этого слова не знал. Помню, близко от нас был хор — несколько совсем еще не старых мужчин и женщин интеллигентного вида. Помню ощущение торжественности и серьезности и одновременно чего–то семейного, как будто все собравшиеся хорошо друг с другом знакомы и все вместе заняты каким–то весьма важным, но совершенно непонятным делом (в действительности — просто молились). Мы стояли как вкопанные в нескольких шагах от двери, в которую вошли. Вдруг рядом с нами раздался злобный шепот: «Ишь, пришли, соглядатаи! Нашли время!» Смущенные и расстроенные, мы тут же тихонько вышли.
Второй раз я вошел в церковь спустя два года, вняв просьбам матери моего друга, замечательной женщины, ставшей в том же году моей крестной.
Крестины
И еще эта боль о тех очень и очень многих, тоже, главным образом, молодых людях, приходящих в церковь в основном по субботам и воскресеньям со своими младенцами, чтобы их «покрестить». Эти смущаются все же меньше: во–первых, есть ясное конкретное дело, а во–вторых, все внимание, естественно, поглощено младенцем, понятным страхом не простудить его во время этого совершенно загадочного действия. Самое любопытное здесь заключается в том, что практически никто из молодых родителей в церковь не ходит и, как говорится, «в Бога не верует». Одна моя знакомая как–то даже провела такой (не совсем, впрочем, вежливый), эксперимент — подходила к родителям, ожидавшим в церковном дворике начала крестин, и спрашивала: «Зачем вы крестите детей? Вы верующие?» Статистику она, конечно, не набрала, но ответы 10—15 родителей были: «Нет, нет, что вы! Мы, конечно, ни в какого Бога не верим. Ну, знаете, как–то принято, и бабушка говорит, что надо. Ну и вообще, говорят, поздоровее будет…» и т. д.
Между прочим, надо заметить, что в «Настольной книге для священнослужителей», изданной в начале нашего века, имеется специальное указание о том, что в некоторых местах с мусульманским населением родители крестят детей из суеверных побуждений, в основном для здоровья. Так вот, священнику воспрещалось крестить таких детей, если только родители не приносили справку–обязательство, заверенную полицмейстером, что они действительно собираются воспитывать детей в христианской вере.
Как–то раз я и сам решился расспросить одну женщину, которая, подобно многим другим, хотела «договориться» крестить ребенка без регистрации.
Для неискушенного читателя поясню. В начале 60–х годов (нашего, конечно, века) Советом по делам религии было издано специальное распоряжение об обязательной записи паспортных данных родителей, которые приносят своих детей для крещения. Это положение было отменено в 1988 г Но автор оставляет этот раздел как совсем недавнее прошлое, помогающее лучше оценить и понять настоящее. До этого любого младенца могла просто принести или привести его бабушка и, заплатив положенную небольшую сумму, окрестить внучонка, часто даже тайком от более «современно мыслящих» родителей. Это стихийное течение дела было прекращено, и стало необходимым не только присутствие отца или матери ребенка, но и предъявление ими паспортов. В некоторых местностях требовали также паспорта у крестных. Бабушкам осталось только «давить» на родителей, уговаривая их всеми правдами и неправдами, что покрестить ребеночка необходимо. Молодые женщины–матери на такие уговоры, естественно, поддаются быстрее отцов. Из–за этого нередко создавались ситуации, когда приходит мать с ребеночком и крестными и тщетно пытается обмануть продавщицу свечей, оформляющую крестины. Чаще всего избирался вариант «отец в командировке» и предъявлялся его паспорт. Но эта невинная ложь не проходит — продавщица резонно возражает: «В командировку никто без паспорта не ездит». Стремление избежать регистрации паспортов при крестинах ребенка было вполне обосновано, поскольку были нередки случаи, когда регистрационные записи запрашивались райисполкомом, якобы с целью проверки финансовой дисциплины, на деле же для выявления и соответствующей проработки родителей, общественно–политическая незрелость которых зашла так далеко. Конечно, эти проработки не носили поголовного характера, но достаточно было нескольких случаев на район, чтобы молва о них достигла слуха всех молодых родителей.
Но речь не об этом, а о том, как я пытался выяснить у этой бедной женщины, для чего она хочет крестить своего внука. «Чтобы был православный», — прозвучал твердый, даже вызывающий ответ. «Ну, а что, — продолжал допытываться я, — вы будете воспитывать его в православной вере, учить молитвам, читать ему Евангелие?» — «Да нет, что вы! Мы и сами–то этого не знаем. Да и потом, когда в школу пойдет, там ведь будет все другое. Так что — нет–нет! Вот покрестим, и хорошо!» — «Ну, а в чем же будет его православие, — не унимался я, — только в том, что он будет крещеный? Ведь без религиозного воспитания он не вырастет верующим!»
Разговор наш, естественно, зашел в тупик. Женщина продолжала настаивать, что надо покрестить, чтобы стал православным, а я тщетно пытался ее убедить, что одного крещения еще недостаточно.
Между прочим, родители, желавшие крестить своих детей, на вопрос «зачем?» давали самые неожиданные ответы: «чтобы был крещеный», «у меня есть крестные, вот и у сына будут», «а то бабушка сидеть с ребенком отказывается, — не буду, говорит, с вашим нехристем нянчиться», «чтобы по ночам не плакал», «чтобы не писался» (!).
Практически все утверждали, что воспитывать детей в вере не собираются. При этом, если разговор сложится доверительно, большинство, не называя это верой в Бога, все же признают, что «что–то есть». При этом обычно утверждают, что ребенок и без религиозного воспитания, когда вырастет, «сам разберется», во что ему верить. Очевидно, вера ребенка, когда он вырастет, также не поднимется выше родительского «что–то есть».
Само таинство крещения, в том виде, в каком оно и сейчас совершается в наших храмах, практически ничего к этой безотчетной вере не добавляет. Да это, пожалуй, и невозможно сделать, когда вокруг священника выстраиваются от 20 до 60 крестных с орущими младенцами на руках. Некоторые батюшки поначалу еще пытаются сказать краткое наставительное слово об ответственности крестных за возрастание ребенка в вере, но довольно скоро убеждаются в бесплодности этой затеи. Сами крестные, как правило, пребывают в полном неведении о том, что такое христианство, и самое большее, на что они способны, — это, как говорится, с грехом пополам лоб перекрестить. Кроме того, все внимание поглощено тем, чтобы ребеночек поменьше кричал и вообще «поскорей бы!».
Среди общего шума тонут слова батюшки об отречении от сатаны, о вере в Троицу единосущную и нераздельную. Кто–то механически повторяет, кто–то нет. Символ Веры — то главное, во что верует, точнее, должен верить каждый христианин, и который по идее должен торжественно прочитываться самими крестными, но о котором они, на самом деле, едва ли слышали, — скороговоркой читается псаломщиком или какой–либо женщиной из прислуживающих в храме. Центральным моментом остается всегда погружение младенцев в воду купели, после которого они начинают дружно кричать, еще больше усиливая общее возбуждение. О том, что вслед за этим совершается еще и другое, не менее важное таинство Миропомазания — низведение Даров Святого Духа на новокрещеного христианина, — вообще мало кто подозревает. Как довольно точно сказал один священник, «нет в нашей Церкви ничего более соблазнительного, чем наши православные крестины».
Самое печальное здесь еще и то, что нередко приходят креститься и взрослые люди: ребята перед армией, мужчины и женщины разных возрастов, чаще лет тридцати–сорока. «На глазок» можно сказать, что их число составляет что–нибудь около 10 процентов от всех крещаемых. Это совсем немало. Это было в начале 80–х годов. Сейчас ситуация изменилась, по большей части число крещаемых взрослых такое же или даже больше, чем младенцев. И, конечно, за этим всегда стоит что–то более глубокое по сравнению с решением крестить младенцев. И вот здесь крайне огорчительное несоответствие между настроением взрослого человека, решившегося на столь серьезный шаг, и тем, как протекают крестины во многих наших храмах — вместе с младенцами, очень часто даже без какой–либо, хотя бы краткой, предварительной беседы со священником. Несоответствие еще и в том, что значительная часть самого чинопослеаования крещения ориентирована именно на крещение взрослого человека, сознательно отрекающегося от служения злу и избирающего служение Христу, между тем, практика проведение крестин ориентирована на крещение бессознательных младенцев. Ясно, что крещение взрослых следовало бы проводить отдельно, предваряя его беседой, наставлением. Но это как–то не принято и целиком зависит от энтузиазма священника. В итоге праздник вступления в завет со Христом, вступления в новую жизнь стирается, тускнеет. Один мой знакомый, крестившийся в 40 лет в такой вот обстановке, вскоре после этого с горечью признавался мне: «Даже не знаю, крещен я теперь или еще нет».
В качестве примера истинно пастырского подхода к крещению взрослого приведу воспоминания Светланы Аллилуевой из ее книги «Только один год» о замечательном московском священнике отце Николае Голубцове, ныне уже покойном.
«Я никогда не забуду наш первый разговор в пустой церкви после службы. Я волновалась, потому что никогда в жизни не разговаривала ни с одним священником. От своих друзей я знала, что отец Николай прост, говорить с ним легко и что он всегда беседует, прежде чем крестить. Подошел быстрой походкой пожилой человек с таким лицом, как у Павлова, Сеченова, Пирогова — больших русских ученых. Лицо одновременно простое и интеллигентное, полное внутренней силы. Он быстро пожал мне руку, как будто мы старые знакомые, сел на скамью у стены, положил ногу на ногу и пригласил меня сесть рядом. Я растерялась, потому что его поведение было обыкновенным. Он расспрашивал меня о детях, о работе, и я вдруг начала говорить ему все, еще не понимая, что это — исповедь. Наконец, я призналась ему, что не знаю, как нужно разговаривать со священником, и прошу простить меня за это. Он улыбнулся и сказал: «Как с обыкновенным человеком». Это было сказано серьезно и проникновенно.
В день крещения он волновался. Присев на скамейку и усадив меня рядом, сказал: «Когда взрослый человек принимает крещение, жизнь его может очень сильно измениться, иногда в худшую сторону, как в личном плане, так и во всех отношениях. Подумайте еще, чтобы не пожалеть после». Я ответила, что думала уже много и ничего не боюсь. Он взглянул на меня, усмехнувшись: «Ну, знаете, не боятся только избранные!»
Он крестил меня, дал молитвенник, научил простейшим молитвам, научил, как вести себя в церкви, что делать. Он приобщил меня к миллионам верующих на земле. Он сам, как личность, незабываем. После службы длинная очередь прихожан выстраивалась к нему, чтобы поговорить с ним. Он говорил с каждым, выслушивал любые жалобы. Однажды я простояла в такой очереди полтора часа, так как передо мной была молодая пара, у них что–то не ладилось в семейной жизни. У него было больное сердце, два приступа, после которых он продолжал служить, часами простаивая еще потом с прихожанами. После третьего приступа он умер».
Образ священника, о котором рассказывалось в этом воспоминании, фотографически точен. Я могу это подтвердить, потому что сам сидел на той же скамейке в храме после службы и так же сначала смущался, а потом почувствовал себя так легко и просто с этим человеком, от которого исходили замечательная простота, любовь и внимание. Казалось, что никуда не надо торопиться, что в этот момент он занят только тобой и только тем, что с тобой происходит. Да так оно и было. И само крещение, такое простое и одновременно такое запомнившееся по своей какой–то внутренней сути, по ощущению мира и приобщения к чему–то самому важному в жизни.
На этом фоне собственных воспоминаний и воспоминаний других о вступлении в жизнь Церкви с поддержкой и руководством настоящего христианского пастыря как ужасно бывает слышать о тех, к несчастью нередких случаях, когда со взрослыми людьми при крещении поступают как с грудными младенцами не только, так сказать, по содержанию, но и по форме. Я имею в виду тех либо слишком уж не по разуму ревностных, либо, по–видимому, просто не вполне психически здоровых священников, заставляющих взрослых новокрещеных раздеваться донага. Одна женщина мне рассказывала, что именно так, лет 20 назад, ее крестил священник Знаменской церкви, что у Рижского вокзала в Москве. Ей было тогда 18 лет. Собственно, и креститься–то она пошла, поддавшись уговорам своей старшей сестры, что это «надо», причем, главным образом, для нее, то есть сестры, спокойствия. Раз уж так надо, то надо, несмотря ни на что, решила эта девушка. И, с трудом преодолевая естественный стыд и ужас, разделась перед незнакомым бородатым мужчиной. И так стояла, дрожа от холода и отвращения, в храме на протяжении 40 или 50 минут, пока были вычитаны все молитвы и совершены все необходимые действия.
Результат вполне естественный — лет 7 она не могла переступить порог храма и только сейчас, будучи взрослой и имея двоих детей, она в состоянии понять, что происшедшее с ней ничего общего с христианством, каким его проповедует Евангелие, не имело.
Если уж говорить о христианском предании, на которое, так любят ссылаться ортодоксы, то следует сказать, что во II — III вв., например, когда крещение принимали преимущественно во взрослом состоянии, на крещаемых надевали длинные белые рубашки, и именно в этих крещальных рубашках они спускались с горящими светильниками в руках по ступеням в специальные небольшие бассейны — баптистерии (от греческого слова «баптизин» — «погружать», «омывать»). Это слово на русский язык крайне неудачно переведено словом «крестить». Именно поэтому, между прочим, Иоанн Креститель по–французски звучит как Жан Батист, по–английски — Джон Баптист; отсюда же название «баптисты», то есть христиане, которые принимают крещение только во взрослом состоянии и именно через полное погружение, (кстати, в длинных белых рубашках). Здесь необходимо сказать об одном повальном заблуждении в нашей церкви — о крестильных рубашках. По смыслу таинства и по самому названию их следует надевать именно Д О крещения и в них крестить. Иначе какие же они крестильные, если их надевать ПОСЛЕ крещения? Слова священника, произносимые сразу же после погружения в купель: «Облачается раб Божий (имярек) в ризу правды», имеют духовный смысл и относятся к надеваемому священником на новокрещаемого нательному кресту, а не к рубашке.
Несмотря на все эти, мягко говоря, отрицательные стороны совершения в наших православных храмах таинства крещения, люди приходят креститься сами и приносят сюда своих детей. Однако это не вселяет особого оптимизма. Проблема заключается в том, что из–за отсутствия необходимого наставления — катехизации (от греческого «катехизо» — «обучаю») — эти крещения в большинстве случаев не есть результат обращения людей именно ко Христу, а представляют собой лишь оформление естественного религиозного чувства в рамках того религиозного культа. который более других сохранился в нашей стране. Из–за этого в "таинстве крещения часто отсутствует собственно христианская специфика, как–то: вера в Воскресение Христа, в богодухновенность Священного Писания, решение в жизни своей следовать за Христом, подражать Ему, призывание во всяком деле помощи Святого Духа и др. Повторяю, за этим стоит лишь естественное религиозное чувство — смутное ощущение какого–то иного невидимого бытия, от которого мы, возможно, каким–то образом зависим и к которому обращаются либо на всякий случай (хуже не будет), либо когда все естественные средства явно исчерпаны (крайняя опасность, смерть близкого). И священник, совершающий таинство Крещения, обычно выступает здесь не как наставник веры, учитель, открывающий перед новообращенным совершенно новые духовные перспективы жизни со Христом, а лишь как жрец некоего таинственного культа, совершающий ритуальные действия, благодаря которым человек устанавливает какие–то ему самому не вполне ясные отношения с потусторонним миром. Во всяком случае, достигается некая гарантия благосклонности со стороны этого иного бытия к принявшему крещение. Дальнейшая жизнь будет, разумеется, идти по нормам этого мира, особенно для младенцев, но самое главное, с точки зрения родителей, все–таки сделано.
И тем не менее, даже в этой несформулированной и неясной вере есть что–то глубоко трогательное и серьезное. Здесь видится смутная надежда на то, что в жизни есть что–то еще кроме работы, очередей, трудного быта, тяжелых отношений со свекровью и прочих жизненных неурядиц. Есть что–то такое, ради чего стоит идти в странное здание, называемое церковью. В этом есть утверждение едва угадываемой таинственной реальности духовного мира, каких–то иных, отличных от повседневных законов бытия. И как печально, что это чувство иного бытия, столь упорно сохраняющееся в нашем народе, получает столь слабый отклик со стороны нашей Церкви. Здесь действительно происходит лишь то, что на суконно–казенном языке законодательства о культах еще до недавнего времени называлось «удовлетворением религиозных потребностей граждан». Церковь не раскрывает им своих объятий как посланница Христа на земле, радующаяся каждой приходящей душе, наставляющая ее на путь веры во Христа, принимающая ее в свою особую общность — семью, живущую по совершенно иным, отличным от мира законам, а лишь равнодушно удовлетворяет смутно сознаваемые «религиозные потребности», которые таинственным образом пробиваются в сердцах наших соотечественников.
Оказанное выше относилось к ситуации в нашей Церкви в начале 80–х годов. К сожалению, в большинстве приходов ситуация не изменилась: так же, как и десять лет назад, от желающего принять таинство крещения не требуется ни знания Символа Веры, ни хотя бы основ православного вероучения, а только желание и 15 рублей денег (плата за совершение таинства).
Справедливости ради следует сказать, что в некоторых храмах, во всяком случае в Москве, все–таки установился порядок, согласно которому каждый желающий принять крещение должен вначале хотя бы побеседовать со священником, то есть получить то или иное наставление. В весьма немногих храмах есть попытки организовать катехизаторские классы для желающих принять крещение. Правда, там, где среди духовенства нет единодушия в этом вопросе, эти занятия, носят довольно–таки случайный характер, наталкиваясь на упорное сопротивление, как не приносящие ничего, кроме хлопот. Есть так же один (пока) приход, где крещению предшествует довольно длительная (около года) хорошо продуманная система подготовки. Не все, правда, ее одолевают — имеется некоторый отсев, но зато остающиеся не только принимают крещение, но и становятся реальными членами общины этого храма. Собственно, так происходит возрождение такого понятия, как христианская община. Человек, принимающий крещение, становится с этого момента не просто членом Русской Православной Церкви, но членом данной, конкретной общины. Впрочем, препятствий для перехода в другую общину формально нет, однако здесь важно, что человек вступает в некую христианскую семью, что он, приняв крещение, не остается предоставленным самому себе, а становится членом христианской общины.
Надо отдать должное новому патриарху Алексию II, который уже в июне 1990 г., то есть буквально через две недели после избрания, встретился с московским духовенством. Глава нашей Церкви призвал к необходимости, по крайней мере там, где это возможно, проводить катехизацию перед крещением. Но, к сожалению, большинство нашего, даже московского, духовенства без особой готовности отнеслось к призыву первоиерарха, восприняв его лишь как энтузиазм митрополита, недавно ставшего патриархом. Так же как и призыв к обязательной проповеди, хотя бы в воскресные дни, призыв к катехизации завяз в нежелании большинства нашего духовенства сменить проторенную колею привычного требоисполнительства, по которой так хорошо «ехалось» многие годы, на активную творческую позицию служителей Христовых, призванных не только крестить, но и научить всему что Он заповедал.
Кроме того, нельзя не сказать о курсах катехизаторов, начавших работу по инициативе патриарха в Москве. Замечателен энтузиазм, с каким откликнулись на это наши молодые христиане — более 300 молодых людей (мужчин и женщин) регулярно посещают занятия, которые проводятся несколько раз в неделю.
К сожалению, все это пока «не делает погоды», и в большинстве храмов крестины проводятся так же, как и десять лет назад. Вероятно, здесь нельзя ограничиться просто призывами к нерадивому духовенству — надо принимать какие–то более решительные меры. Но отрадно, по крайней мере, то, что начало катехизаторской работе уже полагается. Есть надежда, что в скором времени принятие таинства крещения всегда будет сопровождаться предварительным наставлением в вере и станет не просто неким действием на всякий случай, а действительно началом для каждого новокрещаемого новой жизни во Христе Иисусе.
Отпевание
И еще боль за тех молодых и старых людей, приходящих в храм совсем по другой, печальной причине. Рождение и смерть. Начало жизни и конец. Две самые таинственные точки в загадке жизни. Отпеваний совершается примерно столько же, сколько крестин. Чаще, правда, отпевают «заочно», то есть усопшего не привозят в церковь, и отпевание совершается без него. В былые времена так отпевали утонувших в море. Печально, что из–за перестроечной неразберихи часто стало невозможным привезти покойника в храм для отпевания — «не хватает транспорта». Также из–за нехватки, как говорят агенты похоронных бюро, мест на кладбище, приходится прибегать к кремации даже тогда, когда это противоречит желанию родных и самого усопшего. Очевидно, что все это просто форма вымогательства взяток, для многих непосильных. Интересно, что венчаний всегда совершалось меньше, чем отпеваний, — 2–3 в месяц (это в 1980 г., сейчас до 40 в месяц, но это все равно значительно меньше, чем отпеваний). Вероятно, в отношении брака люди надеются больше на свои собственные силы. Когда же дело идето всей предстоящей жизни или о прощании с навсегда ушедшим, то здесь возникает естественная потребность связать это с каким–то особым ритуалом, отличным от повседневности, поскольку человек предстает перед чем–то совершенно неведомым и непостижимым.
Мне посчастливилось учиться у игумена о. Марка Лозинского, профессора Московской Духовной Академии. Он рано умер (в 33 года). Преподавал он у нас гомилетику — науку о проповедничестве. Помню, как он наставлял нас: «Особенно внимательны будьте к проповедям, которые вы будете произносить во время отпевания. Проводить умершего в храм приходят люди, которые в другом случае никогда сюда бы не попали. От вас зависит, чтобы это посещение храма стало для них не последним, а по–настоящему первым».
Действительно, трудно представить себе более подходящий момент для того, чтобы человек всерьез задумался над тем, зачем он живет? что такое вообще жизнь? что ждет нас после смерти? В нашем православном богослужении заупокойные службы, пожалуй, одни из самых глубоких и трогательных. И мелодии, и молитвословия как нельзя более подходят к скорби и тайне, окружающим смерть:
И как бывает обидно, когда все это богатство забывается. Проповеди при отпевании практически никогда не произносятся. Вместо, пусть небольшого, но хорошего хора, поют кое–как три–четыре старушки. Батюшка не очень–то внятно, скороговоркой, произносит молитвословия. Пришедшие с покойником люди с благоговейной растерянностью не знают, куда себя деть. Бойкие церковные женщины их расставляют «как надо», чтобы не мешали батюшке. И для них, и для самого батюшки — это привычная повседневная работа. И все отпевание, так сказать, «держится» лишь самой атмосферой храма, тем, что уже есть, без усилий со стороны тех, кто мог бы сделать эту молитву об усопшем глубоким, незабываемым прощанием и одновременно светлой надеждой на «вечную память» и «жизнь бесконечную».
Исповедь
Есть в жизни нашей Церкви таинство, веками игравшее огромную роль в духовной жизни христиан. Причем успех или неудача здесь больше, чем где–либо, зависят уже не столько от внешних условий, сколько от чуткости, ума и сердца самих священнослужителей. Речь идет о таинстве покаяния — исповеди — откровенной и, одновременно, сокровенной беседе между тем, кто исповедуется, и тем, кто принимает исповедь. Исповедующийся при этом максимально искренне рассказывает о самых главных своих проблемах — в чем он виноват перед Богом и людьми, а священник помогает ему глубже осознать, что с ним происходит, поддерживая, ободряя, где–то указывая на необходимость более строгого отношения к самому себе. Причем очевидно, что здесь, как нигде, следует помнить слова пророка Осии, повторенные Христом: «милости хочу, а не жертвы!» В самом деле, особенно если говорить о людях, пришедших в церковь впервые, или находящихся в ней недавно, то это чаще всего приход от житейских невзгод и трудностей, быть может, из какого–то жизненного тупика или катастрофы. Словом, приходят люди очень неблагополучные к священнослужителям — людям вполне благополучным, приобщенным, казалось бы, к самому высокому, что только есть на земле. У кого; как не у этих людей, искать понимания, поддержки и утешения?
Безусловно, есть, и не так уж мало, священников, которые понимают это состояние вновь пришедших и не дают волю «строгости», с которой можно было бы обличить этих людей, живших многие годы по законам «века сего». Но, к сожалению, нередко вновь пришедший наталкивается на такое законническое и прямо–таки жестокое отношение, что становится просто странно, как такое может случаться в Церкви.
Одна женщина рассказывала о том, как она, подобно многим нашим женщинам, в возрасте где–то около 50 лет, решила по совету знакомой, начать ходить в церковь. Ее знакомая, по–видимому, человек вполне, что называется церковный, посоветовала ей для начала поехать в Загорск, в Лавру, и там исповедаться за всю жизнь. Каково же было потрясение этой бедной женщины, когда иеромонах, к которому она попала на исповедь, отстояв длинную очередь, стал спрашивать исключительно об ее интимной жизни с мужем. Она услышала вопросы о таких вещах, которые она в своей жизни и выговорить бы не решилась. И все это где? — в Лавре, в Святом месте. «Я, говорит, — подхватилась и бегом оттуда. Чтобы я еще в церковь пошла, — да ни за что в жизни!»
Кто даст ответ за оскорбленную душу? Этот монах или его игумен или тот, кто наставлял их и рукополагал? Как здесь не содрогнуться от ужаса и не помолиться горячо о том, чтобы Бог наставил таких пастырей на путь любви и элементарного здравомыслия и Сам исцелил сотни, а быть может, тысячи, кто знает, таких оскорбленных душ. Ведь целая очередь стояла к этому иеромонаху, и он исповедует не год и не два.
Про другой сходный случай нам рассказывал уже упомянутый мною о. Марк Лозинский. Как–то в Лавру пришел пожилой человек, полковник в отставке. Он был крайне возмущен и резок. Искал монаха, который велел его жене с ним развестись. Дело оказалось вот в чем. Его жена стала ходить в церковь. Он был не против — «ходит, ну и пускай ходит, если это ей нравится». Сам он отрекомендовался человеком неверующим, но против веры других, в том числе своей жены, ничего не имеет. По прошествии какого–то времени жена его тоже поехала в Лавру исповедоваться. Ну, естественно, вопросы все вокруг семейной и половой жизни. Это бы еще полбеды. Но вдруг:
— А с мужем венчалась?
— Нет, батюшка, он ведь и в церковь–то не ходит.
— А раз так, то ты все это время в блуде с ним жила.
— Да что вы, батюшка, у нас уж и дети выросли, внучата народились.
— Все равно, — уперся монах, — или венчайся, или разводись!
Что делать? Ведь монах в Лавре сказал! Это прямо как голос Божий с неба. Ну и ультиматум мужу. Он ни в какую: «Что же я пойду венчаться, если я неверующий?» — «Тогда — развод!»
Вот как бывает, комментировал свой рассказ о. Марк, когда священник ставит собственный авторитет выше авторитета Священного Писания. Разве не сказано в Послании к Коринфянам, что «муж неверующий освящается женой верующей»? И что «жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его» (I Кор. 7–13—14)?
Тот же о. Марк предупреждал: «Когда будете говорить слово на общей исповеди, ни в коем случае не уподобляйтесь некоторым батюшкам, любящим подробно распространяться о разного рода «плотских» грехах. А то нередко начинают говорить такое, что просто ужас! Вот и подумаешь — придет на исповедь молодая девушка и там впервые услышит о таких мерзостях, о которых раньше и не подозревала. И где? В церкви!»
Такая озабоченность именно сексуальными грехами имеет свои причины. Одна из них в том, что из–за своего низкого духовного и культурного уровня многие монашествующие проводят жизнь, в сущности, бедную событиями, и разговорами о сексе они как бы компенсируют отсутствие собственной семейной жизни. К этому примешивается еще и бессознательная зависть. В результате вокруг интимной жизни в браке создается атмосфера отношения к ней как к какой–то постыдной грязи, которую сами монашествующие (и не монашествующие), тем не менее, смакуют в своих расспросах на исповеди. Обычно в качестве желаемого примера для подражания рассказывается о какой–либо супружеской паре (обычно это священник или диакон), решившей, несмотря на еще совсем не старый возраст и цветущий вид, жить, «как брат с сестрой». Как писал один христианский автор, есть совершенно особый вид зла, состоящий в том, что человек, отказавшийся от каких–либо удовольствий в жизни, например курения или карточной игры, решительно осуждает всех тех, кто не следует его примеру.
Другая причина такой озабоченности 7–й заповедью (не прелюбодействуй) в том, что священнику легче всего «уличить» пришедших на исповедь именно в этой сфере. При этом чаще всего забывается, что человек на исповеди должен каяться лишь в тех грехах, которые он совершил с момента последней исповеди. В курсе пастырского и догматического богословия особо подчеркивается, что если человек раскаялся в том или ином грехе и священник отпустил ему этот грех, то священник уже больше не должен даже напоминать об этом, поскольку грех прощен и разрешен именем Христа. В противном случае, какой же смысл исповеди и разрешительной молитвы, если все равно остается необходимость каяться в том же самом? В этом запрете учитывается и то обстоятельство, что всякие разговоры об уже раскаянном грехе могут вызвать совершенно излишние воспоминания о нем. Другое дело, когда по разным причинам человек сам снова и снова говорит священнику о том грехе, который он уже исповедовал раньше. Здесь могут быть необходимы поддержка, утешение, выяснение глубоких корней совершенного с тем, чтобы помочь совести верующего принять прощение, которое дарует нам Христос. Все это, однако, забывается, так как проще всего терзать человека, как на допросе: «Нарушала?.. Делала? Ну, вот! Смертный грех! Слезами кровавыми должна плакать…» и т. п. и т. д.
Доходит просто до комизма. Помню, исповедовал один батюшка. На исповеди было двое — явно беременная молодая женщина и дряхлая старуха. Батюшка, тем не менее, стал проводить «общую» исповедь, то есть говорить слово о грехах. О чем же он говорил целых минут 20? Ну, конечно же, про аборты. Другой, более актуальной темы для этой аудитории у батюшки не нашлось. Дело, конечно, просто в том, что он всегда говорил один и тот же текст, то есть всегда про аборты.
Вообще говоря, тема абортов действительно является на исповеди большинства священников самой актуальной. Во–первых, большинство прихожан — женщины. Во–вторых, жизнь, к сожалению, такова, что практически нет женщин, не сделавших в своей жизни хотя бы одного или двух абортов. Так что здесь открывается необъятный простор для обличений, увещеваний и, в конце концов, унижения. Такие батюшки именуются у народа «строгими». На самом же деле здесь происходит явное злоупотребление властью и авторитетом священника и очевидное вымещение на несчастных женщинах собственных комплексов. Вместо утешения, наставления и поддержки, человек на такой исповеди подвергается просто унижению и приводится к ощущению своего полного ничтожества и банкротства. Бог в этом случае предстает не как любящий Отец, Который Сына Своего не пожалел ради нас, а как мстительный полицейский с дубинкой, готовый покарать нас за малейший промах.
Я всегда с болью смотрю на этих заплаканных женщин, подходящих к причастию. По всему видно, что многие из них пришли впервые или, во всяком случае, впервые попали к такому «строгому» батюшке. В большинстве случаев они больше не приходят. Они так и не узнали в церкви о том, каков наш Бог, не узнали Христа. Потому что все совершенно не похоже на отношение, которое такие же вот бедные, израненные люди находили у Иисуса из Назарета. Ведь нигде в Евангелии мы не найдем, чтобы Иисус обличал лично какого–либо пьяницу, жулика или блудницу. Самое большее, что Он говорил в подобных случаях: «И Я не осуждаю тебя: иди и впредь не греши». Напротив, самые гневные осуждения из уст Иисуса были направлены в адрес людей благочестивых, кичившихся своей праведностью, своим стремлением в точности исполнить все предписания законов и преданий. Эти люди, создавшие для самих себя образ мелочного, мстительного бога, заинтересованного в скрупулезном выполнении обычаев и обрядов, забывали о самом главном — милости и сострадании. Именно эта праведность, возводимая исключительно человеческими усилиями, ставшая преградой между религиозными лидерами древнего Израиля и Богом, привела к казни Иисуса.
Следует отметить, что такие «строгие» батюшки пользуются неизменным уважением у некоторой части нашего церковного народа, в основном у тех, которые и сами «строги» со случайно зашедшей в храм молодежью. Здесь происходит какая–то странная встреча жестокого стремления унизить грешника «ради его же блага», в целях исправления, и, с другой стороны, прискорбного желания быть, в свою очередь, самому униженным более авторитетным лицом.
Эта идея — исправления через унижение — пользуется большой популярностью у консервативно настроенных людей, С восторгом выслушиваются и передаются истории о том, как в древних монастырях монахи стяжали необычайное смирение и, впоследствии, святость через исполнение всевозможных нелепых и бессмысленных приказаний. Соответственно, рассказы о том, что наш последний великий святой — Серафим Саровский — встречал всех без исключения приходящих к нему словами «Радость моя!», пользуются куда меньшим спросом. Причина ясна: подражать Серафиму Саровскому гораздо труднее, чем этим мифическим монахам.
К счастью, таких «строгих» батюшек не так уж много, и такого рода подводные камни нашей церковной жизни нетрудно обойти, особенно если есть друзья, которые сами уже «воцерковились» и могут посоветовать, к кому лучше пойти на исповедь. Надо заметить, что и среди, так сказать, простых священников есть немало людей вполне благоразумных и даже мудрых. Я сам слышал, как один из таких батюшек наставлял более молодого собрата: «Особенно много не говори. Что ты думаешь? От наших слов придет человеку прощение? Господь это делает». К сожалению, среди таких батюшек много просто равнодушных, исповедующих 40—60 человек в течение 10—15 минут. Но лучше уж такое равнодушие, чем ревностная, не по разуму, жестокость. Надо заметить еще и следующее: хотя таких «ревностных» батюшек совсем немного, но они все же довольно заметно «делают погоду», так как им не откажешь в активности. Это, естественно, привлекает людей. А то, что вместо евангельской любви и правды такой батюшка в большей мере насаждает средневековую жестокость, то в этом разобраться довольно трудно, особенно вновь пришедшему.
Здесь надо еще сказать, что в последние десятилетия жизни нашей Церкви дело исповеди, по существу, пущено на самотек. Ни епархиальное начальство, ни благочинные, ни даже настоятели не интересуются тем, как проводят исповеди священники, что они говорят в качестве вступительного слова на общей исповеди, о чем спрашивают и как разговаривают с кающимися.
Необходимо сказать также об одном из самых больших камней преткновения в жизни нашей Церкви — выборе времени исповеди.
Как это ни печально, за многие десятилетия Советской власти из–за малого числа храмов и соответственно их переполненности укоренилась практика так называемой общей исповеди. В отличие от частной, или индивидуальной, священник уделяет главное внимание не столько беседе с каждым исповедающимся, сколько обращенному ко всем слову перед исповедью, в котором говорит о самом главном, в чем следует каяться приступающему к таинству Святого Причащения, о значении самого Таинства. Соответственно используется то, что относится к празднуемому в это время событию, или читаемый в этот день евангельский текст и пр. Практика общей, исповеди была введена святым Иоанном Кронштадтским также ввиду огромного числа людей, стекавшихся на его богослужения. Из–за невозможности поговорить с каждым из многих сотен желавших исповедаться и причаститься, св. Иоанн говорил общее слово, потрясающе глубокое и прочувствованное, после чего восклицал: «Кайтесь!». По свидетельству очевидцев, здесь начиналось нечто невероятное: люди рыдали, били себя в грудь, громко просили у Бога прощения. Через некоторое время св. Иоанн успокаивал народ, читал общую для всех разрешительную молитву, после чего допускал весь народ к Причастию.
Понятно, что св. Иоанн был фигурой уникальной и подражать ему чисто внешне означало бы браться за нечто невыполнимое. Но сама обстановка в наших храмах привела к необходимости именно общей исповеди. Правда, священники стараются сочетать общее слово с краткой беседой с каждым из исповедающихся. Само по себе это вполне логично и соответствует нашей ситуации. Однако в отношении времени исповеди современную практику иначе как порочной не назовешь. Я имею в виду насчитывающую уже не одно десятилетие традицию в тех храмах, главным образом городских, где имеются два и более священников, проводить исповедь непосредственно во время литургии. Здесь–то сама обстановка и открывает простор для чисто формального проведения этого важного Таинства.
Как правило, общая исповедь проводится в одном из приделов, в котором в данный момент литургия не совершается.
В зависимости от архитектуры храма это оказывается либо слишком близко к тому алтарю, где совершается литургия, и тогда исповсдающиеся практически не слышат ни молитв, читаемых священником, ни того слова, которое он говорит, стремясь расположить сердца своей паствы к покаянию; либо это оказывается в другом конце храма, так что исповедающиеся не слышат самой службы. Конечно, теоретически возможно выбрать такое место, где будет слышно и то, и другое, но все–таки нельзя от всех прихожан требовать способности одновременно полноценно молитвенно участвовать в литургии и при этом слушать слово, произносимое на общей исповеди, размышлять о своих грехах и принимать решение оставить то или иное в своей жизни как явно неугодное Богу. Получается странная вещь: те, кто не исповедаются и, следовательно, не причащаются, могут стоять и внимательно вслушиваться в нашу замечательную православную литургию, не будучи участниками той Тайной Вечери, которая и совершается в этот момент «за всех и за вся». В то же время те, кто исповедаются, то есть являются именно участниками этой Вечери, не в полной мере в ней участвуют, так как именно в этот момент они участвуют в другом таинстве — покаяния. И то, и другое таинство совершаются без необходимого внимания и сосредоточенности.
Между тем Литургия — центральный момент нашей сакральной христианской жизни, приобщение к Страданию, Смерти и Воскресению Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя мира. Вокруг этого таинства созидается вся остальная жизнь всех христианских Церквей, в том числе и нашей, Русской Православной Церкви. Столь прискорбное невнимание к этому центральному таинству, по сути дела, формальное в нем участие (иначе как еще можно назвать современную практику?), несомненно, роковым образом отражается и на качестве нашей христианской жизни.
Совершенно очевидно, что исповедь следует проводить отдельна от литургии. Там, где позволяют условия, вероятно, лучше всего накануне, чтобы не было жестко ограниченного времени. А ведь именно такое имеет место, когда исповедают во время свершения литургии: ведь при этом необходимо успеть исповедать всех в течение не более одного часа, независимо от того, сколько исповедающихся — 30—40 или 300—400 (такое тоже бывает в некоторые дни). Даже если исходить из обычного для Москвы числа исповедников за воскресной литургией — 60—80 человек, то нетрудно увидеть, что у священника будет меньше одной минуты на человека. О каком серьезном наставлении здесь можно говорить?
А если иметь в виду, что из этих 60—80 человек примерно 10—12 пришли вообще впервые на исповедь? Что получат они от этой первой в своей жизни встречи с нашей Церковью?
К счастью, в тех (пока еще немногих) вновь открывающихся храмах Москвы, где настоятелями поставлены глубокие, серьезные и одновременно энергичные священники, исповедь проводится именно накануне, и при этом священник уделяет ей очень много и времени, и внимания.
Необходимо постоянно помнить о том, что исповедь — самое близкое общение служителя Церкви со своей паствой. От этого общения в каком–то смысле зависят судьбы сотен и тысяч людей. Ясно, что далеко не каждый священник обладает необходимыми для этого данными: чуткостью, тактом, достаточным собственным духовным опытом. Здесь были бы крайне желательны краткие пособия для священников, содержащие соответствующие наставления. Уверен, что была бы огромная польза от семинаров, которые могли бы проводить либо сами епископы, либо, по их благословению, опытные священнослужители. На них можно было бы обсуждать как положительные, так и отрицательные прецеденты, не называя, разумеется, ничьих имен.
Но ничего этого, к сожалению, нет. Потому и идет жизнь нашей Церкви по старой пословице: «что ни поп — то батька». В одном месте (в Загорске) человеку говорят: «Ваше духовное состояние требует того, чтобы вы исповедовались и причащались каждое воскресенье». Приезжает человек в Москву. Сходит в церковь в первое воскресенье, а на следующее его или ее уже останавливает священник:
— Ты же была неделю назад?
— Да меня благословили каждую неделю причащаться!
— Вот кто благословил — тот пусть и причащает. А причащаться чаще раза в месяц — смертный грех!
Почему? Откуда это?
Точно так же почему–то считается, что причащаться на Пасху или на Рождество тоже своего рода духовная бестактность: «Праздник великий, а они со своими грехами лезут!» То, что сами священники причащаются несколько раз в неделю, и, уж конечно, в Рождество и на Пасху, как–то забывается — это вроде как по служебной обязанности. Один протоиерей так и говорил, отстаивая редкое причащение мирян: «А то будете как мы — привыкнете к частому причащению и благоговение потеряете!» (Священник причащается за каждой совершаемой литургией).
На деле же имеет место просто недоразумение — автоматическое соединение, причем совершенно необязательное, двух разных таинств: исповеди (покаяния) и причащения (встречи со Христом на братской трапезе верующих). Здесь было бы уместно позаимствовать у католиков современный обычай — причащать в праздник всех, не имеющих на совести тяжкого греха, без исповеди — ради праздника. Именно так к поступают, например, в Московском костеле, приглашая к причащению даже православных, ради великой радости Господнего Праздника.
В то же время человек может, напротив, нуждаться в частой исповеди или даже просто в духовной беседе, утешении, а не только в перечислении своих грехов. Но это у нас в Православии как–то совершенно не принято. Стоит кому–нибудь остановить священника после службы, чтобы о чем–нибудь спросить или посоветоваться, как тут же найдутся доброхоты из старушек: «Не задерживайте батюшку — он устал!.. Как будто беседы с людьми — это что–то выходящее за рамки служения священника. Впрочем, многие священники так и считают. Я сам был свидетелем, как один пожилой священник отчитывал прихожанина, все стремившегося «поговорить с батюшкой»: «Что вы, что вы! Нам нельзя с вами говорить. Вот приходите на службу, стойте, молитесь, придите на исповедь». Почему нельзя? Кто запрещает?
Печально то, что нередко священники, которые сами не беседуют с прихожанами, помимо исповеди (весьма, впрочем, краткой), всячески препятствуют делать это своим собратьям, упреками, замечаниями (чаще всего это настоятель или второй священник), создавая обстановку напряженности и нервозности. Священнику, стремящемуся не ограничиваться формальным служением, всегда приходится такие краткие беседы проводить где–то в углу храма, урывками, чуть ли не тайком, все равно навлекая на себя неизменные попреки, что он–де «задерживает службу»: «Ну, давай теперь до вечера служить!» Хотя, естественно, такие краткие беседы проводятся лишь после литургии и никого по–настоящему не задерживают. Дело здесь, конечно, не во времени, а просто в том, что такого рода активность является как бы постоянным обличением формального отношения к службе старшего собрата. Чтобы себя как–то реабилитировать перед самим собой и другими, и дается воля такого рода попрекам. Конечно, за этим стоит ещё и, вероятно, некая ревность, поскольку к священнику, относящемуся к своим обязанностям чисто формально, никто из прихожан особенно и не обращается, так как от него ничего и не услышит человек, нуждающийся во внимании и любви. Поразительно, что даже сейчас, когда уже нет диктата уполномоченных, особо следивших за батюшками, к которым «ходит молодежь», остается инерция такого же формализма. Воистину, «сами не входят хотящих войти — не допускают». Казалось бы, сейчас уже было бы совершенно естественным ввести определенные часы, во время которых желающие поговорить со священником могли бы это сделать не «на ходу», а в спокойной обстановке. Такая потребность особенно остро ощущается в настоящее время, когда многие люди приходят в храм впервые, когда идет массовое возвращение народа нашего к вере, возвращение в Православную Церковь.
Каким контрастом этому выглядят маленькие объявления, которые даже в 70—80–е годы можно было увидеть на дверях лютеранских и католических церквей в Прибалтике. «Пастор (такой–то) принимает прихожан по личным вопросам по вторникам, четвергам и субботам с 12 до 16». Тут же написан телефон, по которому можно позвонить пастору и уточнить необходимое. Это ведь так естественно, чтобы люди могли обратиться к священнику, не «ловя» его на ходу после службы, а в специально отведенное для таких бесед время.
И дело здесь не в перегрузке священнослужителей службами (можно было бы сократить число этих служб или увеличить число священнослужителей). Дело здесь в ставшей привычной нормой православной установке: священник — это тот, кто осуществляет священнослужение. Между тем Иисус нигде не называл Своих учеников «священниками». Он призывал их быть п а с т ы р я м и. «Любишь ли Меня?» — трижды вопрошал Он Петра, — если так, то «Паси овец Моих». Пасти означает быть готовым душу полагать за них. А тот, кто прежде всего думает о том, как бы поскорее закончить все дела в храме и уехать домой, просто наемник.
А наемник, — не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, …потому что .наемник, и не радитоб овцах.
(Ин 10: 12–13).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПАСТВА И ПАСТЫРИ
Церковь старух
Очень часто можно слышать, правда, от людей, в церкви не бывающих, что сейчас туда ходит много молодежи. Впрочем, не менее часто слышишь и о том, что в церкви одни старухи. Это второе утверждение принадлежит людям хотя и не слишком доброжелательным, но, по крайней мере, несколько раз в жизни все–таки побывавшим в церкви. Каково же положение в действительности?
В начале 70–х годов один очень деятельный московский священник (сейчас уже можно назвать его — отец Дмитрий Дудко) неожиданно ввел новую форму церковной проповеди — «ответы на вопросы». Предлагалось заранее задавать вопросы в письменном виде, а священник по субботам, после всенощной, отвечал на них. Вопросы были самыми разными, а ответы смелыми и даже резкими. Священник с амвона говорил то, что думал. И хотя в его словах не было чего–то совершенно нового, но уже одно то, что человек, да еще священник, говорит во всеуслышание в церкви то, о чем многие знают, но молчат, было настолько поразительно, что, начиная со второй проповеди, субботними вечерами храм буквально заполнялся молодежью. Старушки просто становились исчезающе незаметными среди бород, джинсов и дубленок.
Все это, конечно, не могло не радовать смелого проповедника, так что он оптимистически утверждал с амвона: «Нет! не удалось атеистической власти сделать нашу Русскую Православную Церковь Церковью старух!» Исход этого отважного начинания был, скорее, печальным, но не об этом сейчас речь. Отдельный проповедник, конечно, привлек к себе, и к вопросам веры внимание, быть может, сотен молодых людей, впрочем, по не зависящим от него обстоятельствам, ненадолго. Однако едва ли такой интерес к одному священнику дает основание для характеристики состояния всей Церкви. Если честно, то приходится с грустью констатировать обратное — именно «удалось», так как наша Церковь в таком виде, в каком она существует в настоящее время, является в самом деле Церковью пожилых и старых женщин.
Слово «церковь» означает «собрание» (греч. — экклесиа), то есть, в узком смысле слова, церковь — это те, кто собираются вместе ради соединяющего их Христа. Если мы посмотрим фотографии богослужений, помещаемые в «Журнале Московской Патриархии», или зайдем в любой храм, го увидим, что стоящие там верующие, за крайне редким исключением, — сплошь пожилые и старые женщины. Почти нет ни людей среднего возраста, ни молодежи. В настоящее время ситуация изменилась, но лишь в тех немногих храмах, где инициативу взяли деятельные священники, стремящиеся к пробуждению жизни в нашей Церкви. В большинстве же приходов осталось по–прежнему. Могут сказать, что те или иные обстоятельства делают зачастую трудным, если не невозможным, посещение храма теми, кто еще не на пенсии. Но почему же нет пожилых и старых мужчин — мужей этих наполняющих наши храмы женщин? Не все же они незамужние или вдовы. Нет, дело не в этом. Просто пожилые мужчины и старики ходят в храм столь же редко, что и мужчины других возрастов. Пожалуй, даже молодые заходят в храм чаще, причем здесь не только любопытство, но и нечто большее.
Все дело в том, что все происходящее в наших храмах психологически и интеллектуально устраивает только «бабушек» — самую смиренную, терпеливую и малообразованную часть нашего народа. Среди них немало даже просто малограмотных. Это женщины с особой формой сознания, особой психологией, основное свойство которой — покорное смирение перед любым авторитетом, любой властью — светской или церковной. Это, кстати говоря, совсем не означает, что они смиренны и терпеливы в каждодневной жизни. Скорее даже, наоборот — смирение перед любым, даже небольшим, авторитетом нередко как бы компенсируется агрессивностью в повседневной, обыденной жизни. Например, к своим же подругам по храму и особенно к тем, кто в сложившейся иерархии постоянных прихожанок занимает более, низкое положение. Такая же агрессивность проявляется и ко вновь зашедшим в храм, особенно к молодежи. Здесь очевидное желание подчеркнуть, что они в храме «свои», все знают, а «чужие» «ничего не понимают». В этом отношении удивительный контраст с баптистами. Там вновь пришедшего, даже незнакомого, чаще всего встречают благожелательными улыбками, сразу дают сборник духовных песен, чтобы человек мог петь вместе со всеми. В православном храме (в этом же городе) на новенького смотрят косо, а на клиросе так даже враждебно — «чего встал? мешаешь только!». И хотя такое отношение характерно для православного храма, все же и у нас немало прихожан по–настоящему добрых, благожелательных. Это они стараются сказать новичкам слова ободрения и поддержки. К сожалению, их часто опережают другие своей агрессивностью.
Вообще же церковные бабушки — совершенно особый слой нашего общества. У большинства из них за плечами нелегкая жизнь: разоренное или брошенное в молодости хозяйство в деревне (из–за раскулачивания), затем тяжелая работа, зато сейчас у многих все–таки более или менее спокойная старость (пенсия, отдельная квартира или комната). Так что храм, в котором горят свечи, поются торжественные мелодии, произносятся благочестивые слова, представляется им действительно тихим и радостным пристанищем, напоминающим об их молодости, деревне, праздниках, гулянках вокруг сельских церквушек в 20–е годы. Тех сельских храмов, да и многих деревень, уже нет, а в Москве церкви все же есть, и они стали для них тем местом, в котором можно действительно отдохнуть после скудной радостями жизни перед тем, как навсегда отойти в иной мир. Все они в духовном отношении нетребовательны, так что само по себе наличие храма и священнослужителя, исполняющего веками сложившийся ритуал, наполняет их сердце спокойствием, радостью и каким–то особым удовлетворением. А уж если «батюшка» оказывает им хотя бы минимальное внимание, то все уже просто прекрасно и «упаси Бог» что–нибудь в этом менять.
Лет 20 или 30 назад, вероятно, многим казалось, что «вот перемрут бабушки, выросшие при «старом» режиме и потому цепко держащиеся за Церковь, и храмы опустеют». Однако проходят годы, и на смену им приходят уже новые, «советские» бабушки, родившиеся и выросшие при новой власти. Это в основном женщины из рабочей среды, которые, выйдя на пенсию, начинают ходить в церковь. Среди них есть и из интеллигенции, но немного. Этот постоянный приток пожилых женщин связан, вероятно, с тем, что женщины острее чувствуют зависимость от неземных сил, больше нуждаются в утешении, в котором им отказывает окружающая обстановка. Пафос нашей жизни до совсем еще недавнего времени в основном был рассчитан на молодых, здоровых, красивых, передовых. А как быть остальным — старым, больным, с несложившейся жизнью?
Есть здесь и еще одна религиозно–психологическая причина, на которую мне указал один из моих друзей. Возникающее у пожилых женщин религиозное чувство накладывается на продолжающееся чувство женской, материнской ответственности за семью — теперь уже не только за мужа и детей, но и за внуков и правнуков, а также и за тех, кто уже умер, возникает религиозная ответственность за род. Она могла бы выражаться в проповеди христианства своим ближним, но так как познания в том, что выходит за рамки религиозно–обрядовой практики, весьма скромные, то такая проповедь не имеет особенного успеха среди более образованных детей и внуков. Поэтому религиозная ответственность выражается, главным образом, в принятии на себя инициативы в деле крещения, отпевания и в подавании при посещении храма записочек «о здравии» и «о упокоении». Происходит как бы распределение функций: молодые живут, как и все безрелигиозное общество, а старые (причем исключительно женщины) молятся Всевышнему за себя и за них, подобно жрицам своего небольшого рода.
Поэтому храмы наши, думаю, никогда не опустеют. Но только вот христианство имеет в виду не одних лишь пожилых женщин с их покорной непритязательностью и самоотверженным стремлением внести в подаваемые записочки всех близких. Иисус желает дать нам не просто утешение, но жизнь, и «жизнь с избытком». Он хочет преображения человеческих сердец через обращение к Отцу в духе и истине. Один из опытных служителей Церкви как–то заметил, что степень подлинного возрождения Церкви определяется числом мужчин, участвующих в ее жизни.
Поскольку такой религиозный настрой и такая непритязательность не свойственны остальной части нашего населения, то, соответственно, люди других возрастов или другого склада не в состоянии 3—4 часа стоять в переполненном душном помещении, где происходящее остается для них совершенно непонятным. Они, естественно, начинают, мягко говоря, смущаться многим в нашей Церкви: почему у вас служат на непонятном языке, зачем целовать икону, руку священника, зачем поклоны и т. п. И чаще всего итог таков: «В Бога я верую, а в церковь ходить не буду. Ничего мне это не дает!» Действительно, обычному взрослому человеку почти невозможно прийти к вере только через посещение церкви, то есть посещение богослужения, поскольку оно рассчитано не на обращение вновь пришедших, а на уже уверовавших. Это еще возможно для пожилых женщин, которым свойственно исключительно эмоциональное восприятие богослужения и которых удовлетворяет пение и чтение отдельных благочестивых фраз, не выстраивающееся в систему (что было названо одним автором «женским типом религиозности»). Но для гораздо большего числа наших современников свойственно не только эмоциональное, но и рациональное, разумное восприятие мира. И когда такие люди оказываются в храме, то они, естественно, хотят понять, для чего собрались верующие, что значит молиться, что значит верить в Бога и, вообще, что такое Бог? То есть большинству людей свойственно задавать вопросы и получать на них вразумительные ответы. Но, к великому сожалению, этого в нашей Церкви, нет, и еще более печально, что на собственно православном богослужении этого не было и раньше, причем на протяжении многих веков.
Молодежь
Несколько лет назад я спросил одного священника: «Бывает ли у вас в храме молодежь?» — «Да, бывает, — ответил он, — да что толку, ведь это все шизофреники».
Меня, помню, сильно удивил его пессимизм. Однако позже, наблюдая за немногими верующими молодыми людьми, я обратил внимание на одну характерную особенность. Если молодой человек начинает ходить в храм, привлекаемый именно самим богослужением, а не хорошими, например, проповедями какого–либо священника, если он приходит к вере, как приходят пожилые женщины, — через богослужение, а не так, как большинство молодых людей — через друзей и книги (когда участие в богослужении является не первым шагом к вере, а, скорее, уже результатом веры), — так вот, если никакого, так сказать, просветительного влияния нет, а есть только интерес к долгим праздничным службам, акафистам, к тому, что в этой церкви служат так, а в другой несколько иначе, если есть какая–то особая любовь к торжественным службам и вообще к повседневному церковному быту, то печальный факт состоит в том, что в таком молодом человеке, как правило, заметны какие–то психические отклонения от нормы, иногда очень сильные, просто клинические. По–видимому, психологический склад, являющийся нормой для пожилой малообразованной женщины, патологичен для молодого человека.
Это в меньшей мере относится к церковным молодым женщинам, хотя и у них в аналогичных случаях также нетрудно заметить, что за почти старушечьей консервативностью, почти нездоровой приверженностью к форме стоят более или менее явные нарушения психики. Но, повторяю, это гораздо реже и слабее выражено, чем у молодых людей, и, скорее, является результатом одиночества, чем исходных особенностей психики.
Разумеется, автор ни в коем случае не желает быть понятым таким образом, что сама по себе любовь к богослужению есть какой–то болезненный признак. Ни в коем случае! Внешняя сторона православной службы всегда привлекала чуткие к Божественной правде и красоте сердца. Красота нашего богослужения иногда целые народы приводила ко Христу. Достаточно вспомнить святого Стефана Пермского, обратившего целый народ. Да и в обращении русского народа, как известно, великолепие византийского богослужения сыграло, пожалуй, решающую роль. Речь идет лишь о том, что нередко происходит обращение не столько ко Христу, сколько к богослужению, особенно у людей впечатлительных, легко ранимых. Происходит определенное «бегство от мира», причем не к сути христианства, а лишь к его форме. Понятно, что во Христе прежде всего нуждаются «не здоровые, но больные», слабые, незащищенные. И здесь, конечно, важно помочь молодому человеку или девушке увидеть не только красоту службы, но и красоту той великой Истины и Правды, которые несет Христос, прославляемый за нашим богослужением. Тогда «форма» и «содержание» Православия не будут разобщены, а станут целостным христианским мироощущением.
То, что мы говорили о церковных молодых людях «со странностями», делает понятной еще одну характерную особенность нашей Церкви — практически полное отсутствие среди остальной («нормальней») части церковной молодежи рабочих. Вся немногочисленная, но все же реально существующая церковная молодежь — почти сплошь интеллигенция. В настоящее время сложилась такая ситуация, что для вхождения в Православие необходимы либо психологическая установка, присущая пожилым женщинам, либо семейная традиция, не отвергнутая молодыми людьми, либо культурный уровень заметно «выше среднего». Поскольку молодежь из рабочих этого не имеет, она остается совершенно вне Православной Церкви, несмотря на то, что сейчас очень многие из них принимают крещение, как мужчины, так и женщины.
В самом деле, в Православии приход к вере людей из интеллигенции обычно происходил через влияние друзей и через книги, поскольку, как уже говорилось, для человека, привыкшего осмысливать окружающее, пробиться к существу веры через одно лишь богослужение почти невозможно. Поэтому книги здесь игралиосновную формирующую роль.
Разговоры с друзьями были лишь толчком к вере, лишь постановкой вопроса о возможности веры в Бога. Религиозные книги — это был либо антиквариат (дореволюционные издания святых отцов и др. книги, также ксерокопии с них), либо «самиздат» и «тамиздат». Ясно, что рабочая молодежь, которая и вообще–то читает меньше, такие книги вообще не читала, так как они к ней просто не попадали. Контакта между молодыми людьми из рабочих и верующей православной интеллигенцией практически не было, поскольку и последние чаще всего люди нетехнических специальностей. Так что не было и никаких разговоров на тему о вере с молодежью из рабочих, никаких побудительных влияний. Однако детей молодые рабочие семьи в большинстве своем все равно крестили, в отличие от интеллигенции, где крестили детей только в действительно верующих семьях. Впрочем, в настоящее время детей крестят уже, по–видимому, почти все, независимо от участия или неучастия родителей в жизни Церкви.
Сказанное выше о приходе в нашу Церковь молодежи, главным образом из интеллигенции, относилось к началу 80–х годов. Однако в основном это справедливо и для современной ситуации, хотя положение в этом, как и во многом другом, резко изменилось, начиная с лета 1990 года, с избранием нового патриарха — Алексия II. Во многих московских приходах открылись воскресные школы для детей. В среднем в каждой такой школе занимаются от 80 до 200 ребятишек в возрасте от 6 до 14 лет. Здесь в основном дети прихожан данной церкви, причем социального преобладания интеллигенции незаметно. Внучат нередко водят бабушки, а родители, даже не будучи сами практикующими верующими, как правило, не возражают, отчетливо осознавая, что «в церкви плохому не научат». Эти ребятишки в самом деле наша надежда на будущее. События Священной Истории воспринимаются ими совершенно естественно и живо. Этому, кстати, помогают и телевизионные программы, во многом содействующие религиозному образованию детей, в особенности, судя по собственному опыту проведения таких занятий, в этом отношении эффективна серия мультфильмов «Супер–Книга», где библейские события передаются увлекательно и наглядно.
Отрадна популярность, которой пользуются начавшие свою работу также в 1990 г. школа катехизаторов при Комиссии Священного Синода и Православный Университет. Правда, на занятиях первой из них нередко вместо изложения православного вероучения преподаватели увлекаются обличением вероучения других конфессий, делая это в духе и стиле XIX века, нередко с ошибками. Едва ли следует начинать чудесное дело богословского образования будущих катехизаторов с насаждения духа вражды и нетерпимости к нашим братьям–христианам Запада, католикам и протестантам. Разумеется, там, где это необходимо, следует указать на различия вероучений, но, очевидно, духу христианской любви (а именно ей следует прежде всего учить будущих наставников молодежи и новообращенных) больше соответствует спокойное разъяснение исторических корней имеющихся различий и обоснование того, почему Православная Церковь придерживается именно такой точки зрения, а не иной. Здесь необходимо постоянно подчеркивать, что правильность православного вероучения должна всегда подтверждаться прежде всего не гневными обличениями в адрес «еретиков» и декларацией нашего монопольного права на обладание истиной, а нашей христианской жизнью — ее плодами: любовью, милосердием. Важно показывать нашу веру из наших дел. Иначе мы рискуем превратить Православие из проповеди любви и мира в религиозное санкционирование всякого рода нетерпимости, самопревозношения и гордыни.
Что касается религиозных книг и других религиозных изданий, то здесь также имеются радикальные перемены. Отпала необходимость иностранным туристам, рискуя всякого рода неприятностями, нелегально провозить к нам Библии, Евангелия и религиозные книги иностранных издательств. Все это сыграло на протяжении последних 20—25 лет огромную роль в деле сохранения и распространения христианства в нашей стране. За одно это следовало бы многим «ревнителям» Православия быть сдержаннее в критике христиан Запада, — пока что многие годы мы принимали помощь от них, а не они от нас. И в настоящее время эти издательства продолжают свою работу, но в новых условиях они, естественно, не в силах удовлетворить весь поток просьб из России и ограничиваются помощью в организации библиотек при храмах, выставок–продаж в Москве. В дальнейшем намечаются планы совместной работы с нашими издательствами и библиотеками.
Одновременно с этим к делу евангелизации народов, населяющих бывший Советский Союз, присоединяются Международные Библейские Общества и другие организации, осуществляющие массовые поставки в нашу страну Библий, Новых Заветов, «Детских Библий», столь необходимых не только детям, но и большинству взрослых, совершенно несведущих в библейской истории. Издательская деятельность внутри страны делает лишь первые шаги и пока ориентирована, главным образом, на репринтные или слегка переработанные издания литературы XIX века. При всех ее несомненных достоинствах понятно, что новое время требует новых форм изложения вечных истин. Именно этим качеством отличаются книги отца Александра Меня, убитого 9 сентября 1990 года. Убежден, что массовое издание его книг, имеющих целью именно введение в христианскую веру и жизнь и написанных тогда, когда большая часть нашей Церкви просто молчала, чтобы выжить, заполнит имеющийся вакуум религиозной литературы, рассчитанной именно на современного читателя.
По–видимому, нашей Церкви следует уделить особое внимание молодежи из рабочих, подумать об особых формах проповеди, рассчитанной именно на людей, не привычных к чтению. Быть может, здесь следовало бы активнее использовать кинематограф, тем более, что в мировом кино имеется немало шедевров на библейские сюжеты. Это помогло бы преодолеть чудовищную неосведомленность нашего народа о Вечной Книге, изменило бы образ мышления миллионов людей. Особое внимание, конечно, уже сейчас следует уделять беседам со взрослыми, желающими принять крещение. К сожалению, чисто финансовые соображения "в приходской практике преобладают над заботой о том, что будет в дальнейшем с сотнями и тысячами людей, принимающих сегодня таинство вступления в Церковь без всякого представления, что же такое христианская вера. И наша Церковь, призванная служить нравственному подъему общества, должна быть особенно озабочена работой с приходящей в Церковь молодежью из рабочих.
Здесь можно отметить, что в баптистских церквах рабочих немало, поскольку там имеются специальные, служения, занятия с молодежью. Вхождение в веру осуществляется не через чтение мудреных книг, а через вполне доступное устное наставление, проповедь, занимающую центральное место в служении у баптистов, самостоятельное чтение Евангелия и через молитву о даровании веры.
В отношении церковной молодежи следует сказать еще следующее. Нередко бывает так, что интеллигентный молодой человек, придя к вере, очень скоро становится крайним ортодоксом и консерватором. Иконописи, песнопениям, аскетической литературе, акафистам и канонам уделяется куда больше внимания, чем Священному Писанию — центру и источнику христианской жизни, поскольку оно говорит о личности Христа. Происходит как бы «застревание» в плотных слоях обширного христианского предания, окутывающих самый центр христианства — личность Иисуса Христа. Впечатление такое, что человек приходит не столько ко Христу, сколько к христианской культуре, столь богатой и разнообразной по сравнению с тем, что он знал до сих пор. Сама БИБЛИЯ в таком случае оказывается лишь фоном, а основное внимание направляется на святых Отцов, Добротолюбие, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, иконы, пение. Учителем становится не Писание, а Предание. Писание в этом случае объявляется слишком возвышенным и духовным — «до него еще надо дорасти», причем не иначе как через упомянутых авторов. На деле же Библия оказывается забытой на отведенном ей почетном пьедестале, а духовная жизнь строится на Феофане Затворнике и Игнатии Брянчанинове. При этом человек сам их, может быть, почти и не читал, но ссылки на них, само звучание их имен уже содержат в себе нечто безусловно авторитетное и надежное. Один молодой человек из вполне интеллигентной научной семьи на вопрос священника, что его привлекло в Церкви, радостно и решительно воскликнул: «Консерватизм!»
Уточнения
Во избежание возможных недоразумений следует сделать два замечания.
Во–первых, автор ни в коем случае не хотел бы, чтобы у читателя создалось впечатление, будто все русское православное богослужение подходит только для пожилых женщин и что человеку, ищущему живой религиозной жизни, оно не подходит по самой своей сути. Это, конечно, не так. Речь идет лишь о том, как совершается это богослужение, в каком духе и о том, что необходимы, конечно, реформы в отношении значительной части богослужебного материала, особенно того, который входит в состав всенощных бдений.
Во–вторых, ни в коем случае не следует думать, будто имеется какая–то непроходимая пропасть между сферой религиозных интересов тех людей, которые ходят в церковь, и тех, о которых говорилось, что они вынуждены отказаться от посещения храма из–за непонятности того, что там происходит В действительности и у тех, и у других имеется обширная «зона перекрывания». Не только вновь пришедшие в храм или интеллигентные верующие люди, но и наши «бабушки» прекрасно отличают хорошее пение от плохого, хорошую проповедь от плохой, подлинно евангельский дух священнослужителя от формального требоисполнительства. Дело просто в том, что у «бабушек» нет выбора, нет другой сферы активной жизни. Они рады бы слышать живое евангельское слово, но никто им его не предлагает. Они действительно, в отличие от других слоев нашего общества, наиболее консервативны и обладают некоторой, свойственной только им средневековой психологией восприятия религиозной жизни и религиозных истин. Но и у них, и у тех, кто из–за средневекового характера нашей Церкви остается за ее порогом, имеется одна и та же жажда по Слову Жизни, принесенному Иисусом. И те, и другие — это одна и та же нива, побелевшая и готовая к жатве, ожидающая своих делателей.
Итак, мы видим, что невозможно согласиться с утверждением смелого проповедника, о котором говорилось в начале главы. Напротив, наша Церковь ко времени празднования Ее 1000–летия вполне стала Церковьюстарух. Другое дело, что превратить христианство в «религию старух» оказалось невозможным. Притягательная сила его такова, что когда люди узнают о нем из подходящего источника, то их ответ Христу, их желание пойти за Ним не могут быть подавлены даже всей тяжестью старушечьих черт нашей Церкви.
Очевидно, что старушечий характер нашей Церкви это не только вина, но и беда. Но в некотором отношении это был также, по–видимому, промысел Божий, сохранивший в этой младенческой среде Благую Весть, не принятую в России «мудрыми и разумными». И здесь, разумеется, не может быть места превозношению или какому–либо осуждению миллионов наших «бабушек», вкладывавших свои малые лепты в дело сохранения евангельской вести на нашей Родине, хотя бы и в таком редуцированном виде. Напротив, честь им, хвала и благодарность, что они при всей своей немощи сохранили наши немногочисленные храмы, наполняя их и в праздники, и в будни, поддерживая материально из своих, нередко скудных, средств.
Надо еще заметить, что старушечий характер нашей Церкви делал ее чрезвычайно живучей и устойчивой ко всевозможным притеснениям. Будучи почти выключенными из общественной жизни, «бабушки» были труднодоступны для каких–либо гонений. Они были подобны цистам, которые образуют инфузории при наступлении неблагоприятных условий. Эти цисты могут переносить и холод, и жару, и сухость. Однако мы сделали бы ошибку, приняв такое инцистированное состояние за нормальную форму существования организма.
Духовенство
— А как Церковь считает, есть ли обитаемые миры, кроме Земли?
— Сняла ли Церковь анафему со Льва Толстого?
— Как наша Церковь относится к контролю рождаемости?
— У меня муж некрещеный, можно о нем молиться?
— А что думает Церковь о…?
Множество самых разных вопросов задавали и задают каждому служителю Церкви. Однако ответить на них прямо: «Церковь считает так–то и так–то» — невозможно. Дело в том, что мнение свое Православная Церковь высказывает на Поместных Соборах. На них утверждаются те или иные правила, регулирующие ее внутреннюю и внешнюю жизнь. Начиная с 1917 г., то есть с восстановления патриаршества, до 1971 г. в нашей Церкви состоялись три Поместных Собора. На них были избраны соответственно патриархи — Тихон, Алексий и Пимен. О других соборных решениях (ими был особенно богат Собор 1917 г.) знают лишь специалисты. Правда, решения по вопросам жизни нашей Церкви принимаются еще и Священным Синодом. Однако эти решения касались, главным образом, перемещений правящих архиереев с одних кафедр на другие и международной деятельности Церкви. Так что жизнь каждого прихода протекала совершенно независимо от этих решений и постановлений.
Здесь также произошли в 1990 г. существенные изменения. На Поместном Соборе в июне 1990 г. избран новый патриарх Алексий II. Была начата энергичная работа по формированию, так сказать, стратегии и тактики Православной Церкви по многим вопросам церковной жизни. Эти решения публикуются теперь не только в малодоступном для широкого читателя «Журнале Московской Патриархии», но сообщения о них имеются и в «Московском Церковном Вестнике», издаваемом большими тиражами, так что все желающие могут с ними познакомиться.
В Западной Церкви (Римско–Католической), кроме этого, время от времени глава Церкви, папа, издает так называемые энциклики, то есть послания, в которых он от лица всей правящей Церкви высказывается по тому или иному вопросу, который Церковь считает важным: тут и контроль рождаемости, и значение научной критики Библии, и позиция Церкви в современном мире, и многие, многие другие современные проблемы. Эти энциклики широко публикуются, обсуждаются, словом, доводятся до сведения всех, кого интересует мнение Церкви.
В нашей Церкви кроме упоминавшихся решений Поместных Соборов имеется еще «Книга Правил», в которой собраны важнейшие решения ипостановления Церкви от II до Х века. Однако многие изложенные там правила явно неприменимы к нашей действительности. Например: если клирик пойдет к какому–либо гражданскому чиновнику без разрешения на то епископа, «да будет извержен из сана». «Аще жена волею (т. е. умышленно) извержет плод» (т. е. сделает аборт), да будет отлучена от Церкви на 7 лет. Слов нет, это, конечно, тяжкий грех, но буквальное применение таких правил оставило бы нашу Церковь и без пастырей, и без паствы. Поэтому в Духовных Семинариях будущих священнослужителей наставляют в том, чтобы они следовали не букве, а духу этих правил, не отвергая их целиком, поступали все же в соответствии со здравым смыслом. Но поскольку «здравый смысл» понятие не только растяжимое, но и вполне индивидуальное, то оказывается, что в нашей Церкви нет единого мнения даже по совершенно житейским проблемам, не говоря уже о таких вопросах, как жизнь на других планетах, анафема Льва Толстого, молитва о некрещеных, отношение к христианам других исповеданий и т. д. и т. п.
С одной стороны, это хорошо, так как дает возможность вроде бы широкой свободы мнений при наличии в качестве основы «Книги Правил», примеров из жизни святых и, в конце концов, самой Библии, если только здравый смысл окажется настолько здравым, чтобы обратиться к этому главному источнику нашей веры. Однако, с другой стороны, человек, несведущий о таких широких возможностях для разнообразия мнений (а таких людей ведь подавляющее большинство) принимает за мнение всей Церкви ответ какого–либо малосведущего или крайне ортодоксального батюшки. Причем сам батюшка тоже, как правило, уверен, что его устами говорит вся Православная Церковь. Такой неудачный ответ может оказаться либо «неудобоносимыми бременами» (300 поклонов в день за какой–либо грех), либо просто неверным, вводящим в заблуждение и создающим неправильную духовную ориентацию (нельзя молиться за неверующего мужа, так как он не крещен). Но ведь Церковь молится за каждой литургией, например, о «властях и воинстве», среди которых, очевидно, немало некрещеных, или об «оглашенных», то есть готовящихся к крещению.
Для того чтобы было легче ориентироваться в этой обстановке своеобразной, стихийно сложившейся свободы мнений, предлагается классификация нашего духовенства по простейшему трехчастному принципу: центр, правые и левые.
Бытовое христианство
Самый распространенный у нас тип священника («центр») — это батюшка вполне здравой и, что называется, «простой» веры. Это, как правило, люди со средним светским образованием, в свое время отслужившие в армии и окончившие Духовную Семинарию или Академию (последнюю, чаще всего, заочно). В большинстве своем это люди не книжные, хорошо знающие и чувствующие реальную жизнь со всеми ее проблемами. В общении с паствой они в большей мере руководствуются здравым житейским смыслом, чем устаревшими правилами или наставлениями, преподанными им в свое время в семинарии, хотя какие–то основные религиозные понятия и формулировки вынесены ими именно оттуда. Они вполне терпимы к другим христианским вероисповеданиям, о которых, впрочем, знают весьма приблизительно. В их взглядах может иметь место антисемитизм, но он чаще всего не переходит за пределы простодушной иронии и никогда не носит характера непримиримой идеологии, активной неприязни или ненависти.
К церковному уставу и его исполнению их отношение также вполне здравое и спокойное. Они не гонятся за тем, чтобы непременно все вычитать и пропеть. Если и сокращают службу, то стараются делать это лишь за счет второстепенных элементов богослужения. То же самое при исполнении треб или проведении исповеди. Такие священники, к удовлетворению самих, же церковных бабушек, «не затягивают службу» и «не задерживают» с исповедью и крестинами. Правда, это иногда, особенно если много служб и накапливается усталость, приводит к довольно–таки формальному исполнению этих таинств. Такие батюшки могут быть грубоваты, иногда равнодушны или не очень внимательны, но они никогда не бывают законнически жестоки или нетерпимы.
Однако при всех своих, в общем–то, положительных человеческих качествах эти священники являются носителями, чаще всего, так сказать, «бытового христианства». Это некая система взглядов и жизни, когда в семье все дети крещены, бабушки ходят в храм, молодые родители тоже раз в год, может быть, зайдут. Всех умерших отпоют и помянут в родительскую субботу. И все же в типичных семьях такого рода христианство и Церковь остаются уделом лишь старух и детей, которых лет до 12 ревностные бабушки еще водят на причастие, но позже они уже появляются в храме не чаще одного–двух раз в году. Они вроде бы и не против веры и Церкви, но сами практически в стороне от всего этого. Такие именно семьи и составляют основной контингент паствы наших «бытовых» батюшек. Дальше такого рода христианства дело не идет, и в общем–то, идти не планируется. Верующие семьи такого типа рассматриваются и самими батюшками как вполне благополучные, почти образцовые. Жизнь катится себе понемногу, какие–то, наиболее важные, ее стороны освящаются Церковью, а остальное — как получится.
Характерно, что когда батюшки встречаются так или иначе за столом по случаю какого–либо приходского праздника или именин, практически никогда не бывает разговора о духовных, религиозных вопросах. Что–то изредка всплывает, но тут же гасится в разговорах о том, кто кого видел или знает, кого куда перевели или просто на бытовые темы. Вера и религия — это, так сказать, профессиональные темы, которые, как разговор о повседневной работе, совершенно неинтересны. Евангелия практически все эти батюшки, кроме как за службой, не читают. Ветхий Завет и Послания Апостолов, как правило, почти не знают (разве то немногое, что осталось в памяти от семинарского курса). Соответственно они редко проповедуют (многие вообще — н и к о г д а). Проповеди их слабые и малосодержательные.
Быть может, в результате поверхностного знакомства с некоторыми из таких батюшек и родился миф о том, что священники «сами в Бога не веруют». Пользуясь случаем, заметим, что неверующих священников не бывает. Вера может быть теплохладной, не проявляющей себя так, как этого следовало бы ожидать. Однако при полном отсутствии веры человек не будет «морочить голову» себе и людям, занимаясь делом, которое утратило для него всякий смысл. Так что миф о «неверующем священнике» поддерживается лишь за счет полной неосведомленности и Совершенного непонимания того, что вера может быть разной — как большой, так и малой, пассивной.
Вокруг таких батюшек почти не собирается молодежь, да они как–то не очень–то на нее ориентированы, где–то в глубине души, по–видимому, считая, что вера и Церковь — это дело священников–профессионалов и людей пожилых, так сказать, подведение итогов жизни и приготовление к прощанию с ней. А молодые — хорошо, если раз в год придут, да не слишком пьют и не бросают семей. Несмотря на все сказанное, еще раз подчеркиваю, что такие священнослужители в подавляющем большинстве своем — хорошие, здравомыслящие люди. Они, подобно нашим бабушкам, сохраняют Церковь своим служением, своей верностью ей. А то, что поддерживаемое их силами христианство не выходит за рамки «бытового», не может быть поставлено им в вину, так же как и бабушкам, поскольку и те, и другие в определенном смысле скорее пасомые, а не пастыри и не от них исходит какая–либо инициатива.
Обращенные в прошлое
Духовенство, принадлежащее к другой группе, которую условно можно считать «правой», характеризуется, прежде всего, крайне консервативными, ортодоксальными взглядами. В большинстве своем — это люди со средним светским образованием, хотя в последнее время некоторые и с высшим. В количественном отношении они составляют что–нибудь около пятой части, впрочем, действительно активных среди них единицы. Здесь есть некоторая закономерность — чем активнее, тем ортодоксальнее. Эта группа наиболее активных ортодоксов особенно интересна для нас, поскольку именно она в основном и «делает погоду» в нашей Церкви, удерживая ее в состоянии крайнего консерватизма. К ним принадлежит большинство монашествующих. И это естественно, так как стремиться к монашеству, а тем более удержаться в нем в наших условиях, как правило, под силу лишь людям крайне консервативной ориентации.
В общем, можно выявить три основных момента, которые всегда выступают вместе, и чем ортодоксальнее человек, тем сильнее они выражены:
- резкая враждебность к другим христианским исповеданиям и вообще к другим религиям;
- антисемитизм;
- уставщичество (скрупулезно–болезненное отношение к соблюдению богослужебного церковного устава).
В этой среде особенно любят подчеркивать, что мы — православные, что, следовательно, только мы правильно славим Бога. Соответственно все остальные христиане славят Его «неправильно». При этом христиане всех других конфессий (католики и, конечно, протестанты, то есть баптисты, лютеране и т.д.) рассматриваются либо как несомненно заблудшие, либо как просто еретики.
Показателен успех в этих кругах книги отца Серафима Роуза «Православие и религия будущего». Автор книги, американец, родившийся в протестантской семье и, будучи уже молодым человеком, перешедший в Православие, принадлежал к Русской Зарубежной Синодальной Церкви, иногда называемой у нас Карловацкой (по имени югославского города Сремские Карловцы, где в 20–е годы нашего века произошел раскол русской православной эмиграции по вопросу о признании юрисдикции московского патриарха Тихона).
Основная идея книги — утверждение, что главной опасностью в современном мире является экуменическое движение Соответственно усилия христиан, направленные на преодоление греховной расколотости Христианской Церкви, объявляются бесовскими кознями. К числу подобных же «козней» автор относит самые разнообразные явления христианской жизни в прошлом и настоящем: книгу Фомы Кемпийского «Подражание Христу», пробуждение в Американских Церквах в 50—60–е годы, а кроме того — буддизм, индуизм, теософию, увлечение .летающими тарелками и т. п. Характерно, что все эти явления проходят для него в одной плоскости. Даже общеизвестные факты многочисленных исцелений, сопровождавших христианское пробуждение в США в начале 60–х годов, объявляются автором либо трюкачеством, либо случайностью. Невозможность подлинного пробуждения в этих Церквах объясняется чрезвычайно просто: поскольку истинная Церковь — только Церковь Православная, то в других, неистинных Церквах, Дух Святой не может действовать, следовательно, все эти факты пробуждения и обращений — не более чем прелесть и обман. Удивительно отсутствие у автора хотя бы элементарной сдержанности и осторожности, чтобы не оказаться в положении возводящего хулу на Духа Святого.
Поразительны энтузиазм и расторопность, с которыми книга о. Серафима Роуза уже в начале 80–х годов была у нас переведена на русский язык и распространяется в машинописных и ксерокопиях. Все содержание этой книги настолько совпадает со взглядами наших ортодоксов, что создается впечатление, будто она написана просто одним из них или, во всяком случае, специально для них. Очевидно, этим сходством оба направления обязаны исключительно своей приверженностью русскому церковному консерватизму XIX века, который в таком «неповрежденном» виде сохранился как у наших, так и у зарубежных ортодоксов, причем несмотря на более чем полувековую изоляцию друг от друга и совершенно различные условия существования в США и в СССР Впрочем, различия во внешних условиях не имеют существенного значения, когда преобладает установка на уход от реальности в замкнутый мир идеализированного прошлого. В итоге — та же нетерпимость к другим исповеданиям, то же притязание на монопольное обладание истиной, то же стремление остановить время.
Ирония судьбы заключается, однако, в том, что наши русские почитатели книги о. Серафима Роуза, очевидно, не подозревают, что нас, то есть православных, находящихся в юрисдикции Московской Патриархии, Зарубежная Синодальная Церковь вообще не считает за христиан. Митрополит Антоний Сурожский как–то рассказывал о своем разговоре с одним из карловацких священников, с которым они оказались вместе на каком–то официальном приеме. На вопрос владыки Антония, как теперь относится Зарубежная Церковь, в частности, к нему, как к архиерею Московского Патриархата, этот священник ответил: «Видите ли, владыка, чтобы не обижать вас, я сказал бы, что вы просто не христианин. Но если бы вы спросили меня, что я действительно думаю, то я сказал бы, что вы — служитель сатаны, так как вы получили рукоположение от Московской Патриархии». Тот же митрополит Антоний рассказал, как один живущий на Западе священник, находившийся в юрисдикции Москвы, по каким–то причинам перешел в Зарубежную Церковь. Принят он был через повторное крещение, а затем его вновь рукоположили в сан иподиакона, диакона, а затем, наконец, священника.
Другой характерной особенностью наших ортодоксальных православных является, как уже упоминалось, антисемитизм (автор, конечно, отдает себе отчет в том, что слово «православный» есть перевод на русский греческого слова «ортодоксальный», однако последнее, как известно, приобрело характерный оттенок, придавший ему почти самостоятельное значение крайнего консерватизма и узости). Антисемитизм, конечно, не является чем–то новым в христианстве. История, увы, изобилует этими печальными примерами Человеческого несовершенства. Однако в современном мире все более явно становится, что по тому, как мы относимся к евреям, можно судить, насколько мы являемся христианами.
Опять же имеется книга, в которой содержится квинтэссенция православного антисемитизма, его теоретическое обоснование и идеология. Речь идет об известной книге С. Нилуса «Протоколы сионских мудрецов».
Истоки всякого антисемитизма, в том числе и православного, лежат в довольно распространенном свойстве примитивного сознания делить весь мир на «своих» и «чужих»: «мы» и «они». «Мы» — хорошие; «они» — соответственно — плохие. И вообще во всем плохом, что происходит в мире, прямо или косвенно виноваты «они». Отсюда возникает желание относить любую непонятную группу людей к категории «они» и приписывать им наиболее отвратительные пороки. Так, в Древнем Риме первые христиане обвинялись в поклонении ослиной голове, свальном грехе, ритуальных убийствах и т. д. Стало быть, от них же и всевозможные беды — именно христиан обвинял Нерон в поджоге Рима. Несколько ранее римляне считали, что ослиная голова хранится в Святая Святых Иерусалимского Храма. Воины, ворвавшиеся в Иерусалим в 63 г. до н. э., были крайне удивлены, ничего не обнаружив в священном помещении. В средние века это же суеверие распространилось в отношении ордена Тамплиеров, тайной святыней которых оказалась, как выяснилось недавно, не что иное, как Туринская Плащаница.
Точно так же в нашем народе непонятно откуда (то есть, по–видимому, также из глубин коллективного бессознательного, содержащего сходные порочащие образы) возникают и удерживаются мифы о свальном грехе в незарегистрированных христианских группах (называемых у нас сектами) и о ритуальных убийствах христианских младенцев, совершаемых евреями. Эти дикие суеверия у некоторых людей (как правило, с явными психическими отклонениями) обретают форму абсолютной уверенности. Один человек, очень ревностный православный, совершенно серьезно доказывал мне, что поставкой этих младенцев занимаются специальные группы врачей–евреев, которые заодно стремятся извести новорожденных мальчиков (русских, конечно), оставляя почему–то невредимыми девочек.
Автор просит у читателя прощения за то, что удручает его всем этим, но дело в том, что именно из таких темных глубин исходит уже более популярное, «приличное» представление о якобы существующем всемирном еврейском заговоре. И вот именно эта тема и является центральной в книге С. Нилуса. В основу книги положен фальшивый документ, составленный парижскими агентами русской тайной полиции в конце XIX в. На французском языке был составлен «Протокол» якобы имевшего место в Брюсселе тайного совещания главарей всемирного еврейского заговора. Эта фальшивка через ряд лиц была передана С. Нилусу, который в то время оказался близким к придворным кругам и одно время даже рассматривался как возможный кандидат в духовники государя. Рукоположению помешали некоторые канонические препятствия, но сама фигура интеллигентного разорившегося помещика, горячо обратившегося к Православию и написавшего даже несколько статей мистического содержания о своем обращении, показалась вполне подходящей для передачи ему этих «Протоколов», якобы случайно потерянных одним из участников тайного еврейского съезда.
Книга С. Нилуса впервые издана им самим в 1902 г. Затем было предпринято еще несколько изданий на частные средства. Реакция общественности оказалась весьма слабой. Кроме нескольких заметок в небольших церковных изданиях, никаких других откликов не было. Заметный успех книга приобрела лишь в 1918 году, будучи изданной в Новочеркасске и в Ростове. Несмотря на то, что руководители Белого движения относились к антисемитской пропаганде в основном отрицательно, нашлось немало лиц, которые активно ей содействовали. Главной пищей погромной агитации служили именно «Протоколы». Антисемитская пропаганда, развращая войска оправданием грабежей, была, как полагают очевидцы тех событий, одной из причин поражения Белого движения на Украине.
Впоследствии «.Протоколы» не раз издавались в Европе и были переведены на все основные языки. Очевидно, это печальное увлечение не ограничивается одной Россией. Книга Нилуса издавалась массовыми тиражами в немецком переводе в Германии при нацистах (пусть читатель не примет это за избитый пропагандистский прием, просто, в данном случае, что правда — то правда). В наше время и у нас находятся люди, которые не ленятся делать с нее ксерокопии и в любовно аккуратных переплетах дают читать новообращенным, дабы те знали «правду» о тайных силах, действующих в мире.
Кроме желания опорочить ненавистную национальную группу книга удовлетворяет еще одному человеческому свойству: она предлагает простое и доступное объяснение тайны зла в мире. Все оказывается просто результатом подрывной деятельности тайной всемирной еврейской организации, которая (почему–то вместе с масонами) ответственна за революцию, войны, приход к власти тех или иных лидеров и т. п. Ключи, даваемые Нилусом для раскрытия дьявольских хитрых козней главарей еврейского заговора, позволяют легко находить руку участников заговора даже в таких трагических событиях нашего века, как уничтожение миллионов евреев в нацистских концлагерях. Разумеется, сам Нилус об этом писать не мог, но его «метод» быстро приводит сегодняшних последователей к выводу о том, что все «подстроено» самими же евреями для того, чтобы возбудить у других народов жалость и тем самым притупить их бдительность.
Словом, вместо действительной задачи христианина — противостоять злу в самом себе и в окружающем мире — предлагается некий миф, уводящий человека от Христа и Евангелия в область темных первобытных инстинктов. К счастью, эта книга вызывает, как правило, недолгий «энтузиазм», но, к сожалению, у довольно многих читавших ее остается все же какой–то след доверия к ней: «а, может быть, и правда?» Именно из–за этого «может быть», являющегося несомненным балластом в духовной жизни христианина, автор и позволил себе остановиться на этой, в общем–то,малоинтересной теме.
Изложенные здесь наблюдения и размышления об антисемитизме в нашей Церкви относились к началу 80–х годов. С наступлением гласности все это вышло на поверхность, стало более заметным. Наряду с обществом «Мемориал», имеющим целью благородное стремление увековечить память о жертвах сталинизма и помочь тем, кто еще жив, активизировалось общество «Память», отношение к которому в последние годы стало индикатором порядочности и здравого смысла. В беседах с кандидатами в депутаты всех уровней и вообще с любым человеком, занимающим заметное общественное положение, одним из первых задается вопрос об отношении к «Памяти». Сторонниками этой организации чаще всего становятся люди, не имеющие сколько–нибудь основательных знаний истории и особенно энергично декларирующие свое Православие, забывая о том, что слово «православный» лишь прилагательное к существительному «христианин». Именно о христианстве и о его нравственных принципах чаще всего и забывают.
Что же касается ответа на вопрос об отношении христиан к евреям, автор просит читателя внимательно прочесть 11–ю главу Послания апостола Павла к Римлянам, из которой приведем лишь маленький отрывок:
Они отломились неверием, а ты держишься верою: негордись,но бойся…
…Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их…
…И так весь Израиль спасется…
Еще одной характерной особенностью нашего христианства, обращенного главным образом к векам минувшим, является «уставщичество».
Как–то раз один знакомый мне протоиерей после очередного «разгона» певчим, спевшим какую–то «не ту» стихиру, громко хлопнув боковой дверью алтаря, то ли с раскаянием вспышку гнева, то ли с сожалением, что не способен на большее, сказал: «Я–то еще что! Вот был (такой–то), чуть что не так — кадило швырял!» Я живо представил себе, как в угол алтаря летит кадило, осыпая все вокруг горящими угольками и угольной пылью, и робко возразил: «Но ведь это ужасно! Какой пример такой пастырь подает окружающим?» Протоиерей озадаченно посмотрел на меня и ответил: «Он терпеть не мог ошибок в службе! Сам знал все наизусть — любую стихиру, любое соединение праздников. Вот был знаток устава!»
В самом деле, я немало знал священнослужителей — «знатоков» устава, любящих устав, и заметил, что это нередко уживается с самыми обычными человеческими слабостями — нетерпением, гневливостью и т. п. В то же время среди людей, хорошо знающих и по–настоящему любящих Священное Писание, встречал лишь исключительно добрых, мягких, просветленных. В чем тут дело?
В начале любого семинарского пособия по литургике можно прочесть, что в самые первые века существования христианства не было единого богослужебного устава. Были библейские псалмы, раннехристианские гимны, были молитвословия или песнопения, слагаемые самими верующими или пресвитерами и епископами раннехристианских общин. Позже, особенно со времен Константина Великого (IV в.), с целью упорядочения богослужения (точнее, его единообразия), в крупных религиозных центрах — Константинополе, Иерусалиме, в монастырях — стали вводиться богослужебные уставы, или типиконы. Типикон, называемый Иерусалимским, появился в VI в., будучи собран Саввой Освященным и дополнен в VIII в. Иоанном Дамаскином и Космой Маюмским. Всевозможные дополнения вносились в Типикон вплоть до XI в. В России ныне действующий Иерусалимский устав (Типикон) был введен в начале XV в. на смену Константинопольскому Студийному уставу.
Как–то в книге одного западного автора я прочел удивившую меня фразу: «Как это ни странно, но одной из причин, приведших к упадку веры, было развитие книгопечатания. Молитвенники с уже готовыми текстами приводили к тому, что люди привыкли молиться «чужими» словами, которые часто не отражали их подлинных чувств и переживаний». В самом деле, при чтении уже готовых, написанных молитв внимание легко рассеивается — устами человек говорит одно, а голова его может быть занята совершенно другим. Это совершенно невозможно при свободной молитве своими словами. Впрочем, последнее настолько непривычно для нашего сознания, что даже люди, впервые вошедшие в Церковь, чаще всего говорят: «Я и молиться–то не могу — никаких молитв не знаю». Действительно, войдя в храм, они понимают, что люди там молятся, но молятся «по книгам», уже готовыми словами, которые к тому же и разобрать бывает нелегко из–за малопонятного церковно–славянского языка и нечеткого произношения. А раз так, то у человека сразу же складывается представление о том, что иначе молиться просто невозможно. Молитва в таком случае воспринимается как некое заклинание, которое, не будучи произнесено определенными словами в определенном порядке, не будет действенным. Между прочим, один священник как–то раз так и заявил: «Если эту стихиру не пропоете, то и вся служба будет недействительна!» (?) Но, может быть, для Бога, да и для нас самих важен не просто язык и порядок слов молитвы, а что–то другое?
Как уже говорилось, Евангелие содержит не правила, а принципы, так вот, об основном принципе богопочитания Иисус сказал:
Бог есть Дух,
И поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине…
Поклонение «в духе и истине» требует непрерывных духовных творческих усилий, в то время как гораздо легче идти по пути рутинного повторения одного и того же: «Отцы наши спасались так, и нам отступать от этого негоже». При этом сознание погружается в самодовольную уверенность, что сделал все, «что положено». Это естественное стремление тварного существа остановиться в замкнутом цикле, им же созданном. Однако стремление Творца — непрестанное развитие и восхождение от старого к новому. Как–то раз один батюшка со вздохом сказал, как о чем–то самом сокровенном: «Как хочется все делать по закону!» Я возразил ему: «А мне гораздо больше хотелось бы по благодати». — «Ну да, — поспешил он, — я и говорю, — по благодатному закону». Как странно! Даже для священнослужителя благодать Божия остается лишь внешним теоретическим условием, которое, конечно, следует прикладывать в качестве прилагательного к тому, что идет само, без усилий из глубины человеческой натуры, — стремлению к закону.
В чем же здесь дело? Почему любители Устава нередко оказываются людьми, в сущности, как бы и не затронутыми христианством? Как–то один дьякон, потеряв терпение из–за постоянного шума и денежного звона за свечным ящиком во время чтения Евангелия, просто сделал паузу. На спорящих за ящиком стали шикать, тишина быстро восстановилась, и чтение было продолжено. После службы настоятель сделал дьякону замечание: «Нельзя! нельзя! Что вы? Ведь богослужение — это как река! Попробуйте остановить реку или спектакль в театре (!). Никогда больше так не делайте!» Вот оно! Нужное слово было наконец найдено. Сколько раз до и после этого приходилось слышать: «Безобразие! Становятся на клирос петь — устава не знают, все путают! Попробуйте в театре не знать роли — в два счета выгонят! А в церкви — считают — все можно». Стали понятными и вспышки гнева, если чуть что не так: на какую–то буквально секунду замешкались с подачей кадила или свечи или зажгли чуть раньше паникадило. С точки зрения молитвы это, может быть, и нежелательно, но «не смертельно». Но когда служба все время мысленно сравнивается со спектаклем… Кстати, некоторыми вновь пришедшими она, к сожалению, так и воспринимается.
Становится понятным довольно распространенное в Православии явление — скандалы в алтаре или в семье накануне больших праздников или в конце Великого Поста, перед Пасхой. Все это напоминает волнение режиссера перед премьерой. Я знал одного протоиерея, регулярно устраивавшего «большой разгон» кому–либо из коллег в Великую. Пятницу, перед самым выносом Плащаницы. Другие священники уже знали эту его особенность и со страхом ждали, кто же в этом году станет козлом отпущения настоятельского гнева. Впрочем, здесь была лишь разрядка волнения перед выносом Плащаницы и, главное, перед проповедью после выноса ее, как бы у гроба казненного Спасителя. Проповедь была, как правило, очень прочувствованной, со слезами. Только вот получившему нагоняй священнику (причем по любому ничтожному поводу, кто попадется) воспринимать ее было нелегко. Нигде оскорбления не переносятся так тяжело, как в алтаре.
Агрессивность церковных бабушек той же самой природы, что и у священников, страстных любителей устава. Для тех и других богослужение — действо, мистерия, нарушение порядка которой пагубно для ее, так сказать, эффективности, как объективной, сакральной, так и субъективной, психологической. Поэтому любое отклонение от привычного ритуала, любая самомалейшая помеха из–за нерадивого или вновь пришедшего «непосвященного» совершенно недопустимы и вызывают бурный протест. Меня всегда, например, поражала та грубость, с которой «знающие» богомолки расталкивают менее расторопных прихожан, чтобы дать дорогу батюшке, идущему, скажем, с каждением. Неужели лишняя секунда дороже человеческого достоинства? Нет ли здесь постоянного принесения человека в жертву сакральному порядку, не становится ли человек средством вместо цели?
Отсутствие такой агрессивности у баптистов вполне понятно. Поскольку у них нет жесткого устава, то есть порядка богослужения, «сценария» общественной молитвы, то вновь пришедший не может нарушить своим появлением хода проповеди или их простой молитвы, которая, кстати, может быть тут же изменена включением прошения об этом вновь пришедшем, о его благословении, благодарения за его приход и т. д.
Что касается проповедничества, то надо отдать справедливость — среди ортодоксов немало неплохих проповедников (впрочем, неплохих — это, скорее, на общем фоне почти полного отсутствия проповеди). Правда, проповеди их нередко страдают цветистостью и театральностью либо настолько архаичны, что совершенно «не назидают». Как–то я слушал такого рода проповедь об ангельской иерархии. Около часа проповедник подробно перечислял названия чинов ангельских и их функций, совершенно упуская из виду, что все эти средневековые конструкции имеют весьма мало оснований в Священном Писании и уж совсем не соотносятся с проблемами современной жизни. Однако нередко произносятся проповеди вполне глубокие и серьезные, особенно на нравственные темы, которые приносят, несомненно, большую пользу слушающим.
Надо сказать, что в среде ортодоксального духовенства следует, в свою очередь, выделять три типа людей. По своему духу они довольно точно соответствуют той типологии, которая уже существовала в новозаветное время, правда, на «другой почве». Речь идет о партиях фарисеев, саддукеев и ессеев. Последние, правда, в самом Новом Завете не упоминаются, но то, что о них сообщают историк I в. н. э. Иосиф Флавий, Филон Александрийский, и то, что мы узнали о них из данных археологии (Кумран), говорит о том, что ессеи были существенной частью того религиозно–общественного фона, на котором происходили новозаветные события.
В самом деле, очень уж похожи на ортодоксальных фарисеев некоторые из наших ортодоксов, так что, вероятно, можно говорить об ортодоксальном психологическом складе вообще. Речь идет не о лицемерии, а о постоянном стремлении к умножению человеческих заповедей и правил: «заповедь на заповедь, правило на правило». То же стремление к возведению вокруг заповедей Божиих целого забора других, ч е л о в е ч е с к и х заповедей и правил: для безопасности от повсюду угрожающих грехов с целью создания утонченной техники благочестия. Тот же страх перед всюду гнездящимся грехом усугубляется еще страхом перед всякого рода колдовством, заговорами, сглазом и т. п. и т. д. При этом удивительно мало внимания уделяется самому главному — Слову Божию, для которого просто уже не остается ни времени, ни внимания за всеми рекомендованными «батюшкой» акафистами, канонами, кафизмами. Людям вообще свойственно постоянное, часто бессознательное стремление заменить или подменить внутреннее внешним, общий принцип конкретным правилом, заповедь Божию — преданием человеческим. Выше уже говорилось о том, что чтение Писания подменяется лишь пиететом к нему. Между тем Иисус прямо сказал:
Если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики.
Явно недостаточное внимание к Священному Писанию никак не может компенсироваться чтением бесчисленных акафистов и канонов, поскольку они не что иное, как предание человеческое, религиозная поэзия, которая при всех своих достоинствахне может заменить собою Слова Божия.
Считать Священное Писание чем–то совершенно недоступным для верующих, думать, что от чтения, например, Евангелия, может быть даже вред («это еще как читать?!»), —значит принимать Библию за какой–то таинственный эзотерический текст, доступный лишь для посвященных. Но едва ли Бог замыслил принести Благую Весть в каком–то хитроумном зашифрованном виде, чтобы только избранные могли правильно понимать ее. Евангелия писались верующими для верующих, с целью зафиксировать в письменном виде проповеди о жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса из Назарета, в котором они видели обетованного Мессию. Разумеется, эти древние тексты нуждаются в толкованиях и комментариях для более глубокого и полного их понимания. Однако даже при отсутствии такой вспомогательной литературы, человек, читающий Евангелие без предвзятости, а тем более читающий его с верою, всегда будет получать несомненную духовную пользу через познание Иисуса Христа, в Котором Сам Отец раскрывается нам.
В отношении места Евангелия в нашей церковной жизни за последние годы произошли отрадные изменения. Если в начале 80–х годов Евангелие можно было только «достать», причем за весьма существенную сумму, порядка 100 рублей, то сейчас его уже можно купить не только в любом храме, но и в любом газетном киоске за 10—15 рублей, а в храмах и за 5—8 рублей (в ценах 91–го года). Цена вполне сравнимая с другими книгами и, как правило, вполне доступная. К сожалению, мысль о необходимости иметь Евангелие и читать его с большим трудом внедряется в сознание наших сограждан, возвращающихся в Церковь или приходящих в нее впервые. Существует еще и другое препятствие кроме просто неосведомленности. Мне не раз приходилось слышать от людей, даже с высшим образованием, что им трудно читать даже Новый Завет и даже по–русски. И это ни в коем случае не их вина. Просто вся система нашего школьного образования, весь уклад нашей жизни, вся, так сказать, ментальность нашего общества находятся настолько в другом измерении, что и русский текст Священного Писания оказывается трудным даже для образованных людей.
И здесь перед всей нашей Церковью и перед каждым ее отдельным служителем стоят две важнейшие задачи. От их решения зависит — сумеет ли Русская Православная Церковь использовать данный ей уникальный исторический шанс в деле возвращения нашего народа в семью христианских народов, возвращения к христианской культуре и цивилизации.
Первое — это неустанно побуждать наших прихожан (а также и самих себя) к ежедневному чтению Священного Писания, особенно Нового Завета. Необходимо напоминать, что это не просто информация о евангельских событиях, о жизни и служении нашего Господа, но это также источник Божественной Истины, Правды и Любви. В него нам просто необходимо постоянно погружаться, чтобы иметь эту «жизнь с избытком», которую хочет нам дать Иисус.
Второе — необходимо максимально помочь всем тем, кто впервые открывает Священное Писание. Речь идет о насущной потребности издания всевозможных комментариев разных уровней сложности. К сожалению, в настоящее время у нас нет современных православных комментариев на русском языке. Последнее, что было сделано в этом направлении нашей Церковью, — Толковая Библия под редакцией профессора Лопухина с подробным комментарием каждой книги Библии. К тысячелетию Крещения Руси 150 тысяч таких Библий было передано в дар нашей Церкви от христиан Северной Европы. Это роскошное дорогое (оно у нас стало продаваться по весьма высокой цене) издание, доступное немногим не только из–за цены, но и из–за трудности самого комментария для начинающего читателя. Имеются издания всей Библии и Нового Завета издательства «Жизнь с Богом», снабженные кратким комментарием. Они могут быть рекомендованы для всех желающих лучше понять текст Священного Писания. К сожалению, эти издания пока доступны лишь для немногих. Нельзя не указать также на русский перевод серии книг Уильяма Баркли «Ежедневное чтение Библии», издание которых было осуществлено Союзом Евангельских Христиан–Баптистов. Этот подробный и доступный комментарий книг Нового Завета, с некоторыми, конечно, оговорками, мог бы быть полезен и для православного читателя. Кроме того, необходимо сказать о книге «Сын Человеческий» отца Александра Меня. Это единственное, на русском языке, современное описание земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Книга написана ярко, просто, талантливо, с учетом современного состояния библейской науки, археологии и истории. Цель ее, как указывает сам автор во введении, — .помочь читателю самому начать читать Евангелие. Издание этой книги как можно большими тиражами у нас в стране принесет огромную пользу всем становящимся на путь христианской жизни.
Вернемся, однако, к нашей теме. Что касается саддукеев, то до совсем недавнего времени они занимали очень сходные места и выполняли очень сходные функции со своими новозаветными коллегами. Разумеется, они отличаются от них «чаянием воскресения мертвых» и следованием Православию, а не иудаизму, но тем удивительнее сходство их позиций, направленных, как и 2000 лет назад, главным образом на сохранение статус кво.
Ессейские настроения свойственны, главным образом, монашеским кругам и тем, кто у них духовно окормляется. Как это ни странно, монашествующие во все времена психологически были гораздо больше похожи не на первых христиан, а на их современников — ессеев. Вот что пишет, например, один из видных современных католических богословов Ганс Кюнг в книге «Быть христианином»: «Сенсационное обнаружение библиотеки и поселений кумранской общины, вызвавшее целый поток литературы, показало нечто в высшей степени значительное: во времена Иисуса существовала еврейская монашеская община, которая уже содержала в себе все элементы христианских киновиальных монастырей, которые были основаны египтянином Пахомием Великим, богословски обоснованы Василием Великим и принесены на латинский Запад Иоанном Кассианом».
Здесь не ставится целью критика монашества, но, следуя в основном Г Кюнгу, хотелось бы показать, что сама по себе идеология монашества не является специфически христианской. Монашество, лишь очень мощное средство, которое может быть обращено, в частности, и на христианские цели.Но поскольку у нас в Православии монашество и монастырская жизнь воспринимаются чаще всего именно как идеал христианского бытия, вероятно, будет полезно сказать о тех отличиях, которые разделяют Иисуса и монахов. Если быть точным, то следует сказать, что у Г Кюнга речь идет о монахах–кумранитах, однако он все время имеет в виду их чрезвычайную близость с христианским монашеством.
«Иисуса и монахов–кумранитов разделяет целый мир. Община учеников Иисуса не имела признаков монастырской или отшельнической жизни:
1. Не было обособления отмира. Иисус не призывает ни к внешней, ни к внутренней эмиграции. Никакого отхода от земных дел, никакой отшельнической жизни. Не может быть спасения через подавление личности и разрыв связей с миром. Восточные учения о самопогружении чужды Иисусу. Он действует публично, в деревнях и городах, всегда находясь среди людей.
2. Проповедьпокаяния Иисусаисходитне от гневаБожия, как у кумранитов или Иоанна Крестителя, но от Божией милости. Иисус не возвещает суд мести над грешниками или безбожниками. Прощение грехов предложено всем. Именно поэтому следует не ненавидеть своих врагов, а любить их.
3. Субботадлячеловека. В кумранских монастырях предписывалось строжайшее соблюдение закона без каких–либо компромиссов и облегчений. В субботу нельзя было даже давать лекарство больному. (Для сравнения: Исаак Сирин рассказывает об одном монахе, который не захотел увидеться с родным братом даже тогда, когда тот умирал, говоря при этом: «ежели пойду к нему, то не буду чист перед Богом, потому что не радел посещать братьев моих духовных, естество же предпочел Христу». И брат умер, а он не видал его. — А. Б.) Иисус, по всем Евангелиям, противопоставлял букве закона удивительную свободу, постоянно подчеркивая, что человеческая нужда выше всяких предписаний и правил.
4. Отсутствиеаскетизма. Ессеи практиковали аскезу из стремления к очищению. Для того чтобы не оскверниться через общение с женщиной, элита отказывалась от брака. Правда, были и женатые ессеи — брак разрешался с единственной целью воспроизведения потомства. Но Иисус не был аскетом. Он участвовал в жизни людей, ел и пил с ними, принимал приглашения на праздничные трапезы. Брак для Него не являлся чем–то нечистым, но благословением Божиим и потому достойным уважения. Он никогда не предлагал закона безбрачия. Отказ от брака Он считал делом добровольным — индивидуальным исключением, а не правилом для учеников.
5. Отсутствие иерархического порядка. Ессеи четко распределялись по четырем сословиям, классам: священники, левиты, полноправные члены–миряне и кандидаты. Указания предстоятелей, которые руководили общинами, были обязательными для всех членов. Настойчиво внушалось подчинение низших членов высшим. Непослушание влекло суровые наказания. Иисус призывает учеников следовать за Ним не для того, чтобы основать строгую организацию. Послушания Он требует только перед волей Бога. Он осуждает стремление к лучшим местам и почетным титулам. Обычный иерархический порядок становится Им буквально с ног на голову. Низшие должны быть всем для высших, а высшие — всем для низших. Подчинение в совместном служении должно быть взаимным.
6. Никаких монастырских правил. Распорядок дня у ессеев был строго регламентирован: молитвы, полевые работы, обед, работы, ужин, молитвы. Принятию в общину предшествовали три года испытаний (послушания). При вступлении в общину приносились торжественные обещания исполнять все ее правила. У Иисуса — ничего из всего этого: ни послушания, ни вступительной клятвы, ни каких–либо обетов, ни богослужебных указаний, ни длительных молитв! Обычная нерегламентированная жизнь. Вместо правил, выдвигаемых для богословски приукрашенного господства человека над человеком. Он рассказывает притчи о Царствии Божием. Когда Он призывает к постоянной неустанной молитве, то Он под этим подразумевает не непрерывное богослужение, обычно практикующееся в некоторых монастырских общинах («вечная молитва»). Он подразумевает постоянную молитвенную настроенность человека, который всегда ожидает всего лишь от Бога. Молитва не должна быть ни лицемерной демонстрацией перед, другими, ни тягостным бременем перед Богом.
Подражание Христу? Кажется неизбежным вывод: позднейшая анахоретски–монашеская традиция для оправдания своего отрешения от мира в форме организации своей внутренней жизни могла бы ссылаться на монашескую общину Кумрана. Но едва ли на Иисуса».
Автор не причисляет себя к «кюнгианцам», однако считает, что приведенные цитаты вполне отражают суть дела.
В заключение этого раздела, посвященного ортодоксальному православному духовенству, следует подчеркнуть две главные его особенности.
Первая — это исключительная обращенность в прошлое. Психологический и религиозный настрой здесь таков, что «золотой век» христианства уже миновал. Это было время великих монахов–аскетов, Отцов Церкви, время Вселенских Соборов (последний из них, VII, был в 787 г.). И главной задачей современного христианства является лишь подражание, реставрация, возможно максимальное приближение к тому, как жили, молились и понимали Священное Писание Отцы Церкви, то есть идеалом христианской жизни объявляется византийское раннее средневековье. Таким людям чужда мысль о том, что на протяжении истории христиане разных конфессий все более и более открывают для себя Евангелие Иисуса Христа, что каждое новое поколение должно не просто стараться копировать жизнь христиан какого–то минувшего периода истории, а стремиться ко все более глубокому познанию Бога в Сыне Его в рамках тех условий, в которых мы живем сегодня, разумеется, не игнорируя все лучшее, что есть в опыте прошлого.
Вторая особенность, находящаяся в непосредственной близости с первой, — глубокая уверенность в том, что подлинно христианская жизнь — это жизнь по «Книге Правил», включающей в себя Апостольские правила, постановления семи Вселенских Соборов и девяти Поместных и правила Святых Отцов. Здесь приходится сталкиваться с удивительным непониманием, что христианство — это не жизнь по каким–то наконец–то сформулированным замечательным законам, что это не новая религия, соблюдение всех обрядов и таинств которой содержит в себе все необходимое и достаточное, а что христианство — это новая жизнь со Христом, жизнь, исполненная послушания и доверия Богу, Который наставляет нас через Священное Писание, через обращение нашего сердца ко Христу, личную и общественную молитву. Что такое обращение ко Христу? В качестве ответа позволю себе привести довольно большую цитату из лекции В.Ф. Марцинковского «Сущность христианства» (Марцинковский — яркий проповедник Евангелия, прочитавший множество лекций в первые годы после Октябрьской революции. Был выслан из России в 1922 г.):
«Что же такое обращение ко Христу? По словам американского психолога Вильяма Джемса, обращение есть акт воли, в результате которого Христос начинает занимать центральное место в сознании человека. Ведь Он, Христос, образ совершенного человека, есть в каждой человеческой душе, хотя и в разной степени. Ибо Он есть «свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
Он не нов и не чужд ни для еврея, ни для язычника. Мы все созданы по его образу. Поэтому–то мог сказать Достоевский: «Находя Христа, мы находим себя», свое подлинное существо, свою сущность. Обратиться — значит вернуться в должное, нормальное состояние, при котором Христос, смутно ощущаемый каждым человеком в отдаленных, вторичных слоях сознания, начинает занимать первое место в сердце. Обратиться — значит возвратить Христа на престол, провозгласить Его Царем и Господом всего нашего существа, всей нашей жизни, так, чтобы он мог безраздельно царствовать в нас и во всей нашей воле, направлять и одухотворять светом любви и правды все наши практические отношения — к людям, к материи, ко всякой твари, ко всему миру».
Жаждушие пробуждения («левые»)
Однажды в церкви во время совершения таинства крещения священник, закончив молитву на освящение воды, вдруг обратился к крестным с совершенно неожиданным вопросом: «Кто является чемпионом мира среди мужчин в одиночном фигурном катании?» Кто–то неуверенно назвал английскую фамилию. «Верно, — сказал священник, — но, наверное, немногие из вас знают, что этот человек является членом одной американской группы, называющей себя «Церковью Сатаны»? Эти люди сознательно поклоняются силе зла, призывают на помощь себе силы, противящиеся Христу. А вот вы сегодня вступаете в союз с Самим Иисусом, вы отрекаетесь от служения злу и избираете служение добру — служение Богу и людям».
Что это? Стремление привлечь внимание? Стремление встряхнуть слушателей? Нет, здесь священник, как я считаю, приводит яркий пример, обращающий внимание на вопрос: кому мы хотим служить? Для чего мы пришли в Церковь на крестины?
Как–то раз в одной проповеди после литургии проповедник говорил об учениках Христа, о том, как они оставляли дома, близких и шли за Иисусом, на служение Богу и людям. Но, может быть, это было только в какие–то давние времена? Есть ли сейчас люди, которые вот так же могут оставить все, отречься от удобной, благополучной жизни, чтобы идти на помощь больным, обездоленным? Да, такие люди есть! Проповедник стал рассказывать о католической монахине Терезе из Калькутты. В храме стояла удивительная тишина. Со слезами на глазах люди слушали о той бедности, которая царит на улицах Калькутты, где тысячи людей рождаются, живут и умирают на мостовой, слушали о том, как одна образованная молодая монахиня, родом из Югославии, взялась за, казалось, бессмысленное дело — ходила по улицам, собирала умирающих, доставляла их под кров и давала им возможность хотя бы последние дни или часы жизни почувствовать человеческое участие, оказаться на кровати, на чистой простыне. Из этого скромного дела выросло целое движение помощи больным, отверженным, прокаженным.
Этот живой пример подлинно христианской жизни монахини другой конфессии, католички, совсем не подчеркивал чье–либо преимущество или чью–либо ущербность. Напротив, все перегородки становились несущественными в свете той подлинной любви к людям, которую дарует Иисус человеческому сердцу.
Другой священник рассказывал мне, как он решил в Великую Пятницу читать 12 Евангелий (12 отрывков о страстях Христовых из всех четырех Евангелий) по–русски. Не помню, брал ли он на это благословение правящего архиерея или нет. Скорее всего, что да, поскольку епископ, управляющий епархией (как и некоторые другие, к сожалению, весьма немногие), в целом положительно относился к чтению Священного Писания по–русски. Как рассказывал этот священник, общее настроение во время службы было каким–то совершенно необыкновенным. Казалось, действительно у всех присутствующих были одна душа и одно сердце.
После службы прихожане обступили священника: «Батюшка, как вы понятно читали Евангелие! Мы просто как будто в первый раз его услышали, какая это удивительная вещь!» Дело было в провинции, и многие, вероятно, даже не поняли, что просто Евангелие читалось по–русски.
Общим для немногих наших соотечественников, стремящихся не к реставрации давно минувших веков жизни христианской Церкви, а к живому христианству нынешнего дня, является то, что в Католической Церкви получило название «аджорнаменто» и «аппрофондименто». Разумеется, многие из них могли и не слышать таких итальянских слов. Просто мы живем в одном мире, и подобно тому, как совпадают настроения наших и карловацких реставраторов старины, на деле приводящие лишь к стилизации под старину, совпадают и устремления христиан у нас и на Западе, если они ищут подлинно живого, творческого, современного христианства. Слово «современного» не должно нас пугать. Дело совсем не в том, что кто–то стесняется «несовременности» Евангелия или с каким–то тайным комплексом неполноценности стремится «не отстать от времени». Во все времена, как и сейчас, никогда не было ничего более современного, чем Евангелие. Но оно всегда должно быть проповедуемо с учетом того мира и тех людей, которые реально существуют вокруг. Эта проповедь должна основываться не на теоретических построениях и богословских спекуляциях минувших веков, в значительной мере утративших свою актуальность, а давать ответы на сегодняшние проблемы, волнующие и тревожащие наших современников. Евангелие есть слово жизни, а не абстрактные интеллектуальные схемы. Именно это и подразумевается под словом «аджорнаменто» — буквально «идти в ногу со временем». Другое слово — «аппрофондименто» — означает глубокое богословское осмысление как самого Священного Писания в свете достижений современных наук, так и тех проблем, которые ставит перед христианством современная жизнь. Именно эти два направления являются общими для наших думающих священников, ищущих новые пути, формы и слова для того, чтобы вечное Слово Жизни достигало сердец и преображало их.
Говоря о жаждущих пробуждения, сейчас уже нельзя не сказать об отце Александре Мене, убитом ударом топора рано утром 9 сентября 1990 года неподалеку от своего дома, когда он шел на воскресную службу в храм. Несмотря на то, что об этом человеке уже много написано и сказано, нельзя не сказать о нем несколько слов й здесь, когда речь идет о жаждущих пробуждения. Отец Александр был одним из самых ярких священников, сочетавших глубину веры и знания с открытостью, к современному миру и человеку.
О. Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года в интеллигентной еврейской семье. Отец — инженер, мать окончила филологический факультет педагогического института. Еще до рождения Алика (будущего о. Александра) его мать пришла к христианству, главным образом под влиянием своей двоюродной сестры Веры Яковлевны Василевской, духовной дочери отца Серафима Батюкова. Однажды о. Серафим, наблюдая за играющим Аликом, сказал: «Этот Алик, когда вырастет, очень многих приведет ко Христу».
Свой жизненный путь отец Александр определил очень рано. В 12' лет он не только решил, что станет священником, но у него уже тогда сложился план будущей серии книг о происхождении христианства. Он назвал ее «В поисках Пути, Истины и Жизни». Широта интересов, уникальная память, ясный, живой ум, удивительное чувство юмора и личное обаяние с юности сделали будущего отца Александра притягательным центром для десятков и сотен людей, хотя бы немного узнавших его.
В 1958 г. он был рукоположен в сан диакона, а & 1960 г. — священника. Приходы, в которых он служил, — Алабино, Тарасовка, Новая Деревня (в г. Пушкино) — были местом паломничества сотен людей из Москвы и других городов, искавших подлинного, живого христианства. Дело eго проповеди продолжали и продолжают книги, после его смерти издаваемые уже не только за рубежом, но и у нас. В них читатель находит опыт мироощущения и веры христианина, глубоко преданного Христу и открытого человечеству, его истории, культуре, его проблемам и страданиям.
Дерево познается по плодам. Для многих сотен людей отец Александр стал человеком, приведшим их ко Христу, приведшим в Церковь. Невозможно сказать, сколько сохранилось семей, готовых развалиться, сколько родилось младенцев, которых хотели убить еще во чреве, сколько людей> решивших покончить счеты с жизнью, осталось жить благодаря вмешательству о. Александра.
Естественно, как вокруг всякой незаурядной личности, вокруг имени отца Александра клубились всевозможные толки и слухи, что он–де экуменист (кстати, почему это плохо?), еретик (?!), агент сионизма и т. д. и т. п. Что на это можно ответить? Я лишь повторю слова одного нашего крупнейшего ученого–филолога, не называя его имени, дабы убеждать читателя не авторитетом, а сутью. «Где были все эти современные критики о. Александра Меня в 50—60–е годы, когда в условиях сталинского режима и хрущевских гонений о. Александр по крупицам собирал книги по философии, истории и богословию, создавая фундамент своей будущей пастырской и литературной работы? — быть может, еще ходили в детский сад или заседали на комсомольских собраниях и пионерских сборах?».
Следует еще вспомнить и о евангельских словах: «Горе вам, когда все люди будут говорит о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их». Когда встречаешься с такими православными, которые последними словами ругают не только о. Александра Меня, но и все другие христианские исповедания, а также православных, не разделяющих их ненависти к евреям, католикам и протестантам, то поражаешься человеческой способности даже из религии самой чистой и возвышенной любви ко всем людям создать идеологию исключительного, монопольного права на обладание .истиной и лютой ненависти ко всем, думающим иначе. Христианство таких людей больше всего похоже на бронированный дзот: самоутвердившись в нем, его обладатели с чекистской зоркостью всматриваются в окружающих и, чуть что, открывают огонь, особенно по тем, кто тоже любит Христа и верит в Него, но не находит для себя возможным присоединиться к сидящим в дзоте, поскольку видит в христианстве не разделяющие барьеры, а Божью любовь, которая хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины.
Конечно, могут сразу напомнить слова Христа о том, что Он принес «не мир, но меч». Но ведь Иисус говорил о невозможности соединения веры и неверия в Него, как в Того, Кого «Бог освятил и послал в мир», а не о разделении между теми, кто по–разному осеняют себя крестным знамением, или распятие изображают не с четырьмя гвоздями, а только с тремя, или полностью принимают лишь христианские ценности первых трех веков истории Церкви — Священное Писание в полном его объеме, не заменяя его богословием последующих столетий. С этими различиями можно не соглашаться, не принимать их для себя, но нельзя, чтобы они заслоняли собою главное — единство веры в Иисуса Христа как единородного Отцу, во плоти пришедшего Спасителя мира, — а в этом едины все, и православные, и католики, и протестанты.
О. Александр вынес свою веру и свою церковность не из современных модных увлечений христианством как повода для самоутверждения и национального чванства, а из катакомбной Церкви 30—40–х годов, в труднейших условиях хранившей традиции культурного и глубоко духовного русского Православия начала XX в. Его наставниками в юности были те, кто, в свою очередь, приняли духовную эстафету от таких людей, как отец Павел Флоренский, отец Алексей Мечев, отец Серафим Батюков, жизнью и смертью, засвидетельствовавших верность Христу и Православной Церкви.
Уточнения
Разумеется, избранная нами схема — «центр», «правые» и «левые» — как и всегда, всего лишь схема, в которую часто не укладываются реальные люди. Нередко бывает, что священник, вполне принадлежащий к тому, что Мы называли «бытовым христианством», вдруг проявляет себя очень живо и глубоко. Или священник, вроде бы всегда казавшийся самодовольным фарисеем, вдруг говорит: «Какие мы верующие? Что сказано про уверовавших? «Именем Моим будут изгонять бесов… возложат руки на больных, и они будут здоровы…» Можете вы исцелить кого–нибудь?!» Тот же священник, всегда оказывавший предпочтение скорее Преданию, чем Писанию, будучи тяжело болен, обратился к прихожанам с письмом, которое зачитал его коллега и которое было его последним словом к пастве. В этом письме он, в частности, призывал: «А самое главное — ежедневно читайте Евангелие, хотя бы по одной главе в день. В нем все!» Поистине, думал я, слушая эту его последнюю проповедь, «кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Всякий человек всегда в принципе остается «открытой системой», могущей пробудиться к полнокровной подлинной жизни.
И еще. Есть люди, которые вообще не укладываются ни в какие схемы, которых Бог особо касается Своей благодатью. Так, служил невдалеке от латышского городка Елгавы светлой памяти старец архимандрит Таврион. Даже литургию он три раза прерывал проповедями. Помню, как он выходил на амвон после великого входа, жестом останавливал певчих и говорил слово.
«Вот сейчас мы с вами будем с Самим Господом, среди Его учеников, на Тайной Вечере, Сам Господь будет с нами. И о чем мы вспомним? Кого помянем в молитве пред лицом Господа? Мы помянем всех тех, кто был близок и дорог для нас в нашей жизни. Кто невинно пострадал, погиб вдали от родного дома. Я вот вспоминаю сейчас одного человека, который умирал рядом со мной в бараке, в лагере (прямо так и говорил! — А. Б.). Поднялся он из последних сил и просил меня: «Батюшка, помолись обо мне, не забудь!» Как же я о нем не вспомню? Как забуду других — замерзших, расстрелянных? Нет, всех мы сегодня помянем перед нашим Господом». (Все это произносилось задолго до перестройки).
И служба сразу вырывалась за пределы маленькой церквушки. Страдания Христа соединялись со страданиями всех, кого мы знали или о ком только слышали. Все мы сейчас соединялись в одно перед престолом Господним силою любви старенького, сухонького монаха, любви ко Христу, любви к людям. И от этой стоящей перед нашими глазами любви теплели и сердца людей, приехавших сюда из самых разных мест нашей огромной страны.
ГЛАВА Ч ЕТВЕРТАЯ
РЕЛИГИЯ И ВЕРА
«Разумеешь ли, что читаешь?»
Несмотря на то, что слова «церковь» и «бабушки» в минувшие десятилетия крепко соединились друг с другом, едва ли кто будет всерьез утверждать, что христианская Церковь должна быть ориентирована исключительно на лиц пожилого возраста. Иисус пришел для того, чтобы люди «имели жизнь и жизнь с избытком». И хотя, разумеется, полноту жизни можно вдруг открыть для себя в любом возрасте, все же, чем раньше это происходит, тем полнее реализует себя человек в жизни. Здесь небезынтересно напомнить о том, что в середине IV в., когда государственная Церковь делала еще свои первые шаги, а основная масса общества жила еще языческим мироощущением, был распространен обычай креститься как можно позже, чуть ли не на смертном одре, чтобы перейти в другой мир очистившимся и не успевшим еще нагрешить в этом (поскольку было твердо усвоено, что крещение омывает все грехи). Иоанн Златоуст так же, как и Василий Великий, энергично предостерегал против такого обычая ввиду опасности бессознательного состояния:
Если готовящийся принять таинство не узнает присутствующих, не слышит их голоса, не может произнести тех слов, посредством которых он должен вступить в блаженный завет с общим нам всем Владыкой, но лежит как безжизненное дерево или камень, нисколько не отличаясь от мертвого, то какая польза от принятия таинства в таком бесчувствии?
(Иоанн Златоуст, «Творения», т. II, с. 251, 1896)
Выше уже говорилось о том, что положение, при котором наша православная паства на 90 процентов состояла из пожилых и старых женщин, едва ли можно назвать нормальным. Что–то здесь было не так. Но что же именно?
Следует обратить внимание на то, что пожилые женщины по своей психологии и сложившейся судьбе более всего склонны принимать преподаваемое им христианство «как есть». Вопросов задается весьма мало, а те, которые и возникают, как правило, не слишком глубокого свойства: «а когда в этом году Пасха или родительская?»; «можно ли в такой–то день есть рыбу?»; «можно ли помянуть усопшего не в самый 40–й день, а накануне, так как это будет выходной?» и т. п. Коренное отличие всего нашего остального населения состоит именно в том, что их вопросы существеннее и глубже. Для всех этих людей значительное место в жизни все–таки занимает СМЫСЛ того, что им приходится делать, хотя бы минимальный.
Следовательно, задача нашей Церкви в первую очередь давать НАСТАВЛЕНИЕ В ВЕРЕ. Надо отметить, что с самых первых шагов христианство распространялось именно через наставление в вере и молитву о желающих вступить в Завет с Иисусом Христом. Самая древняя книга, которая рассказывает нам об этом, — Деяния Святых апостолов — содержит многочисленные тому примеры. Первая проповедь апостола Петра в Иерусалиме в день Пятидесятницы содержала именно доказательство, что «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, Которого вы распяли». Разумеется, это было не просто логическое рассуждение, а свидетельство веры, излагаемое «в духе и силе».
Это была проповедь, в которой объяснялось, Кто же был Иисус й почему ученики уверовали в Него как в Мессию. Апостол Филипп, обративший к вере в Иисуса эфиопского вельможу, также разъяснял ему, в чем состоит вера учеников Иисуса:
Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка
Исайю, сказал: РАЗУМЕЕШЬ ЛИ, ЧТО ЧИТАЕШЬ?
Он сказал: как могу разуметь,
если кто не НАСТАВИТ меня?..
Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания,
благовествовал ему об Иисусе.
Обратившийся ко Христу апостол Павел с первых же дней «приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». Подобных мест из книги Деяний можно было бы привести еще немало, но, чтобы не утомлять читателя, ограничусь этими.
Стоит, вероятно, упомянуть и о том, что во II—III вв. при христианских общинах всегда имелись своего рода школы, в которых желающие принять крещение готовились к нему, часто не один год, хотя христиане были нередко гонимы за свою веру, которая была официально запрещена вплоть до 313 г.
В нашей стране, как мы знаем, христианство не было запрещено, хотя и ограничивалось «свободой отправления культа», с одной стороны, и «свободой антирелигиозной пропаганды» — с другой. Следовательно, официально всем желающим быть христианами был оставлен только культ, то есть церковное богослужение. Впрочем, та безболезненность и готовность, с какой наша Церковь отказалась от права наставлять паству каким–либо иным образом, помимо культа, была вполне традиционна. И до 1917 г основой и практически единственной формой христианской жизни в России было храмовое богослужение. Гонения, обрушившиеся на Русскую Церковь после 1917 г., имели, в сущности, политический характер, облеченный в антиклерикальные формы. После установления к началу 30–х годов некоего «конкордата» между новым правительством и Церковью, последняя сохранила то, что представлялось главным и единственно важным, — богослужение.
Наш церковный устав, то есть порядок совершения православного богослужения, сложился в средневековых византийских монастырях (в V—VII вв.), где богослужение было главным, а часто и единственным занятием монахов и имело в виду именно их, людей, ушедших от мира и посвятивших всю свою жизнь молитве и храму.
Человек, приходивший в храм «из грешного мира», должен был смиренно «подтягиваться» к монашескому уровню. Кроме того, все государство было пронизано церковной христианской традицией, и ритм его жизни целиком подчинялся ритму богослужебного церковного круга. Поэтому естественно, что сейчас, в совершенно другой исторической обстановке, этот средневековый ритуал чрезвычайно труден для восприятия вновь пришедшим. Впрочем, труден он и для людей уверовавших, крестившихся и уже много лет посещающих храм. При всей их духовной чуткости и любви к храму, обилие архаических и малопонятных элементов в нашем богослужении, особенно, повторяю, во всенощном бдении, по–прежнему остается лишь с трудом переносимым бременем. Не спорю, есть немалое число наших современников, которые, придя к вере уже взрослыми, через 3—4 года вошли в этот ритуал, ц е л и к о м приняли и полюбили его.
Но надо заметить, что это, во–первых, всегда люди с образованием, которым по их культурному уровню эти усилия оказались возможными, и, во–вторых, принятие в с е г о ритуала в с е г д а сопровождается какой–то неестественной зажатостью и стилизацией себя под некий средневековый стандарт. Здесь не происходит интегрирования церковной культуры, ритуала и, наконец, самого христианства с современностью, а просто имеет место уход от последней, как от тлетворной заразы. Речь, конечно, не идет о приспособлении христианства к правам нехристианского окружающего мира, а об осознании необходимости преображения этого неоязыческого окружения через активную миссионерскую деятельность всей Церкви, не только духовенства, но и мирян, внутри собственной страны и собственного народа. Оторванное от жизни христианство становится закваской без теста.
Остальные люди, а их среди сознательно пришедших в Церковь большинство, избирают один из двух путей. Либо принимают весь ритуал как нечто неизбежное, что–то безусловно любя в нем, прилепляясь к этому сердцем, живя этим и стараясь соединиться через это со всем нашим верующим народом, терпя все остальное как неизбежный балласт. Либо через какое–то время просто перестают посещать храм, поскольку «неудобоносимые бремена» перевешивают все то, что их привлекает в Церкви и в христианстве. При избрании первого пути, при всем его внешнем благополучии тем не менее остается, как хорошо сказала она женщина, какое–то чувство обиды на Церковь. И это несмотря на то, что уже много лет ходишь в нее, знаешь, что получаешь подлинную духовную поддержку в совместной молитве со всем церковным народом, в исповеди, в причащении, подлинно переживаешь, что «где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я буду посреди них». И все–таки обида остается: на непонятность и архаичность богослужения, на грубость церковного народа, на слабые проповеди и низкий культурный и духовный уровень духовенства.
Что же касается второго пути — ухода от храмового богослужения, то, конечно, легче всего отмахнуться, что–де «много званых, но мало избранных». Но спросим себя: так ли проповедовал Евангелие Сам Иисус? Была ли его проповедь сложным ритуальным действием, понятным лишь для посвященых? Разумеется, нет.«Придите ко Мне все нуждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Этот призыв звучал в самой простой, обыденной обстановке. Люди шли к Иисусу, привлекаемые не пышными одеяниями или сложными и таинственными священнодействиями, а той духовной силой, которая исходила от Него и исцеляла душевные и телесные недуги человеков. Иисус на протяжении 30 лет жил с людьми их каждодневной жизнью, три года ежедневно проповедовал и только один раз совершил евхаристию[1] До недавнего времени наши священнослужители ежедневно совершали евхаристию, раз в неделю проповедовали (некоторые) и никогда не жили бок о бок с людьми — их работой, их каждодневной жизнью.
Как раз именно профессионалов — книжников, фарисеев и саддукеев — проповедь Иисуса не устраивала и возмущала: «Что это ваш учитель ест и пьет с мытарями и грешниками?»; «Не от Бога этот человек, раз он не соблюдает субботы!» На что Иисус отвечал: «Я пришел призвать не праведных, но грешников к покаянию… об одном таком грешнике на небесах больше радости, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
Без такой обращенности ко всем дальним и ближним, ко всем ищущим утешения, поддержки, истины, без обращенности ко вновь пришедшим со словом именно о Христе и Его Благой Вести, Евангелии, наша служба — страшно сказать эту правду — порой превращается лишь в пышный, торжественный спектакль и для очень многих становится не поддержкой, облегчающей путь к Богу, а п р е г р а д о й на этом пути. Складывается совершенно парадоксальная ситуация: Церковь, самый смысл существования которой проповедовать в с е м людям об Иисусе Христе, напоминает о Нем до тех пор, пока человек далек от нее. Когда же человек приблизится, войдет в храм, то внешняя, обрядовая сторона церковной жизни становится барьером, загораживающим Христа от многих ищущих его.
Парадоксальным образом Церковь наша долгие годы проповедовала не столько об Иисусе Христе, сколько о Самой С е б е: проповедовала свой устав, предания, иконы, ритуалы, песнопения и пр. Имеем ли мы в таком случае право утверждать, что с нашей Церковью все в порядке, что кроме того, как сохранить «древлее благочестие», мы больше ни о чем и помышлять не должны? Не даем ли мы в этом случае ожидающим «хлеба жизни», наставления и духовной помощи «к а м е н ь вместо х л е б а»? Не становимся ли мы пастырями, которые пасут самих себя и десяток прибившихся к ним овец, в то время как миллионы их блуждают в горах? Не стоит ли нам повнимательнее прочесть слова, обличающие таких пастырей?
Так говорит Господь Бог:
Горе пастырям Израилевым,
Которые пасли себя самих!
Не стадо ли должны пасти пастыри?
Вы ели тук и волною одевались,
Откормленных овец закалали, а стада не пасли.
Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали,
Пораненной не перевязывали,
Угнанной и потерянной не искали…
И рассеялись они без пастыря.
И, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю.
…Вот Я на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их
И не дам им более пасти овец,
И не будут более пастыри пасти самих себя…
(Иез. 34: 2—5, 10)
В самое последнее время стало возможным для священнослужителей посещение больниц, домов престарелых, тюрем. Правда, делают это пока лишь единицы наиболее активных священников. Большинство же предпочитают по–прежнему ограничивать свою деятельность лишь богослужением. Надежда на то, что новое поколение духовенства, нынешние и будущие воспитанники семинарий, будут подбираться и наставляться иначе. Уже сейчас патриарх сделал указание о том, чтобы такого рода деятельность священников расценивалась на приходах как равноценная несению богослужебных обязанностей в храме, однако пока это мало где учитывается, и посещение священником, например, дома престарелых, расценивается коллегами и настоятелями как его личное дело — богослужебная нагрузка при этом остается неизменной. Конечно, сейчас проблема еще и в малом числе духовенства, по сравнению с теми задачами, которые неожиданно открылись перед нашей Церковью. Поэтому сейчас особое внимание обращено на служение мирян и восстановление должностей диаконов и диаконисе (от греч. слова «диакониа» — «служение»). Следовало бы уточнить, что эти должности могут быть работой, за которую исполняющий ее будет получать некоторое вознаграждение, поскольку рассчитывать только на пенсионеров и на энтузиазм людей, совмещающих такую работу с основной, было бы неправильным. Такая деятельность нередко требует отдачи всего времени и всех сил.
Предостережение
Разве катастрофа, пережитая нашей Церковью в связи с падением самодержавия, поддерживающего Ее, не грозное для нас предостережение против всякого стремления видеть церковный идеал в жизни Русской Церкви XIX в. и предшествующих веков, против всякого стремления реставрировать жизнь и быт дореволюционной Церкви? Разве это не призыв к поиску новых путей проповеди Христа? К поиску новой, живой связи Церкви и верующего народа со Христом? К пробуждению? Если бы все было так хорошо в нашей дореволюционной Церкви, как склонны думать многие, то почему же произошло крушение огромной Российской империи, которая, подобно многим империям прошлого, оказалась колоссом на глиняных ногах? Почему вслед за этим последовала жесточайшая братоубийственная война с невероятными зверствами с обеих сторон? Почему произошел такой быстрый и массовый отказ от «веры отцов», так что, несмотря на героические усилия многих тысяч верующих, многие миллионы отвернулись и от Церкви, и от Бога? И все это не в результате «нашествия иноплеменных», а действиями нашего собственного народа, того самого «стада», которое должны были пасти пастыри Русской Православной Церкви. Ведь все и крещены были…
В этом отношении характерен случай, о котором рассказывает В. Ф. Марцинковский. Это было в 18–м году. В Ф. ехал из Москвы в Тулу с религиозными лекциями. Места в вагоне, естественно, не было, приходилось довольствоваться тамбуром, также забитым солдатами. По дороге, разумеется, разговор про всякие события войны. Один солдат особенно усердствовал в описании своих «подвигов» — грабежей и насилий. В. Ф. не выдержал и, хотя это было довольно опасно, стал увещевать рассказчика: «Как вам не стыдно похваляться всем этим! Разве Евангелие этому учит?» — «А что нам Евангелие? — отвечал нимало не смутившийся солдат. — Мы только яво крышку целовали, а што в ем написано — этого мы не знаем!»
Уместно будет напомнить, что даже такой горячо православный человеку как отец Сергий Булгаков, сразу же после выезда из России в январе 1923 г. писал в дневнике о необходимости присоединения Русской Церкви к Риму. Крушение империи, полная неспособность Церкви противостоять братоубийственной войне, упрямство иерархов, не желавших ничего менять и продолжавших спорить о привилегиях, — все это пошатнуло веру отца Сергия в Православие. Он писал о необычайном душевном богатстве русского народа, о том, что оно нуждается в определенной форме, которую могло бы дать, соединение с Римом. Это богатство должно быть поставлено на «камень», «скалу» — Римский Престол апостола Петра. Без этого, как писал о. Сергий, Русское Православие превратится в «этнографическую» Церковь по типу Антиохийской и Александрийской, без всякого влияния на народ.
Позже, не найдя поддержки и сочувствия со стороны эмигрировавших русских иерархов, о. Сергий преодолел католический «соблазн» и стал одним из лидеров Русской Православной Церкви в эмиграции. Вспоминая о «католических колебаниях» отца Сергия, автор совсем не хочет сказать, что они правильны и что именно по этому пути надо идти. Нет, речь идет лишь о той опасности, которую предвидел о. Сергий для Русского Православия, — превращении его в этнографическую экзотику.
Шаги к этому сделаны. Так, недавно выпущена новая экспортная водка под названием «Золотое Кольцо». На этикетке гербы русских городов: Владимир, Суздаль, Загорск и т. д. — все архитектурные церковные памятники. Какой иностранец не раскошелится на такую «клюкву»! Места паломничества — Кижи, Киево–Печерская Лавра, Соловецкий монастырь, Троице–Сергиева Лавра — где больше, где меньше превращаются в «достопримечательности» для туристов. А надпись у входа в Троице–Сергиеву Лавру (на мраморной доске, золотыми буквами) звучала как явная ирония: «Государственный историко–архитектурный м у з е й — з а п о в е д н и к (разрядка моя. — А. Б.). В таком «заповеднике» можно позволить и монахов, и богослужение как каких–то редких, диковинных зверей, занесенных в «Красную книгу».
И несмотря на все это, по–прежнему главные усилия в нашей внутрицерковной политике долгие годы были направлены на сохранение уставного богослужения, церковно–славянского языка, акафисты чтимым иконам и т. д.
Во что вас бить еще.
Продолжающие свое упорство,
Вся голова в язвах, и все сердце исчахло..
Все опустело, как после разорения чужими.
(Ис. 1: 5–7)
Разве молитва, приносимая Богу архиереем вслух во время богослужения — «призри на виноград сей, его же насади десница Твоя…» — не напоминает нашим пастырям притчу о винограднике? И разве не звучит совершенно реальным предупреждением о том, что виноградник может быть отдан «другим виноградарям, которые будут отдавать Ему плоды во времена свои?»
А как было «раньше»?
Как уже говорилось, отсутствие учительного служения в нашей Церкви связано не с «трудностями ее современного положения». Это явление вполне традиционное, хотя у многих на сей счет имеется основательное заблуждение, будто «раньше» верующие люди «все знали». Давайте посмотрим, что писал об этом в конце прошлого века профессор Московской Духовной Академии Е. Голубинский в своей «Истории Русской Церкви» (М. 1881. Т. 1. 2–я пол., с. 720—723).
«…Наши главные речи о вере и нравственности общества не могут быть какой–нибудь хвалебной одой самим себе, ибо в истории церквей всего христианского мира эти вера и нравственность (как и не могло быть иначе при духовном немоществовании людей) представляют собой предмет не столько хвалебных од, сколько скорбных элегий.
По приказанию государя русские крестились и стали по имени и видимо христианами. Но иное дело было стать христианами в возможной мере действительными, христианами не по имени только, а по самой мере и нравственности.
Чтобы веровать, нужно знать то, во что веровать, иначе — знать учение веры, ее догматы. Знание предполагает средства познавания, ибо, по апостолу, «како уверуют его же не услышаша» (Рим. 10, 14). Следовательно, здесь первый вопрос: как было у нас с этими средствами познавания или научения в вере?
Обязанность учить мирян вере и вместе нравственности возложена в церкви христианской на пастырей, которые обязаны не только совершать таинства и вообще церковные частные и общественные службы, но и быть в отношении к христианству их учителями. По истинной идее пастыря, обязанность учить мирян вере и нравственности есть столь же существенная и непременная обязанность, как и обязанность совершать таинства. Но известно, что рознь идеи или идеалов с действительностью составляет, так сказать, фундаментальную сущность всей человеческой истории. Вообще в христианском мире обязанность учить понималась и понимается пастырями наибольшей частью весьма ограниченно…
…Как учился простой народ, как училась народная масса (речь идет о первых веках христианства на Руси)? На вопрос отвечать нелегко. Учился как–нибудь, но как? Обыкновенно принято отвечать, что училищем веры и благочестия для простого народа был у нас храм с его богослужением, причем с особенною силою указывается на то, что богослужение у нас совершалось не на чужом, непонятном языке, а на своем, понятном. Но, говоря откровенно, к этому ответу прибегают для успокоения совести и просто потому, что не находят другого, сколько–нибудь удовлетворительного ответа. Кто решится предполагать, что в древнее время богослужение совершалось лучше, чем в настоящее. И, следовательно, что мог разобрать простой человек во всем чтимом и поемом (как первое читается, а второе поется до настоящего времени в огромном большинстве русских церквей) кроме одного «Господи, помилуй»? Затем язык наших богослужебных книг, как мы уже не раз говорили выше, называют нашим собственным далёко не в собственном или не в точном смысле, и он вовсе не был (и есть) так понятен для народа, как свой русский (здесь и далее разрядка (курсив) наша. — А. Б.), причем совсем забывают и упускают из вида еще и то, что даже и свой русский язык понятен для простого народа только говорной, но не книжный. Но если бы даже мы устранили сейчас указанные препятствия со стороны неудовлетворительности совершения служб и н е в р а з у м и т е л ь н о с т и языка, то и тогда можно было бы усвоять церкви с ее богослужением роль действительного училища веры для простого народа или для народной массы? Богослужение, совершаемое в церкви, — не для научения вере неведущих, а для назидания ведущих; не рассчитанное на то, чтобы подготовлять людей и быть для них начальным христианским училищем, оно, напротив, требует предварительной подготовленности и предполагает уже большую или меньшую наученность…
Мы вовсе не хотим сказать того, что для простого народа хождение в церковь было бесполезно: участие в общественной церковной молитве, по силе особого значения этой молитвы, одинаково необходимо как для христианина вполне верующего, так и для того, который знает только «Господи, помилуй»; мы говорим только, что напрасно усвояется Церкви роль, которую исполнять ей, собственно, не предназначено. Церковь есть, конечно, училище веры и нравственности, но не в смысле собственного и п е р в о н а ч а л ь н о г о научения, а в смысле повторения и укрепления».
Заметим, что это писалось тогда, когда в России были тысячи церквей, около 800 монастырей, церковно–приходские школы, многочисленные религиозные издания, четыре Духовных Академии, духовные семинарии при каждой архиерейской кафедре, то есть несколько десятков, и Православие было первым из «трех китов», на которых держалась Российская империя («православие, самодержавие, народность»). Следовательно, здесь дело не просто в стесненном положении нашей Церкви, а в отсутствии у нас традиции учительства, наставления в вере. И это положение сохраняется у нас не 20 и не 60 лет, а, если согласиться с Е. Голубинским (а не соглашаться с ним нет никаких оснований), практически все 10 веков существования нашей Церкви.
Я предвижу возмущенные возражения: а как же русские святые, какое множество дала их наша Церковь! Верно. Дала. Но можем ли мы сказать, что дело Христа в России тем самым закончено, что народ наш христианизирован, как никакой другой, и служит всем другим народам примером христианских добродетелей? Или, быть может, стоит, скорее, согласиться с Н. Лесковым, что «христианство на Руси не проповедано», что «Русь была крещена, но не просвещена»? При этом Н. Лесков, как немногие из русских писателей XIX века, знал Русскую Церковь и любил Ее, но не закрывал глаза на мрачные стороны русской действительности, имевшие место именно из–за необращенности человеческих сердец ко Христу. При всем том справедливость требует признать, что народ наш в большинстве своем был и остается очень религиозным.
Религиозность русского народа
Не только в прежние времена, но и сейчас иностранцы, приезжающие в Россию, не перестают отмечать особенную религиозность русских. Даже в 60—80–е годы, несмотря ни на что, в воскресные дни и в дни "небольших церковных праздников церкви полны. Причем стремление не просто поставить свечку и уйти, а именно «службу отстоять». Без этого даже люди нецерковные понимают, что их посещение храма будет как бы неполноценным.
Конечно, без статистики здесь трудно что–либо утверждать объективно. Однако просто то, что «видно на глаз», — впечатления иностранцев и сравнение с Прибалтикой, где храмов относительно много, — все это свидетельствует о правильности вывода о высокой религиозности нашего народа. В Западной Европе, где имеется полная свобода вероисповедания, число практикующих христиан весьма невелико. По данным статистики Франции, число людей, посещающих церковь хотя бы раз в неделю, составляет лишь 10—12 процентов. Аналогичные цифры для США гораздо выше — 70—75 процентов.
Даже в Прибалтике (Эстонии, Латвии), где, правда, и церквей (разных конфессий) больше, чем в среднем по СССР, храмы полупустые (исключение — католическая Литва, где посещаемость храмов высокая). Это притом, что имеются и благоустроенные здания, и прекрасное музыкальное оформление, и хорошие проповедники. Люди как–то мало ходят — предпочитают дом, хозяйство. По нашей России мы прекрасно знаем стоит где–нибудь появиться «хорошему батюшке», там сразу храм полон. За десятки километров люди едут. Да и сами эстонцы, которые едва ли будут преувеличивать положительные стороны русских, с убежденностью свидетельствуют, что русские более открыты к проповеди Евангелия, к пробуждению. Когда в баптистской церкви Олевисте (в Таллинне) стали проводить некоторые служения на русском языке специально для приезжающих русских, то из России хлынул такой поток верующих (причем не только баптисты), что не только светские, но и церковные власти были вынуждены эти служения прекратить, так как приезжающие грозили заполнить не только огромный храм Олевисте, но чуть ли не весь город.
Можно искать те или иные объяснения этой сравнительно высокой религиозности русских (под русскими имеется в виду не столько национальность, сколько принадлежность к культуре), но сейчас нас интересует не это, а сам факт. Следует, однако, рассмотреть, что здесь понимается под религиозностью.
Религиозное чувство как естественное чувство человека
Религиозное чувство, по–видимому, всегда психологически связано с тоской человека по совершенству, чистоте, непорочности, которые столь редки в окружающем мире и столь хрупки в сохранении этих своих качеств.
Другое основание религиозного чувства, тесно связанное с первым, — стремление преклониться перед чем–то высшим, по сравнению, опять же, с повседневной действительностью. Здесь есть, вероятно, сходство с так называемыми врожденными идеями. Так, мы нигде не встречаем геометрически точного круга, или шара, или килограмма и т. п., однако в нашем сознании имеются врожденные идеи этих понятий. Точно так же мы нигде не встречаем в зыбком и быстро изменяющемся окружающем нас мире абсолютной чистоты, абсолютного добра, абсолютного совершенства, абсолютной истины. Однако представления о том, что в принципе все это должно «где–то» быть, желание, чтобы это б ы л о, вложены в нас. Просто мы, люди, — такие. Мы так созданы. Таким образом, устремление человека к чистому, совершенному, истинному, лежащему где–то за пределами его самого, быть может, даже, за пределами видимого мира, в соединении со стремлением преклониться перед этим совершенным лежит в основе религиозного чувства.
Отсюда же — отношение к этим вещам как к священным, то есть отделенным, не принадлежащим к обычному окружающему нас миру. Священная и н а к о в о с т ь, отделенность, непохожесть абсолютных свойств на первичный нам, профанный мир порождает к ним благоговейное отношение со стороны человека именно как к С в я т о м у.
Некоторые авторы (Р. Отто), напротив, считают первичным в религии переживание человеком чувства соприкосновения с божественным как с чем–то совершенно иным. Это чувство божественного является .самым прочным основанием подлинной религиозности, будучи ничем не обусловлено и переживаемое как личный опыт Бога.
Кроме того, быть может, самым главным религиозным мотивом выступает именно чувство зависимости от невидимого духовного мира. Отсюда стремление в жизни своей как–то соответствовать этому миру, даже как–то умилостивить его или, во всяком случае, не прогневить. Стремление к умилостивлению мира может питаться как возвышенными мотивами (чувством собственного несовершенства, греховности, искреннего желания стать лучше), так и вполне утилитарными (заручиться поддержкой в том или ином деле, выздороветь от болезни и т. п.).
Нередко в основе религиозного чувства может лежать восхищение красотой и гармонией окружающей природы, переполняющая сердце радость бытия или, напротив, озадаченность человека вечными вопросами о смысле жизни, рождения и смерти. Все эти религиозные чувства дают начало тому, что может быть названо естественной религиозностью. Они действительно лежат в основе религий, называемых естественными, к которым принадлежат религии языческие. В них всегда имеется тот или иной миф о родоначальнике данного рода или народа, культ умерших предков в соединении с теми или иными представлениями об их посмертной судьбе и т. п. Нам нет необходимости на этом останавливаться. Для нас важно другое: естественная религиозность лежит в основании к а ж д о й религии.
В отличие от естественных религий, существуют религии о т к р о в е н и я. К ним принадлежат в первую очередь, конечно, иудео–христианство, а также такие мировые религии, как ислам, буддизм и в какой–то мере даосизм. В отличие от естественных, в основании религий откровения лежат не просто широко распространенные религиозные чувства, а уникальные откровения Бога о самом Себе, данные конкретным историческим личностям: Аврааму, Моисею, Магомету, Будде, Лао–Цзы. Строго говоря, то, что мы называем естественным религиозным чувством; тоже, несомненно, имеет сверхъестественное происхождение — это тоже голос Божий, звучащий в душе каждого человека, и лишь «обычность» этого откровения побуждает нас называть его «естественным».
Великие откровения, данные Богом основателям мировых религий, настолько явно говорили о Боге, были настолько мощными импульсами, что именно они стали центрами всей нашей современной цивилизации. И, конечно, самое величественное из них было дано в личности Иисуса из Назарета — Человека, в Котором обитала полнота Божества, Которого мы, христиане, исповедуем как Сына Божия, через Которого нам открывается самый надежный доступ к Отцу.
Христианство — величайшее откровение Бога о Самом Себе — подобно другим религиям, как семя в почву накладывается на естественную религиозность того или иного народа. В значительной мере от этой естественной религиозности будет зависеть восприимчивость данного народа к христианству, его распространение среди него. Вспомним посещение апостолом Павлом Афин, описанное в 17–й главе книги Деяний.
В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов…
Павел, однако, не сделал из этого вывода, что афиняне совершенно безнадежны для проповеди Евангелия. Напротив, в этом множестве идолов он усмотрел религиозные искания: активность, религиозную тоску греческого народа. И в своей речи в ареопаге он был, конечно, совершенно искренен, когда говорил:
Афиняне! по всему вижу я,
что вы как бы особенно набожны; ибопроходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу».
Сего–то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
Не важно, что данная проповедь не обратила слушателей Павла. Важно другое: Павел верно заметил религиозную восприимчивость греков, точнее, наверное, людей, принадлежащих к греческой культуре. Именно они составили большинство в общинах, основанных апостолом, а греческая культура стала колыбелью всего восточного христианства и оказала неизгладимое влияние на западное.
Возвращаясь к нашей теме, отметим, что высокая природная религиозность нашего народа также нуждается именно в проповеди Евангелия. Без этого никакие самые пышные и торжественные богослужения не приведут к христианизации наших соотечественников, и христианство останется лишь православной религией меньшинства, а не христианской верой народа. Для того чтобы лучше показать, в чем тут дело, рассмотрим такие два понятия, как религия и вера.
Религия и вера
Эти два понятия нередко смешивают, воспринимая их чуть ли не как синонимы. Между тем разница между ними весьма существенна, и различение их совершенно необходимо.
Общее между ними то, что и религия, и вера обращены к духовному невидимому миру. Однако они не идентичны, а, скорее, соотносятся друг с другом как форма и содержание. В Библии мы вообще не встретим слова «религия», поскольку само это понятие принадлежит римской культуре, сложившейся в условиях Римской империи, где существовало великое, множество всевозможных культов — религий. Само слово «религия» происходит от латинского «религаре» — «связывать» и, таким образом, подразумевает определенную систему действий, культ, связывающий человека, принадлежащего к этому, видимому миру, с миром невидимым, духовным. Отсутствие в Библии слова «религия» не означает, что у древних евреев не было культа. В книгах Левит, Второзаконие и других мы встретим немало указаний относительно жертвоприношений, праздников и т. д. — Однако з центре внимания Библии в целом стоит вера. Внешнее выражение веры, культ, встречает довольно сдержанное отношение у пророков — религиозных учителей Израиля.
В их речах и книгах постоянно подчеркивается преимущественное значение добродетельной жизни по сравнению с исполнением ритуалов. Многочисленные жертвы и пышные церемонии нередко даже осуждались, как вопиющее нечестие и лицемерие перед Богом, если за ними не стояли милосердие и справедливость в повседневной жизни.
Участие в других, языческих культах осуждалось как вообще крайнее нечестие, как наибольший грех. В этом отношении нетерпимость израильского общества не идет ни в какое сравнение с относительной терпимостью, вернее, религиозным индифферентизмом Рима, в котором допускались практически любые культы, лишь бы они соглашались включить в себя также культ императора. Понятно, что в древнем Израиле, где не допускалось существование других религий, само это понятие — религия — не формируется как нечто отдельное, речь идет лишь о вере и о внешних ее выражениях: жертвоприношениях, обрядах очищения, праздниках и т. п.
Можно сказать, что вся Библия — книга именно о вере. Именно вера в Бога Авраама, Исаака и Иакова проходит через века и судьбы народов, читающих или слушающих эту книгу, в то время как внешнее выражение этой веры, культ многократно изменялись, причем самым радикальным образом.
В Послании к Евреям даже встречаем формулировку, что такое вера:
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
(Евр. 11,1)
С понятием веры очень близко соприкасается, разъясняя его. представление о надежде:
Ибо мы спасены в надежде,
Надежда же, когда видит, не есть надежда,
Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
(Рим. 8: 24—25)
Итак, попытаемся выделить основные отличия веры от религии. Необходимость такого различения будет видна из самого текста.
1. Вера п е р в и ч н а по отношению к религии. Вначале всегда возникает чувство некоего призыва со стороны Бога, и лишь после этого следует какое–то религиозное действие как форма, в которой мы выражаем наше отношение к Богу. Эта форма не всегда может быть удачной, адекватной нашему внутреннему чувству. Призыв же может быть столь велик и значителен, что дает начало целым эпохам, изменяет судьбы тысяч и миллионов людей, сила этого импульса может простираться через века. Но и в жизни простых, обычных людей каким–то религиозным действиям всегда предшествует акт веры. Даже в тех крещениях младенцев, о которых мы рассказывали во второй главе. Прежде чем принести ребенка в храм, мать и отец имеют какую–то, пусть очень смутную, но все–таки веру или надежду — «что–то есть» И по своей этой вере они совершают свое религиозное действие — несут ребенка в храм для совершения крещения.
2. Вера своим источником всегда имеет внутренний импульс, который может быть назван откровением. Под воздействием тех или иных обстоятельств или даже без всякой видимой причины в душе человека рождается качественно новое убеждение, идея, желание. Оно не может быть объяснено рационально. Человек вполне отличает его от обычных своих мыслей и желаний. Оно происходит как бы не от нас. Религия — результат человеческого творчества, во всяком случае по большей части, особенно если речь идет о создании заново каких–либо ритуалов, религиозных гимнов, изображений. Здесь всегда доминирует уже имеющаяся культура, скорее подражание, переработка, чем создание качественно нового.
3. В е р а есть всегда очень л и ч н о е состояние — личное решение, выбор, доверие кому–то или чему–то. Р е л и г и я — действие чаще всего о б щ е с т в е н н о е, социальное. Человек здесь с необходимостью вынужден мириться с тем, что есть, хотя многое ему не вполне понятно или не очень–то устраивает. Личное здесь существенно умаляется и приносится как бы в жертву общественному действию, ритуалу.
4.В е р а есть внутреннее решение, которое производит адекватные и з м е н е н и я в личности человека. Иными словами, есть прямое соответствие между уровнем веры и уровнем ее влияния на личность человека. Не может быть глубокой веры без соответственно глубокого ее осознания и глубокого влияния на всю жизнь данного человека. И наоборот, слабая вера, остающаяся на уровне туманного «что–то есть», соответственно не производит заметных изменений в личности и жизни человека. Поэтому вера очень специфична: мироощущение верующего христианина будет сильно отличаться от мироощущения буддиста, магометанина или атеиста. Напротив, религия может не затрагивать самых существенных сторон личности. Человек может быть очень религиозным в том смысле, что он регулярно посещает храм, знает и любит обряды, пение, вообще все связанное с культом, и при этом основные свойства его личности будут мало отличаться от личныхкачеств людей не исповедающих никакой религии. Это, по–видимому, объясняется тем, что само по себе религиозное чувство не специфично. Оно представляет собой ощущение священной и н а к о в о с т и, непохожести священного на мирское, профанное. У некоторых людей даже имеется какая–то особая любовь, — тяга к «священному». Любая необычность в пейзаже, форме здания, во внутреннем убранстве, особенно когда мы заранее знаем, что это связано с культом (не обязательно христианским), вызывает в человеке религиозное чувство, даже восторг. И в этом, повторяем, нет ничего специфически христианского. Уверен, что храм Зевса с огромной прекрасной статуей, многочисленными стройными колоннами или высеченные в скалах колоссальные египетские храмы у любого человека вызывали бы священный трепет. При этом, как ни странно, вера людей, очень любящих «священное», нередко может оставаться на самом языческом уровне. Одновременно чисто «религиозная», храмовая ревность может даже усиливаться как бессознательная компенсация отсутствия подлинной жизни в вере. («Что же, что я не делаю того–то и того–то. Человек слаб. И, в конце концов, все так поступают. Зато я ревностен в служении, не пропущу ни одной стихиры, вычитываю все положенные акафисты и каноны…»).
Указанные четыре отличия веры от религии последовательно связаны между собой. Автор не претендует на исчерпывающее описание этих различий, важно, однако, подчеркнуть, что последнее из них, заключающееся в степени влияния на личность человека, является, в конце концов, самым решающим. Именно трагическим несоответствием между религией и верой людей объясняются столь многочисленные печальные страницы христианской истории: крестовые походы, инквизиция, религиозные войны, гонения на евреев, косность и фарисейство церковных должностных лиц, словом, все нехристианское, что было и есть в христианских Церквах.
В таком случае напрашивается вопрос: может быть, религия как внешний культ вообще не нужна, если она постоянно таит в себе угрозу подавления живой, непосредственной веры внешней, обрядовой стороной? Опыт некоторых протестантских деноминаций, например квакеров, где внешняя сторона уведена до минимума, скорее, говорит об обратном. При всей чистоте и высоком уровне веры квакерские общины в тех странах, где они существуют, остаются все–таки Церковью меньшинства. Сами члены этих общин свидетельствуют о том, что, например, рабочие, пришедшие на собрание квакерской общины после трудового дня, просто засыпают во время полуторачасовой безмолвной совместной молитвы. Дело в том, что большинство людей устроено все–таки так, что их вера, религиозные чувства нуждаются в тех или иных формах — пении, молитвах вслух (читаемых по богослужебным книгам, как в Православии и Католичестве, или свободной импровизации, как у баптистов, а также в некоторых моментах богослужения в последнее время и у католиков), музыке, убранстве и т. п.
Здесь, очевидно, нужно постоянно искать и удерживать необходимый баланс между содержанием веры и ее внешним религиозным проявлением. Нужно всегда помнить, что обряд не цель, а лишь средство для более полного переживания всем нашим человеческим существом — то есть не только духом, но и душевной и телесной сферами нашего «я» — нашей веры, нашей радости богообщения. Всегда имеется опасность «засушить» общение верующих, полностью удалив все внешние священные элементы — изображения, музыку, одежды. Это внешнее оформление не имеет никакого значения лишь тогда, когда создается необычайный духовный подъем за счет горячей молитвы или вдохновенной проповеди. Но по немощи человеческой это не всегда получается. И в этих случаях внешняя сторона — убранство, музыка, пение, сама атмосфера храма — восполняет недостающее, «подтягивая» внутренний настрой до необходимого уровня духовных переживаний. С другой стороны, по нашей православной жизни . нам хорошо известна противоположная крайность, когда в прекрасном многоголосом пении тонут слова, когда, несмотря на могучий бас протодиакона, нельзя понять даже, какой отрывок из Евангелия он читает, когда роскошные одежды епископов с длинными мантиями, концы которых за ними носят иподиаконы, скорее вызывают в памяти образ средневековых монархов, чем Христа, идущего на проповедь. Содержание веры, воспоминания о страданиях, смерти и воскресении Иисуса из Назарета, ради которых собираются на богослужения сотни верующих, совершенно исчезают за пышными аксессуарами.
Церковь и Ее общественное богослужение — общественная совместная молитва верующих — должны быть открыты поиску новых форм для того, чтобы если не всегда, то возможно чаще достигалась цель общественной молитвы — присутствие Самого Христа в Его Святом Духе, по Его слову: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я пребуду посреди вас».
Сама по себе опасность поглощения веры религией, то есть забвение в религиозной жизни самого главного, ради чего все это совершается, — в христианстве это забвение о цели его: приближении ко Христу, — связана с тем, что религия, как мы говорили выше, в значительной мере является результатом человеческого творчества, как бы ответом людей на откровение, даваемое Богом. Об этом очень часто и очень многие забывают. В результате имеют место два недоразумения:
1. Весь культ и обряд воспринимаются как данные нам через святых Самим Богом, и поэтому малейшие отклонения считаются совершенно недопустимыми.
2. Неприятие явных несообразностей в нашем богослужении нередко мучительно переживается как недостаток веры.
Между тем в ряде случаев это неприятие — явление совершенно нормальное, и вина здесь не тех, кто не может заставить себя принять все «как есть», а тех, от кого зависит внести в наш ритуал изменения, диктуемые самим временем.
Если попытаться понять причины этого неприятия, то можно отметить следующее. Несмотря на то, что большинство из вновь приходящих совершенно не сведущи ни в Священном Писании, ни в Предании, но одно то, что взгляды этих людей сформировались на основе лучших гуманистических традиций русской культуры, уже обуславливает ожидание: духовное должно быть прежде всего духовным. Люди могут и не знать слов: «Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4, 24). Но русская культура во всех своих лучших проявлениях это знала. Поэтому причина сознательного или бессознательного конфликта заключается здесь в том, что в нашем православном богослужении преобладающими, к сожалению, являются два подхода, которые, по сути, есть результат непонимания того, что же нового принесено в наш мир Иисусом Христом.
Первый можно назвать в определенном смысле магическим. Христианство в этом случае воспринимается как система спасительных священнодействий, данных нам Самим Иисусом. Отсюда задача священнослужителей сводится главным образом к тому, чтобы эти священнодействия вовремя и правильно исполнять, а мирян — вовремя и правильно к этим действиям прибегать. Осознание того, что любовь Бога к нам предполагает прежде всего нашу ответную любовь к Нему и ближним, вера в то, что в Иисусе все люди получают доступ к Богу, становятся Его детьми, — все это отступает куда–то на задний план, вытесняется, попросту говоря, обрядоверием.
Другой подход можно охарактеризовать как ветхозаветно–законнический. Он может либо переплетаться с первым, либо быть более или менее свободным от явного обрядоверия. При этом весь наш культ и обряд воспринимаются так же, как и в ветхозаветном иудаизме. Трехчастность нашего храма имеет своим прообразом ветхозаветную скинию. Священнослужители воспринимаются как особое сословие посвященных, а не просто как старшие среди братьев, учеников Христа (между тем в Новом Завете мы н и г д е не найдем, чтобы последователи Иисуса именовались «священниками»). Место ветхозаветных законов и предписаний занимают «Правила Вселенских Соборов и Святых Отцов» с твердым убеждением, что самой первой и главной задачей христианина является жизнь по этим средневековым правилам.
В подобной системе взглядов совершенно забывают, что христианство это не совокупность спасительных священнодействий, не воспроизведение ветхозаветного священства в «Новом Израиле» взамен «отпадшего». Это также и не система раз и навсегда сформулированных постановлений и законов.
Христианство — это (1) прежде всего открытие подлинного образа Бога как любящего Отца, целью которого является ке культ и закон, ач е л о в е к, его полное и окончательное благо, которое на языке Библии называется «с п а с е н и е (2) Открытие истинного образа Бога как любящего Отца и доступ к Нему становятся для нас возможными через личность Иисуса из Назарета. На это была направлена проповедь и вся жизнь Иисуса:
Благословен грядый во имя Господне…
Именно во имя этого нового образа Бога, о Котором Он свидетельствовал и о Котором говорили все великие пророки Израиля, Иисус пошел на открытый конфликт с официальным иудаизмом, стоивший Ему жизни. Его учение было действительно новым, и оно становилось опасным для старого.
И наконец, третье, что пришло с христианством и без чего оно осталось бы лишь возвышенным нравственным богословием, — это глубочайшие изменения в личности каждого уверовавшего и обратившегося ко Христу, изменения, которые происходили не за счет человеческих усилий, а являлись результатом благодатного действия Святого Духа, самой Божественной жизни, касающейся нашего человеческого существа этой мере, в какой мы способны и готовы ее принять. С человеческой стороны здесь необходимо лишь усилие веры, которое даже не столько усилие, сколько движение детского доверия к Богу, доверия к Его Слову, данному нам в Библии.
Это действие Божие может быть как едва уловимым прикосновением к иному, горнему миру, так и мощным потоком, уносящим все привычные оценки и представления, очищающим от всего лишнего, что мешает подлинному познанию Бога. Это последнее, подаваемое либо на горячей молитве самого человека, либо по молитве о нем других, имеющих дар какой молитвы, и есть то, что в Новом Завете именуется как крещение (т. е. очищение) Святым Духом. Об этом благодатном действии Божием, также принесенном в жизнь Иисусом, свидетельствуют все четыре Евангелия: «Тот есть крестящий (омывающий) Духом Святым».
Существует небольшая книга Шпенеля, являющаяся толкованием на 7–ю главу Послания к Римлянам, озаглавленная «Иисус Христос — конец религии». В самом деле, религия как поиск человеком новой формы, через которую можно установить связь с Божественным, утрачивает былое значение в том смысле, что эта связь установлена в самой личности Иисуса, Который потому и именуется Мессией, то есть Христом. Именно поэтому первостепенным в жизни христианина становится познание Иисуса через Слово Божие, молитву и деятельную любовь к ближним. При этом культ, аскеза, Предание и весь опыт Церкви имеют подчиненное значение — они важны лишь постольку, поскольку они служат главному.
Однако в истории «ветхий» человек всегда стремится отстоять свои собственные позиции, свои собственные представления о Боге и вместить христианство в «ветхие мехи» своей естественной религиозности, превратить его в религию определенных законов, правил и магических действий.
Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Но материалом для этого творения послужила биологическая природа наших человекообразных предков, унаследовавшая все темные порывы и инстинкты непреображенной твари. Можно сказать, что на протяжении всей истории самым сильным и, пожалуй, самым опасным для человека было искушение поступить наоборот — создать Бога по своему образу и подобию».
ГЛАВА ПЯТАЯ
НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Духовное взросление
Каждая новая эпоха формировала свое понимание Бога и Библии. И каждая последующая эпоха должна была корректировать прежние представления, очищая их от чисто человеческих, исторических привнесений. Этот процесс необходим для взросления человечества. Подобно отдельному человеку, весь человеческий род проходит через те же самые возрастные стадии — младенчество, юность и, наконец, зрелость. Это особенно хорошо видно на процессе познания и освоения человеком окружающего мира. По сравнению с нашим предком, орудовавшим каменным топором, современный человек, конечно же, повзрослел. Этот процесс не может не касаться и повзросления человеческого духа.
Дистанция от языческого жреца, приносящего в жертву идолам людей, до Терезы из Калькутты, оставившей благоустроенную жизнь и вышедшей на улицы огромного города подбирать умирающих в грязи людей, столь же велика, как от владельца каменного топора до биохимика, вводящего новый ген в хромосому бактерии.
Отрицать духовный прогресс человечества невозможно. Хотя, с другой стороны, число преступлений, совершаемых людьми, не уменьшается, а технический прогресс делает войну с каждым десятилетием все более ужасающей. Однако невозможно отрицать, что нравственные нормы человечества в целом все же становятся все более и более гуманными, так что даже всесильные диктаторы предпочитают скрывать свои преступления, а не похваляться ими. Всемирная организация здравоохранения все больше расширяет масштабы своей деятельности, хотя проблем остается перед ней еще очень много. Меняется отношение к бедности, болезням, культурной отсталости. Вчерашнее милосердие становится нормой сегодняшнего дня.
Для тех, кто отрицает духовный прогресс человечества, можно напомнить, что ведь и Иисус Христос пришел не сразу после Авраама или Моисея, а лишь тогда, когда народ Израильский и другие народы были способны воспринять Евангелие. В наше время много говорят об упадке веры. Однако в качестве несомненно положительных признаков можно указать на то, что сейчас среди христиан нет ни религиозных войн (во всяком случае, в больших масштабах), ни инквизиции. И хотя, безусловно, найдется еще немало фанатиков, которые могли бы учинить и то, и другое, но их время, к счастью, уже прошло.
Люди, которых можно назвать святыми XX века, — такие, как Максимилиан Кольбе, Тереза из Калькутты, Мартин Лютер Кинг, мать Мария (Скобцева), — принадлежат к разным христианским исповеданиям (соответственно: католик, протестант, православная), но их объединяет самое главное: они не проливали ничьей крови, а сами жертвовали жизнью ради своих ближних и дальних. Их целью было не отстаивание любыми средствами догматов веры или того или иного способа перекреститься, а стремление соединить всех людей любовью, которую в них породил Христос, независимо от вероисповедания, национальности, цвета кожи и т. п. Эти люди являются для нас провозвестниками нового христианства — не православного, католического или протестантского, но подлинно вселенского христианства. Христианства, так сказать, с «человеческим лицом».
Развитие разных народов, как известно, идет неравномерно. Одни живут, окруженные роботами и компьютерами, другие еще находятся в каменном веке (некоторые племена в Бразилии и Австралии). Точно так же неравномерно происходит и развитие христианских Церквей. Для членов одних Церквей принадлежность человека к той или иной (конфессии практически уже не имеет никакого значения, важно только, чтобы он в жизни своей искал Христа и по–настоящему жил с Ним в сердце. В других Церквах, пожалуй, и руки не подадут тем, кто не принадлежит к их исповеданию или даже именно к их Церкви. Чем более консервативна та или иная Церковь, тем больше в ней духовных черт прошлого, тем дальше отстоит она в своем духовном возрасте от XX века, в котором она живет. И тем труднее ей стать для своих соотечественников устами Христа, проповедующими Евангелие, поскольку в Ее культе, вероучении, во всей Ее жизни много такого, что человек XX века может воспринять, лишь отступив назад, в психологические и духовные установки прошлых веков. Это отступление, при всей его кажущейся надежности и патриотичности, на деле оборачивается духовным инфантилизмом, становится тормозом на пути к Христу, так как много сил и энергии уходит на внутреннее оправдание и удерживание вещей в значительной степени второстепенных по сравнению с самым главным, что нам открывается в Иисусе Христе и в Его Евангелии.
Ганс Кюнг (которого я уже цитировал выше) называл Русскую Православную Церковь самой консервативной из христианских Церквей. Может быть, он несколько преувеличил, так как Русская Зарубежная Церковь еще более консервативная. Впрочем, если говорить о больших Церквах, с многомиллионной паствой, то Кюнг, пожалуй, прав. Коль скоро это так, то будет несомненно полезным остановиться на некоторых консервативных особенностях нашей церковной жизни, особенно препятствующих основной цели Церкви — проповеди Евангелия «даже до края земли».
Духовное младенчество
Быть может, самой яркой иллюстрацией неевангельских издержек иконопочитания в нашей Церкви является празднование Торжества Православия, совершаемое в первое Воскресение Великого Поста. Точнее даже не само празднование, а те проповеди, которые произносятся в этот день. Вот начало одной из них, близкое к оригиналу:
«Сегодня мы с вами отмечаем великий день — день Торжества Православия. Что такое Православие? Что является в нем самым главным? Почитание святых икон! Вот основное в нашей православной вере. Именно почитанием святых икон и ношением креста наша религия отличается от всех остальных религий!»
Далее, конечно, кратко напоминается о том, как святой евангелист Лука, будучи врачом, был еще и художником и как он писал, причем с натуры, иконы Божией Матери с младенцем Иисусом на руках, которые стали образцами для всех последующих икон. Вспоминается и предание о царе Авгаре, получившем плат с чудесно возникшим на нем изображением Христа. (Согласно преданию, посланный царем художник никак не мог написать удовлетворительно портрета, и тогда Иисус взял плат, приложил его к лицу и отдал плат художнику. К изумлению последнего, на плате осталось изображение лика Иисуса). Историческим основанием предания о плате царя Авгара был, по–видимому, изобразившийся на погребальном саване лик Иисуса, известный в настоящее время как Туринская Плащаница[2].
В таких проповедях почти ничего не говорится о Самом Иисусе, о том, что в Нем открылась людям полнота любви Божией. Нет, речь идет только об иконах, в особенности Богородичных, и о ношении нательного крестика. Причем такие проповеди произносятся не где–то в «глубинке», а в Москве, «маститыми» протоиереями.
Интересно, что в чине Торжества Православия, то есть в особом праздничном молебне, совершаемом в этот день после литургии, ни в прошениях, ни в молитве, завершающей чин, ни слова не говорится об иконах. Основная направленность молебна— прошение об умирении раздоров, расколов, о верности Слову Б о ж и ю, о взаимной любви между в с е м и христианами. Евангельский отрывок, читаемый на молебне (Мф. 18, 10—17), призывает не презирать ни одного человека, каким бы он ни казался никчемным и заблудшим, так как «нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Приводится притча о заблудившейся овце, которая, будучи найдена, доставляет хозяину больше радости, чем 99 не заблудившихся.
Пожалуй, проповеди, вроде той, о которой мы упомянули вначале, — наиболее яркий пример так называемого «предания» господствующего в нашей Церкви и не опирающегося ни на Священное Писание, ни даже на богослужебные тексты, поскольку из них никак нельзя вычитать, что самым главным в христианстве является иконопочитание и ношение нательного крестика. Эта трансформация возникла исторически и постепенно. Истоки ее, вероятно, где–то в раннем средневековье, когда государственное христианство в борьбе с язычеством стремилось привить многочисленным проявлениям языческой культуры христианское содержание. В результатев народном христианстве почитание Богоматери едва ли не вытесняет почитание Отца, Сына и Святого Духа. Из Ходатаицы и Заступницы Мария становится как бы самостоятельным Божеством. Причина здесь, по–видимому, в почти полной невозможности для человека, не знакомого со Священным Писанием и не получившего хотя бы небольшой подготовки, своими силами представить и принять такую близость Бога, которая даруется нам во Христе Иисусе. Поэтому вполне естественным выглядит стремление заменить эту близость, такую потрясающую и таинственную, такую обязывающую к столь же беспредельной ответной любви, на куда более понятную материнскую любовь Богородицы, которая при этом утрачивает значение лишь Ходатаицы и Заступницы, а становится самостоятельной ценностью, вытесняющей образ Бога, даваемый в Божественном Откровении, Библии.
При этом из любви Божией к нам вытесняется, вычеркивается ее мужественный аспект, наиболее трудно переносимый из–за содержащегося в нем призыва к ответственности, самостоятельности, взрослости. Вместо этого между нами и Богом, открывающимся в Иисусе, поставляется Богородица, по–матерински, по–женски прощающая и милующая и жалеющая, которая упросит, умолит грозных и требовательных Отца и Сына. Все это порождается естественным стремлением человека бежать от ответственности, уйти во младенчество, спрятаться в материнских руках, и никогда оттуда не выходить, никогда не становиться взрослым. Но Бог хочет от нас именно этого, именно к этому Он нас неизменно призывает — быть соработниками Ему в этом мире, быть Его устами, проповедующими Евангелие, Его руками, готовыми действенно помочь всем, кто в этом нуждается. Именно это поручает Иисус Своим ученикам (Мк. 16, 15—18).
Интересно обратить внимание на то, что в Библии есть только одно место, где любовь Бога сравнивается с любовью женщины к своему ребенку, причем именно к младенцу:
Забудет ли женщина грудное дитя свое,
Чтобы не пожалеть сына чрева своего.
Но если б она и забыла, то Я не забуду тебя.
Вот Я начертал тебя на дланях Моих;
Стены твои всегда предо Мною.
(Ис. 49: 15—16)
Когда же Иисус говорит о любви Бога к грешнику, Он приводит притчу о блудном сыне, вернувшемся к отцу, притчу, в которой, как ни странно, ничего не говорится о матери. Этим как бы подчеркивается мужественный характер любви Бога к нам, при всем Его милосердии.
Современная психология убедительно показывает, что для правильного формирования характера ребенка необходимо присутствие материнского и отцовского начал. Первое созидает в становящемся человеке душевность, мягкость. Второе развивает требовательность к самому себе во всех отношениях организованность, целеустремленность, чувство ответственности и т. п. В неполных семьях, где отсутствует отец, в том случае, если мать не обладает сильным характером с мужскими чертами, дети часто вырастают неорганизованными, бесхарактерными, слабовольными, инфантильными, но при этом и жестокими, компенсирующимися за счет тех ближних, которые не в состоянии дать отпор. Это особенно заметно на мальчиках, так как в мужском варианте все проявляется отчетливее.
Вероятно, не будет большой натяжкой усмотреть параллель между инфантилизмом детей, выросших без отцов, с инфантилизмом тех христианских народов или групп, где почитание Божией Матери (безусловно, само по себе ценное и достойное) вытеснило почитание Иисуса как нашего Искупителя от греха и смерти. В инстинктивном стремлении человеческой души вытеснить непосредственное почитание Отца, Сына и Святого Духа «промежуточной инстанцией» — особенным почитанием Богородицы (эта тенденция сильно проявляется не только в Православной, но и в Католической Церкви) — мы снова встречаемся с самым главным заблуждением человеческой души: попыткой самим создать образ Божий, вместо того образа Бога, который раскрывается нам в Библии. В библейском образе Бога мы узнаем две великие истины: (1) Ягве — Бог ревнитель и (2) Ягве — Бог милосердный. Ревность–требовательность и строгость Бога приводит Его народ и каждого отдельного человека просто на грань истребления за совершенные ими грехи. Но милосердие Божие возвращает жизнь. В этом именно смысле говорит апостол Павел о жизни христианина, который умирает со Христом, чтобы жить с Ним.
Чтобы по–настоящему идти к Богу, приходится предоставить всего себя лепить рукам Божьим, зная, что Он будет переделывать тебя, разрывая и ломая то, что сформировалось само, неправильно. Но это ведь процесс трудный и даже мучительный. Поэтому человек предпочитает моделировать Бога по собственному образу, который будет гораздо выше его самого, по Образу мечты, которую он сам осуществить не в состоянии. Но который тем не менее остается в основе своей его собственным, то есть человеческим, творением и никогда не совпадает с той вечно таинственной Реальностью, Которая и есть Сам Бог.
Будучи оторванным от Священного Писания, народное благочестие, наставляемое вместо этого обилием икон и акафистов, создает самые фантастические богословские конструкции. Например, не раз приходилось слышать, что Святая Троица — это «Иисус, Божья Матерь и Никола Угодник». Нередко Дева Мария и канонизированные Церковью святые становились просто заместителями привычных языческих божеств. А посвященные им праздники, принимая христианские формы, оставались совершенно языческими по содержанию: с пьянством, драками, переодеванием в «ряженых», с ворожбой и развратом.
При этом никакие увещевания не помогали. Со времен Кирилла Туровского (XII в.) и до наших дней батюшка не перестает уговаривать своих прихожан, например, в том, что так называемая масленица отнюдь не время разгула, а уже приготовление к Великому Посту. Пожалуй, только уже в наше время, с исчезновением старого деревенского уклада, Православие, лишившись привычных бытовых черт, все больше освобождается от вековых языческих наслоений.
Если внимательно присмотреться к тому месту, которое занимают в сознании большинства наших верующих Божья Матерь и наиболее почитаемые святые, то нельзя не увидеть некую средневековую аналогию византийского двора. На самом верху Отец и Сын — грозные, неприступные соправители. К Ним, однако, вхожа Царица Небесная — Богородица, которую можно обо всем умолить и упросить. В каких–то особых, конкретных случаях к Ним могут войти с нашими просьбами также те или иные святые — Николай, мученик Трифон, великомученик Пантелеймон и другие.
Удивительно здесь не то, что такая проекция собственного монархического сознания на таинственное бытие Божие психологически близка нашим малообразованным бабушкам. Поразительно, что даже наша интеллигенция, будучи настроена отчаянно демократически в политическом плане, придя в Православие, целиком принимает ту же самую схему. Так, в одном религиозном, еще диссидентском, сборнике как вполне соответствующая взглядам составителя приводится следующая цитата из святого Дмитрия Ростовского: «…если бы не молитвы Божией Матери, то что защитило бы нас от мстительной десницы Божией?»(!)
Здесь как–то улетучивается то самое главное, что содержится в Благой Вести, принесенной Иисусом: близость Бога к нам в Сыне Его, открывающем нам Отца:
Так возлюбил Бог мир,
Что отдал Сына Своего Единородного.
Дабы всякий верующий в Него не погиб,
Но имел жизнь вечную.
(Ис. 3: 16)
Пусть читатель не подумает, что автор здесь выступает как иконоборец или человек, не почитающий святых. Речь идет просто о том, что исторически человечество, по–видимому, проходит различные стадии духовного взросления. И то,, что в какой–то момент было средством спасения, несло в себе благословение Божие, через некоторое время становилось «петлей и сетью», как говорится в таких случаях в Библии.
Приведем лишь один пример. В 21–й главе книги Чисел рассказывается о том, как Бог поражает змеями вышедший из Египта народ Израильский за его малодушие, ропот и сожаление об оставленном Египте. И множество народа умирало, поражаемые змеями. Народ кается в своем согрешении и просит заступничества у Моисея. И тогда Бог повелевает Моисею сделать медного змея и выставить его на виду у всех — «и ужаленный, взглянув на него, останется жив».
И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
(Чис. 21: 9)
Этот странный и малопонятный библейский эпизод был вполне понятен современникам Иисуса, так что Он сам, согласно Евангелию от Иоанна, говорил, что
Как Моисей вознес змею в пустыне,
Так должно быть вознесену Сыну Человеческому,
Дабы всякий, верующий в Него,
Не погиб, но имел жизнь вечную.
(Ин. 3: 14—15)
Но обратимся к Священному Писанию и спросим: что же стало с самим медным змеем, символика которого вошла не только в Новый Завет, но и в нашу церковную православную поэзию? В 18–й главе 4–й книги Царств рассказывается, как иудейский царь Езекия, «делавший угодное в очах Господних»,
…Отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей,
потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан.
На Господа Бога Израилевого уповал он…
И прилепился он к Господу и не отступал от Него,
И соблюдал все заповеди Его, какие заповедал Господь, Моисею.
(4 Цар. 18: 4—6)
Дело, вероятно, в том, что всякое, так сказать, материальное средство, помогающее человеку выходить из беды и заблуждения, со временем как бы теряет свою силу. Меняются условия, меняются люди, а всякий внешний образ чего бы то ни было остается все тем же и может из благословения превратиться в препятствие, преграду между человеком и Богом. И только Сам Бог, как Вечная Нетварная Сущность, остается всегда вечно новым, вечно узнаваемым заново, хотя и вечно непознанным, открывающим перед каждым, кто приходит к Нему, подлинную, истинную жизнь. Лишь бы люди искали именно Его истины, а не свои проекции и не увековечивали свои временные, несовершенные представления о Нем.
Быть может, нечто подобное происходит и с иконами. Будучи в свое время удачным средством вытеснения языческих изображений, они во многих случаях стали доминировать в христианском сознании как некая самостоятельная сущность, отдельная от первообраза — Иисуса из Назарета. Именно к Его образу, чудесно запечатлившемуся на погребальном саване Христа — Плащанице, — хранившемся вначале в Едессе, затем в Константинополе и, наконец, ставшем известным под названием Туринской Плащаницы, восходят самые первые изображения — иконы. Затем эти изображения стали варьировать по тематике, появились изображения Марии и святых. Все это происходило уже спустя несколько веков после евангельских событий и утверждения первых христианских общин. Даже в проповедях Иоанна Златоуста, жившего в IV в., и в его Творениях, составляющих 12 больших томов, мы не встретим никаких восхвалений Марии, а всего лишь несколько вполне сдержанных упоминаний о Ней.
Итак, оправдано ли почитание святых и Божией Матери? Безусловно. Слишком много имеется свидетельств на протяжении всей истории Церкви и в том числе и в нашем, XX веке реальной помощи и явлений тех, кто жизнью своей удостоился от Бога благодати оказывать воздействие на земные дела не только при жизни, но и после нее, чтобы отнести все это к области человеческой фантазии. Вопрос лишь в том, чтобы христианские святыеи Дева Мария не заслоняли в нашем сознании и нашей духовной жизни Самого Совершителя нашего спасения — Иисуса Христа. Как Петр сказал о себе сотнику Корнилию: «Встань (с колен), я тоже человек!» (Деян. 10, 26).
В двух, наиболее известных явлениях Божией Матери в XX веке — Фатимском (городок Фатима в Португалии — летом 1917 года) и в Междугорье (село в Югославии — начало 80–х годов) — одно было общим. Дева Мария призывала к почитанию Своего Сына — Иисуса Христа, призывала людей к примирению, посту и молитве. Между прочим, в обоих явлениях речь особо шла о России. В Фатиме летом 1917–го было сказано о страшных бедствиях, которые ожидают ее. Такими сообщениями были наполнены все португальские и испанские газеты того времени, так что это не было «пророчеством после события». В Междугорье Дева Мария говорила о том, что перед Россией открываются возможности для покаяния: если они будут использованы, то и сама Россия, и многие страны получат великое благословение, если же нет — Россия увлечет своим бесчестием многие народы и тем обречет и себя, и их на неисчислимые страдания.
Петр Иванов в своей книге «Тайна Святых» высказал очень интересную мысль о том, что столь пышный культ Богородицы является, следствием младенческого состояния Церкви. Ранняя первохристианская Церковь была взрослее, мужественнее. С приходом огромных масс язычников, не прошедших, подобно иудеям, многовековой монотеистической школы Ветхого Завета, Церковь христианская — этот Новый Израиль — как бы возвращается ко времени странствования народа Израильского в пустыне. История откровения уже ушла далеко вперед, а души языческих народов все еще находились и в значительной мере находятся в XV в. до н. э. Этот болезненный разрыв, эта дистанция не преодолевается сразу. Младенческое сознание во многом и еще долго будет давать себя знать, и здесь важно уметь видеть и различать эти младенческие симптомы, а не гордиться ими, ошибочно почитая их за наиболее полную и адекватную реализацию христианства.
Возможное решение
Совершенно неожиданно для себя самое здоровое и вместе с тем самое коротко сформулированное отношение к проблеме иконопочитания я встретил в уже упомянутом чине Торжества Православия, изданном в царствование Александра III. О времени издания свидетельствовал текст многолетия, в котором «благоденственное и мирное житие» испрашивалось прежде всего для «самодержавнейшего императора Александра Александровича и его наследника Николая Александровича» (будущего Николая II). В этом чине, точнее, в последней его части провозглашаются анафемы на сомневающихся в Божестве Господа нашего Иисуса Христа. Здесь же анафемы на сомневающихся в том, что императору от самого Бога дается помазание и особая благодать на царствование Россией. И в одном из последних анафемствований речь идет об иконах: «…отвергающимся, святых икон, предназначенных для в о с п о м и н а н и я о жизни Господа нашего Иисуса Христа нечестных угодников Его и через то ко б л а г о ч е с т и ю верных наставляющих, и вместо этого глаголящим им «яко идолам быти» — анафема».
Ясно и определенно говорится о том, что иконы представляют собой напоминания о священных событиях, имеющие в виду побудить нас к большему благочестию. Здесь нет никакой глубокой и таинственной философии, приписываемой иконам отцом Павлом Флоренским и столь восторженно подхватываемой нашими неофитами и ортодоксами из интеллигенции. Иконе отводится то место, которое и должно быть: когда наш взгляд бездумно скользит по сводам храма или по собственной комнате, икона напоминает нам о вечном и везде присутствующем Божественном измерении нашего, бытия, заполняя этим напоминанием неизбежную в противном случае пустоту стен и наших хаотично возникающих мыслей. Я бы даже дерзнул сказать, что икона напоминает нам о Боге именно тогда, когда мы не молимся. И она же может (конечно, совершенно необязательно) стать препятствием, рассеивающим моментом во время самой молитвы. Самые глубокие молитвы произносятся с закрытыми глазами. Ибо только так можно помочь нашему постоянно рассеивающемуся духу обратиться к невидимому, неизреченному Богу.
В этом анафемствовании, наряду с утверждением столь здравого отношения к иконам, содержится и отвержение нездорового отрицания их теми, кто называет иконы идолами. Такое воинственное отношение часто можно встретить у наших ортодоксальных протестантов — баптистов, адвентистов, пятидесятников. И хотя православная практика, быть может, и дает основания для такой реакции, справедливость требует признать, что в теории Православная Церковь всегда призывала поклоняться не самому веществу икон («доскам и краскам»), а лишь образам, передаваемым ими.
Есть в Москве такое место, где по одной и той же трамвайной линии едут в церковь или из церкви православные, а в молитвенный дом или из него — баптисты. Те и другие — старушки. Баптистские вроде немножко как–то почище — больше белых платочков и лица такие неприступно праведные. Нередко между ними вспыхивает обмен мнениями по поводу предпочитаемых конфессий. Баптистки, как правило, начинают первыми: «Вы разве Богу молитесь? У вас там только доски и краски. Вот у нас — Живой Бог!». Православные не уступают: «Да какая там у вас вера? Ни икон, ни Божией Матери нет! Грех один!». Этим аргументы исчерпываются, и каждая из сторон остается вполне довольной собой в полной уверенности, что другой уготовано хорошенькое местечко в аду.
И хотя действительно самым ярким внешним признаком Православия является обилие икон и их особое почитание, баптисты, обличающие православных в идолопоклонстве, оказываются в положении той старушки, которая принесла часовому мастеру маятник от сломавшихся ходиков с просьбой починить часы. Крайности иконопочитания всего лишь симптом, причем свойственный далеко не всем православным. Как мне кажется, следует не обрушиваться на симптомы, а постараться понять те причины, которыми они вызываются.
Абсолютная уверенность в том, что только «нашей» Церкви, только «нашему» исповеданию принадлежит монополия на обладание истиной, — это тоже наследие минувших веков, когда люди, называвшие себя христианами, шли войной на тех, кто не так крестился, или молился на другом языке, или считал главой Церкви не Римского папу, а Константинопольского патриарха. Всегда можно было найти предостаточно причин для религиозных войн с тем, чтобы язычники, именовавшие себя христианами, могли успешно истреблять неугодные группы, классы, а иногда и целые народы.
Наконец к XX веку перед угрозой все нарастающего атеизма многие из христиан стали понимать, что полнота истины не может быть достигнута без полноты Церкви, а последняя, в свою очередь, невозможна, если люди, утверждающие, что они христиане, то есть принадлежат Иисусу Христу, являются Его учениками, будут не только разрозненны, но нередко и враждебны друг другу.
Исторический смысл разделения Церквей и возникновения различных христианских исповеданий в том–то, по–видимому, и состоит, что ни одна из Церквей в силу человеческого несовершенства не в состоянии охватить всю полноту того, что открыл нам Бог в Иисусе. Каждая из исторических Церквей постигает лишь какие–то части, грани всей Церкви.
Одни Церкви в большей мере, другие в меньшей. Но ни одна, даже самая малая, конфессия не является бесплодной в этом всеобщем поиске полноты истины. И лишь тогда Церковь достигнет полноты, когда станет возможным соединить все, что удалось достичь, когда станет возможным все духовные находки и открытия, добытые в истории каждой Церкви, сделать достижением всех Церквей, о чем мы и молимся за каждой литургией.
Не насильственная унификация всех христианских исповеданий по какому–либо единому образцу — как часто представляют себе соединение Церквей многие православные, —а братское любовное соучастие в том, что было приобретено в каждом исповедании. При сохранении, разумеется, местных исповедных и других особенностей. Впрочем, это дело отдаленного будущего. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы мы подумали о словах:
…ты говоришь:
«я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок и слеп, и нищ и наг.
(Откр. 3: 17)
Эти слова могут относиться к л ю б о м у исповеданию расколотой на множество частей Церкви Христианской, если только те, кто придерживается его, уверены, будто именно они все имеют и им нечему поучиться у христиан других исповеданий. Только взаимная открытость, диалог, доброжелательность, терпимость и готовность воспринимать все то, что может .приблизить нас ко Христу, будет содействовать подлинной полноте Церкви. Противоположные устремления превратят ее лишь в собрание враждующих между собой политических партий, потому что люди неизбежно будут думать «не о том, что Божие, а о том, что человеческое».
Дети в Церкви
«Бабушка, я хочу гулять! Гуля–а–а–ть! Я буду слушаться! Бабушка–а!» Такие крики можно довольно часто слышать в храме в конце литургии. Это особо усердные бабушки, нередко тайком от родителей под видом «погулять» приводят своих внучат в церковь для причастия. Когда спрашиваешь: «А родители сами–то в церковь ходят?» — ответ, как правило: «Да какой там! Насилу согласились, чтобы я сводила!» Естественно, ребенок трех–пяти лет, которому дома ничего о вере не говорили и которого и в церковь–то принесли, быть может, первый или второй раз после крещения, в непривычной обстановке пугается. А тут еще бородатый дядя с ложечкой говорит, чтобы рот открыл. Ребенок, естественно, начинает отказываться, плакать, умолять, чтобы поскорее уйти отсюда.
Но не тут–то было. Не затем бабушка встала с утра пораньше и тащила в транспорте капризничающего малыша, стараясь не опоздать. Да надо еще проследить, чтобы сердобольные родители, не дай Бог, не сунули чего–нибудь ребенку поесть или не дали бы «попить водички», а то иной батюшка ни за что не причастит. Словом, малыша скручивают (стоящие рядом бабули всегда с удовольствием помогут) и, несмотря на отчаянное сопротивление, батюшка, разжимая лжицей его зубки, все же причастит его. Крик при этом стоит невообразимый — зрелище вообще не из приятных. Но все остаются чрезвычайно довольны его исходом — причастили! Кроме, пожалуй, самого младенца, впрочем, его–то об этом как раз и не спрашивают. Все примирительно говорят — ну, он еще маленький, не понимает!
А если не понимает, то, может быть, все это и не нужно? И потом — чего он не понимает? И что понимают в происходящем сами участники такого причащения младенца? Как они связывают эту сцену с только что произнесенными словами молитвы перед святым причащением:
Со страхом Божиим и верою приступите!
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, сын Бога живого, пришедый в мир грешных спасти…
Или это один из примеров разорванного, мозаичного сознания, в большей или меньшей мере свойственного всем людям, когда части мировосприятия не подогнаны друг ко другу в четкий рисунок, а остаются разрозненными, образуя довольно туманные очертания.
Ясно, что причастие здесь выступает в виде особого рода лекарства, которое, будучи всеми правдами и неправдами помещено в рот младенцу, произведет необходимое действие — послужит улучшению его здоровья и вообще низведет благодать и благоволение Божие. То есть налицо чисто механическое или, иначе говоря, магическое отношение к Святым Дарам. Ведь одна из главных особенностей всех магических действий именно и состоит в их механически–принудительном характере: лишь бы все необходимые тексты были вычитаны, а все необходимые действия правильно совершены. Здесь ни от кого не требуется глубокой веры, достаточно того, что человек прибегает к магическому действию.
Очевидно, в таких случаях совершенно забывают о том, что, собственно, происходит за литургией. Между тем литургия есть воспоминание последней трапезы Иисуса со Своими учениками, на которой главное внимание было обращено не на пасхального ягненка, особым образом приготовленного в воспоминание исхода из Египта, а на самые простые вещи — хлеб и вино.
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
Приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все;
Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
(Мф. 26: 26–28)
…сие творите в Мое воспоминание.
(Лк. 22: 19)
Иисус завещал, чтобы Его ученики в воспоминание о Нем повторяли эту трапезу — преломляли хлеб и пили вино из общей чаши, вспоминали Его наставления, совершенные Им исцеления, а главное — вспоминали Его Самого, Сына Человеческого, в Котором Бог так поразительно пришел к нам, людям. С этого момента стало излишним принесение в жертву животных. То был древний ритуал трапезы с Богом: часть жертвенного животного сжигалась на огне, то есть как бы отдавалась Богу, другая часть съедалась за священной трапезой участниками жертвоприношения. Кровью жертвы окроплялся жертвенник — место невидимого присутствия Бога среди людей — и народ, приносивший Жертву. Люди и Бог становились близкими друг другу, единокровными родственниками, а жертва становилась совместной трапезой Бога и людей, праздновавших это вхождение в близость с Владыкой неба и земли.
Отныне все это уже лишнее. Бог заключает с людьми Новый Завет. Не мы, люди, приносим нечто Богу — да и что мы можем принести Тому, Кто все создал? — а Бог через Иисуса говорит нам о хлебе и вине, что с и е есть Тело Его и сие есть Кровь Его. Он Сам избирает э т о как самую лучшую жертву из наших рук, которой усвояется быть Его Телом и Его Кровью. И смысловое ударение здесь не на словах «тело» и «кровь» в их привычном для нас земном буквальном смысле, а на слове «сие» — «это». Этот хлеб и это вино, которые мы поставляем на престол, Бог избирает как Свое Тело и Свою Кровь. Буквальное понимание, вероятно, пришло позже, когда христианство совершенно отделилось от иудаизма. Очевидно, что ранняя Церковь понимала эти слова не так, как мы силимся их понимать, поскольку н и г д ев Новом Завете не обсуждается вопрос, как увязать эти слова с запретом вкушения какой–либо крови, поскольку в ней душа животного, принадлежащая Богу {Лев. 17, 11, 14; Втор. 12, 23). Такая дискуссия была бы неизбежна в случае буквального понимания. Напротив, подчеркивается, чтобы христиане из язычников воздерживались от вкушения крови (Деян. 15, 20).
Итак, Бог дает нам самую простую и в тоже время самую возвышенную форму жертвоприношения Ему: вкушение хлеба и вина, освященных молитвой, в память об Иисусе, становится и праздничной трапезой с Богом, и воспоминанием об установлении кровного родства людей со своим Создателем и друг с другом.
А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою… …итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу…
(Еф. 2: 13, 19)
Для чуда соединения людей со Христом и друг с другом главным становится вера в слова Иисуса, доверие к ним: «Верую, Господи, и исповедую…» Без этого ничего не произойдет:
И не совершил там многих чудес по неверию их.
(Мф. 13: 58)
Помню, в одном приходе была не старая еще женщина, регулярно водившая внучку в храм и довольно часто ее причащавшая (не реже раза в месяц). Когда я спрашивал ее о семейных делах, она постоянно сокрушалась: «Вот все ругаюсь на них,. —никак не хотят в церковь идти! Вот я ругаюсь, ругаюсь!» — «Ну уж ругаться–то не стоит, — успокаивал я ее, — наоборот, следует показать себя более терпеливой, помогать молодым, это скорее расположит их к вере, чем упреки». — «Верно, — соглашалась она, — да вот никак не могу удержаться. Спасибо еще, что внучку дают причащать. И то. уже стала упираться — не пойду да не пойду! Я уж ее уговариваю — вот причастишься, Божия Матерь тебе конфеточек даст! Вот только так и справляюсь». Никаких других аргументов для ребенка в пользу причащения у этой ревностной женщины не было. Не было здесь ни наставления девочку в вере, ни чего–либо другого, что помогло бы ребенку понять, что происходит в церкви и ради чего люди туда все–таки ходят. Лет через пять девочка стала ходить с бабушкой все реже и реже, а сейчас ее не видно вообще. Теперь бабушка водит другого внука — младшего братишку подросшей девочки. Не думаю, чтобы результат здесь оказался бы иным, так как случай, подобный рассказанному, далеко не единственный. Ходят внучата с бабушкой лет до 13, а потом начинают жить теми же интересами, что и их сверстники, никогда в храме не бывшие. Само причастие без наставления в вере, без собственной веры, очевидно, «не работает».
Справедливости ради следует заметить, что наставление детей в отношении подлинного смысла причащения, особенно в его традиционном варианте, дело чрезвычайно трудное, если вообще не невозможное. В самом деле, ведь язык не повернется сказать 5–или даже 10–летнему ребенку, что он будет есть настоящее тело и пить настоящую !кровь распятого Иисуса. А что говорить вместо этого? Вот и рождаются на ходу эвфемизмы: «Ну, открой ротик, дяденька тебе н'аку даст!» Или «Ну, покушай лекарствочка, оно сладенькое!» Или «Ну, попей сладенькой водички!» и т. п. и т. д.
Вообще положение детей в храме больше всего напоминает их положение в компании взрослых где–нибудь в гостях. Хорошо, если ребенок еще достаточно спокойный и сдержанный. В противном случае он всем мешает, каждый невольно думает, что было бы лучше, если бы его и не приводили, а ему самому безумно скучно, жарко и вообще невыносимо долго. Просто удивительно, что за тысячу лет Православия на Руси не возникло никаких особых форм служения, рассчитанных на детей. Баптизм, например, насчитывает в России всего лишь сто лет, а между тем там давно имеются специальные молодежные и детские служения, не говоря уже о том, что принятию крещения предшествует несколько месяцев обучения основам веры. И дело здесь опять же не в том, что наша Церковь была «не свободна». Баптисты находились у нас в точно в таких же условиях. А в Православии и до революции точно так же не было никаких специальных детских служений. Даже в Американской Православной Церкви, где, казалось бы, никаких препятствий для нововведений (кроме внутрицерковных) не существует, один из энтузиастов воспитания детей в православной вере в целях облегчения участия их в богослужениях всего–навсего предлагает мальчикам петь запричастны, а девочкам поправлять свечи во время службы (!). По воспоминаниям моих собственных детей, последнее — прекрасное средство для того, чтобы скоротать время, но никак не для того, чтобы молиться.
Или вот другое воспоминание из церковной жизни русских православных за рубежом (во Франции). Летом устраивались русские христианские лагеря для детей. Помимо всего, что обычно проводится в детских лагерях, там были еще обязательные воскресные литургии в специальной большой палатке, где был установлен иконостас, переносной алтарь и прочее, необходимое для службы. Нередко в жаркие дни в палатке была такая духота, что некоторые дети не выдерживали и падали в обморок. Их, естественно, выносили на свежий воздух. Оставшиеся ребята покрепче с завистью смотрели на своих уже «отмучившихся» товарищей. Что мешало устроителям лагеря отступить от сложившегося веками ритуала и поискать какую–то другую форму совместной молитвы для детей?
Одной из форм таких детских служений могли бы стать небольшие инсценировки на евангельские или церковно–исторические темы с непременным участием самих детей. Опыт таких инсценировок, проводившихся по домам еще в 70–х годах в среде московской верующей интеллигенции, совершенно замечателен. Тексты были краткими, простыми — большей частью песни. Слова и музыка сочинялись взрослыми. Впрочем, слова некоторых песен сочинили даже сами дети. И исполнителями были дети. В простых, проникновенных словах передавалась не только суть вспоминаемого события, но содержалась и определенная духовная ориентация: в мире немало зла и неправды, но Бог силен победить все это, и свет, зажегшийся некогда в Вифлееме, спустя века продолжает светить миллионам верующих в Иисуса. Инсценировка заканчивалась пением тропаря ближайшего праздника и вызывала большое воодушевление у детей. Сейчас многие из них стали уж взрослыми, но слова и мелодии до сих пор живы в сознании, напоминая о ярком духовном событии детства. Такого рода инсценировки могли бы соединяться со свободной молитвой как взрослых, так и самих детей. Разнообразие форм, тем, при неизменно высокой требовательности к качеству, могло бы стать замечательным средством духовного возрастания детей в верующих семьях, облегчило бы для них со временем сознательное участие во «взрослых» 175 богослужениях.
Где и когда проводить такого рода детские служения — определяется не конкретными условиями. Важно самое главное — осознание того, что такие служения так же необходимы для детей, как детские книги, спектакли, фильмы, радио–передачи, оперы, песни и т. п. Лишите наших детей всего этого в сфере светской культуры. Оставьте лишь то, что предназначено для взрослых. Сама мысль об этом кажется дикой и нелепой. Но, как ни странно, положение, очевидно нелепое в сфере светской, веками сохраняется в сфере церковной.
Начиная с 1900 года в религиозном воспитании детей также стало многое меняться. В некоторых храмах Москвы и в других городах стали работать воскресные школы. Желающих водить детей по воскресеньям на занятия по Закону Божьему в каждом приходе нашлось предостаточно. Занятия эти включали в себя не только изучение Священной Истории Ветхого и Нового Заветов, но также знакомство с богослужением, пение, рисование, беседы на нравственные темы и многое другое, что можно было придумать при наших пока скромных возможностях. Отрадно, что во всем этом принимали участие и миряне — прихожане данного храма. Сейчас главное — расширение наших возможностей. Везде трудности с помещениями, нехватка священников, способных проводить эти занятия, почти полное отсутствие необходимых пособий: учебников, диафильмов, слайдов и другого иллюстративного материала. Тем не менее «учебный год» завершился неплохо. Во многих школах в конце мая прошли праздничные вечера, детям приготовили подарки. Словом, опыт первого года таких школ показал, что дело это чрезвычайно нужное и важное. Именно такого рода работа из людей, просто посещающих регулярно тот или иной храм, способна создать приход — общину верующих православных христиан, которые будут жить общими задачами, проблемами, помогать друг другу в нашем общем пути за Христом.
Все в целом вселяет надежду на то, что при сохранении стабильного политического, общественного и внутрицерковного климата через несколько лет мы в нашей Церкви будем иметь новое поколение христиан, способных еще шире и глубже нести в народ веру Христову.
Богослужебный язык
«Братие, святяй и освящаемии от единого вси: еяже ради вины не стыдится братию нарицати их глаголя: Возвещу имя твое братии моей, посреде церкви воспою тя. И паки: аз буду надеяся нань. И паки: се аз и дети, яже ми дал есть Бог. Понеже убо дети приобщишася плоти и крови и той приискренне приобщися тех же, да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола…»
Лет двадцать назад во время спора о том, понятен или нет для верующих церковно–славянский язык, я предложил своей собеседнице, известной писательнице с блестящим филологическим образованием, отстаивающей традиционную точку зрения, сказать в двух словах, о чем идет речь в приведенном отрывке. Я прочел его наизусть, поскольку это апостольское чтение :на водосвятном молебне, которое читается в храме ежедневно. Потом, по ее просьбе, дал и сам текст, который моя собеседница много раз старательно читала и перечитывала, пытаясь понять. Часа через два она сдалась, согласившись со мной, что непонимание многих мест богослужения проистекает «е только из–за плохого чтения–или пения, но и из–за самого языка. Заметьте, текст остался непонятным при многократном п р о ч т е н и и человеком высокой филологической культуры, крещенным в детстве и вообще нередко посещавшим храм. (Это была Надежда Яковлевна Мандельштам). Что же говорить о церковных бабушках? Спросите тех, кто каждый день ходит в храм, поет на клиросе, словом, слышит этот отрывок ежедневно, спросите любую из них, о чем здесь говорится. С абсолютной уверенностью можно сказать, что никто на этот вопрос не ответит. Более того, спросите любого батюшку или даже чтеца, читающего этот текст, о чем здесь речь. Ответа не получите. А ведь это Слово Божие, читаемое при благоговейном молчании всего храма, причем ежедневно!..
Характерно еще и другое: никто даже не полюбопытствует, о чем же здесь все–таки речь. А ведь для этого достаточно просто взять русский текст Нового Завета и прочесть Послание к Евреям святого апостола Павла, вторую главу, стихи 12—18. Но это как–то никому не интересно. Ведь читаем за службой: «братие… освящаемии… от семени Авраамова… может и искушаемым помощи…» — чего же больше? Такое приблизительное, примерное, а часто просто неверное понимание не ощущается как явно недостаточное. Очень глубокая мысль, содержащаяся в этом отрывке из Послания апостола Павла к. Евреям, о человеческой природе Христа, о Его соприродности нам, людям, благодаря которой для нас открывается путь к Богу, — эта мысль остается просто неуслышанной.
Все сказанное относится не только к указанному отрывку, но практически ко всем апостольским и ветхозаветным чтениям, очень важное содержание которых таким образом проходит мимо сознания молящихся. Как шутил один мой знакомый, из апостольского чтения ему было понятно всегда только первое слово: «Братие!..» Шутка грустная, но, увы, справедливая. Ведь если вдуматься, то просто не по себе становится — откуда в христианской Церкви такое пренебрежение к Слову Божьему, которое низводится буквально до уровня некоего обязательного заклинания, терпеливо и даже благоговейно, но без всякого понимания выслушиваемого верующими. Как еще иначе можно назвать чтение так называемых паримий, то есть отрывков из Ветхого Завета, читаемых в большие праздники на всенощной. Столь важная вещь, как ветхозаветные события, пророчества, имеющие целью подчеркнуть в праздничный день единство Божественного замысла и действия в Ветхом и Новом Заветах, остаются на уровне торжественного, но совершенно непонятного чтения, которое лишь растягивает время богослужения, да еще придает специфическую торжественность своей непонятностью. Но ведь Слово Божие всегда имело целью наставить людей, открывать им Бога, а не поражать их воображение совершенно непонятными словами.
Здесь может иметь место и еще одно отрицательное следствие постоянного употребления малопонятного языка, а именно — привычка ,к приблизительному мышлению. Что–то понял, а что именно — объяснить трудно. А иногда оказывается, что понял совсем даже и неправильно. Эта привычка приблизительного 'мышления формирует и определенный тип характера. Русская душевность своим истоком, быть может,, имеет именно такой, в значительной мере душевный, характер нашего богослужения. Когда происходит что–то очень красивое, но не очень понятное. Впрочем, к пониманию никто не призывает и не обязывает. Так идет изо дня в день, из год в год, из века в век. Формируется народный характер, чувствующий и любящий красивое, но не приученный к точному пониманию и выражению происходящего — чтений из Священного Писания, наставлений священника, молитв и песнопений. Это могло переноситься и на обыденную жизнь. Не здесь ли формировался характер русского человека как не расположенного к точному продумыванию и додумыванию происходящею, точному выражению своих мыслей и желаний. Последнее, по наблюдениям специалистов, способствует импульсивному, взрывному поведению, поскольку человек не имеет адекватного способа выражения своих чувств и мыслей в сложных ситуациях.
Все это имеет принципиальное значение. То, что Бог, открывает Себя в Библии в той мере, в какой человек может и должен о Нем знать, — оставаясь безусловно трансцендентным тварному миру, — в свою очередь раскрывает творческие силы человеческого разума. Бесконечно глубокому, но познаваемому смыслу Библии в жизни соответствует познаваемость бесконечно таинственного окружающего мира, который, как и Библия, перестает быть (неразрешимой загадкой, шифровкой, а становится даром Божиим, предназначенным для того, .чтобы человек пользовался им для своего блага Христианство есть религия личности Иисуса Христа, а не книги. Книга, Библия, раскрывает нам то, что хочет сказать о Себе Бог. Но Бог делает это через людей. Поэтому каждая страница Библии неизбежно содержит как божественный, так и человеческий элемент. Бог был Автором этой книги не в том смысле, что Он диктовав ее, а в том, что Он вдохновлял людей писать ее. Люди, которых Бог избирал в качестве «инструментов», действовали не как автоматы, а как живые личности. Поэтому в том, что они писали, неизбежно находят свое отражение их личные свойства, уровень культуры и знаний того времени, в котором они жили.
Христиане призваны не только слушать или читать Библию, а глубоко изучать ее: «Исследуйте писания», — говорит нам Иисус, — они свидетельствуют обо Мне!» Можно с уверенностью сказать, что именно наличие Библии как книги, которую человек призван изучать и исследовать, ориентировало европейцев на изучение и исследование окружающего мира, что в свою очередь привело к созданию современной научно–технической цивилизации. Последняя, несмотря на многочисленные нарекания, есть несомненное благо для человечества, так как только благодаря ей миллионы людей могут вести образ жизни, достойный человека, то есть иметь достаточно досуга для максимальной реализации себя как личности.
В противоположность христианству ислам, например, есть религия именно книги — Корина, в котором каждое слово воспринимается как продиктованное непосредственно Всевышним. Это «закрытый» для какого–либо исследования текст.
Говоря о церковно–славянском и русском языках, уместно упомянуть об одном из энтузиастов перевода Священного Писания на русский язык — архимандрите Макарии Глухареве (1792—1847). Он был монахом Глинской пустыни. Когда в России была организована миссия для христианизации народов Алтая, отец Макарий одним из первых вызвался работать в качестве миссионера. В труднейших условиях проповедовал он христианство среди местного языческого населения этих далеких краев. Перевел на местный язык Евангелия и важнейшие богослужебные тексты. Но, помимо этого, у отца Макария было еще одно заветное дело жизни. Везде возил он с собой Библию на древнееврейском языке, словари и еще несколько необходимых книг, постоянно работая над переводом Ветхого Завета на русский язык.
В 1844 г. отец Макарий оставил миссионерское служение и был назначен настоятелем Болховского Троицкого монастыря. В этой должности он вскоре скончался. Когда тело отца Макария надо было положить в гроб, то у него не нашлось другой простыни, кроме узенькой и короткой, на которой он лежал. Одели его в старое поношенное облачение, потому что лучшего у него не было.
Русский перевод Библии — плод его удивительного и настойчивого, несмотря на все препятствия и огорчения, труда — был напечатан лишь спустя 12 лет после его смерти в «Православном обозрении» за I860—1867 гг. При издании Св. Синодом Библии на русском языке этот перевод послужил одним из главных пособий.
При жизни отцу Макарию пришлось пережить немало горьких разочарований из–за предубеждения против русского перевода Библии, которое воцарилось в правительственных и высших церковных кругах с приходом Николая I. Перевод Священного Писания на русский разговорный язык рассматривался как недопустимая его профанация. Епископат не остановился даже перед совершением небывалого в истории аутодафе. Весь тираж русского перевода Пятикнижия — результат работы «Российского Библейского общества» в период с 1822 по 1825 г., — напечатанный в 1825 г. (несколько тысяч экземпляров), был арестован и сожжен на кирпичных заводах близ Петербурга.
Позже сам отец Макарий был едва не лишен сана за свою деятельность по переводу Библии на русский язык. Его спасли лишь исключительные миссионерские заслуги: лишение сана был заменено шестинедельной епитимией:
Будет полезно привести некоторые места из его обширной переписки с духовным и светским начальством. Особенно эти цитаты важны потому, что рассеивают заблуждение, будто раньше церковно–славянский язык был всем понятен.
Письмо из Бийска от 8 июня 1836 г. обер–прокурору Св. Синода Нечаеву с просьбой доложить государю (выдержки):«Не поставляет ли препятствия для миллионов между россиянами к Божественному врачеству буква славянская. Не надлежит ли нам быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа?»
«Славянское наречие сделалось у нас не только мертвым, но и для большей части (народа невразумительным».
«Дух Святый, сошедший на божественных учеников и апостолов, не освятил ли все наречия человеков?»
Из прошения Государю в 1837 г.«Ныне славянский язык сделался у нас мертвым; на нем никто не говорит у нас и не пишет; число людей, разумеющих его в Священном Писании, мало перед миллионами неразумеющих, частью мало разумеющих, среди которых большое количество служителей Церкви» (разрядка моя. — А. Б.).
Понятно, что с тех пор положение могло измениться только к худшему. Даже для священнослужителей, большинство из которых и Евангелия, кроме как за службой, не читают, многие места остаются не просто непонятными, но понятыми прямо наоборот. Приведу пример, свидетелем которого был сам.
В одно из воскресений читалось Евангелие от Луки (8,5—15), где есть такие слова:
А упадшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись.
На церковно–славянском языке этот отрывок звучит так:
Потом же приходит диавол и внемлет слово от сердца их, да неверовавше спасутся.
И вот батюшка, говоря проповедь после литургии, так и говорил (да еще несколько раз повторил), держа в руках Евангелие на церковно–славянском и «разъясняя» его по–русски, что вот–де «эти люди не будут веровать, но спасутся» (!). Вскоре, поняв, что он говорит что–то не то, батюшка пустился в длительные и запутанные рассуждения, что это, дескать, диавол так обманывает, на самом же деле без веры спастись нельзя и т. п.
Дело здесь просто в том, что в греческом (а церковнославянский текст — калька с греческого), как и в некоторых других языках, отрицание, стоящее перед двумя глаголами, относится к обоим, а не повторяется перед каждым из них как в русском.
Или вот другое место, которое легко может быть понято в смысле, противоположном оригиналу:
Слово «вина» в церковно–славянском языке означает «причина».
Есть замечательно мелодичное содержательное постовое песнопение: «Да исправится молитва моя…» Там в числе прочих есть весьма назидательныехлова:
Не уклони сердце мое в словеса лукавствия: непщевати вины о гресех…
Несмотря на то, что все это поется несколько раз и с большим чувством, никто не ответит вам на вопрос, что значит «непщевати вины о гресех». Или скажут, как сказал один батюшка: «Я вообще–то знал, но забыл». Хорошо еще если так, а не выдумывают того, чего нет. Для неискушенного читателя поясню: слова эти переводятся как «искать оправдания грехам».
Число подобных примеров и несуразностей можно умножать до бесконечности. Ясно одно — дело здесь не в апелляции к разуму, а в психологических особенностях человека. Непонятность языка (не абсолютная, конечно) легче создает настроение торжественности, таинственности. Отец Сергий Желудков справедливо писал: «Сколько несуразностей богослужебных текстов скрывается за священной непонятностью богослужебного языка». Однако привычность ритуала, звучания молитвословий так важны, что малейшее изменение здесь уже кажется ниспровержением основ веры. Мне, например, рассказывали про священника, настолько решительного противника малейшей русификации богослужебного языка, что он готов был даже уйти в подполье, если только введут русский язык вместо церковно–славянского.
Впрочем, люди очень быстро привыкают к здравым нововведениям. Например, в Ленинградской епархии, где при митрополите Никодиме много лет читали Апостол и Евангелие за богослужением по–русски, возврат к традиционному чтению вызвал недовольство. Даже посыпались жалобы, что вот–де «раньше» все было понятно, а теперь — нет.
В Православном Катехизисе, изданном Св. Синодом в 1902 г., мне довелось читать самому, что среди прочих «грехов» Католической Церкви есть и такой: богослужение в ней ведется на непонятном языке, а именно — латинском. При этом даже давалась ссылка на Священное Писание, обличающая подобное положение, которое, таким образом, можно считать не иначе как еретическим:
Но в церкови хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
(I Кор. 14: 19)
Однако Католическая Церковь уже в 1964 г. на II Ватиканском Соборе разрешила и даже рекомендовала богослужение на тех языках, на которых говорят в данной местности. Так что выдвинутое против нее обвинение, скорее, может быть в наши дни отнесено к нашей Православной Церкви.
Кроме уже сказанного есть еще одна сфера жизни нашей Церкви, где упорная приверженность к церковно–славянскому языку также создает излишние трудности и не приводит к сколько–нибудь заметным положительным результатам. Речь идет о подготовке будущих священнослужителей в Духовных Семинариях и Академиях.
Дело в том, что при изучении таких предметов, как Катехизис, Догматическое богословие и некоторых других, предусмотрено заучивание наизусть довольно значительного количества цитат из Священного Писания. Это необходимо потому, что каждое богословское положение этих предметов должно опираться либо на текст Священного Писания, либо на решение Вселенского Собора. Еженедельно бывает по два занятия, и на каждом «задают» по три–четыре цитаты из Священного Писания, которые следует заучить к следующему разу, причем на церковно–славянском языке. Можно быть как угодно хорошо философски и богословски образованным, но если не знать наизусть всех заданных текстов, причем именно на церковно–славянском языке, то нельзя рассчитывать даже на «тройку». Практически три четверти времени и сил при обучении в тех классах, где проходят эти предметы, уходит на зазубривание цитат, часто довольно значительных по объему.
Вообще говоря, выучивание наизусть наиболее существенных в вероучительном отношении текстов из Священного Писания — вещь чрезвычайно полезная и нужная. Эти знания могли бы быть использованы в проповедях, в беседах с людьми, наконец, как материал для собственных молитв и размышлений. Но беда вся в том, что в проповедях использовать эти тексты невозможно, так как большинство из них нуждается в переводе на русский, чтобы быть понятными для слушателей. Говорить наизусть длинную цитату на церковно–славянском, а затем переводить ее на русский — громоздко, да и невозможно, непременно где–нибудь собьешься. Кроме того, перевод на русский при этом окажется просто пересказом: точность мысли, ради которой текст заучивается наизусть, будет утрачена. Тогда уж лучше сразу пересказывать своими словами. Но пересказу в семинарии как раз и не учили — достаточно было точь–в–точь произнести на церковнославянском.
В результате я не встречал ни одного священника, который использовал бы в своих проповедях цитаты, заучивание которых стоило в свое время стольких трудов. Год или два они еще держатся в памяти, но затем, не будучи употребляемыми, исчезают бесследно. Остаются лишь воспоминания о том, как зимними вечерами ходил по семинарским, коридорам, повторяя вполголоса тексты, время от времени подсматривая забытое в записной книжке.
Единственный большой текст, который я до сих пор помню, — 53–я глава из книги пророка Исайи, единственная, которую мы учили на русском, поскольку она предусматривалась не в курсе Катехизиса, а в курсе Ветхого Завета, преподаватель которого оказался более открытым к нововведениям и предложил выучить наизусть, но на выбор. Все предпочли учить по–русски.
Казалось бы, самое простое и легкое решение — учить все эти цитаты по–русски. И заучивать легче, и в проповеди можно использовать, а следовательно, и помнить их священнослужители будут всю жизнь. Но — нет! Против этого разумного и естественного решения восстают со всей силой снобизм и консерватизм «профессионалов» (главным образом преподавателей этих дисциплин): русский язык — язык «не церковный», не богослужебный; церковно–славянский перевод точнее (заметим, далеко не всегда), а, следовательно, заучивание на церковно–славянском более «научно» и т. п. и т. д. Велики и могущественны силы инерции, особенно инерции мысли.
В подтверждение того, что высказываемое здесь мнение о желательности перевода богослужебных текстов на русский язык не является ни еретическим, при протестантским, можно сослаться, на такой исключительной важности документ, каким являются «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе». «Отзывы» были ответами на циркулярный указ от 27 июля 1905 г., который был разослан Св. Синодом и требовал описания сторон жизни Русской Церкви, нуждавшихся, по мнению епархиальных архиереев, в изменениях или реформе. «Отзывы» поступили в канцелярию Синода в декабре 1905 г.
В общем, никто не ожидал, что революционная или хоть реформистская мысль может исходить от епископов. Тем не менее в этом случае проявилось почти полное единодушие русских святителей в расположении к реформам. В частности, большинство выражало неудовлетворенность по поводу недоступности большей части литургических обрядов для их понимания массами верующих и выступало за дальнейшее приспособление церковно–славянского текста к разговорному русскому языку, а меньшинство стало на более радикальную точку зрения, предлагая полностью заменить церковно–славянский язык русским. Практически все епископы требовали мер, направленных на то, чтоб молящиеся могли более полно участвовать в богослужении.
В настоящее время в отношении богослужебного языка официально мало что изменилось. Впрочем, неофициально в некоторых храмах, причем не только в Москве, но, например, и на Украине, по крайней мере отрывки из апостольских чтений на литургии читаются по–русски, причем без каких–либо возражений со стороны епископов. Также при чтении Евангелия некоторые непонятные церковно–славянские слова и оборот заменяются русскими. Последнее, впрочем, предполагает в священнослужителе не только хорошее знание церковнославянского языка, но и русского синодального перевода, чтобы во время чтения наизусть производить точную замену. Никаких обид и нареканий это пока не вызывает.
Однако одновременно в «Московском церковном вестнике» (1991 г., № 6) помещена строгая отповедь всем дерзающим на такие нововведения. Автор статьи «Священные одежды литургического языка» совершенно справедливо указывает на то, что «всякая ересь порождается нарушением церковного равновесия между божественно неизменным и человечески изменяемым». В то же время совершенно непонятным остается, почему автор статьи возводит использование церковно–славянского языка в ранг «божественно неизменного»? Как тогда относиться к святому Стефану Пермскому, просветителю зырян? Он перевел и богослужение, и части Священного Писания на зырянский язык и благодаря этому привел многие тысячи зырян к Православию. Точно так же поступал святой Николай Японский, ставший основателем японской Православной Церкви: переводил священные тексты на японский. Наконец, просветители славян, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание ими славянской азбуки и перевод богослужебных текстов и Евангелия на славянский язык сделали возможным для многих славянских народов принятие Православия. А ведь они могли бы насаждать греческий язык, тоже древний и красивый, — язык, на котором были .написаны Евангелия! Казалось бы, последнее обстоятельство должно было бы освятить греческий язык на все времена для всех народов. На эти вопросы ответов в упомянутой статье мы не найдем.
Разумеется, к данной проблеме следует подходить максимально деликатно и вдумчиво, но решать ее совершенно необходимо, если мы не хотим превратить нашу Православную Русскую Церковь в общество любителей древней словесности. Неплохо вспоминать также и третью заповедь: «Не сотвори себе кумира». В данном случае из языка.
Некоторые итоги
«К концу императорского строя Русская Церковь была безусловно противоречивым организмом. Извне она казалась задавленной, обремененной непомерно сложным обрядом, консервативной, забывшей о земных нуждах человека, но внутри ее шла другая жизнь, вдохновленная Нагорной Проповедью. Оживление церковной жизни и мысли углубило традиционную полярность в Русской Церкви. Русское Православие никогда не было однородным телом. Строгая обрядность одних сталкивалась с требованием свободы других. Приверженность букве Святого Писания шла бок о бок с пророческим прозрением.
Обещанные императором в 1905 г. освобождение Церкви и созыв Собора всей Русской Церкви всколыхнули общественное мнение России. Появилось множество статей и книг по этому вопросу. Даже приходские священники, редко выражавшие свое мнение в печати, присоединились к общему ликованию».
(Н. Зернов. Русское религиозное возрождение XX века. М., 1974).
«Несколько ранее замечательный историк древней Церкви В. В. Болотов (1854—1900) лучше всего выразил убеждение группы либерально настроенных церковных деятелей, указав, что для консервативного церковного деятеля «канонический» означает соответствующий церковной практике последних веков Византийской империи; это, по его мнению, была не самая благоприятная эпоха в истории Православия и отнюдь не пример для подражания. Болотов называет ошибкой желание восстановить канонический порядок далекого прошлого. Только те нормы, писал он, которые соответствуют нуждам нашего времени и могут улучшить современную церковную жизнь, должны считаться подлинно каноническими, даже если у .них нет прецедентов в прошлом. История Церкви должна служить источником информации, а не сводом законов»
(там же).
События октября 1917 г. не только не позволили развиться всем этим замыслам, но даже привели к тому, что настроение большинства верующих и священнослужителей вернулось к вполне консервативной духовной ориентации середины XIX в. Так что в каком–то смысле сейчас предстоит начинать все сначала, то есть заново доказывать необходимость реформы внутри Церкви вообще и русификации богослужебного языка. Здесь, конечно, нет ничего удивительного, так как в условиях достаточно сильного, но не абсолютного внешнего давления отбор идет на сохранение консервативных тенденций, которым свойственно стремление не к христианскому перерождению жизни, а к средневековому варианту христианства. Для последнего характерны два направления религиозной жизни.
Первое — пышный расцвет формы, обряда, в которые вовлекаются довольно широкие массы верующих, но при котором все дело сводится лишь к христианской форме при языческом, по существу, содержании жизни. Второе направление — путь индивидуального спасения для немногих путем своеобразного ухода от активной жизни и работы, в основном в плане личного спасения. При этом мир и общество предоставляются силам вполне нехристианским.
Этот вариант христианства, господствующий как в Восточной, так и в Западной Церквах на протяжении многих веков, назван нашим замечательным религиозным философом В. С. Соловьевым «средневековым миросозерцанием». Позволим себе привести довольно большую цитату из его сочинения, поскольку это хорошо разъяснит суть дела.
«Средневековым миросозерцанием я называю для краткости исторический компромисс между христианством и язычеством — тот действенный полуязыческий и полухристианский строй понятий и жизни, который сложился и господствовал в средние века как на романо–германском Западе, так и на византийском Востоке.
Обыкновенно и противники и защитники средневекового миросозерцания одинаково принимают его за само христианство или, во всяком случае, признают за ними такую неразрывную связь, как между содержанием и соответствующей ему формой. Я нахожу полезным и важным выяснить, что христианство и средневековое миросозерцание не только не одно и то же, но что между ними есть прямая противоположность. Этим самым выяснится и то, что причины упадка средневекового миросозерцания заключаются не в христианстве, а в его извращении ,и что этот упадок для истинного христианства нисколько не страшен».
(«Об упадке средневекового миросозерцания». Собр. соч. т. VI, с. 381, Спб).
По ряду причин, отчасти уже разобранных выше, сейчас вновь, как в конце XIX — начале XX в., «средневековое миросозерцание» после некоторого периода реставрации приближается к упадку. Все острее чувствуется в нашем обществе «духовный вакуум». Все больше ощущается жажда и тоска по живому, действенному христианству. Христианству духа, а не формы, единения, а не разделения. Христианству будущего, а не прошлого.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Уже несколько десятилетий назад было обращено внимание на одну чрезвычайно любопытную закономерность. Если посмотреть на картину христианского мира, то нетрудно заметить, что самыми богатыми и развитыми в промышленном отношении странами являются страны протестантские: США, Швеция, Дания, Голландия, Швейцария, Германия, Англия (которая условно тоже может быть отнесена к протестантским странам) и др. Одновременно в этих же странах более устойчивые политические режимы, более демократические порядки. Напротив, католические страны — Италия, Испания, Португалия, Ирландия, Франция в XVIII—XIX вв., не говоря уже о странах Латинской Америки, — в целом беднее, политические страсти в них постоянно накалены, режимы часто неустойчивы.
Сравним, например, такие страны, как Франция и США. За последние 200 лет первая 15 раз меняла свою конституцию, и очень радикально, другая — ни разу. Одна пережила четыре буржуазные революции, другая — одну. В первой сложная и пестрая партийная система, в другой — две с трудом отличимые одна от другой основные партии [3] США — страна практически не знающая и не знавшая буржуазного антиклерикализма, и единственная буржуазная революция (война за независимость) носила исключительно экономический (и лишь в небольшой мере политический) характер. В католических странах (Франция, Испания, Мексика и др.) нередко вспыхивавшие революционные движения чаще всего носили ярко выраженный антиклерикальный характер.
Если распространить подобное сравнение на православные страны, то нетрудно заметить,что они,пожалуй, еще беднее католических, уровень демократических свобод в них самый низкий, — революции самые жестокие, а накал антиклерикализма самый высокий. Правда, здесь беднее с примерами, поскольку на протяжении последних четырех веков из православных стран только Россия обладала политической независимостью. Так или иначе возникает вопрос: чем объясняется указанная закономерность?
Секуляризация
Современная эпоха характеризуется всеми, начиная от профессиональных атеистов и кончая профессиональными богословами, как эпоха секуляризации. Первоначально слово «секуляризация» обозначало отчуждение церковного имущества в пользу государства. Сейчас, когда речь идет о секуляризации, скажем, культуры и мировоззрения, то под этим понимается перемещение того, что находилось в рамках религиозных взглядов, в сферу, так сказать, научного знания и общественно–политических принципов.
Для религиозного взгляда на мир (как, впрочем, нередко и для нерелигиозного) свойственно так называемое мифологическое объяснение наблюдаемого, то есть построение некой мифологической модели. Сразу оговоримся, что слово «миф» употребляется здесь не в уничижительном, а в научном смысле. Миф — это не ложь и не выдумка, а, по удачному определению Дж. Маккензи, «философия древних», за которой стоит определенная идея. Именно эта идея является главным в мифе. Что же касается ею, внешней оболочки — рассказа, — то это лишь чаще всего доступное и достаточно занимательное средство передачи содержащейся в мифе религиозной идеи. Миф в этом смысле дает человеку ответы на вопросы, которые выходят за рамки непосредственного опыта и того уровня знаний, на котором человек находится. Тем самым миф создает некую структуру окружающего мира, так или иначе объясняет его, придает человеку больше уверенности в себе и своих действиях. Отсюда колоссальная психологическая значимость мифа — человеку есть на что опереться. Создается некая умозрительная система координат. С нею человек может соотносить те жизненные вопросы и проблемы, с какими ему приходится сталкиваться.
Однако подобно тому, как на смену старым научным моделям приходят новые, более соответствующие накопленному опыту, так и мифологическое построение рано или поздно сталкивается с растущими знаниями, вступая с ними в противоречие. При этом, поскольку новое знание не может быть отброшено, должен быть оставлен старый миф. Это нередко приводит к серьезным кризисам в религиозном сознании людей, возникающим из необходимости увязать религиозные взгляды, содержащие привычные мифы, с очевидными фактами науки.
Приведем простой пример. Конец XIX — начало XX в. для многих верующих людей было временем кризиса, вызванного явным несовпадением библейского рассказа о сотворении мира за 6 дней и человека из «праха земного» с данными геологии, палеонтологии и антропологии. Вместо б дней — 2 миллиарда лет «физической, химической и биологической эволюции, а вместо «праха земного» — явное родство человека со всеми животными вообще и человекообразными обезьянами в особенности. Какие только не предлагались хитроумные способы для того, чтобы отстоять буквальное значение первых двух глав Библии. Нечто подобное было во времена Галилея и Коперника, когда признать, что земля — шар и что в центре Вселенной (как ее представляли тогда) находимся не мы, а солнце, для очень многих равносильно вероотступничеству.
Даже такой радикально настроенный человек, как Лютер, считал, что полагать, будто бы не солнце движется вокруг земли, а наоборот — «глупо и нечестиво», поскольку в Книге Иисуса Навина было приказано остановиться именно солнцу, а не земле (Ис. Нав.10, 12—13).
Сейчас, спустя почти сто лет, для большинства христиан стало совершенно очевидным и понятным, что Библия — не научный трактат и что невозможно представить, чтобы Бог открывал людям, жившим за 2000 лет до н. э. тонкости современной научной картины мира. Бог открывал людям великие истины на том языке, который был им понятен. И эти истины нисколько не потеряли свое значение для нас, хотя мы и располагаем бесчисленными данными многих наук, проливающих свет на эволюцию Вселенной и нашей Земли. Эти истины состоят в том, что Бог — единственный Творец мира, что Он сотворил мир из ничего, что мир создан для человека и что человек, будучи по своему телу связан с этим миром, несет в себе Божию искру, выделяющую его из всей Вселенной как совершенно уникальное творение Божие — Его образ и подобие.
Таким образом, рассказ о сотворении мира и человека не утратил для нас ни своей значимости, ни своего обаяния. Тайна о Боге и Его творении, стоящая за рассказом, стала для нас, узнавших о подлинных масштабах Вселенной и о природных процессах, совершающихся в ней, еще более величественной, подобно тому как знание анатомии и физиологии человека не перечеркивает ни красоты человеческого, тела, ни наших любимых лирических произведений.
Эти «процессы вытеснения сказочного аспекта мифа научным знанием и переосмысления старых мифов шли на протяжении всей истории и продолжают идти сейчас. Одновременно с разрушением старых мифов (не обязательно из Священного Писания) шло создание новых, подчас не менее наивных, но всегда куда менее плодотворных — преувеличенная вера в могущество науки, в гениальность какого–либо вождя, который все знает и все сделает наилучшим образом, и т. п. При замене мифа не другим мифом, а научным знанием, человечество, как правило, выигрывало. Создание громоотводов вместо мифа о колеснице пророка Илии, производящей громы и молнии, было делом явно прогрессивным. Причем библейский образ великого пророка нисколько от этого не пострадал.
Однако важно заметить, что есть такие вопросы, которые, очевидно, никогда не смогут быть удовлетворены научным знанием. Происхождение Вселенной, рождение и смерть, чудо добра и бездна зла всегда останутся теми тайнами бытия, к которым знание не сможет подступиться. Здесь уже не миф и не научное знание, а лишь откровение Высшего Начала может давать ответы на эти вечные вопросы. От самого человека, от его доверия к этому откровению зависит принять его или отвергнуть.
В принципе логично оставить эти вопросы как вообще не имеющие ответа. Но с последним человеческий разум, как правило, не хочет примириться. Позиция агностицизма как отказа от поиска смысла жизни — это позиция постоянной дурной тревоги и иссушающей неудовлетворенности. Сама структура человека такова, что ему естественнее поверить в то, что во Вселенной есть какой–то, пусть сокрытый от него, смысл, то есть, по существу, поверить в Бога, чем поверить в то, будто мироздание совершенно лишено какого–либо смысла. В человеке заложена неуничтожимая потребность в смысле. Человеческий вопль о смысле бытия не, может быть криком в пустоту, и невозможно представить, что присущий ему поиск смысла сам явился продуктом развития бессмысленной материи.
Самое высокое и чистое откровение Бога о Самом Себе и человеке, его смысле и предназначении содержится в Библии. Разумеется, оно, прежде чем было записано, также в большей или меньшей мере, обросло мифологическими чертами. Это своего рода дань особенностям человеческого восприятия, когда откровение Бога образует некий сплав с человеческими представлениями о том, каким должно бы быть то иди иное событие. Кроме того, здесь еще сказывается и несовершенство человеческого языка, приспособленного главным образом для описания видимого, материального мира. Поэтому, когда речь идет о мире духовном, неизбежны аналогии, поэтические образы, метафоры как средство передачи специфической и н а к о в о с т и мира духовного.
Таким образом, в секуляризации тех или иных представлений веры можно видеть, кроме всего прочего, процесс очищения веры, даваемой откровением, от мифов, созданных человеческим воображением или просто тем уровнем знаний человека о природе, который определил форму данного откровения. Секуляризация есть всегда, когда есть рост знаний, развитие науки, когда происходит прогрессивное развитие общества.
Глубинный и сущностный процесс секуляризации на поверхности может выступать в разных формах: полного вытеснения мифа, трансформации мифа, а также смены одних мифов другими, менее явными и более рациональными. Очевидно что одним из важнейших факторов, определяющих преобладание того или иного пути секуляризации (иначе говоря, в данном случае того или иного пути приведения истин веры в соответствие с достигнутым уровнем естественно–научных знаний и всего уровня развития общества), являются особенности вступающей во взаимодействие и конфликт с новым знанием религиозной системы. От того, насколько она гибка, эластична, способна внутренне перестраиваться в соответствии с новыми знаниями и потребностями, то есть «секуляризоваться изнутри», а не быть насильственно «секуляризованной снаружи», зависит не только ее собственная судьба, но и ход всех общественно–политических процессов в данном государстве.
Чем более жесткой оказывается религиозная система, тем более опасно для нее развитие знаний, тем более активно препятствует она их росту и вообще каким бы то ни было изменениям и, тем самым, замедляет развитие, придает ему «взрывной» характер. Напротив, чем более система эластична, тем более плавным оказывается процесс секуляризации.
На примере США хорошо видно, что религиозная система, состоящая из независимых от «крепкой власти» христианских церквей — епископальной, конгрегационалистской, пресвитерианской, лютеранской, методистской, баптистской и христианских общин — квакеров, пятидесятников и других, — чрезвычайно разнообразно реагировала на давление, создаваемое развитием естественно–научных знаний. Вокруг такого, например, вопроса, как преподавание дарвинизма в средних школах США, имели место газетная полемика, демонстрации и митинги сторонников и противников, даже судебные процессы против сторонников и виновников такого преподавания. Однако так или иначе вопрос был решен в конце концов положительно и, пусть в очень бурной, но вполне демократической атмосфере. Происходил сложный процесс «увязки» веры в Бога, точнее говоря, традиционного понимания Священного Писания, с научными знаниями.
Ничего подобного не происходило, например, в России. И хотя А. К. Толстой написал сатирическое стихотворение в защиту свободы науки вообще и дарвинизма в частности, в церковных кругах, представленных практически единообразной Церковью, как тогда,, так и теперь, сама мысль о возможности наличия у человека обезьяноподобных предков представляется нечестивой и еретической. Здравое отношение к данным науки, как тогда, так и сейчас, встречается в православной среде лишь как исключение. И то, что было легко и просто для поэта–христианина А. К. Толстого в конце XIX в., до сих пор не очевидно для многих наших православных священников:
Разумеется, отношение к дарвинизму лишь один из примеров. Понятно, что для большинства русской интеллигенции XIX — начала XX в. Церковь виделась как средоточие обскурантизма и реакции, а дарвинизм в такой обстановке из научной теории превратился в идеологический символ борьбы не только против невежества и мракобесия, но и против Церкви и религии вообще как сил, с их точки зрения, несомненно реакционных. Даже попытки к внутрицерковным реформам, которые имели место со стороны иерархов и были приостановлены «сверху» императорской властью, не смогли реабилитировать Церковь в глазах либеральной интеллигенции. (Имеются в виду «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе», 1905 г., о которых говорилось выше). Именно из–за отсутствия всякой «эластичности» русского Православия и всей российской государственной машины русская революция носила столь взрывной и антиклерикальный характер. Это именно была насильственная секуляризация всей общественной структуры «извне».
Ригидность Церкви и Реформация
После падения Западной Римской империи Западная и Восточная Церкви оказались в очень разных исторических условиях. На Востоке децентрализованная Церковь (ряд теологически равных между собой патриархатов автокефальных Церквей) оказалась противостоящей центральной светской власти — византийскому императору. На Западе централизованная Римская Церковь противостояла ряду слабых и враждебных между собой государств. Это различие условий привело постепенно к различию вероучений, обряда и к разрыву.
Западная Церковь, имея единый центр, имела возможность принимать решения по догматическим вопросам и, следовательно, могла относительно безопасно пойти на постановку новых вопросов и на неизбежные в связи с этим разногласия. Наоборот, на Востоке, в Православных Церквах, после того как православные патриархаты оказались в разных государствах и Вселенские Соборы стали невозможны, единственным путем, каким можно было сохранить единство, было ни на йоту не отступать от того состояния, при котором застал Церковь последний Вселенский Собор.
Западная Церковь пошла дальше по пути, ведущему от первоисточника к формализации и иерархизации. Но это означало также, что она тем самым дальше пошла по пути, ведущему к Реформации. Внутри монашеских орденов и церковной иерархии накапливались проблемы, делающие неизбежным обращение к Первоисточнику — Библии. И, как всегда в таких случаях, внешне незначительное событие — выступление молодого монаха–богослова в провинциальном немецком городке — послужило искрой, вызвавшей взрыв Реформации, породившей новую, предельно живую и эластичную форму христианского вероисповедания.
В истории христианства, наряду с проникновением в Божественный замысел о человеке, который раскрывался главным образом в исследованиях и интерпретации Священного Писания, и стремлением реализовать его в жизни общества, всегда шли процессы, сопровождающиеся отходом от первоначальной простоты в направлении построения теологической, экзегетической и культовой «ограды» внутри Писания. Логическим завершением этого процесса на Западе было прямое запрещение перевода Библии на живые языки, канонизация Вульгаты (латинского перевода Библии, сделанного блаж. Иеронимом в IV в.) и даже запрещение самостоятельного чтения Библии мирянами.
«Эластичность» течений, порожденных Реформацией, обусловлена именно их обращенностью ко всему объему Библии, многое из которой было как бы прочитано заново (например, Послания апостола Павла). Именно такое обращение к Библии привело к совсем иным последствиям, чем, например, стремление основать весь строй жизни на Пятикнижии или Коране.
Христианству свойственна парадоксальность, отсутствующая в других религиях: в Иисусе Христе обитает полнота Божества. С другой стороны, Он — человек, не добившийся никакого видимого успеха в этом мире, распятый на кресте.
Все, что ценно в мире сем, — ничто в глазах Бога. Спасение не достигается ни знатностью, ни богатством, ни ученостью, ни формальной праведностью фарисеев. Такое учение было, с одной стороны, в высшей степени притягательным, а с другой стороны, таило в себе аформалистические и адогматические потенции. В процессе превращения из гонимой секты в господствующую Церковь, христианство неизбежно претерпевает всевозможные изменения, в результате которых многие из первоначальных ценностей оказываются буквально перевернутыми. Вместо детской простоты — сложнейшая и отвлеченнейшая система догматов. Вместо призыва «кто хочет быть больший — будь всем слуга» — могущественный и влыстный епископат, окружаемый божескими почестями. Вместо отрицания фарисейской праведности — в смертный грех возводится малейшая ошибка при обряде и т. п. На смену аформализму и адогматизму раннего христианства приходят формализм и догматизм средневековой Церкви. Все это не было заложено в самом Писании, а явилось результатом извечного стремления человека раз и навсегда упорядочить, зафиксировать и заковать жизнь духа в рамки религиозных законов и обрядов. Человеку всегда хочется, чтобы истина была не где–то над ним и вне его, а здесь, в руках, пойманная и посаженная в клетку человеческих установлений. Но дело в том, что адогматичность и аформалистичность христианства, зафиксированы в Священном Писании. А Писание можно перетолковать, можно спрятать, но нельзя сказать, что оно ошибается. Поэтому Писание всегда было угрозой формальной Церкви, и поэтому его всегда, чаще всего, по–видимому, бессознательно, старались принять от мирян. Тем <не менее за сухой формалистикой магических действий, обеспечивающих спасение, всегда чувствовалась идея, что эффективность всей этой формалистики зависит от абсолютно неформального условия любви к Богу. Именно этот аформализм, всегда сохраняющийся в качестве основного ядра христианства, был и остается источником его гибкости и силы. Наличие этого аформалистического ядра в христианстве всегда таит в себе возможность взрыва–протеста против далеко зашедшей формальной интерпретации христианства в данных конкретных условиях. Всегда остается возможность, что преданность организации может перейти в преданность идеалу, проповедуемому этой организацией, и бунту против организации во имя ее идеала. Именно это и произошло в Реформации, которая стала бунтом против Рима во имя проповедуемого Римом Христа.
Основной тезис Реформации: церковные предания и решения Церкви — от л ю д е й, результат человеческой мысли, но спасающая истина не может быть получена самостоятельной работой мысли, она лишь в Откровении, то есть в Священном Писании, и пытаться его дополнить означает ставить человеческое на место Божественного.
Одновременно происходит радикальное изменение отношения к тексту. Реформаторы решительно отказываются от средневекового католического представления о тексте Писания как о ш и ф р о в к е, которая не может быть понята вне традиционного церковного толкования. Именно вера в очевидность Писания, вера в то, что Бог хочет нам сказать через него истину, а не скрыть ее, позволяла Кальвину и Лютеру противопоставлять свои нетрадиционные толкования католическим. Они все время апеллируют к здравому смыслу. Здесь берет свое начало небывалое, характерное именно для новой истории раскрепощение человеческого разума, которому усваивается способность самому вникать и познавать Божественные истины, данные нам в Священном Писании. И это очень важно, поскольку меняется взгляд человека на самого себя, на свои способности, на весь окружающий мир и на свое место в нем.
Кальвин и Лютер никогда не претендовали на полное понимание всего Священного Писания. Они допускали, что изучение Писания будет продолжаться и после них. Доступность Писания для понимания не мешает ему быть бесконечно глубоким. При этом, согласно Кальвину, стремление к правильному пониманию Писания — естественное следствие спасения, но безусловно правильное понимание всех тонкостей библейского текста не есть необходимое условие спасения. Необходимым для спасения мыслится лишь вера в то, что верующий спасен Иисусом Христом.
Последствия для общественного развития
Благодаря тому, что в основание веры и всей жизни кладется Священное Писание, которое невозможно свести ни к формальным догматам, ни к формальным правилам, в протестантизме, как уже говорилось, приветствуют достаточно сильные адогматические и аформалистические тенденции, неизменно «срывающие» всякое стремление к формализации. Протестантизм выходит на дорогу постоянной «секуляризации изнутри», а также духовного движения, обновления. Данный момент является очень важным для нашего изложения. Дело в том, что процесс «секуляризации изнутри» идет не сам по себе, а является ответом веры на накопление естественно–научных знаний и постоянные изменения обстановки, которые происходят именно в христианском мире, а не в исламском или буддийском.
«Секуляризация изнутри» есть процесс взаимной адаптации, интеграции веры и знания, которые поддерживают и обогащают друг друга. Как уже говорилось, утверждение протестантизмом принципиальной открытости библейского текста ко все более глубокому его изучению имеет своим следствием изучение окружающего мира, то есть развитие науки и техники. (Наука может развиваться и в странах, где библейский текст закрыт для свободного исследования, но в этом случае наука будет неизбежно противопоставляться вере, как свобода — несвободе). В свою очередь достижения науки будут оказывать воздействие на характер понимания и толкования Священного Писания. Тем самым не будет происходить нарастания напряжения между двумя сферами человеческого духа — верой и знанием, — а будет формироваться знающая вера и верующее знание.
Автор совсем не хочет быть понятым в том смысле, что лишь в протестантских странах возможно такое гармоническое развитие веры и знания. Речь идет лишь о том, что исторические страны, пережившие Реформацию, действительно оказались более открытыми для «секуляризации изнутри». В дальнейшем влияние Реформации, в смысле адогматического обращения со Священным Писанием, имело и продолжает иметь место как в католических, так и в православных общинах.
В этом смысле и вся вообще современная наука — детище именно христианства (точнее, иудео–христианства), поскольку именно Библия впервые привносит в человеческое сознание идею о направленности мирового процесса к некой цели, в противоположность представлению о его цикличности, характерному для всякого языческого и вообще нехристианского сознания.
Научный взгляд на мир имеет одно важное следствие: исходя из него, человек все более и более научается отделять явления мира материального от жизни духа. В первом присутствует закон необходимости, во втором — божественная свобода. Становится все более ясным, что в окружающем нас бытии принадлежит сфере, познаваемой разумом, а что выходит за рамки компетенции научного исследования и вообще всякой попытки рациональной объективации и, следовательно, не может быть раз и навсегда сформулировано, определено и установлено. В наше время мы гораздо увереннее можем провести ту черту, перед которой, по выражению одного из Отцов Церкви, разуму следует остановиться в благоговейном молчании. В этом смысле одинаково наивно выглядят как стремления материалистов свести всю жизнь человека лишь к биохимическим процессам, так и стремления некоторых богословов философски обосновать, исходит ли, например, Святой Дух только от Отца или от Отца и Сына. Иными словами, сфера веры и сфера знания современным человеком различаются лучше, чем во все предыдущие столетия. И это есть несомненное благо как для веры, так и для знания.
Процесс «секуляризации изнутри», характерный для протестантизма, имел и другие важные последствия. Воспитанный протестантизмом человек, по сравнению с человеком средневековья, более строго относится к моральным вопросам, упорнее трудится, более самостоятелен, больше доверяет своему разуму, менее традиционней, больше открыт к будущему. Таким образом, протестантизм расшатывал феодальные иерархии и способствовал развитию буржуазного общества. Поэтому первыми на путь буржуазно–демократического развития выходят протестантские страны, и развитие их эволюционное, они практически не знают характерной для католических и православных стран традиции буржуазного а н т и к л е р и к а л и з м а. Для католических (и православных) стран характерно, наоборот, некоторое замедление темпов буржуазного развития, которое впоследствии приводит к политическим и духовным взрывам.
Идеология буржуазных революций в католических странах, всегда более поздних, чем в странах протестантских, где они в той или иной степени совпадают с Реформацией, является уже антихристианской с мощными «псевдорелигиозными элементами». Вот какую характеристику «псевдорелигиозным элементам» Французской революции дал Энгельс. «Это было, — писал он, —теологическое мировоззрение, которому придали светский характер. Место догм божественного права заняло право человека, место Ц е р к в и заняло г о с у д а р с т в о». («Юридический социализм», Маркс, Энгельс, соч., т. 21). Очень сходные процессы происходили и в России, где победившая партия активно насыщала жизнь псевдорелигиозными элементами, имевшими явные аналогии в отвергнутом Православии.
Здесь мы подошли к очень важному явлению, которое можно назвать сохранением системы ценностей. Явление это состоит в том, что ценности, сформировавшиеся в эпоху становления той или иной нации, продолжают сохраняться, несмотря на всевозможные изменения социальных, экономических и политических условий. Так, например, особенности американских протестантских церквей оказали большое влияние на социальную жизнь и отношение людей к социальной жизни — влияние тем большее, что и другие факторы — специфические условия колониальной жизни в Америке — действовали в том же направлении. Так, идея ценности социального успеха, юридического равенства, святости договора и закона продолжает сохраняться в Америке и в настоящее время.
Идея юридического равенства имеет своим истоком кроме идеи равенства всех людей перед Богом также веротерпимость, довольно рано сложившуюся в американских колониях. Веротерпимость является одним из ярких примеров тех особенностей общественной жизни, которые, складываясь в сфере религиозной, переходят затем в сферу общественных отношений. Так, в XVII в. американские конгрегационалисты, составлявшие большинство среди христиан в колониях, отнюдь не были терпимыми, например, к баптистам и квакерам. Однако сами условия колониальной жизни и религиозная установка большинства переселенцев, покидавших Европу прежде всего именно ради религиозной свободы, привели к тому, что взаимная веротерпимость колонистов стала просто требованием жизни. Именно факт веротерпимости сделал возможным в 1800 году первый в мире случай мирного перехода власти от одной партии к другой в результате выборов. Можно думать, что здесь же лежат истоки той мысли, которая была высказана победившим кандидатом (Джефферсоном) в его инаугуральной речи и могла быть «услышана» аудиторией: «…не каждое различие во мнениях есть различие в принципах»…
Отношение к социальному успеху. Труд, как и вообще повседневная жизнь, становится в протестантизме, особенно в кальвинизме, основной сферой, в которой спасение становится зримым. Но это меняет отношение к успеху, который приносит труд. Кальвинизм никогда не утверждал, что богатый спасается, а бедный погибает. И тем не менее, плод труда — успех — приобретает особое значение. «Зарывать в землю таланты» — грех, так как в таком случае человек делает для славы Божией меньше, чем он может. Наоборот, трудиться и добиваться успеха — путь спасения, долг. О том, как ценность успеха сливается в США с религиозными взглядами и получает религиозное освящение, говорят данные одного опроса: 60 процентов белых протестантов и 55 процентов католиков считают, что Богу нравится, когда человек стремится выше и выше по общественной лестнице.
Отношение к «договору». «Договорная теология» — явление очень, характерное, особенно для раннего протестантизма. «Договор» — это тот же Завет, который Бог в Библии заключает с Авраамом. Ветхозаветные книги, которые в XVI— XIX веках читались протестантами и почти не читались католиками, содержат множество примеров, когда Бог поощрял верность Израиля Завету и, наоборот, карал за отступление от него. Подражая в жизни примерам из Священного Писания, христиане–протестанты, естественно, стремились строить отношения с Богом и ближними также по принципу «договора», что наиболее способствовало развитию республиканской формы правления. Впрочем, здесь возникает вопрос: не предполагает ли сама по себе ситуация переселения республиканских форм политического устройства, независимо от религиозных взглядов переселенцев? По–видимому, — да. Напрашивается аналогия с политическим устройством казачества, где также создавались выборные органы со сменяемостью выборных лиц. Однако республики американских колонистов (впоследствии штаты), помимо ситуации переселения, имеют свой прообраз в устройстве религиозных общин, и республиканское устройство органически вытекало из особенностей религиозных взглядов и становилось впоследствии самостоятельной «ценностью». Республиканский строй казачества, напротив, никак не был связан с их православной верой, и поэтому он не превратился в принцип, в «ценность». Это видно из того, что при всей приверженности к выборным органам казаки, если бунтуют, то не во имя республики, а во имя «доброго царя».
В этом суть процесса сохранения системы религиозных ценностей или, лучше сказать, «секуляризации ценностей», когда тот или иной «принцип, сложившись на основании религиозных взглядов, переходит впоследствии в систему гражданских отношений. В этом процессе имеются и свои «родимые пятна». Идея равенства, порожденная отрицанием церковной иерархии, равенством всех уверовавших перед Богом и колониальными условиями, способствовавшими уничтожению феодальных иерархических связей, странным, на первый взгля… образом уживалась с характерным для большинства американцев (за исключением квакеров) бесчеловечным отношением к неграм и индейцам. Отношение гораздо более жестокое, чем у католиков–испанцев, бразильцев и франкоканадцев. У последних довольно много смешанных браков, у англо–американцев их почти нет.
Эта особенность во многом связана с кальвинистскими корнями американской ценности равенства. У католиков иерархия Церкви психологически порождает иерархию спасения. Отсутствие иерархии спасения у кальвинистов подразумевает полное равенство спасенных, но оно же порождает полное неравенство с «погибшими». По мере секуляризации идея равенства спасенных может перейти в идею политического равенства. Но если по каким–либо причинам на какую–либо группу идея равенства не распространяется, то никаких «полутонов» не возникает. Католик легко может признать человека человеком и христианином, не признавая его равенства с собой, — для кальвиниста это невозможно. Сочетание демократизма с полным непризнанием равенства негров и белых было и есть еще в одном кальвинистском обществе — обществе буров. Сейчас в ЮАР система апартеида осуждается англиканской и другими Церквами и не осуждается, а, наоборот поддерживается реформатской бурской Церковью. Впрочем, в самое последнее время и здесь как будто произошли изменения в сторону признания прав человека.
Мы упомянули об этой особенности американского общества (отношения между белыми и цветными), казалось бы, выпадающей из нашей темы, потому что она представляет собой яркий пример того, как какие–то «просчеты» в религиозных представлениях в прошлом порождают почти неразрешимые социальные проблемы в будущем, каковой является проблема взаимоотношений белых и цветных в США («черная» преступность, негритянские гетто и др.).
Если посмотреть с этой точки зрения на нашу страну, то нетрудно увидеть, как в советском обществе до недавнего времени в секуляризованном виде удерживались многие «православные ценности», сложившиеся еще в московский и петербургский периоды нашей истории. Идее единственно «истинной веры» соответствовала идея «единственно верного марксистско–ленинского учения». Вера в непогрешимость любых действий Церкви, несмотря на греховность отдельных ее членов, имела своей аналогией веру в непогрешимость партии, несмотря на возможность «отдельных ошибок» со стороны «отдельных» руководителей. Слабое представление о важности личного решения и личной ответственности в вопросах веры имело и имеет своей аналогией пониженное чувство личной ответственности в жизни вообще («как все — так и я»). Обязательности в прошлом почти поголовного крещения соответствовало почти поголовное обязательное прохождение через октябрят, пионеров, комсомольцев, практически столь же формальное. Обязательности в прошлом участия в праздничных богослужениях государственных служащих соответствовало обязательное, пусть формальное, присутствие на профсоюзных собраниях, субботниках, демонстрациях и т. п. Подобные параллели можно было бы расширить и углубить, ,но, вероятно, в этом нет особой необходимости.
Главное, что хотелось бы подчеркнуть и ради чего, можно сказать, написаны эти заметки, — первичность религиозных ценностей. История каждого народа идет по тому или иному пути, находясь в зависимости не только от географических, этнографических и внешнеполитических факторов, но также в значительной мере от факторов религиозных.
От того, какая вера исповедуется тем или иным народом, и от того, как н а с т а в л я е т с я народ в этой вере, зависят избираемые народом практические формы правления, характер экономической деятельности, вся система нравственных ценностей, которыми народ живет в повседневной жизни, словом, зависит судьба всего народа и каждого отдельного человека.
Вера может быть самой пламенной и все же оставаться христианской лишь по форме, а не по духу. Этому есть замечательный пример в Новом Завете (Лк. 9, 49—56). Иисус проходил с учениками через Самарию, и в одном селении жители не приняли их, так как они имели вид паломников в Иерусалим.
Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали:
Господи! Хочешь ли ты, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он обратившись к ним, запретил им и сказал:
не знаете, какого вы духа;
Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли они в другое селение.
Необычайно пламенная вера была у любимого ученика. И пример для подражания вполне возвышенный — сам пророк Илия. Но не было самого главного, чего Бог хочет от нас, — духа любви и прощения, того духа, который только и может спасти души человеческие.
Да будете сынами Отца Вашего Небесного;
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных.
(Мф. 5: 45)
Тезис о том, что наш народ воспитан Православием, является общим местом. Но попробуем отнести за счет Православия не только положительные качества нашего народа, как это обычно делается, — религиозность, смирение, долготерпение, доброту, отзывчивость, дух общинности и проч., — попробуем хотя бы только поставить вопрос: а не имеют ли своим источником то же Православие такие качества, как легкое впадение в жестокость, низкая инициативность, слабое чувство личной ответственности, стремление быть «как все» (конформизм)? Нельзя ли допустить, что одной из причин таких качеств могло быть слабое внимание в бытовом Православии к личностному началу в человеке?
Такая, казалось бы, безобидная вещь, как насильственное причащение младенцев (причем не грудных, а лет 5—6), не порождает ли убеждение, что насилие и принуждение, если они совершаются для блага принуждаемых, — вещи вполне допустимые? Не получается ли так, что такое отношение к причащению младенцев, кроме магического восприятия таинства, исторически оборачивается пренебрежением к человеческой личности, к праву человека сознательно, со страхом Божиим и верою приступать к главнейшему христианскому таинству?
А имевшее место в прошлом и упорно удерживаемое многими современными православными убеждение, что все неправославные христиане непременно еретики и ни в коем случае не спасутся, — не имело ли оно своим следствием крайнюю жесткость религиозной системы, которая, как рассматривалось выше, приводит к «взрывам» в историческом развитии общества и таким образом становится ответственной за атеизм и революции? Кроме того, неприязненное отношение к христианам других исповеданий имеет неизбежным коррелятом в обществе неприязненное отношение вообще ко всем «не нашим» и оправдание по отношению к ним любых жестокостей.
И о каком «мире всего мира» может идти речь, если даже христиане до сих пор разобщены и раздроблены, а стремление к единству — экуменическое движение — многими ортодоксами рассматривается как «диавольские козни», как чуть ли не самая главная опасность для «истинной веры» в наше время. Но разве случайно в нашей православной литургии прошение «мира всего мира» мудро соединено с прошением о «благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех»? Ясно, что если не будет мира и духа Христова в жизни христианских Церквей, то и не будет действительного мира на земле, поскольку не будет тех самых сил, которые призваны этот мир обеспечивать.
Таким образом, стремление к тому, чтобы наша Православная Церковь как можно больше соответствовала духу Евангелия, это не вопрос вкусов и личных предпочтений, а вопрос следования за Истиной, за Христом, вопрос будущего нашего народа.
В сочинении «О духе законов» (1748 г.) Монтескье писал: «Принципом демократии является добродетель, так как гражданами руководит чувство любви к отечеству и равенству; признаком монархии является честь; принципом деспотии — страх».
Из этих человеческих чувств Православие менее всего говорило о любви к равенству. Между тем именно равенство между всеми учениками Христа было одним из совершенно новых принципов, принесенных в мир Евангелием:
…вы знаете, что князья народов господствуют над ними
и вельможи властвуют ими;
Но между вами да не будет так,
а кто хочет быть между вами большим,
да будет вам слугою…
(Мф. 20: 25—26)
В традиционном Православии много говорилось и говорится о страхе Божием. Но если проповеди страха не сопутствует весть о любви Бога к нам, то душа человеческая остается в состоянии ветхозаветном, не согретая светом Евангельской вести. Отсюда нравы, поступки и вся религиозная жизнь людей будут проходить в рамках ветхозаветного создания. Кроме того, в, минувших веках страх Божий проповедовался чаще всего в целях насаждения страха человеческого. Следствием такой ориентации было постоянное соскальзывание в деспотию и почти полное отсутствие склонности к демократии, недоверие к ней и неспособность к эффективному использованию демократических институтов даже тогда, когда таковые возникали.
В следующей, заключительной главе будут рассмотрены конкретные меры, которые, как полагает автор, могли бы сделать Русскую Православную Церковь более соответствующей духу Евангелия и полнее утолить духовную жажду многих тысяч наших современников.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕРКВИ
Итак, внутреннее состояние нашей Русской Православной Церкви, во всяком случае на протяжении всего XIX в. и вплоть до настоящего времени, очевидно, говоря словами Голубинского, скорее, тема не для хвалебных од, а для скорбных элегий. Тем не менее самое важное и значительное то, что, благодаря милости Божией и верности всего церковного народа — священнослужителей и мирян, — Русская Православная Церковь сохранилась и как одна из крупнейших мировых христианских Церквей, и как один из общественных институтов, имеющий высокую значимость в глазах собственного народа (независимо от принадлежности к ней). Результаты социологического опроса в 1990 г. показали, что армия и Церковь — два института, пользующиеся наибольшим доверием у народа (75 и 55 процентов населения, соответственно, доверяют им целиком). Однако нами, верующими, это должно восприниматься не как оценка наших заслуг в прошлом, а как вотум доверия на будущее. В самом деле, если вдуматься в приведенные выше результаты, то ясно, что в глазах народа Церковь оказалась даже на первом месте как носительница некой идеи. Армия ведь не несет сама по себе никакой определенной идеи, а выступает лишь гарантом безопасности. Следовательно, в обстановке практически полного крушения господствовавшей свыше 70 лет коммунистической идеологии более половины населения надеется на то, что именно Русская Православная Церковь своим учением заполнит образовавшийся вакуум. Это совсем не значит, что все люди уверовали в Бога и с завтрашнего дня станут усердными прихожанами ближайшего храма. Но это означает, что народ в значительной части готов слушать то, что скажет ему наша Церковь.
Нам, верующим людям, дан небывалый по значимости исторический шанс — стать участниками обращения нашего заблудшего народа к Богу и к Иисусу Христу, стать работниками на колоссальной ниве Божией.
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом», — говорит псалмопевец (Пс. 2, 11). Очень важно в таком ответственнейшем положении оценить все, что нам будет мешать в этом деле, и все, что будет ему содействовать, все, что следует нам удалить от себя, и все, к чему следует обращаться.
Прежде всего важно понять следующее. Для всех уверовавших не должно быть противопоставления — Церковь и мы (то есть думающие верующие православные христиане.). Вместо этого должно быть четкое осознание того, что Церковь — это мы все. От того, кто будет посещать наши храмы, зависит, какой будет наша Церковь. Если мы будем оставаться в стороне, ожидая, пока с Церковью произойдет что–то такое, что позволит нам в нее войти, то не произойдет ничего. Вместо этого пусть каждый спросит себя: «А что лично я сделал для того, чтобы наша Церковь стала ближе к тому состоянию, которое представляется для меня более желанным?»
Самим фактом посещения богослужения, хотя бы раз в неделю, мы .не только получаем в храме молитвенную поддержку и духовное наставление, но и вносим нечто в церковную жизнь. Присутствие каждого человека где–либо — это его вклад в духовную атмосферу собравшихся. Если в храмы будут ходить одни бабушки, то это и будет церковь бабушек. Если же туда будут ходить и интеллигентные, культурные люди, рабочие и многие, многие другие, то она станет церковью всего народа. Отношение пастырей к своей пастве в таком случае неизбежно будет иным.
Изменения в Церкви происходят не только благодаря решениям Соборов, энергичным действиям отдельных .иерархов или государственных деятелей. Почвой для изменений служит настроение самих верующих. В этом смысле все христиане ответственны за состояние той Церкви, к которой они принадлежат, различия лишь в степени ответственности. Однако каждый вносит свою лепту в общее дело. Каждый член нашей Церкви может занимать либо пассивную, бездумную позицию, принимая все как есть, и тогда наша Церковь довольно скоро рискует превратиться в этнографический памятник старины, либо активную, то есть не оставаться безучастным к образовавшемуся в Церкви разрыву между тем, что есть, и тем, что должно быть. Это значит — хотеть лучшего для Церкви, думать об этом, молиться, быть всегда честным в признании недостатков церковной жизни. Чем больше таких думающих христиан, тем больше надежды, что Церковь не будет стоять на месте, что в ней будет создаваться новая атмосфера, благоприятная для пробуждения к служению «и жизни в подлинно евангельском духе.
Каковы же те главные проблемы, которые, по мнению автора, стоят перед нашей Церковью?
Христоцентризм
Самое первое и самое главное: в центре нашей личной и церковной жизни, в центре всего должен быть Иисус Христос. Это вроде бы очевидно. Но чаще всего забывают о самых очевидных вещах. Когда мы в опасности, оставлены другом, словом, когда нам плохо, что занимает наше сердце? Разве не наше собственное состояние? И разве не становится 'выходом из него именно «воспоминание» об Иисусе, возвращающее Его на престол нашего сердца? Через одно это мы получаем поддержку и одобрение.
Именно через Иисуса лежит самый близкий и единственный путь к Небесному Отцу, и именно в обретении этого пути и заключен главный смысл того, что Иисус был явлен миру. Узнавая Иисуса через Священное Писание, через нашу молитвенную жизнь, через опыт других христиан, содержащийся в Священном Писании и религиозных книгах, мы все больше узнаем Бога.
И когда мы отправляемся на совместную молитву в храм, мы также не просто «приходим в церковь», а собираемся для встречи с Иисусом, чтобы прославить Его, принести Ему нашу любовь и наши нужды. Церковь в этом смысле есть собрание верующих в Иисуса Христа, цель которых — общение с Ним и через Него с Отцом и друг с другом. Поэтому каждое посещение церкви должно иметь такую духовную ориентацию. Почитая Богородицу и святых, необходимо всегда помнить, что Дева Мария и все святые, прославившие Христа и Церковь подвигами веры, — наши п о м о щ н и к и ив приближении ко Христу, в молитве к Нему. И хотя теоретически это имеется в виду, в практике церковной жизни нередко забывается.
Необходимо, чтобы мы не просто помнили, но и хорошо понимали всю важность слов Иисуса:
…где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них.
(Мф. 18: 20)
Именно тогда, когда мы собираемся во имя И и с у с а, Он будет посреди нас.
Итак, Иисус опять сказал им:
Истинно, истинно говорю вам: что Я дверь овцам…
Я есть дверь! Кто войдет Мною, тот спасется…
(Ин. 10: 7, 9)
Именно Иисус, молитвенное общение с Ним есть та дверь, за которой лежит путь ко спасению, и ничто не должно заслонять эту дверь, подменяя собою вхождение в нее, — ни почитание Девы Марии и святых, ни страстное стремление к «послушанию» духовному отцу или какому–либо старцу, ни даже Церковь, которая нередко становится как бы отдельной, самостоятельной ценностью.
Под Церковью, к сожалению, у нас чаще всего понимают не Вселенскую Церковь, включающую в себя всех верующих во Христа, Истинного Сына Божия, а только нашу Русскую Православную. При этом в отношении к Церкви нередко присутствует неверный акцент. Благодаря книге Отца Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины», это определение Церкви, данное святым апостолом Павлом (I Тим. 3, 16), широко известно. Но многие все же забывают то, что становится очевидным, если вдуматься в эти слова. А именно: Церковь не является Истиной сама по себе. Столп означает колонну, то есть нечто поддерживающее своды здания. Церковь есть то, что здесь, на земле, удерживает и утверждает Истину. А Сама Истина — Господь Иисус Христос.
В другом месте апостол Павел говорит, что Бог поставил Иисуса Христа «выше всего, главою Церкви, которая есть тело Е г о, полнота, наполняющая все во всем» (Еф. 1, 22— 23). Продолжая это сравнение, можно сказать, что именно Иисус Христос есть душа и дух Церковного тела. Отдавая должное телу, мы не должны создавать «культ тела», помня о том, что задача тела — служить духу, живущему в нем.
Далее, в том же Послании к Ефессянам Павел дает замечательный образ, восходящий к ветхозаветным поэтическим образам отношений народа Израильского и Бога, как отношений жены и любящего мужа (см. Книгу пророка Осии), Этот отрывок читается на совершении таинства брака (Еф. 5, 20—33) «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела». Христос возлюбил свою Церковь и отдал Себя за нее, «чтобы освятить ее, очистив ее банею водною, посредством слова, чтобы представить ее Себе славною церковью, не имущую пятна или порока, или чего–либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5, 26—27). Речь, как видим, идет о том, что Церковь нуждается в том, чтобы Христос очищал ее посредством Своего слова. Церковь свята не сама по себе, а как результат «работы» Христа над ней.
Достаточно внимательно прочесть первые три главы Откровения Иоанна Богослова, где в чудесном видении Бог дает пророчества о семи церквах, находившихся в Асии (Малая Азия), чтобы увидеть, что даже Церкви, перенесшие страдания и испытания, тем не менее обличаются Богом и призываются к покаянию. Таким образом, никогда нельзя забывать, что в Церкви всегда присутствует Божественное и человеческое и второе никогда не должно заслонять первого.
Покайтесь и веруйте в Евангелие!
Тема покаяния — одна из основных евангельских тем. С покаяния начинается обращение человека к Богу, без этого человек не может войти в жизнь Церкви. Оно предшествует таинству Крещения. Таинство покаяния в жизни нашей Церкви тесно соединяется с таинством Причащения — участием в Тайной Вечере — центральным моментом мистической жизни всей Вселенской Церкви. Но если в индивидуальной жизни каждого православного христианина покаяние занимает важное и правильное место, то в жизни самой Русской Церкви и всего нашего общества этот мотив звучит весьма слабо. Несколько лет назад на .наших экранах прошел замечательный фильм «Покаяние». И сюжет, довольно–таки непростой, и само название и концовка фильма — поиск «дороги к храму» — совпали с процессом пересмотра идеологических установок, казалось, на века подчинивших себе миллионы людей огромной страны. Развенчание марксистской утопии и разоблачение преступлений и глупостей, творимых руководством страны, — все это стало возможным благодаря открывшейся в условиях перестройки свободе слова, стало подлинным покаянием (то есть переменой мышления — от греч. «покаяние» — «метанойя» — перемена ума) для миллионов людей в сфере, общественно–политических взглядов. Самое лучшее подтверждение этому — победа народа над путчистами в августе 1991 г. Главное, чего не учли ГКЧП–исты, — народ уже не тот, каким был лет пять тому назад, и заставить его вернуться в прежнее рабство не так просто. Но не менее важно понять, что с Россией произошло то, что многократно происходило с другим народом — Израилем. В Библии, Книгах Судей и Царств, описывающих историю Израиля с ХШ по VIII в. до н. э., неоднократно повторялась одна и та же схема. Когда народ отходил от почитания Бога Израилева, он не только впадал в идолопоклонство, почитание «чужих богов», но и во всевозможные грехи против нравственной правды Божией. Эти явления связаны между собой естественным образом: забывая о Боге, народ забывал и о Его заповедях, — разлагался и духовно, и нравственно. В таком состоянии он очень легко становился добычей соседей. Авторы священных книг воспринимали «нашествия иноплеменных» как проявление естественного гнева Божия на Свой народ, и попущение всевозможных несчастий было не только наказанием, но и средством вернуть народ через несчастья и последующее покаяние на пути Божьи. Пророки в свою очередь не предсказывали будущее, а обличали грех народа в настоящем. Пророк — это тот, через кого говорит Господь.
Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит:
Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.
Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего: а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет…
Оставили Господа, презрели Святого Израилева, — повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места; язвы, пятна, гноящиеся раны…
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло, научитесь делать добро;
ищите правды; спасайте угнетенного;
защищайте сироту; вступайтесь за вдову.
Тогда придите и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши как багряное, — как снег убелю…
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят.
(Ис. 1: 2—6, 16—20)
Даже вавилонское пленение, положившее конец государственной самостоятельности Израиля, было воспринято как наказание за грехи отцов, за неверность Богу.
Российская история XX века повторяет этот же процесс — отпадение народа от Бога и последующие неисчислимые несчастья из–за поклонения идолам — философии материализма, Сталину, светлому коммунистическому завтра. Идолы, как известно, требуют жертв, требуют крови, причем человеческой. Поразительно, что сходство здесь даже в хронологии — подобно Вавилонскому плену, пленение России марксизмом также продолжалось 70 лет. Однако, как это ни странно, значительное число людей, теперь смело и везде называющих себя православными, вместо того чтобы направить процесс переосмысления марксизма–ленинизма в русло сознания вины российского народа за отказ от веры отцов — от Бога, от христианства, создавшего и сформировавшего нашу государственность и нашу культуру, — пошли в своей деятельности по другому пути. Вместо покаяния начался у некоторой части людей, вроде бы принадлежащих к Церкви, активный поиск в р а г о в, виновных во всем том, что с нами произошло. Совершенно непонятно, каким образом люди, называющие себя православными, — при этом, как правило, они никогда не добавляют к этому прилагательному еще и существительное, христиане, — забывают то, о чем говорится практически на каждой исповеди. В каждом нашем несчастье мы прежде всего должны подумать, не является ли это обличением от Господа за какую–то нашу неправду перед Ним, и если это так, то эту нашу неправду и следует прежде всего исправить, покаяться. Без рассмотрения своей вины — нет покаяния, а без покаяния — нет исправления своих путей, нет возможности для Господа начать Свое исцеление нашей жизни. Покаяние — это именно раскаяние о содеянных с в о и х грехах и твердое намерение исправить их. Выше уже приводились слова из одного нашего постового песнопения:
Следовательно, не чем иным, как попыткой слукавить перед Богом, обмануть Его, выглядит стремление перенести вину за несчастья, вызванные нашими собственными грехами, на кого–то другого.
Однако именно об этом совершенно забывают (а может быть, никогда этого и не знали) сторонники организации, известной под названием «Память». Идеология сторонников «Памяти» и всех сочувствующих их взглядам крайне проста — все зло в России от евреев. Идеальной русская жизнь была в период Московской Руси, когда евреев не было. С завоеванием Польши они появились — и отсюда все зло и пошло.
Русская революция 1917 года — при действительно высоком проценте участия в ней евреев, незадолго до того получивших возможность выйти из черт оседлости, — дает идеологам «Памяти» вроде бы неопровержимый статистический материал: «нашу революцию сделали евреи». Но при этом начисто забываются призывы к насилию отцов русской демократии — Чернышевского и Белинского, вся плеяда террористов–народовольцев, русское крестьянство, еще в конце XIX в. на основании самых нелепых слухов отправлявшееся грабить помещичьи дома (см.«Письма» Короленко). Вспомним крестьян, с готовностью сдиравших кресты с закрывающихся по распоряжению большевиков храмов. Ведь столько их было обезглавлено и разрушено, что на все храмы евреев бы не хватило. Помню, как директор Дома–музея Тютчева в Муранове, внук замечательного поэта, рассказывал, как немедленно после указа о закрытии церковочки в их усадьбе набежали местные мужики растаскивать все ее имущество. Одна баба запоздала, — когда пришла, все уже унесли, — так она содрала ткань, которой были оклеены стены небольшого храма. Причем это все были люди, которых крестили и венчали как раз в этой самой церкви. И таких свидетельств по всей России — несть числа. »
Если бы идеологи «Памяти» стояли на истинно христианских, церковных позициях, то они могли бы без труда заметить, что катастрофа 1917 г. — это прежде всего отпадение России от Бога, забвение и предательство Христа, Его Церкви, Его Заповедей, Его Евангелия. Ощутимое большинство народа отказалось искать «Царствия Божия и правды Его». Почему так произошло, каковы причины этого? Вот тема, которую могла бы исследовать «Память»: изучить причины и истоки дехристианизации нашего народа, когда безверие и безнравственность стали играть все более и более заметную роль в обществе. Это направление в изучении нашей истории последних двух–трех веков с соответствующими достаточно доступными и популярными публикациями в самом деле могло бы принести немалую пользу всему нашему обществу, .Лишенному правдивых сведений о собственной истории. Эта огромная работа для своего осуществления нуждается в критическом переосмыслении и прочтении огромного числа книг, журналов, газет, начиная с Петра I и до 1929 года, когда, можно считать, победа большевиков состоялась и всякое сопротивление и инакомыслие были подавлены. Весь этот период нашей истории должен быть пересмотрен с точки зрения нашего теперешнего знания, что же получилось из антимонархических, демократических и прочих устремлений. Уверен, что много совершенно неожиданных открытий и находок ожидает исследователей на этом направлении. Вот одна из многих тем, разработку которых могли бы взять на себя люди, заинтересованные в восстановлении христианских и культурных начал нашей российской жизни.
Вместо этого — скрупулезное подсчитывание, сколько евреев в ленинском ЦК в том или ином году, во ВЦИКе и т. п. и т.д. Спору нет, сам по себе такой материал тоже интересен и показателен — участие в разрушении императорской России в большой мере принимали лица, как сейчас принято говорить, «некоренной национальности». Активные представители других наций умело использовались Лениным, так как от них меньше всего можно было ожидать каких–либо колебаний в исполнении жестоких приказов, жалости к тем, кто еще недавно был в почете. Но ведь среди некоренных национальностей были не только евреи, были и латыши, и грузины, и чехи, и венгры, и армяне, и китайцы. И, не будем забывать, были и русские: Бухарин, Калинин, Молотов, Киров и др.
Стремление объяснить русскую революцию исключительно всемирным сионистским заговором против русского православного царства прежде всего означает именно уход от покаяния российского народа в мифологию о невидимом, тайном сионистском заговоре, направляющем всю мировую историю. Вместо покаяния народа, которое одно только и может дать исцеление и прощение богоборческого прошлого, предлагается постоянный поиск врагов в лице людей с нерусскими фамилиями и вообще всех тех, кто не разделяет веры во всемирный еврейский заговор.
Другая странная черта идеологов «Памяти» — глубокое неверие в духовные и творческие силы русского народа. В самом деле, представить себе, что народ, давший миру Сергия Радонежского, Андрея Рублева, Достоевского, Толстого, Солженицына, Сахарова, Королева, Туполева и сотни других замечательных людей, представить, что такой народ совершает революцию не из–за собственных печальных заблуждений и трагических ошибок, а лишь по наущению другого народа, составляющего по своей численности менее одного процента, означает, по меньшей мере, представлять русских какими–то дурачками и простофилями. Конечно, русские люди и просты, и доверчивы, но не до такой же степени. Так что элементарное чувство уважения к собственному народу должно, думается, развеять выдумки о том, что кто–то нас когда–то увлек на неправильный путь, да и сейчас продолжает свое «черное дело». Кстати сказать, за последние годы еврейская эмиграция настолько усилилась, что проблема «сионистской угрозы», во всяком случае внутри страны, очевидно, просто может быть снята с повестки дня.
«Исследуйте Писание»
Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям:
Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики.
Я говорю то, что видел у Отца Моего…
После осознания греха, в данном случае греха нашего народа в массовом отказе от Бога и забвении того, что с этим связано, необходимо следует поворот от греховного к истинному. В данном случае — от полностью бездуховного состояния нашего народа на протяжении нескольких десятилетий к евангельскому наставлению. В противном случае, на освободившееся место придут другие силы, и последствия для нашего народа могут быть еще более тяжелые. Уже сейчас мы видим разгул порнографии, пропаганды насилия, всевозможного колдовства и нехристианских культов. Здесь, как и во всех других случаях, лучшее оружие против «козней диавольских» — «меч духовный, который есть слово Божие» (Еф. 6, 17). Благодаря помощи христиан Запада, в настоящее время не только в Москве, но и во многих других городах, даже в «глубинке», купить Евангелие перестало быть проблемой. Теперь дело за нашей Церковью — призывать народ читать слово Бога и жить по нему.
Необходимо, как в духовной жизни каждого верующего, так и в жизни всей Церкви, создать отношение к Священному Писанию, Библии, как к г л а в н о м у источнику нашего знания о Боге и о том, чего ожидает Бог от нас.
Каждому христианину следует сделать правилом своей жизни ежедневное чтение Священного Писания, хотя бы по 15—20 минут. Сохранилось свидетельство о том, что святой Серафим Саровский еженедельно перечитывал весь Новый Завет. Свидетельство тем более достоверное, что такое постоянное чтение Священного Писания — совершенно необычная черта в распространенных жизнеописаниях святых, а тем более для России того времени. Примеры из жизни святых, назидательная и аскетическая литература безусловно помогают нам познавать Бога. Но весь этот опыт Церкви не должен заслонять собой первоисточник Божественного откровения — Библию.
Не следует забывать о том, что каждый святой был все–таки всего лишь человек. И в том, что святые говорили, писали и делали, всегда будут присутствовать ограничения, накладываемые историческими условиями.
Большое значение сейчас имеет издание специальных комментариев и книг, посвященных Библии. Они помогают нам выделить и понять основное ядро Божественного откровения, содержащееся в Писании.
В христианских странах Запада ежегодно выходит, вероятно, несколько десятков названий книг, посвященных исследованиям Библии, множество научных, популярных, молодежных и детских журналов, имеющих целью помочь читателям в понимании Священного Писания. Интерес к Библии, особенно после второй мировой войны, настолько возрос, что на Западе даже говорят о «библейском буме», продолжающемся и по настоящее время.
Наша Церковь находится здесь в довольно выгодном положении. Из огромного числа книг по библеистике, имеющихся на иностранных языках, можно избрать для переводов и для развертывания собственных библейских исследований наиболее крупные и важные с учетом ошибок и заблуждений, неизбежных во всяком большом объеме исследований. Предпринятые нашей Церковью и различными издательствами репринтные издания книг, напечатанных в конце прошлого — начале нашего века, несомненно, нужны и полезны. Книги таких авторов, как епископ Игнатий Брянчанинов, епископ Феофан (Говоров), позволяют восстановить прерванную традицию, донести до читателя состояние русской аскетической и богословской мысли XIX в. Имеется много и других репринтных изданий русских и иностранных авторов конца XIX — начала XX в. Очевидно, что этим не «следует ограничиваться.
Выше уже говорилось о необходимости широкого издания книг покойного отца Александра Меня, нашего замечательного священника и богослова. Его книги из серии с общим названием «В поисках Пути, Истины и Жизни» позволят многим верующим нашей Церкви ориентироваться в Священной Истории Ветхого Завета. А книга «Сын Человеческий» — опыт жизнеописания Господа Нашего Иисуса Христа — уже для многих людей стала введением в самостоятельное чтение Евангелия. Несомненно, будет издан также и большой его труд — «Словарь по Библиологии», содержащий сведения о библейской науке и о всех сколько–нибудь известных авторах, занимавшихся исследованием Библии за минувшие двадцать веков.
КРЕЩЕНИЕ, МИРОПОМАЗАНИЕ, МОЛИТВА
Павел же прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.
(Деян. 19: 1–6)
Едва ли будет преувеличением сказать, что на вопрос, «приняли ли вы Святого Духа уверовавши?» большинство наших православных ответили бы: «Мы только слыхали, что есть Дух Святый, но не знаем, что значит «нисшел на них Дух Святый».
Странным образом таинство низведения даров Святого Духа через возложение рук епископа с молитвою о нисхождении Святого Духа в IV в. было заменено помазанием священным миром. В нашем вероучении это нововведение простодушно объясняется «увеличением числа христиан». Как будто бы это увеличение означало, что христианизация мира уже достигнута и что более не следует утруждать епископов возложением рук на каждого новокрещеного, — достаточно освятить особым образом приготовленное масло — миро — и разослать его по приходам. Практическое удобство этого новшества было очевидным. С принятием Византийской империей христианства в качестве государственной религии необходимо было сделать членами Церкви огромное число язычников. Очевидно, что здесь имело место чаще всего не действительное обращение, а формальное вхождение в Церковь, которое вызвало и формализацию таинства. Рост количества неизбежно отразился на качестве этих новых масс христиан. Именно в связи с этим на начало IV в. приходится возникновение монашества как стремления найти в пустыне прибежища для подлинно христианской жизни от псевдохристианской жизни в миру.
Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие.
(Ин. 3:5)
На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть Крестящий Духом Святым.
(Ин. 1:33)
Крестящий — то есть омывающий, очищающий внутреннего человека действием Святого Духа. В день Пятидесятницы ученики Иисуса пережили это новое рождение: …и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, Как Дух велел им провещевать.
(Деян. 2:4)
Каждое крещение, о котором мы читаем в книге Деяний, сопровождалось особым действием Божиим излиянием Святого Духа — в момент наибольшей открытости человеческих сердец Богу, Это действие было ни с чем не сравнимо. Люди действительно как бы рождались заново — они никогда уже не могли стать такими же, какими были прежде, И всегда это действие было связано с наставлением, проповедью, горячей молитвой от сердца к сердцу о новокрещеном — то есть все переживалось совершенно сознательно. И разум, и чувства человека участвовали в этом новом рождении, реально обновлялись им.
Можно ли усвоять такое же преобразующее действие помазанию священным миром, освященным архиереем и затем рассылаемым по всем приходам, где сразу же вслед за крещением и детей, и взрослых, нередко в шуме и гаме, священник помазует им новокрещеных с произнесением слов «печать Духа Святого, аминь». Следует заметить, что совершение таинства крещения, особенно в выходные дни, когда больше всего приходит родителей, желающих крестить детей, на наших приходах превратилось в неблагодарную «черную работу», от которой настоятели храмов, где по 3—4 священника, вообще устраняются, предоставив это дело своим коллегам.
Конечно, мы все равно верим, что это таинство действенно благодаря вере восприемников (если таковые имеются), священника и, наконец, всей Церкви. Но ведь действенность таинств бывает разной: невозможно, например, сравнить действие нашего миропомазания с действием Святого Духа в первой Церкви или с переживанием пребывания в Духе Святом по молитве Серафима Саровского, описанным" в известных воспоминаниях Мотовилова[4].
Конечно, «Дух дышит, где хочет». Однако «по вере вашей да будет вам». Похоже, что большинство наших верующих из–за своей неподготовленности не переживают и десятой доли тех Даров Святого Духа, которые Бог хочет нам дать.
Что же следовало бы здесь изменить? Две вещи в этом отношении представляются взаимосвязанными: собственно таинство крещения и молитва.
Сначала о молитве. Заметим, что на просьбу учеников: «Научи нас молиться!», — Иисус дал единственную молитву, «Отче наш», в которой сосредоточено то самое главное, что может сказать человек Богу. Иисус ничего не говорил ни об утренних и вечерних правилах, ни о всенощных бдениях, ни о тонкостях соединения различных служб. Речь идет не о том, что это все лишнее, а о том, что все это Он предоставил нашему человеческому творчеству.
О молитве написано очень много. Есть также много уже напитанных новых молитв. Но есть вид молитвы, у нас, православных, почти отсутствующий, который является, пожалуй, самым простым и в то же время самым действенным в смысле вхождения в подлинный диалог с Богом. Это так называемая «свободная» молитва, то есть импровизированная молитва своими словами. Для многих наших верующих это представляется чем–то совершенно неожиданным, так, как даже в голову не приходит, что можно говорить что–то Богу, кроме уже готовых текстов, освященных, так сказать, церковным употреблением. Между тем самые прекрасные молитвы могут не соответствовать нашему состоянию, нашей нужде, и мы будем произносить их устами, а сердце наше останется безучастным. Это будет разговор с Богом «по бумажке». Представьте себе, какие бы у нас были отношения с близкими людьми, если бы мы ограничивались «готовыми текстами» вместо живого слова, живого общения. Но, как это ни странно, форма общения, которая создавала бы лишь отчуждение в отношениях между людьми, молчаливо признается единственно возможной по отношению к Богу. Сколь многого мы лишаем себя, поступая таким образом!
Слов нет — когда сердце наше окаменено, то из него не могут родиться слова молитвы. Когда вечером мы еще не отошли от суеты и забот дня, «готовые» молитвы могут помочь нам начать разговор, общение с Богом. И многие из молитв, имеющихся в наших молитвословах и служебниках, совершенно замечательны и могут служить прекрасными образцами для наших собственных молитв. Однако я лично глубоко убежден, что если бы священники, хотя бы при исполнении треб, прилагали к уставным молитвам свои собственные свободные молитвы, это было бы большой духовной радостью и для верующих, и для них самих.
Я знаю одну старую женщину, которая всегда плачет, когда вспоминает, как священник, освящавший ее квартиру, после молебна добавил еще несколько слов, призывая Господа благословить не только ее жилище, но и всех живущих в этом новом стоквартирном доме. Такое это произвело на нее впечатление.
Епископ Феофан (Говоров) рекомендовал своим пасомым: «Особенно по окончании молитв подольше сами помолитесь… Самые великие молитвенники имели правило молитвенное и держали его. Всякий раз они начинали молитву с установленных молитв и потом уже, если в продолжение их находила молитва самодвижная, оставляли их и молились сею молитвою» (Еп. Феофан. Что есть духовная жизнь? 1914 г., с. 170—172).
Наконец, для обоснования «допустимости» свободной молитвы в Православии можно сослаться на столь безусловный в Православии авторитет, которым является отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский). Его знаменитые исцеления, его молитвы о каждой нужде человеческой были именно свободными молитвами. Вот воспоминание о нем Н. И. Астрова (из книги Н. Зернова «Русское религиозное возрождение XX века»):
«Начался краткий молебен. Он (отец Иоанн. —А. Б.) служил скороговоркой. Но вот он опускается на колени и начинает громко молиться.
Что это была за молитва! Что произошло с о. Иоанном и со всеми нами, сказать я не сумею и сейчас, когда с того времени прошло более 35 лет, а я помню, как будто это было вчера. Молитва его была воистину вдохновенна. Это был призыв к Богу, слияние с Ним, просьба о милосердии, помощи и пламенная вера в то, что душе, готовящейся и уже идущей, там уготовано место упокоения, там, куда стремятся все души, совершившие свой жизненный путь.
Я взглянул на отца. Он был весь просветлен, он как–то выпрямился весь. Глаза его широко открылись. Молитва чудная, неслыханная по тону и проникновению, кончилась. Отец Иоанн встал с колен. Благословил отца широким крестным знамением и поспешно уехал».
Нетрудно представить, какое действие оказало бы на новокрещеных членов Церкви таинство миропомазания, если бы низведение даров Духа Святого испрашивалось бы примерно таким же образом епископом или, по его благословению, особо духовно одаренным священником. Поэтому было бы желательно:
СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНЫМ ВКЛЮЧАТЬ В УСТАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ СВОБОДНЫЕ МОЛИТВЫ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ДУХОВЕНСТВОМ, А ТАКЖЕ, ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ, И МИРЯНАМИ.
ВВЕСТИ Н А Р Я Д У С ИМЕЮЩИМИСЯ УСТАВНЫМИ БОГОСЛУЖЕНИЯМИ М О Л И Т В Е Н Н Ы Е СОБРАНИЯ, НА КОТОРЫХ ОСНОВНОЕ МЕСТО ЗАНИМАЛИ БЫ ЧТЕНИЕ БИБЛИИ, ПРОПОВЕДЬ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, СВОБОДНЫЕ МОЛИТВЫ, КАК ОБЩИЕ, ТАК И ПО НУЖДАМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕРУЮЩИХ.
Такого рода молитвенные собрания лучше всего, конечно, было бы проводить не в храме, а в отдельном церковном доме, где прихожане могли бы сидеть и вообще чувствовали себя несколько свободнее, чем в храме. Необходимость таких внебогослужебных встреч с прихожанами важна еще и потому, что в большинстве случаев наш церковный народ не имеет возможности, кроме, разумеется, интеллигенции, сколько–нибудь много читать и говорить о своей вере. Все его образование ограничивается лишь богослужением, акафистами, канонами и проч., читаемыми по–церковнославянски. Это имеет своим печальным следствием — отсутствие христианского разговорного языка в среде нашего простого церковного народа (бабушек). Этим, по–видимому, в значительной мере объясняется резкость и даже грубость наших «бабушек». Ведь не могут же они говорить по–церковнославянски, а другого языка им взять неоткуда. Поэтому беседы, где бы даже наши пожилые прихожанки могли что–то спросить, услышать в спокойной обстановке разъяснения священника по тем или иным вопросам, помогли бы создать такой язык христианского общения. Он, между прочим, существует у баптистов. Там даже вполне простые люди говорят языком, отличающимся от языка их неверующих соседей. Гак что даже в разговоре, не относящемся к вопросам веры, а уж тем более относящемся, речь этих людей отличается в лучшую сторону. Этого, к сожалению, нельзя заметить у наших верующих. Объясняется такое различие, очевидно, тем, что у баптистов собственно богослужения состоят главным образом из проповедей и песнопений. Все, конечно, по–русски. Кроме того, раз или два в неделю проводится «разбор Слова» (то есть Священного Писания) в виде беседы, разъяснения и проч… с вопросами и ответами. В такой обстановке и формируется христианский разговорный язык членов баптистских общин.
Теперь вернемся к вопросу о таинстве крещения и миропомазания. В настоящее время в нашей стране существуют три самые заметные христианские конфессии: православная, баптисты и католики. В Православии крестят и миропомазуют в младенчестве (крещение взрослых — не норма, а восполнение упущенного в детстве). Баптисты крестят только взрослых, прошедших особый курс наставления в вере. У католиков эти два таинства разделены: детей крестят в младенчестве, а миропомазание с возложением рук епископом (конфирмация) совершается в возрасте 12—14 лет, причем этому также предшествует подготовка и небольшой экзамен на знание катехизиса. До конфирмации детей не причащают.
Православная практика представляется наиболее отдалившейся от первоначальной, а в ставшем почти повсеместным крещении младенцев неверующих родителей меньше всего веры, а больше всего элементарной магии. Доводы, выдвигаемые в пользу крещения младенцев со ссылкой на книгу Деяний 10,48 и 16,33, совершенно неубедительны. Еще в IV веке соответствующие места из Деяний никем не воспринимались как указания на необходимость крещения младенцев. В качестве главных звучали слова:
Кто будет веровать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет.
(Мк. 16:16)
Естественно, требовать веры от младенцев невозможно, и вплоть до IV века даже в верующих семьях крестились взрослыми. Вот несколько примеров:
Святой Иоанн Златоуст — жил в IV веке. Его родители — Секунд и Анфуса — были христианами. Тем не менее Иоанн был крещен в 20–летнем возрасте.
Святой Григорий Богослов (IV в.), у которого мать была святая праведная Нонна. Отец — христианин, епископ, посвятивший сына Богу еще при рождении. Был крещен в 24 года.
Святой Василий Великий (IV в.) — у него отец и мать были благочестивые христиане, дед и бабка — исповедниками за Христа, пять братьев — иноками (из них трое — епископами), а воспитательница — благочестивая Макрина. Принял крещение в возрасте около 30 лет.
Психологически возникновение обычая крестить младенцев совершенно понятно. Когда все общество становится христианским, то необходимость включения в сферу жизни общества и Церкви детей, естественно, поставила вопрос о том, как лучше всего это сделать. Формальному вхождению в государственную религию огромного количества вчерашних язычников вполне соответствовало столь же формальное введение в нее младенцев. С религиозным формализмом неразрывно связано магическое восприятие священнодействий. Коль скоро младенец крещен, миропомазан, причащается святых Тайн, то считается, что для его возрастания в вере уже сделано все необходимое, во всяком случае, самое главное. На этом фоне понятно, что воспитание детей в вере представляется несущественным или даже излишним. Воспитание в вере заменяется магией таинств. Кстати, именно у баптистов, где детей не крестят, и у католиков, где их не причащают до конфирмации, воспитанию детей в вере уделяется гораздо больше внимания. Впрочем, и здесь у нас имеются изменения к лучшему. Воскресные школы, начавшие функционировать в 1990 г., могут многое сделать в этом направлении.
Вопрос о крещении детей, об истории возникновения этого обычая очень непростой, и останавливаться на нем подробнее невозможно, поскольку это требует специального исследования. В настоящее время ясно по крайней мере одно: практика массового крещения детей неверующих родителей, а также крещения взрослых, при котором достаточно лишь самого желания креститься и платы за совершение таинства, — такая практика вступления в Церковь совершенно несерьезна и не может считаться нормальной. Само время и церковная ситуация требуют внимательного исследования широкого круга вопросов о том, каким должно быть вхождение в Православную Церковь в наши дни.
Будет ли это обязательное крещение и миропомазание во младенчестве с обязательной, например, катехизацией родителей. Или следует подумать о возрождении древней практики крещения лишь взрослых, одновременно с созданием новых чинопоследований благословения младенцев, с тем чтобы они были включены в Церковь, но не в качестве ее обязательных членов, а как «подопечные», о которых Церковь молится, воспитывает их, чтобы со временем они могли бы стать «готовящимися к принятию святого крещения». В древности их называли катехуменами — обучаемыми. Тогда будет устранена и боязнь: «как это ребенку расти некрещеным?» Как мы видели, Иоанн Златоуст и Василий Великий были неплохими христианами, хотя и приняли крещение, будучи взрослыми. Быть может, следует ввести практику повторного миропомазания для лиц, ранее крещеных, но длительное время живших фактически вне общения с Церковью.
Следует также подумать о том, чтобы:
ВВЕСТИ ОСОБОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ (порядок службы. — А. Б.) НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИХ НЕКРЕЩЕНЫМИ, А ТАКЖЕ ТЕХ, КТО, БУДУЧИ КРЕЩЕН, ФАКТИЧЕСКИ ЖИЛ ВНЕ ОБЩЕНИЯ С ЦЕРКОВЬЮ.
Кстати сказать, среди людей нецерковных в наше время самым сильным доводом в пользу крещения младенцев является именно страх, что «в случае чего» его нельзя будет отпевать, в церкви. Это средневековое убеждение, согласно которому Церковь молится только о «своих» членах, не важно, живых или умерших, очевидно, также следует отменить как совершенно не соответствующее ни духу, ни букве Священного Писания. Вот что, например, пишет об этом апостол Павел в Послании к Тимофею, наставляя его в пастырском служении:
Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте;
Ибо это хорошо и благоугодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
(I Тим. 2: 1–4)
Между прочим, на ектений «Рцем вси… в прошении «о властях и воинстве» имеются слова именно этого отрывка.
То, что многие наши священники убеждены, что за всех живых некрещеных нельзя молиться, выглядит весьма странным, так как мы ведь молимся за каждой литургией «о властях и воинстве», среди которых, конечно же, есть некрещеные, и «об оглашенных», то есть только лишь готовящихся к крещению.
Автор, разумеется, понимает, что такого рода предложения о крещении и отпевании многими будут восприниматься либо как ересь, либо как утопия. Обвинение в ереси снимается близостью их, по существу, с практикой древней Церкви и со Словом Божьим. А утопичными эти предложения выглядят лишь на фоне нашей современной церковной жизни. Реформы, которые через 10—20—100 лет неизбежно произойдут, сделают возможными и эти нововведения. Самое главное — при осознании несовершенства имеющейся практики церковной жизни думать о том, что же было бы истинным. В этом случае будут происходить трансформация сознания и соответствующие изменения церковного «климата», которые сделают возможными и конкретные изменения в жизни Церкви.
Кроме того, такого рода преобразования не должны быть вводимы в приказном порядке сразу же по всем приходам. Возможно существование разных практик в разных приходах. Плюрализм в этом отношении совершенно не страшен, а, напротив, создаст естественный и постепенный переход от традиционной практики к более соответствующей как нашему времени, так и духу Евангелия.
БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК
Такой же плюрализм был бы крайне желателен и в отношении самого главного внешнего проявления жизни нашей Церкви — богослужения. Разумеется, здесь невозможно входить в детали того, что именно следовало бы изменить и заменить, это под силу лишь специальным комиссиям, которые могли бы создать на основании имеющихся наших богослужебных книг новые, с необходимыми изменениями и сокращениями. Главное же из радикальных изменений, необходимость которого с каждым десятилетием ощущается все острее, — это:
РУСИФИКАЦИЯ БОГОСЛУЖЕБНОГО ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ЧТЕНИИ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
При этом следовало бы сохранить традиционное уставное богослужение на церковно–славянском языке, например, в монастырях и некоторых приходах и подворьях. Право на нововведения следовало бы предоставлять тем приходам, в которых клирики могли бы и желали бы их воспринять и соответствующим образом ориентировать прихожан. Отсутствие единообразия в этом отношении совершенно не страшно. Оно, напротив, соответствовало бы многообразию настроений наших верующих, принадлежащих к разным слоям и возрастным группам, но тем не менее объединенных в рамках единой Русской Православной Церкви. Основной принцип здесь — открытость всему здравому и соответствующему духу Евангелия. И никакого насилия или принуждения.
И еще. Нам непременно следует отказаться от извечного российского стремления к единообразию. Вспомним историю: или иосифляне, или нестяжатели; или московские пятиглавые храмы (насильственно вводимые Иваном Грозным), или тверские или новгородские местные архитектурные стили; или двуперстие, или трехперстие и т. д. Почему извечное российское «или–или»? Почему не признать, наконец, возможность «и—и». Понятно, что за этим страстным «или–или» стоит стремление отстоять истину, которая может быть только одна. Но ведь истина не в этих вещах. Истина — в Иисусе, а пути к Нему для разных людей могут различаться.
В Западной Церкви, например, существует не один–единственный монастырский устав, а множество монашеских орденов с разными уставами и задачами. В Английской Церкви существуют, например, три течения: «высокая» Церковь, тяготеющая к католицизму, «низкая» Церковь, ориентированная на протестантизм, и «Оксфордское движение» (близкое к «высокой» Церкви), включающее в основном образованные университетские круги. Между этими тремя течениями неизбежно имеют место и дискуссии, и некоторые трения, но они сохраняются в рамках одной Английской Церкви (Church of England). Почему же в рамках одной Русской Православной Церкви не могло бы существовать несколько течений, единых в главном (догматы, подчинение московскому патриарху и др.) и разнящихся в том, что в конце концов, говоря современным языком, является богословской «надстройкой» (богослужебный язык, новые чинопоследования и т. п.)?
«СИЕ ТВОРИТЕ В МОЕ ВОСПОМИНАНИЕ»
Таинство Покаяния и таинство Евхаристии это то главное, чем живет каждый христианин, член Церкви. Здесь также имеется немало такого, что нуждается в пересмотре, поскольку сложившаяся практика далеко не безупречна.
1. Как уже говорилось во 2–й главе, далеко не все пастыри имеют необходимый духовный опыт для того, чтобы принимать исповедь. Быть может, следует возродить практику, еще имевшую место в прошлом веке, при которой право исповеди в храме давалось не всем священникам, а лишь наиболее опытным в духовном отношении.
Следовало бы обдумать вопрос о целесообразности введения у нас исповедален по типу католических — небольших кабинок, где священник сидит, а исповедающийся стоит на коленях на специальной подставке или тоже сидит во время исповеди, а на колени, встает для разрешительной молитвы. Это, кроме прочего, позволило бы исповедующимся быть собранней и откровенней, так как при настоящем положении ожидающие своей очереди вольно или невольно становятся свидетелями беседы с очередным исповедующимся, так что исповедь из тайной становится явной.
2. Что–то, по–видимому, должно быть изменено и в самой, «духовной тональности» проведения исповеди в наших храмах. В настоящее время приходящий на исповедь оказывается как бы «между Сциллой и Харибдой». С одной стороны, он обязательно должен признать себя в чем–то грешным, пусть хотя бы в самых обыденных грехах: осуждал, гневался и т. п. С другой стороны, в этом он уже каялся, скажем, неделю или месяц назад. Получается: не согрешить — нельзя в принципе, а согрешишь — плохо, так как,, выходит, духовно стоишь на месте. Приходится мучительно думать: «В чем бы таком покаяться, чтобы это не было простым повторением одного и того же?».
Казалось бы, ясно, что чисто негативная борьба со злом всегда малоэффективна. Религия, которая будет состоять из; одних запретов: «это — грех, это — нельзя, это — запрещено», словом, что ни ступил, то согрешил, — такая религия будет недейственной в борьбе за человека, против разрушающего действия греха. Вспомним притчу о незанятом выметенном доме (Мф. 12, 43–45), когда нечистый дух возвращается, «и бывает для человека того последнее хуже первого».
Заметим также, что нигде в Евангелиях Иисус не обличает людей в самых обычных, так сказать, «бытовых» грехах. Иисус нигде не говорит, что Он пришел для того, чтобы обличить грешников, но говорит: пришел для того, чтобы призвать грешников к покаянию, обращению. Вспомним эпизод с Закхеем (сборщик налогов,, известный своей нечестностью и скупостью. —А. Б). (Лк. 19,1–10). Не надо много фантазии, чтобы представить, сколько обличений услышал бы Закхей, приди он на исповедь к нашему православному батюшке. Иисус же, как мы знаем, ни одним словом не упрекнул этого человека, но вызвал глубокое покаяние в его. душе, сказав только, что «сегодня Мне надобно быть у тебя в доме».
Быть может, следует на общей исповеди говорить о том, что да, мы действительно грешники, и не потому, что мы согрешили, а грешники по самой своей природе. И эту нашу природу мы призваны распять на Кресте Христовом, чтобы воскреснуть вместе с ним и жить не по плоти, а по духу. То, что мы грешники, — это не только вина, но это и величайшая беда наша. Но Иисус все равно любит нас и зовет нас к себе такими, какие мы есть, — «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И лучше мы можем стать, лишь придя к Нему, чтобы Он сделал нас другими, так как нам самим это просто не под силу. (Как странно бывает слышать призывы с амвона о необходимости «собрать всю свою волю и не делать зла, но делать добро»). Если бы проблема зла решалась таким образом, то «тогда Христос напрасно умер». Вероятно, следует подумать еще и над тем, чтобы те, кто часто причащается и не имеет на совести тяжелых, нераскаянных грехов, могли бы подходить к причастию без исповеди. Быть может, в таких случаях достаточно, чтобы человек углубленно помолился накануне дома. Особенно это было бы желательно в дни больших праздников, когда из–за трудностей с исповедью причастие становится как бы исключением, а между тем именно в праздники оно должно бы стать правилом для всех. Здесь нет принципиальной невозможности. Ведь сами священнослужители причащаются без исповеди, и это не вследствие их особой «святости» или «безгрешности», а просто сохранившаяся древняя практика.
3. Все согласны с тем, что таинство Евхаристии является .центром жизни нашей Православной Церкви. Евхаристия имеет в виду воспоминание о Христе во всей возможной полноте. Здесь и воспоминание о его искупительной жертве, и присутствие за общей трапезой с Иисусом и Его учениками, и братское общение всех причащающихся между собой в единстве веры и исповедании того, что «Христос посреди нас!»
Такая близость с Христом и между собою напоминает о радости дарованного нам спасения через кровное родство с Иисусом, о величайшем достоинстве христианского звания, об избранничестве и ответственности, ободряют и укрепляют верующего в его следовании за Иисусом Христом. Очевидно, что чем полнее это переживается, тем более освящается человеческое сердце, тем менее остается в нем места для греха. Быть может, если бы мы полнее переживали за Евхаристией присутствие Христа среди нас, не было бы и необходимости в столь суровых обличениях на исповеди.
Когда–то, в 20–е годы, смелый реформатор, епископ Антонин Грановский пытался ввести служение литургии с престолом, поставленным посередине храма, с чтением вслух всем народом евхаристических молитв. Тогда это вызвало насмешку церковных снобов. Но, быть может, это не так уж и смешно? Быть может, пройдет какое–то время, и наши потомки будут недоумевать — как могло случиться, что из–за нескольких неразумных (или, напротив, благочестивых) ребятишек миллионы христиан на много веков были отгорожены иконостасом от того, что Иисус Христос заповедал всем Своим ученикам «творить в Его воспоминание». (Обыкновенно возникновение иконостаса, совершение евхаристии за закрытыми царскими вратами и «тайное», то есть про себя, чтение евхаристических молитв объясняют следующим образом. Один православный святой однажды увидел, как дети «играли» в Евхаристию. Однако после произнесения ими тайносовершительных слов с неба ниспал огонь и попалил Святые Дары. После этого случая и вошло в обычай скрывать от мирян происходящее у престола).
Очевидно, настало время подумать о том, не будет ли служение литургии, подобное возобновленному епископом Антонином, способствовать более полному и сознательному участию всех находящихся в храме в Евхаристии. Тогда и дух и душа верующих будут направлены главным образом на совместное переживание присутствия Христа и братства друг с другом во время всей литургии, а не на ожидание какого–то особенного ощущения лишь при принятии в уста Святых Даров.
4. И последнее в этом подразделе — вроде бы мелочь, но в практике церковной жизни существенная. Конечно, не сейчас, когда так мало храмов, а, быть может, со временем, не следует ли и в русских православных храмах поставить скамьи, чтобы в какие–то моменты богослужения верующие могли бы сидеть, в какие–то стоять прямо, в какие–то — коленопреклоненно? (Кстати, в костелах скамьи сделаны так, что не составляет никакого труда встать на колени на специальную подставку, сделанную в нижней части предыдущей скамьи, не беспокоя при этом других молящихся). Надо сказать, что в православных храмах на Западе это уже давно введено.
А то ведь нередко получается, по справедливому замечанию отца Сергия Желудкова, что православные «молятся ногами». Недаром в русском языке укоренилось выражение: «отстоял обедню», а не «помолился за литургией».
Когда мне впервые довелось побывать за богослужением в католическом храме в одном литовском селе, у меня за мессой появилось удивительное ощущение мира и покоя еще, быть может, и потому, что в этом, почти пустом, храме я не стоял, как обычно, а сидел. Помню, тогда у меня появилась мысль — быть может, Бог хочет, чтобы мы в его доме отдыхали не только душой, но и телом? Кстати сказать, мне много раз приходилось слышать, от разных людей, что они гораздо чаще ходили бы в храм, если бы там можно было не стоять, а сидеть. Думаю, что это не просто лень, а в первую очередь желание побыть в доме Божием, но без нашего обычного «напряга», действительно в мире и тишине. Думаю, что в открывшихся для нашей Церкви новых условиях это вполне представимо.
Еще в начале нашего века многие авторитеты в церковном пении высказывались за введение в наших храмах органов или фисгармоний. Это особенно актуально для небольших приходов, где трудно бывает найти хороших певцов или руководителей хора. Наличие инструмента очень помогает даже малоквалифицированным певцам брать нужный тон и петь слаженно. Почему это считается в Православии чуть ли не вероотступничеством? Ведь Псалтирь, постоянно читаемая в наших храмах, призывает хвалить Бога:
…со звуком трубным,
Хвалите Его на псалтири и гуслях.
Хвалите Его с тимпаном и ликами (хором. — А. Б.)
Хвалите Его на струнах и органе…
(Пс. 150)
«ВСЕ ЖЕ ВЫ — БРАТЬЯ»
Еще Аристотель утверждал, что назвать предмет означает наполовину понять его сущность. Титул, которым мы удостаиваем того или иного человека, в огромной степени будет определять наши отношения с этим человеком, а также отношение его к самому себе.
1. Именно поэтому Иисус даже особо говорит о том, как должны именоваться Его ученики при общении друг с другом и вообще со всеми людьми, резко обличая книжников и фарисеев за их любовь к почестям:
Также любят предвозлежания (почетные места. — А. Б.)
на пиршествах и председания (первые места. — А. Б.) в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!»
А вы не называйтесь учителями,
Ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья;
И отцом себе не называйте никого на земле,
ибо один у вас Отец, Который на Небесах;
И не называйтесь наставниками,
ибо один у вас Наставник — Христос.
Большие из вас да будет вам слуга:
Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет;
а кто унизит себя, тот возвысится.
(Мф. 23:6, 12)
С этими словами Иисуса плохо сочетаются пышные титулы, принятые в Православных Церквах:
Высокопреосвященнейший архиепископ, Его Святейшество, Святейший патриарх Святейший и Блаженнейший Католикос–Патриарх…
При этом даже титулы великих святых, прославившихся своею праведностью, выглядят гораздо скромнее:
Преподобный Сергий, игумен Радонежский; Священномученик Киприан; Благоверные князья Борис и Глеб и т. п.
Трудно всерьез говорить о христианском смирении в Церкви Христовой при таком перевесе пышных титулов в пользу ныне здравствующих церковных иерархов.
Апостол Петр, которого наша Церковь именует Первоверховным, призвал пастырей пасти Божье стадо,
…не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду…
(I Петр, 5:3)
Как сочетать это наставление апостола со сложившимся в нашей Церкви обычаем обращаться к епископу не иначе как «Владыка»? И о каком примере христианской скромности, подаваемом миру, может идти речь, если человек при первом же посещении храма слышит: «Великого Господина и Отца нашего, Святейшего…»? Без поправки на немощное в духовном отношении состояние нашей Церкви это может стать явным соблазном для новичка.
Что касается личности самого правящего ныне патриарха Алексия, то трудно представить на этом ответственнейшем посту человека более глубокого и достойного. Великая милость Божия к нашей Церкви, что именно он был избран на Поместном Соборе 1990 г. Однако некое уменьшение пышности наших древних титулов нисколько не умалило бы, а, напротив, подчеркнуло бы достоинства наших епископов.
Приобщение к значительным титулам начинается с первых шагов по иерархическим ступеням. Уже к юношам, сидящим на семинаристской скамье, преподаватели обращаются не иначе как «отцы», видимо, для того, чтобы они привыкали к такому обращению и на приходах не чувствовали неловкости, когда к ним так же будут обращаться люди втрое старше их. Также обращаются эти безусые «отцы» друг к другу.
Почему бы нам не последовать слову Иисуса и не называть друг друга именно братьями? Вместо, например, «отец Михаил» — «брат Михаил» и т. д. Это сразу сократило бы дистанцию между паствой и пастырем и существенно снизило бы соблазн превозношения для последних. Могут возразить, что так–де обращаются друг к другу баптисты (что правда) Но стоит ли из–за этого пренебрегать Евангельским наставлением? Ведь в проповеди священнослужители обращаются к верующим: «Братья и сестры!» Почему же обращение верующих к священнослужителю как к «брату» невозможно?
2. Нигде в Новом Завете мы не найдем именования учеников Иисуса Христа священниками. Иногда, правда, в таких случаях ссылаются на I Тим. 4,14: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Однако эта ссылка не может быть признана доказательной из–за неверного русского перевода. В греческом тексте Послания в данном месте стоит слово «пресвитерион» — «старейшин».
Понятие «священник» было присуще Ветхому Завету и указывало на культовую специализацию людей, отделенных на служение Богу. Еврейское слово «кадош» — святой — означало именно «отделенный». В Новом Завете все уверовавшие во Христа становятся «отделенными», «народом святым», «людьми, взятыми в удел» (то есть выделенными Богом для благовестил всему остальному миру). Выделение в свою очередь новозаветного священнического сословия не может не возвращать людей в религиозные и психологические установки Ветхого Завета, при которых вновь возрождается триада: Бог — священники — народ; вместо Бог — Христос — человек. Ведь одно из главных спасительных действий Иисуса Христа именно в том, что через Него… (мы) имеем доступ к Отцу» (Еф. 2,18). Когда же утверждается необходимость п о с р е д н и ч е с т в а священников вместо просто п о м о щ и и поддержки более опытного в вере, тогда утрачивается драгоценная близость Бога, дарованная в Иисусе Христе.
Говоря богословски, Богочеловечество Иисуса забывается, и Он становится лишь Богом, милующим, мудрым, но все же далеким от нашей человеческой участи, «слившимся» с Отцом. Монофизитство, некогда побежденное догматически на 4–м Вселенском Соборе, взяло реванш в богослужебном и церковном укладе.
Остается еще один немаловажный вопрос: все эти будущие возможные нововведения, быть может, и дадут самые замечательные результаты, но как жить в настоящее время?
Разумеется, чтобы ответить на этот вопрос более или менее полно, понадобилось бы написать еще столько же. Если же попытаться ответить кратко, то можно сказать следующее:
1. Несмотря на все имеющиеся недостатки, наша Церковь остается главным источником духовной поддержки для миллионов людей. Ее молитвословия, песнопения, архитектура и живопись содержат в себе много такого, что помогает человеческим сердцам достигать духовного общения с Богом. Поэтому следует быть внимательным к тому живому и подлинному, что мы имеем в жизни нашей Церкви, быть благодарным за это Богу и тем людям, трудами которых все это создавалось и хранилось. Впервые в нашей истории в настоящее время верующие в нашей стране получили возможность приступить на приходах ко всей той работе, которая раньше только мечталась, но была запрещена: заниматься благотворительностью, катехизацией, религиозным воспитанием детей, словом, всем, что необходимо для того, чтобы создать при каждом храме не просто приход, а общину. И сейчас зависит все уже от нас самих — от нашей веры, надежды и любви.
2. Что касается тех черт жизни нашей Церкви, которые представляются нам устаревшими, тяжелыми для честного принятия и просто несоответствующими ни духу Евангелия, ни здравому смыслу, то к этому следует относиться как к поставленной перед нами задаче, которую мы должны творчески решать. Это тот участок истории нашей Церкви и нашего народа, который поручен нам для работы — анализа причин, истории возникновения удерживающих сил и поиска путей преодоления.
3. Религиозная жизнь каждого из нас должна как «минимум»включатьследующие обязательные элементы:
— Молитва (утреннее и вечернее правило с добавлением собственных свободных молитв);
— Ежедневное чтение Слова Божия (одновременно с чтением религиозной, богословской и духовной литературы).
— Участие в жизни Церкви (хотя бы раз в неделю — посещение храма; что позволит нам постоянно ощущать жизнь всей Церкви и не уходить в крайний индивидуализм, переходящий, как правило, в религиозное безразличие. Исповедь и причащение 1—2 раза в месяц);
— Стараться в жизни своей руководствоваться принципами Евангелия (это кажется довольно абстрактным, но каждый на самом деле для себя понимает, о чем идет речь: «ищите прежде Царствия Божия и правды его, и остальное приложится вам»).
Кроме этих четырех моментов, в общем достаточно очевидных, очень важным для возрастания христианина в вере является организация в приходам так называемых «малых групп». Движение «малых групп» началось независимо около 30 лет назад в Западной Церкви и у нас, в Православии, причем в последнем как в либеральных, так и во вполне консервативных кругах. Столь сходные устремления, возникшие в разных условиях, очевидно указывают на какую–то общую потребность современного человека — соприкоснуться с жизнью Церкви на уровне братского дружеского общения. Здесь налицо потребность внести в институт Церкви кроме исторического и социального измерений братскую задушевную близость. Эти устремления вполне оправданы. Достаточно вспомнить, что первая Церковь была Церковью именно небольших (от 10 до 50 человек) групп верующих, собиравшихся именно по домам в самой обыденной обстановке. Да и первая община — Иисус и 12 учеников — тоже, можно сказать, была такой «малой группой».
Малые группы (в наших условиях от 5 до 20 человек) ни в коем случае не подменяют собой посещение храма. Они лишь восполняют то, чего не может дать приходская жизнь, —более близкое, дружеское общение верующих. Причем это не должно быть просто совместными чаепитиями и разговорами о жизни вообще и о религиозных вопросах в частности. Дружеские и непринужденные отношения должны сочетаться с осознанием себя малой общиной, частью прихода, а также частью огромного тела Церкви. Это вполне удается, когда встречи носят регулярный характер (раз в неделю) и когда они осознаются как «где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них».
Лучше всего, когда в центре таких встреч неизменно находится Священное Писание. Это может быть совместное изучение какой–либо книги Ветхого или Нового Завета, прочтение отрывка из Евангелия (например, очередное церковное чтение) и беседа о нем. Часть времени непременно следует посвятить совместной молитве. Это не только сближает духовно, но и делает группу действительно частью тела Церкви. Без этого группа будет просто христианским кружком. Это само по себе неплохо, но в кружке общение верующих ограничивается главным образом интеллектуальной сферой, в то время как именно совместная молитва превращает христианский кружок в малую группу, часть церковной общины.
Если продолжить знаменитую метафору апостола Павла — «Церковь есть Тело Христово», — то можно сказать, что каждый отдельный верующий есть клеточка этого тела. Но его реальное, ощутимое участие в жизни тела происходит через соседние клеточки. Без этого тело будет не организмом, а лишь колонией разрозненных клеток. Малые группы как раз и выполняют эту роль реального соединения христиан в живое, действующее тело Церкви. Без этого очень велика опасность того, что Церковь останется для нас всего лишь институтом, не живым организмом, а внешней, по отношению к нам, организацией, которая нас ведет, которую мы почитаем и ценим, но по отношению к которой у нас не будет реального живого чувства причастности ко всей полноте Ее жизни.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
К осени 1991 г., когда книга должна была сдаваться в печать, в нашей Русской Церкви все более отчетливо обозначилась одна проблема, ставшая лакмусовой бумажкой на «правоверие», — проблема э к у м е н и з м а. Для многих, особенно пришедших в Церковь недавно, это слово стало почти бранным, ярлыком, которым, можно легко и просто клеймить всех тех, для кого восприятие Церкви и мира не умещается в ясные и простые схемы: черное — белое; свои — чужие; православные — еретики и т. д. Поэтому представилось целесообразным посвятить этой проблеме последнюю небольшую главу.
Под экуменическим движением в Церкви понимается стремление к реальному единению всех верующих во Христа. Призывы к такому единству можно проследить с древнейших времен, начиная с Нового Завета, началом современного экуменического движения можно считать Эдинбургскую конференцию 1910 г. На основе достигнутых соглашений в 1925 году была созвана Всемирная Христианская Конференция в Стокгольме, а в 1927 г. — первая Всемирная Конференция «Вера и Церковное устройство» в Лозанне. Эти два экуменических движения объединились в 1948 г. на конференции в Амстердаме, и был создан Всемирный Совет Церквей. Этот последний включает в себя все основные протестантские деноминации Запада, почти все Восточные Православные Церкви (в том числе нашу Русскую Православную Церковь), а с 1968 г. и Римско–Католическую Церковь.
Следует сразу пояснить, что задачей экуменического движения не является создание некой единообразной Церкви, в которой будут смешаны все ныне существующие деноминации. Речь идет лишь о диалоге, взаимопомощи, обмене накопленными духовными ценностями каждой Церкви. Например, многие христиане Запада в настоящее время проявляют большой интерес к русской иконе и связанному с иконопочитанием особому духовному опыту Православной Церкви Здесь нет стремления оставить свою Церковь, а лишь привнести в нее то богатство, которое они видят в нашей Церкви. Одновременно идут и обратные процессы. Наши соотечественники, лишенные в течение последних 70 лет Библии и духовной литературы, с благодарностью приобретают Библии (синодальный перевод), отпечатанные на Западе на пожертвования, собранные христианами Запада, в основном протестантами. Когда в Норвегии стало известно, что можно посылать Библии в Россию, то был организован велопробег по всей стране, и люди с энтузиазмом жертвовали большие суммы, чтобы можно было издавать Библии на русском языке и посылать их в Россию. Именно на эти деньги, вместе с пожертвованиями христиан других стран Северной Европы, была отпечатана 3–х томная Толковая Библия тиражом 150 тыс. экземпляров. Другим примером столь же заметной помощи нам со стороны западных христиан было издание Стокгольмским Институтом перевода «Детской Библии». Эта книга столь понравилась читателям, что спрос и цена на нее (особенно на кооперативных лотках) неизменно высоки. Надо сказать, что в церквах ее продают значительно дешевле. Книга была составлена так, чтобы ее могли читать дети всех христианских вероисповеданий. Причем читают ее не только дети, но и взрослые, отчетливо понимая, что в смысле знания Священной Истории они находятся на одном уровне со своими детьми. Такое смирение вполне отрадно, неизменно вспоминаются слова Писания: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». (I Петр. 5,5). Так что, как видим, никто нас не вовлекает в «свои» Церкви. Напротив, как правило, подчеркивается, что хорошее, увиденное в той или иной конфессии, не должно заставлять христианина покидать свою Церковь, а, напротив, нести это увиденное, в свои общины, по слову апостола:
…истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в полную меру каждого члена, получит приращение для созидания самого себя в любви.
(Еф. 4:16)
Отношение нашего духовенства к экуменизму до недавнего времени было в основном как бы нейтральное. Поскольку священники находились в весьма зависимом и строго контролируемом положении, как со стороны своего епископа, так и со стороны уполномоченного,то никаких высказываний по этой проблеме не было: «начальству виднее, как и с кем ему встречаться». В последнее время в связи с ростом общей свободы в обществе отношение к проблеме экуменизма не обсуждается на каких–то официальных встречах, однако духовенство уже позволяет себе говорить о ней более открыто — в беседах с верующими и в проповедях. Критики в печатных изданиях в адрес нашего церковного руководства пока не раздается, но по самой проблеме уже имеются высказывания вполне откровенные и даже грубые. И здесь отношение вполне соответствует тому делению духовенства, которое было предложено в главе III. Для «бытового» духовенства этой проблемы, можно сказать, не существует, поскольку все эти вопросы не касаются ни службы, ни дома, и соответственно никаких особых высказываний здесь нет.
Однако для ортодоксальной части это нередко становится вопросом номер один. Уже с первого знакомства с новым человеком, желающим либо принять крещение, либо ищущего духовного руководства, все это обговаривается в беседах, разумеется, негативно по отношению к христианам других исповеданий. Это вроде бы довольно странно: зачем человеку, желающему, например, принять крещение в Православной Церкви, начинать объяснять всевозможные расхождения в понимании того или иного догмата с Католической Церковью? Вместо того чтобы приводить человека ко Христу, к Евангелию, с первых же шагов ему прививают взгляд, что вот и здесь, среди верующих, есть правые и неправые. Все можно ведь объяснить несколько позже и в других выражениях. Проблема эта весьма сложна и обширна, поэтому остановимся лишь на самом главном с Евангельской точки зрения.
Пожелание единства между всеми, верующими в Иисуса Христа, — не человеческое пожелание. Сам Господь в Своей первосвященнической молитве просит Отца Небесного «о всех верующих в Меня»:
Да будет все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня.
(Ин. 17:21)
Таким образом, единство учеников Иисуса есть свидетельство того, что они представляют собой не просто некий человеческий союз — ибо людям, объединенным чисто человеческими решениями и идеями, неизбежно свойственны разделения, — а союз людей, созданный самим Богом, поскольку только в Боге достижимо полное единение между соединенными в Его любви и пребывающими в Его истине. И в Нем не может быть вражды или разделений. Следовательно, разделение христиан не может рассматриваться иначе как исторический грех Церкви в той ее части, которая принадлежит человеческому элементу в Ней:
Ибо если есть между вами зависть, споры и разногласия, То неплотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?
(I Кор. 3:3)
Здесь необходимо всегда помнить о том, что еретические движения прошлых веков христианской Церкви касались в основном самого главного: Кто есть Иисус Христос? Творение ли Божие, лишь подобное Богу–Отцу, или несотвсренный Сын Божий, единый с Отцом по Своей Божественной природе? Первого мнения придерживались еретики, последователи Ария, второго — вся остальная Церковь. Последнее мнение разделяют сейчас не только православные, но и все без исключения католики и протестанты.
Следующее крупное разногласие между христианскими Церквами достигло кульминации к V веку. И тогда на IV Вселенском Соборе было принято определение в формулировке, предложенной римским папой Львом Великим, о соединении во Христе Божественной и человеческой природы. К этому времени во многих Церквах Востока, на периферии Византийской империи утвердилось учение о том, что человеческая природа Иисуса была поглощена Его Божественной природой. IV Вселенский Собор принял догмат о «неслитном, неизменном, нераздельном и неразлучном» соединении природ в Сыне Божием, исповедание Иисуса Христа как истинного Бога и истинного Человека. Это учение также разделяется и католиками и протестантами. Лишь некоторые Церкви, называемые ныне Древними Восточными Церквами, не принявшие участия в IV Соборе, удерживают формулировку, предложенную еще в IV веке святым Кириллом Александрийским о «единой природе воплотившегося Бога–Слова».
Таким образом, в главном, то есть в учении о Личности Господа Иисуса Христа как истинном Боге и истинном человеке, и о Святом Духе как третьем Лице единой Божественной Сущности, все три основные христианские конфессии — Православные, Католики и Протестанты — едины. Конечно, есть серьезные расхождения между православными и католиками в учении об исхождении Святого Духа, о роли Римского епископа, Папы, о непорочном зачатии Девы Марии и о телесном вознесении ее на небо. Еще более серьезные расхождения имеются между православными и различными протестантскими Церквами в вопросах о почитании изображений Иисуса и святых, об апостольском преемстве, об устройстве самой Церкви. Но все это не нарушает единства в главном: веры в Иисуса Христа как истинного Сына Божьего, своими страданиями и Воскресением открывшего всем верующим в Него путь ко Спасению от греха и духовной смерти. Одну и ту же Библию мы признаем за подлинное Слово Божие, наставляющее нас на всякую истину. Таким образом, то, что нас всех соединяет, неизмеримо больше тех, пусть даже весьма серьезных, различий, возникших на протяжении длительной истории христианской Церкви. Здесь следует почаще вспоминать слова апостола Павла:
Ибо надлежит быть разномыслию между вами, дабы открылись искусные.
(I Кор. 11:19)
А также основополагающий христианский принцип: «В главном единство, в остальном — свобода, и во всем — любовь».
Следует сказать также и об отсутствии должного христианского смирения в столь враждебном отношении к другим конфессиям (то есть католикам и протестантам). Весьма странным и непоследовательным выглядит наставление, даваемое о смирении, необходимом для каждого христианина. Когда речь идет об отдельном верующем, то наша Церковь, естественно, всегда напоминает о том, что мы не должны никого осуждать, а, напротив, почитать других выше себя, помнить о том, что не мы, а Бог будет давать оценку нашим делам и нашей жизни. Однако, когда речь заходит об отношении православных к другим конфессиям, то все эти наставления почему–то немедленно исчезают, и на их место приходят превозношение себя и осуждение других. Мы право–славные, только мы правильно славим Бога, а другие делают это неправильно, у нас — полнота истины, а у других она ущербна или вообще искажена настолько, что их иначе как слугами сатаны и не назовешь! Откуда такая горделивая убежденность? Ведь может оказаться так, что догматически, в самом деле, в нашей Церкви, самое точное и возвышенное учение, но живем ли мы в соответствии с этим учением? А другой по жизни своей может оказаться выше нас. Слово Божие призывает всех быть исполнителями Слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя (Иак. 1,22). Окончательный результат жизни каждой Церкви будет определяться не нами, а Богом в конце истории
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Стоит ли кто на этом основании из золота, серебра. Драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день (второго пришествия. — Л. Б.) покажет, потому что в огне открывается и огнем испытывается дело каждого, каково оно есть.
(I Кор. 3:11–13)
Так что не лучше ли постоянно помнить известные слова Писания о том, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»? (Иак. 4,8).
Да если хорошенько подумать, то нам и нечем особенно гордиться. За свое почти тысячелетнее существование Русская Церковь в итоге дала миру небывалое в истории по атеистической направленности и агрессивности государство, которое до недавнего времени лишь устрашало остальной мир. Так что для нас, пожалуй, более приличествует покаянное настроение и тщательный анализ того, почему же мы, обладая таким возвышенным богословием, утонченным церковным искусством, сонмом мучеников и святых, утеряли Святую Русь и породили Советский Союз, только лишь в последние годы Божией милостью выходящий на пути нормального человеческого развития, причем не без помощи западных стран, где большинство христиан — католики и протестанты.
Нет ли в этой боязни экуменических контактов своеобразного комплекса неполноценности и неуверенности в себе? Ведь если с нами все в порядке, то и бояться нечего. А если мы боимся за неутвержденные в истине души, то нам, следовательно, необходимо самим быть более активными в проповеди Евангелия, в служении немощным, детям, нуждающимся. Иначе это все становится очень похожим на боязнь всяких контактов с Западом при сталинском режиме, когда главной целью было не дать пошатнуться мифу о нашем «процветании» и об их «загнивании».
У нас создается еще, по–видимому, совершенно неверное представление об экуменизме как о движении, непременно желающем увести наших верующих в другие конфессии. Современным Западным Церквам и движениям побуждение это совершенно несвойственно. Напротив, они всегда говорят: «Берите у нас то, что приближает вас ко Христу, и несите это в ваши церкви!» Речь идет не о том, что кто–то будет менять наши обычаи и обряды. Цель экуменизма — единство христиан перед лицом погрязающего в разврате и насилии безбожного мира. И в этом единстве возможен взаимный обмен теми духовными достижениями, которые каждая конфессия смогла приобрести на своем пути за Христом. По–видимому, и один из сокрытых замыслов Божиих, попустивших быть разделению христиан, в том и заключается, что Истина Христова не может быть вмещена одной отдельной Церковью.
Разделившиеся Церкви, каждая из которых прошла свой путь испытаний, соблазнов, трудностей и духовных открытий, накопила свой исторический опыт, смогут теперь, через две тысячи лет, отделить во всем, что они имеют, пшеницу от плевел и обогатить себя опытом других братьев и сестер.
Едва ли стоит, принимая помощь от западных христиан в виде книг, миллионов Библий и Новых Заветов, бесплатно передаваемых нам и продаваемых у нас для того, чтобы можно было быстрее восстановить наши разрушенные храмы, — едва ли при этом стоит превозноситься над ними и считать, что только у нас полнота истины. Полнота истины в Иисусе Христе и во всей совокупности христианских Церквей как единого Тела Христова. Поэтому любая конфессия, претендующая на монопольное обладание истиной, оказывается в положении части тела, утверждающей, что она–то и есть все тело.
Здесь нельзя не вспомнить о православной женщине, посетившей одну из европейских стран. Она была тепло принята протестантской общиной. Для ее прихода в России община подарила автомашину, книги, компьютер и помогла довезти все это добро до Бреста. Когда же некоторое время спустя ее знакомая спросила о состоянии той церкви на Западе, в которой была эта православная женщина, то она ответила: «Да у них там духовный упадок!».
Понятно, что при верности и любви к своей Православной Церкви нам нет нужды отгораживаться китайской стеной от других Церквей Запада, а, сохраняя свое, присматриваться ко всему, что может помочь нам приблизиться ко Христу и в той или иной форме все полезное и нужное, повторяю, без отказа от своего, принимать и включать в нашу жизнь со Христом в рамках нашей Русской Православной Церкви.
Одна из серьезных проблем, стоящих сегодня перед руководством нашей Церкви и всей Церковью в целом, — взаимоотношения с Русской Зарубежной Церковью. Эта ветвь нашей РусскойЦеркви образовалась в 1923 году на съезде представителей русского духовенства, оказавшегося в результате гражданской войны в эмиграции. Специальным распоряжением патриарх Тихон, избранный в 1917 году (после ликвидации Петром I патриаршества) на первом Всероссийском Поместном Соборе, предписывал подчинение всех членов Русской Церкви, находившихся в то время за границей, — митрополиту Евлогию (Георгиевскому), также оказавшемуся в эмиграции и участвовавшему в работе съезда в Сремских Карловцах в Югославии. Однако большая часть епископов, собравшихся на этом съезде, посчитали, что патриарх Тихон, находящийся в условиях несвободы, дал это распоряжение как вынужденное, под давлением безбожной власти, и отказались подчиниться. Произошел раскол: часть приходов (преимущественно во Франции) осталась верна распоряжению патриарха Тихона и подчинилась митрополиту Евлогию, другая же часть перешла в подчинение образовавшемуся на том же съезде Синоду Русской Зарубежной Церкви. Резиденция последней в настоящее время находится в Джорданвилле в США, а вся Церковь возглавляется митрополитом Виталием.
В доперестроечное время никаких практически контактов между Московской Патриархией и Русской Зарубежной Церковью не было и не возникало никаких реальных серьезных проблем на территории СССР В 1990 году появились первые реальные трудности. Один из приходов города Суздаля, в результате конфликта настоятеля архимандрита Валентина с правящим епископом, заявил о выходе из–под юрисдикции (подчинения) Московской Патриархии и переходе в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви. Подобные прецеденты стали повторяться, и хотя общее число таких переходов в России едва ли превышает один–полтора десятка, проблема обозначилась достаточно определенно, появилась возможность возникновения параллельных православных приходов, не признающих Московскую Патриархию и подчиняющихся Русской Зарубежной Церкви.
При попытках со стороны нового патриарха, Алексия II войти в контакт с Зарубежной Церковью, ею были выдвинуты четыре условия:
Осуждение декларации митрополита Сергия 1927 года о лояльности Русской Церкви к Советской власти;
Канонизация новомучеников и убиенных членов царской семьи;
Прекращение всех экуменических контактов с иностранными Церквами;
Принесение всем духовенством Русской Церкви покаяния за нечистивое сотрудничество с Советской властью.
На встрече с московским духовенством 27 июня 1990 г. патриарх Алексий рассказал об этих условиях и о своей реакции на них. Он объяснил, что можно, конечно, по–разному относиться к декларации митрополита Сергия 1927 г., во–первых, как к необходимости, понимая те условия, в которых она была написана. А во–вторых, известные слова «ваши радости — наши радости» — нужно еще понимать и так, что Церковь, естественно, радуется успехам своей Родины и печалится о ее неудачах. Что же касается требования прекращения экуменических контактов, то патриарх Алексий считает, что инославными Церквами в тяжелые для Русской Церкви времена оказывалась большая поддержка. И было бы неверным сейчас, когда мы находимся в благополучном положении, сказать: «вы нам не нужны!» «Что лучше, —спросил патриарх, — считать зарубежных инославных христиан нашими братьями и сестрами или отвернуться от них?» Понятно, что первоиерарх нашей Церкви избирает первое.
Из самих требований, выдвигаемых Зарубежной Церковью в качестве условия для диалога, видно, что ее позиция, так же как, впрочем, и ее действия, представляются этически весьма уязвимыми. В самом деле, легко и безопасно требовать от Московской Патриархии покаяния за неизбежное сотрудничество с тоталитарным советским режимом, но никто не знает, как повели бы себя иерархи Зарубежной Церкви, окажись они не в Америке, а в России при Сталине или Хрущеве.
Сейчас уже появились названия «белая» Церковь, т. е. Зарубежная, чистая и «красная», т. е. Московская Патриархия. Что же? Красный цвет всегда символизировал мученичество, а быть «чистеньким» за океаном не так уж сложно.
Об экуменических контактах было сказано выше. Понятно, что позиция Зарубежной Церкви в этом вопросе крайне консервативная и противоречит духу Евангелия. Надо сказать, что именно в этом пункте наши ортодоксы весьма одобрительно отзываются о Зарубежной Церкви и поддерживают ее. Так что здесь создается определенная коллизия, так так, с одной стороны, принадлежность Московской Патриархии вроде бы предполагает поддержку мнения патриарха, но с другой — ощущение себя единственными носителями истины роднит наших консерваторов с Зарубежной Церковью, находящейся в явном конфликте с Патриархией. Следует отметить, что другие Православные Патриархаты до сих пор не признали Русскую Зарубежную Церковь и не имеют с ней никаких контактов.
Что касается переходов некоторых приходов в юрисдикцию Зарубежной Церкви, то ситуация здесь складывается довольно странная. Эти переходы происходят не по каким–то принципиальным соображениям, но лишь тогда, когда возникает ситуация конфликта с Патриархией. Или из–за того, что епископ вынуждает приход вносить непомерно большие взносы в епархию, как было с одной общиной на Дальнем Востоке. Либо из–за отказа подчиниться распоряжению епископа (быть может, и несправедливому), как произошло в Суздале. Или из–за того, что на один и тот же открывающийся храм претендуют две общины, а Патриархат поддерживает одну из них, в то время как вторая считает себя незаконно отвергнутой. Словом, появление альтернативной Православной Церкви создает необходимость всячески избегать возникновения подобных конфликтов..
Современное законодательство о свободе совести в принципе не препятствует регистрации приходов, избирающих юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви. Однако в вопросе о том, кто является правопреемником церковной собственности, возвращаемой Церкви (храмы, иконы, утварь), для таких приходов будут неизбежно возникать трудности, так как власти на местах ориентированы, как правило, на свою, Московскую Патриархию. Возникновение параллельных православных приходов крайне нежелательно, поскольку для простых верующих будет трудно понять все эти юрисдикционные тонкости. А отсутствие признания и общения между параллельными Православными Церквами приведет к нелепым ситуациям, когда люди не будут знать, в каком храме можно причастить, например, младенца, крещенного в храме патриархийном, а в каком, принадлежащем к Зарубежной юрисдикции, его причастить будет нельзя. В одной стране, в одном народе возникнут две совершенно неразличимые для вновь пришедшего Церкви, которые не будут признавать друг друга. Это ли исполнение молитвы нашего Господа о единстве Его последователей? Хочется искренне надеяться, что этого не будет и что иерархи Зарубежья проявят больше терпимости, любви и здравого смысла, чтобы не вносить разделений в наш народ, так нуждающийся в объединении усилий и возвращении к нормальной жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде всего, хотелось бы, чтобы те, кого эти заметки огорчат и, быть может, причинят боль или даже покажутся еретическими и возмутительными, поверили в то, что автором руководило лишь искреннее желание истины для нашей Церкви и нашего народа. Всем нам — и сторонникам консервативного подхода к церковной жизни, и сторонникам каких–либо реформ и нововведений — следует научиться уважать и понимать друг друга. Учиться ценить в одних серьезность и углубленность, в других открытость, широту и терпимость. Не забывать, что все мы служим одному делу — проповеди Евангелия.
Самые замечательные иконы со временем темнеют и нуждаются в реставрации, которая лишь помогает вновь увидеть их яркие живые краски. То же самое происходит и с Церковью.
Совершенно понятно, что «никто, пив старое вино, не захочет тотчас же молодого; ибо говорит: старое лучше». Но нужно думать не о своих привычках и симпатиях, а об истине и о многих тысячах наших соотечественников, с надеждой и робостью приближающихся к Церкви. И для них, и для нас многое из того, что накопилось за века в жизни нашей Церкви, может стать помехой, заградить доступ ко Христу. Ради любви к истине, быть может, стоит научиться отказываться от старого, привычного и обновить наши «мехи», сделать их подходящими для вечно нового вина Евангельской истины, чтобы она «не пролилась на землю» и не «пропала».
Эти заметки в основном были написаны в начале 80–х годов, когда ничто не предвещало тех новых отношений между Церковью и государством, которые установились сейчас. Новое законодательство о свободе совести, новые, действительно небывалые возможности, которые открываются перед всеми религиозными общинами, в том числе и перед каждым приходом Русской Православной Церкви, — это тот шанс, который дается Богом однажды за несколько столетий. Это величайшая ответственность — быть христианином сегодня, когда мы не можем сказать Богу: «Я не сделал тогото и того–то, потому что мне этого не позволил закон атеистического государства». Сейчас закон нам позволяет все то, к чему нас призывает Господь в Своем Евангелии, поэтому все зависит только от того, хотим ли мы потрудиться в жизни нашей не для себя, а для Господа.
Не будем забывать и то, что наибольшая заповедь не верность древнему благочестию, а любовь к Богу и ближнему. Выше этого нет ничего. Даже если я
…имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви — то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит: Любовь никогда не перестает…
(I Кор. 13:2–3)
Москва 1991 г.