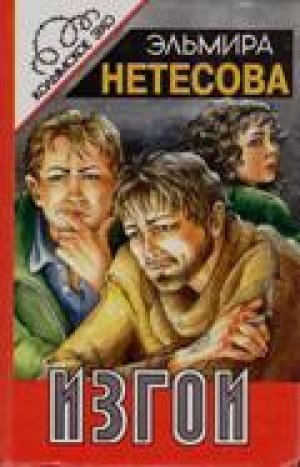
Глава 1. Дикая Кошка
Зинка отчаянно корчила рожи, задирая свой конопатый нос чуть ли не на лоб, открывая при этом щербатый рот, повизгивала, похрюкивала, дразня изо всех сил маленькую девчонку, сиротливо жавшуюся в угол. Та озиралась по сторонам, ища защиту и поддержку хоть у кого-нибудь. Ей было одиноко и страшно среди чужих.
Бе-е-э! — донеслось Зинкино блеянье. Малышка, поняв, что ее дразнят, расплакалась во весь голос.
Ну, только этого тут не было! Чего взвыла, дура? — успокаивала малышку худая как тростинка девчонка, какая и приволокла в заброшенную старую избу малышку.
Откуда ее взяла? Зачем приволокла? Иль нам своего мало? На черта этот геморрой? — спросила ее самая старшая из девчонок — Катька,
Бросили ее, — выдохнула Зинка, виновато оглядев голодную девчонку.
Подумаешь, удивила! Ее бросили. А мы откуда тут взялись? Нас, что, солнышко высрало и забыло подобрать? Иль ты всех таких притаскивать станешь? Тогда саму вышвырну! — пригрозила Катька.
Ее вчера выбросили из машины возле магазина. Оставили одну, сами поскорей смылись. Эта весь день ждала, когда за ней вернуться. Только сама знаешь, не бывает такого. Выкидывая, не забирают обратно. А она жрать хочет. Всю ночь ждала. Обоссапась. Никто даже не остановился. Сдохнет, если не возьмем к себе, — шмыгнула носом Зинка.
Чума сушеная! Она ж себе куска хлеба не сыщет. Нам ее кормить и одевать придется теперь. И снова морока в зиму. Она же ссытся еще!
Ничего! Вырастет, как и все мы. Ты знаешь, ее чуть не задавила машина. Эта увидела такси и кинулась к нему. Думала, что за нею! Водило едва успел вырулить. А чуть отъехал, остановился, выскочил и обматерил. Потом в магазин повел искать мамашу. Да где там? Вскоре вывел эту гниду, сам бегом в машину, чтоб не навязали, не заставили бы взять. С места как газанул, аж дым из-под колес. А эта — в рев!
Знакомо! Значит, не городская. Откуда-то привезли. Свои на такси не возят. Вытолкнут из дома, и кати, куда глаза глядят, пока не закроются. Напоследок пожелают самого лучшего: «Чтоб мои глаза тебя не видели! Забудь порог!». И так облают, что собаки удивляются, подбегают успокаивать: мол, ничего, мы живем, и ты не сдохнешь! Живи вольно! — осеклась Катька, смахнув слезу со щеки. И только тут подошла к девчонке.
Как зовут тебя? — спросила притихшую на минуту. Малышка глянула на нее и заорала еще сильней.
Тихо, ты! Как зовут тебя? Люда, Машка, Валька, Верка? — перечисляла имена, следя за лицом девчонки. Но та не реагировала.
Ни хрена не знает! И говорить, небось, не умеет. Сколько ж ей? Года полтора иль меньше? Во, геморрой навязался на нас! Иди, хавай, гнида! — повела малышку к столу к Зинке, велела поделиться, накормить новенькую.
Зинка! Хватит рыло косить! Возьми эту зассыху! Умой ее! Дай пожрать. И положи спать рядом.
Она ссытся! Иди в жопу. Не хочу с ней рядом! — послышалось из угла.
Ты даже сралась! И заткнись! А то живо вломлю! — пригрозила Катька. И та послушно спрятала новенькую у себя под боком, кормила хлебом, селедкой, колбасой.
Маленькая, а жрет как собака. Все пальцы покусала, пока кормила. Видать, давно не жравши. Голодней пса бездомного. Хотела умыть, а она заснула. Теперь уж пусть дрыхнет. Потом, когда проснется, вымою со всех концов разом, — кивнула Зинка на спящую, свернувшуюся в маленький комок.
Во, бляди! Скоро вовсе грудных выкидывать станут. Зачем тогда рожали? Будто мы у них на свет просились! А на хрена нам эта жизнь сдалась? Уж лучше б аборт сделали. Себе и нам дешевле! — выдохнула Катька, но, глянув на меньших, осеклась. Эти еще не понимали, о чем она говорила, и лишь любопытно слушали.
Катька была заправилой малолетних бомжей. В прошлом году вдвоем мучались. Теперь двое мальчишек прибавилось. И вот эта — последняя. «Значит, уже пять», — морщится девчонка, считая на пальцах своих младших.
Как же ее назовем? — спрашивает Зинку, вцепившуюся в сухарь.
Может Олькой иль Танькой? Нет! Лучше Иркой!
Зинка! Ну, что ляпнешь? Как обзовем новенькую?
Геморрой! Иль гнида!
Во, змея! А если тебя так звать станем?
Зинка враз умолкла, нахмурилась.
Пускай будет Шуркой! — предложила Зинка, немного подумав. И рассказала, рассчитывая, что слушает ее Катька, а ей необходимо знать все.
Я бутылки вытаскивала из урны, что возле магазина. Вижу, машина остановилась. Желтая. Но не такси — жигуленок. Шурка лишь по цвету ее запомнила. Из нее баба вышла. Вся седая, морщатая как барбоска, какие из деревни за хлебом приезжают. И машина грязная. Сразу видно, сдалеку приехала. Я еще хотела у нее на хлеб нам попросить. Но баба выволокла эту, ну, Шурку. Взяла за руку, повела к магазину. А у него два входа и выхода. Пока она шла, водило к другой двери подъехал, остановился и ждет. Баба оставила двери. Ятут же выскочила из другой двери, сразу запрыгнула в машину и уехала. Шурка ничего не успела приметить. Всякую бабу в лицо разглядывала. Свою ждала. Ее уже и след простыл.
Машину запомнила? — перебила Катька.
Хрен там! Не без дела слонялась. Я ж посуду сдала. На сорок рублей! На! Возьми! — протянула деньги и продолжила: — Повезло! Одних «Чебурашек» десяток накидали. Все пивные. Да «гусей» винных набралось.
Ты не видела, менты к Шурке подходили? — перебила Катька.
А толку? Один подвалил. Посмотрел на нее, огляделся вокруг. Допер. И ходу! Чуть не бегом от ней! Да и на что ему чужая? Говорят, им теперь своих кормить нечем лягашат! Деньги не дают давно. Вот они и злые! Как собаки! Раньше никому не помогали, теперь и вовсе с бомжей готовы шкуру снять.
Это точно! Вчера иду на базар мимо многоэтажки, там, в подвале, наши прикипелись. Уже давно. Глядь, двое ментов бомжей выдергивают. И грозят: «Пока не отбашляете из бухарника, до смерти не отпустим. Поканаете без жратвы и воды, разом «бабки» сыщете. На халяву не дадим здесь дышать. И так жильцы все ухи прозудели». Ну, я смотрю, чем кончится? Вышел ихний бугор, достал из карманов все, что было, отдал лягавым. Те бомжей отпустили, а бугру ихнему трепались, что жидко он благодарит за защиту и заботу. Обещались через неделю возникнуть. Во, падлюки!
А если к нам нарисуются? — вздрогнула Зинка.
Мы им не кенты. У нас полный облом получат. Во, выкусят! — отмерила Катька по локоть, рассмеявшись: — С мужиков сорвали. Там в камере не клево канать. А нас в камере не приморишь. Глянь на мелкоту. Всех надо устроить, дать пожрать, спать уложить, помыть. Где это все возьмут? Сами не жравши. Не до нас. Срывают пенки, где «на пушку» можно взять.
И то правда! Никому мы не нужны. Даже ментам! — согласилась Зинка и спросила: — А ты как?
Сегодня тихо. Никто не встретил. Чирий обещал вчера рыло намылить, если опять увидит, что промышляю на базаре. Забрать его себе решил. У него кодла большая. Все жрать хотят. Вот и выдавливает меня. Прижал возле ларька за глотку и шипит, мол, не слиняешь сама с базара, подставлю. Дышать разучусь.
С-сука гнилая! — разозлилась Зинка.
Я придумаю ему облом! — усмехнулась Катька криво. И закурила сигарету из пачки, какую вытащила у Чирия во время ссоры.
Катьку знали все малолетние бомжи города. Ее боялись и неспроста дали этой девчонке кличку Дикая Кошка. Мало того, что дралась она не хуже целой своры бомжей, материлась злей бухой свалки, умела подстроить любую пакость, оставшись при этом в стороне. Но, на такое способны были и другие. Она же считалась самой удачливой воровкой. Стоило Катьке прийти на базар, после нее другим бомжам там нечего было делать. В ее бесчисленных и бездонных карманах, за поясом, за пазухой и в рукавах мог спокойно вместиться целый колбасный ряд.
Она шла мимо гор колбасы, лишь изредка приостанавливаясь. Ни одна из продавцов не заметила ничего подозрительного за нею. Ну, подумаешь, остановилась взглянуть на цену, поправила ценник. Похвалила запах, пообещала привести мать и пошла. Но куда подевались три палки сервилата? Словно сами убежали следом за девчонкой. А та уже другой зубы заговаривает. Остановилась, где народу побольше, сарделек натаскала, пока продавщица покупателей обслуживала. Потом в рыбный ряд подалась. Конфеты и булки, печенье и яблоки, сигареты и жвачку, даже сметану уносила из-под носа у торговок. Возвращаясь к своим радовалась:
Хорошо нагрела блядей! С каждой налог взяла! За нас! За всех! — выгружала все в кучу.
Налетайте! Жрите! Сегодня повезло! Завтра не знаю, как получится!
Нет, ни одна Катька кормила кодлу. Этим занимались все без исключения.
Даже пятилетние Женька и Димка каждый день проверяли свои владения — целое кладбище на окраине города. Здесь родственники покойников просили помянуть и давали детворе конфеты и печенье. Оставляли и покойнику мясо и хлеб, водку и фрукты. Димка с Женькой забирали все подчистую. Даже пустые бутылки и окурки.
Конечно, не каждый день были похороны, но кладбище не пустовало никогда.
Дикая Кошка требовала со всех посильной отдачи. А кто пробовал отлынивать, нарывался на Катькины кулаки — костлявые, безжалостные, быстрые.
Катька бомжевала уже не первый год и вовсе забыла, как жила прежде. Это было так давно, будто в розовом детском сне, какой чем реже вспоминаешь, тем спокойнее живешь.
Катька курит. Пускает дым изо рта ровными колечками. Курить она стала сразу, как только оказалась на улице. Ее вытолкнула среди ночи из квартиры чужая тетка, повадившаяся к отцу. Куда делась мать, девчонка узнала позже. Баба выхватила ее спящую из кровати и, пока отец спал, выкинула за дверь, пригрозив:
Вернешься, голову оторву своими руками, сучье семя!
Катька долго сидела на скамейке во дворе, ожидая, когда отец протрезвеет и пойдет искать ее, вернет домой, прогонит чужую тетку. И, посадив на колени, погладит по голове, скажет тихим голосом: «Прости, Каток, больше никого не приведу к нам. Будем жить вдвоем. Никого не надо. Не повезло с мамкой, а ведь своя была. Чужие не станут лучше. Расти быстрее, дочурка! И забудь все…». Такое было один раз. Вторично этого не случилось.
Отец стал часто пить. Он забывал о дочери. А когда приводил новую бабу, говорил Катьке, что это — ее мать. Она не верила и не назвала матерью ни одну. Она пыталась выгонять их. И тогда отец стал закрывать дочь в ванной. Когда она стала стучаться среди ночи, выпроводил во двор погулять. Утром она вернулась. Отец не попросил прощенья. Подвинул тарелки с объедками и ушел в спальню, даже не глянув, как продрогла девчонка на холоде.
Катька до вечера не могла согреться. Отец с чужой бабой ушли на работу. Вечером он вернулся, неся в сумке водку и пиво. Вскоре заявилась и баба.
Пап! Я устала от чужих теток! Прогони ее! Пусть она идет к себе домой! — попросила Катька.
Но на улице оказалась сама.
Катька! Ты чего сидишь как шиш? Примерзнешь к лавке! Твово пропойцупробудить! Конченый он, пропащий! Беги к бабке своей! Может, примет, коли жива! Что-то давно ее не вижу. Раньше частенько навещала, — услышала голос дворничихи.
И вспомнила! Ведь у нее и впрямь когда-то была бабка! Она приносила много гостинцев: сладкие груши и яблоки, пироги и варенье. Отец водил к ней Катьку летом. Бабка жила в старом доме за городом. У нее был большой сад. И Катька верила, что это — дремучий лес, где живут колдуны и царевны, серый волк и колобок вместе с жар-птицей. Бабка знала много сказок и не скупилась на них.
Катька спала вместе с нею на толстой перине и считала себя принцессой на горошине.
Вот только как найти ее? — обрадовалась девчонка. Дворничиха подсказала.
Катька к обеду кое-как разыскала дом. Дверь оказалась заколоченной, окна забиты досками крест- накрест. Девчонка сразу поняла все. Без слов дошло: умерла. А ей надо жить…
Никому не было дела до Катьки. Как жила она одна, никто не поинтересовался. Девчонка, лишь немного погодя, узнала, что эта бабка — по материнской линии. Мать здесь не любили.
Катька ее не помнила. Но услышала от досужих, что родительница нынче торгует на базаре, подвязалась продавать фрукты кавказцев. И заодно сожительствует с ними, со всеми подряд.
Девчонка первые дни присматривалась к каждой торговке фруктами. «Может эта? Она?», — спрашивала себя. Но в памяти не застряло ни одной знакомой черты. А бабы, увидев ее, судорожно глотавшую слюни, гнали зло, яростно, отбрасывали от прилавков.
«Нет, не она!» — поднималась девчонка с бетонного пола, потирая шишку от удара. В глазах все плыло. Хотелось есть.
«Меня за сраное яблоко убить готовы. Да разве есть среди них хоть одна мать?» — заплакала не столько от боли, сколько от горя.
Чего ревешь? Трясти их надо, сучек! Подстилки вонючие! Наколи! Нехай до смерти натурой платят! Не проси! Стызди! И все тут! — увидела рядом пацана с насмешливо прищуренными глазами. Он подмигнул и спросил глухо: — Иль слабо?
Катька восприняла подначку по-своему, ухмыльнулась в ответ и пошла мимо рядов, даже не глядя на торговок.
Пацан, подтолкнувший на воровство Катьку, сам уже не первый год промышлял на базаре и с любопытством следил за девчонкой. Он держался неподалеку на случай, если той понадобится защита или помощь. Но Катька спокойно шла с толпой, задержавшись на секунду возле нескольких торговок колбасой, сыром, конфетами. Но ничего не мелькнуло в ее руках. И пацан понял: струсила, не умеет, мала…
Он уже собрался уходить, когда услышал за спиной бабий визг:
Украли товар! Во, суки! Колбасу сперли! Целых три палки! Чтоб им колом в горле встало! — оглядела сгрудившихся покупателей, приметила Катьку. Их взгляды встретились на миг, и девчонка не выдержала, выронила из-под кофтенки колбасу, побежала к выходу.
Держи воровку! — заблажила баба. Ее крик подхватили все торговки.
Люди оглядывались, они думали увидеть настоящего вора. На бегущую девчонку никто не обращал внимания, и она вскоре выскочила с базара.
Свернув за угол к павильонам, она плакала. Не от страха, жаль стало оброненной колбасы. Ее хватило бы надолго.
Катька, пошмыгав носом, уже собралась возвращаться домой, да тут внезапно кто-то поймал за плечо. Девчонка подумала, что торговки приметили. И, вывернувшись из-под руки, помчалась так, что догнать ее бабам было бы невозможно. Но… рука жестко схватила за локоть:
Стой, дура! Это я! Не ссы…
Девчонка увидела того самого пацана. Он усмехался без злобы:
А ты клевая зелень! Щипачка из тебя получится прикольная. Так трясла, что я ни хрена не увидел. Кто тебя ковал?
Катька не поняла.
Тебя учили трясти торгашек? Кто? Чья ты есть? — спрашивал пацан.
Ничья! Сама своя! — нахмурилась девчонка. Не пизди! Никто сам по себе да еще впервой так не сумеет! Колись! Я свой! Тоже из бомжей! На кого вламываешь? Кому навар даешь?
Катька смотрела, не понимая.
Ломаешься мокрожопая? Я не сука! Ментов не приволоку к твоим! Может, вместе сдышимся? Во будет облом!
Но, узнав от Катьки, кто она, откуда и чья, челюсть
Так вам ко мне! У нас полно! Всему научим: махаться и смываться, щипать и накалывать! Все сумеешь! — потащил девчонку к заброшенной стройке.
Проведя длинными лабиринтами бетонных этажей, приволок в какую-то немыслимую темную комнату без окон. Там, прямо на полу, сидели, лежали мальчишки и девчонки старше Катьки. Одни играли в карты, курили, другие пили прямодаже водку. А в глубине, в самой темноте, кто-то тихо смеялся, шептал, стонал.
Ну, вы! Завязывайте кайф! Распустили сопли! Кончай базар! Сыпь сюда! Гляньте, кого приволок! — позвал пацан обитателей бетонных джунглей.
Изо всех углов на свет стали выползать и выходить пацаны и девчонки грязные, лохматые, растрепанные. Они глазели на Катьку, не понимая, откуда и зачем свалилась она сюда?
Чирий! На хер тебе она? Ведь полно прикольных метелок! С ними хоть куда! Она на кой? — трезвели от удивления.
Прирожденная щипачка! Я косел от нее! Она всех переплюнет! Если темню — сдохну! Она у нас останется. С нами будет. Кучеряво задышим! Немножко подшлифуем и все! Надо ее научить махаться, вешать лапшу лохам на уши, и тогда прибарахпим ее, выпустим на охоту… Нет! Я торчу от этой мокрожопой! Как классно она накалывала торгашей! — рассказал о знакомстве с Катькой на базаре под громкий смех.
Со следующего дня, даже не спросив согласия, Катьку взялись учить сразу трое пацанов. Девки свою науку вдалбливали: грязную, бесстыдную. И Катька без разбора впитывала в себя всю грязь как губка.
Уже на третий день ей дали сигарету:
Кури! — заставили иль потребовали, она не поняла. Но уже скоро научилась курить взатяжку, пуская колечки.
В первой драке получила кучу синяков и шишек, Зато во второй раз, не пожелав быть избитой, так вцепилась зубами в задницу мальчишке, обучавшему ее, что тот две недели сесть не мог. Потом научилась пускать в ход кулаки. Но тогда они были еще слабыми: не сшибали с ног, не опрокидывали на спину. От них никто не отлетал к стенке, в угол, редко кто плакал. Это злило Катьку. Хотелось стать сильнее всех, чтоб только ее хвалили, и никто не посмел бы смеяться и дразнить.
Катьке хотелось, когда немного подрастет, прийти к отцу, избить ту ненавистную чужую тетку, выгнать с позором из дома и пригрозить отцу совсем по- взрослому. А может даже выгнать на улицу на недельку без жратвы и денег, чтоб дошло до него то, что она пережила.
Катька обдумывала план мести, но пока она не выросла, он не мог осуществиться.
Бомжи Чирия учили Катьку каждый день. Трезвые и пьяные. Чаще эти занятия походили на избиения или истязания, долгие и жестокие.
Они всегда начинались, когда Катька возвращалась с базара вместе с Чирием и двумя другими бомжами, которые еле волокли все, что она украла. Этого хватало кодле по самое горло на целый день. Дальше шла учеба. Она была благодарностью бомжей за сытую жизнь.
Катька от боли до утра не могла заснуть.
Терпи тихо! И помни, только тогда станешь настоящей бомжихой, когда сумеешь все! Воровать могут и другие. Теперь каждый крадет. Все и всюду! Где обломится. Гля вокруг! Тянут отовсюду, где что плохо лежит. И не только бомжи! Не столько мы, сколько те, кто живут семьями. Им всегда и всего мало. Нам нужны крохи, им — весь свет. Зато, чуть где шухер, нас во всем винят. Сосед у соседа выкопал картошку ночью, а обвинил нас. Баба походя стащила с вешалки у торговки халат, а на нас свалила. Лучшие друзья обкрадывают под шумок дачи, чтоб свои достроить, опять мы крайние. Нас колотят все: горожане, менты, торгаши. Если не сумеешь выдержать, дать сдачи, вломить сама — сдохнешь! Потому теперь терпи! Учись и сил набирайся. Ты должна все уметь! — учил Чирий.
Он каждый день ходил вместе с Катькой на базар, и девчонка привыкла к его сопровождению. Он шел следом, не подавая вида, что знает, оберегал Катьку от неприятностей и всегда говорил: «В случае чего, защитим и выручим».
Уроки кодлы не прошли бесследно. Через год девчонка знала и умела очень много. Но однажды оплошала. Залезла в сумку к торговке за водкой, а напарница оглянулась и увидела. Схватила за горло, да так тряхнула Катьку, что та через голову перевернулась. Из карманов посыпались сигареты и жвачка, кофе и колбаса, дорогие защитные очки и часы, какие украла незадолго до этого. Торговка успела подскочить к девчонке, когда та не пришла еще в себя. Шум, визг, брань, угрозы насторожили милиционеров. Двое подскочилив тот момент, когда Катька открыла глаза. Ее вмиг поволокли к машине, дежурившей на площади перед рынком.
«Где Чирий?» — озиралась девчонка по сторонам, не обращая внимания на пинки и оплеухи, болезненные затрещины, пощечины, сыпавшиеся со всех сторон. Она даже не плакала, не чувствовала боли. В кодле дубасили сильнее. Привыкла, стерпелась. Другое болело. Неужели ее бросили и оставили одну. Как ни вглядывалась, никого из своих бомжей не увидала.
В милиции ее сразу посадили за решетку в дежурной части.
Ты чья будешь? Кто послал воровать? — спросил Катьку мордатый мужик, оглядев девчонку устало.
И та вмиг вспомнила все, чему долго учили бомжи. А впрочем, впрямь говорила правду:
Нет у меня никого! Сама живу. Воровать никто не посылал. Жрать хотелось…
Очки с часами — тоже жратва? А водка тебе зачем? Для кого ее стащить хотела? — грохнул кулаком по столу.
На компрессы…
Я тебе такой компресс поставлю, что водка не потребуется до смерти! — схватил девчонку за ухо, вывернул его так, что оно захрустело.
У Катьки слезы из глаз брызнули:
Дяденька! Отпустите! — завизжала на весь кабинет.
Говори все, как было! Иначе голову сверну! — протянул к горлу Катьки волосатые красные руки.
Та глянула — поверила. И ей вдруг нестерпимо захотелось жить, выскочить отсюда. Мигом набрав полный живот воздуха, оттолкнулась от угла всем телом и с размаху, со всей силы, в один миг долбанула головой в пах раскорячившемуся человеку. Другое на ум не пришло. Дежурный никак не ожидал. От дикой боли свалился на пол, вытаращив глаза. Ему было адски больно. Катька, глянув в перекошенное лицо, бросила зло:
Схлопотал? Теперь канай, падла! — и не теряя ни секунды, выскочила из милиции, запетляла закоулками, бегом, без оглядки, понимая, что очухается дежурный еще не скоро. Знала, теперь ее станут пасти по всему городу, а потому, нужно хотя бы на время спрятаться где-нибудь понадежнее и никуда не высовываться. Но… Как жить? Ведь Катька не сумела сколотить для себя заначник. Да и как? Все забирал Чирий. А вот теперь ей надо позаботиться самой о себе.
Девчонка пробиралась все ближе к окраине города. Скоро дом бабки. Там можно перевести дух, забыться на время. Хорошо, что теперь лето. Не надо топить в доме. А если пузо слишком припечет, можно залезть к кому-нибудь в огород, накопать картошку, нарвать лук. Не очень сытно, но терпимо…
Она и впрямь уже ночью подкопала на чьем-то огороде картошку. Но ее хватило ненадолго. Катька, подумав, решилась попытать удачу на загородном рынке, совсем неподалеку.
«Искать меня станут на центральном базаре, а я — хрен им всем. Обхитрю. Здесь пока обживусь».
Уже через пару часов вернулась с базара довольная. Две палки колбасы, кулек конфет, хлеб и кусок деревенского сала выложила на стол. И услышала чьи-то шаги под окном. Мигом запихнула в стол все принесенное. Хотела закрыть дверь на крючок, чтоб никто чужой не вошел, но не успела. На пороге стоял Чирий.
Катьку перекосило от злобы:
Тебе чего тут надо? Зачем затусовался, мудило? — почувствовала, как руки сами сжимаются в кулаки.
Чего топорщишься, дура? С чего оскалилась? Возник, чтоб глянуть: вернулась или нет? Кодла собирается сегодня тебя с ментовки снять! Вчера пытались, но не обломилось. Надо остановить, вякнуть, что ты уже слиняла. Как сквозанула? Сама, иль выперли менты?
Сама! Но и ты пыли отсюда! Завязала с вами. Доперло? Ботал, что выручите, отнимете меня, если зашьюсь. Да только брехали все. Никто из вас не выручил. Смылись все как бабы. А меня чуть не размазали торговки. Потом в ментовке добавили. Где все канали? Небось, когда ментов увидели, в штаны насрали?
Не кипишись, Катька! Облом не только у тебя получился в тот день. Засыпались еще двое наших. Их на «точке» чуть не размазали. Стыздили магнитолу из- под прилавка, а менты засекли. На сапоги наших взяли. Теперь в больнице под охраной, но в себя не пришли. Их снять надо. Иначе «засолят» под запретку.
А мне что с того? Про них думаете — я всем до жопы! Пока навар давала, была нужна. Засыпалась, и вы про меня память просрали. Сорвались как последние мудаки! Да с чего я тебе поверю после всего! Не стану на вас пахать, суки облезлые! Вот ты возник! А подумал, что мне тоже жрать надо! Я вас сколько держала! Теперь высунуться нельзя никуда! Менты застопорят враз! Ты хоть пожрать принес мне? Иль башлей отстегнешь?
«Бабки» имею, но дам, если к нам нарисуешься!
Во, отмочил! Дашь, чтоб взять тут же? Пес облезлый! Я на вас сколько пахала?! — взялось пятнами лицо девчонки, ей стало обидно, что сочли за дуру.
Гони «бабки»! Мое верни! — потребовала хрипло.
Вот тебе! — отмерил Чирий по плечо. Ухмыльнулся, сел, развалясь на стуле, закурил, пуская дым в лицо Катьке.
А знаешь, ты хоть и чумная дура, но скоро знатной метелкой станешь. Так вот первым я тебя натяну! Потому что сам привел в кодлу! И ты от меня не слиняешь! Так что не шеперься, крыса блохатая!
Что? Козел вонючий! Вон! Линяй!
А может теперь побалуемся? Не шипи, не разевай пасть! — встал и пошел к Катьке вразвалку.
Чирию было пятнадцать лет. Катька не только многое слышала, а и видела, какая она, эта любовь бомжей.
«Смотри, учись, скоро и сама в нее играть станешь. Стоит один раз… Потом этих Любовей столько будет, всех и не запомнишь, не сосчитаешь враз. Последний годок остался, если наши дотерпят», — хихикали бомжихи немногим старше Катьки.
«Тебе бояться нечего. А вот Юла уже два раза аборты делала. Теперь вот сифилис у нее. Врачи сказали скоро сдохнет. Потому колотят все, чтоб быстрей откинулась», — вспомнилось Катьке.
«А кто заразил ее?».
«Чирий…».
Мальчишка и глазом не успел моргнуть, как табуретка разлетелась на его голове. Он упал, ткнувшись головой в ноги Катьке. Та еле выволокла пацана за порог, а потом долго отмывала руки.
Закрыв окна ставнями, а двери на крючок, долго наблюдала через щель за Чирием. Тот не скоро пришел в себя. Когда встал на ноги, долго матерился. Уходил, шатаясь, обхватив руками голову.
Катька победно смеялась вслед. Ведь успела обшарить все карманы пацана. Вытащила и рубли, и доллары. Ничего ему не оставила. И теперь радовалась, что пусть не все, хоть малую каплю вернула, отняла у кодлы. Вот только одно пугало: не оставят ее бомжи в покое…
«Как от них отвязаться? Сама себя я всегда прокормлю! Но эти! Всю душу вымотают, если вовсе не выпустят ее», — вздыхала девчонка.
На следующий день Катька с раннего утра ушла из дома. Она слонялась по городским рынкам, магазинам, прячась от милиции. Да вдруг кто-то схватил за плечо, поволок в подворотню:
А мы тебя шарим, мандавошка!
Это был Чирий с закадычным корефаном, слюнявым, гнилозубым, какого все звали Червонцем. Этот пацан поставлял малолетних проституток кавказским торговцам и, получая деньги за услуги, отдавал Чирию. Он искренне считал, что ни на что другое ни одна девка не годна. А для временных связей малолетки пользовались особым повышенным спросом. Самому Червонцу было четырнадцать лет. Он уже давно считался пройдохой и наипервейшим кобелем. Если бы не его пристрастие к анаше, он стал бы главным у малолетних бомжей. Но эта тяга его подводила.
Гошка познал девок, когда ему не исполнилось семи лет, и гордился, что у него волос на башке не выросло столько, сколько он поменял девок.
Приставал Червонец и к Катьке, но не повезло: саданула девчонка в глаз. Гошка с воем отскочил. Решил подождать немного и не зажимать у стены, а в углу, из какого не вырваться.
Попалась, сука?! Ну, что теперь взвоешь? — прихватил Чирий за горло Катю.
Затрахать ее прямо здесь. Тут и откинется козлуха! — придержал Червонец руку Чирия и потянулся к Катьке, осклабив гнилые зубы. — Не дергайся, зараза! — разорвал юбку и собрался расстегнуть штаны.
Он забыл, как долго и старательно учил девчонку драться. Та и воспользовалась. Врезала ребром ладони по шее там, где сонная артерия. И тут же Чирию в пах коленом наподдала. Гошка свалился молча. Колька с воем согнулся. Сквозь стиснутые зубы процедил вслед:
Урою суку! Так и знай…
Катька не поторопилась домой, зная наверняка, что Чирий с Червонцем завалятся следом. Она набила карманы и рукава всякой всячиной. Свернула к одинокой скамейке возле какого-то дома, стала есть жадно, почти не жуя. Почувствовала на себе чей-то взгляд, вздрогнула невольно, увидела перед собой худющую девчонку. Та смотрела на Катьку, жадно сглатывала слюни.
Ну! Чего сопли развесила? Греби ластами ко мне! — позвала девчонку. Та не промедлила.
Ты откуда? — спросила Катька.
Девчонка вцепилась в колбасу насмерть. Она никогда не ела сервелат и, услышав вопрос, громко икнула. Рот был забит полностью.
Жри! Потом ответишь, — махнула Катька и с удивлением заметила, что у девчонки от старания жевать быстрее даже жилы на горле вздулись. А в животе все звенело, урчало, будто там закипал большой котел.
Зинка я! — выдохнула, проглотив.
А я — Катька! — схватила последний кусок сервелата, пропихнула пальцем в рот.
Хочешь сардельки? Индюшиные! — похвалилась Катька и стала вытаскивать из рукава сардельки.
Зинка во все глаза смотрела на девчонку и, все же не выдержав, спросила:
Ты — волшебница? Всамделишная?
Ага! Я даже прикольней их!
Зинка не поняла, но сардельки уплетала, не очистив их от кожицы.
А ты чья? — спросила Зинку.
Я? Голдбергова! Ну, его подруга!
Кто он — этот, как там его, не врубилась я? — призналась Катька.
Ты реслинг по телику смотришь?
Катька рассмеялась:
Я сам телик не видела давно.
Жаль! То б знала, кто есть Голдберг! Я из-за него кобеля своего так зову!
Катька сарделькой подавилась. Едва продохнула:
У тебя уже кобель? Во, прикольная! Сама меньше меня, а уже — телка!
Но он такой хороший, добрый, верный! — защищала Зинка Голдберга.
А почему он тебя не кормит?
Как? Это я его должна кормить. Да нечем! Вот за него меня выгнали из дома. Потому что все котлеты ему отдала.
Хорош хахаль, твои котлеты жрет! Нет бы купил и тебе принес! А то, как наш Гошка! С девок все берет.
Не поняла! Как мой Голдберг купит пожрать? Он — пес! Собака! Где деньги возьмет? — округлились глаза Зинки, она даже про сардельку забыла, зажатую в кулаке.
Катька хохотала во весь голос:
Так ты про собаку, а я про кобеля подумала! Человечьего!
Зинка густо покраснела:
У меня только пес! Мы с ним совсем вдвоем остались. Нам не велели вертаться. Если вздумаем, обещали башки отрубить и сварить на холодец. А мы не хотим, чтоб вместо котлет сожрали, — сопнула Зинка и вспомнила про сардельку.
Выходит, ты — ничья?
И я, и Голдберг! Мне велели его прогнать! Тогда бы может и оставили. Но… Он меня всегда от всех защищает. Я не могу без него!
А где живешь?
Теперь нигде, — опустила голову Зинка и добавила, вздохнув: — Уже неделя прошла. Думала, искать станут, позовут… А когда милиция меня забрала, и позвонили домой, оттуда ответили, что не нужна я им, и обратно не возьмут. Что мне — дуре — собака дороже родных, а коль пес заменил семью, пусть и живет с ним…
Во, козлы! Лишь бы причину сыскать. Ну да хрен с ними! Пошли ко мне вместе с твоим, как его, не запомнила?
Ты берешь меня и Голдберга?
А что? Не хочешь?
Твои меня не возьмут. Еще и тебя из-за нас вытурят!
Некому! Меня тоже выкинули. К собакам. Совсем давно! А я жива! И ты не ссы! Не сдохнем! Где твой блохатый черт? — глянула вокруг и приметила у забора громадную кавказскую овчарку.
Ну и харя у него! Здоровый гад! Небось много котлет надо жрать, чтоб такое рыло заиметь! Но у нас с тобой котлет не будет, — предупредила Катька.
Да он все ест, что найдет. Если хлеб будет, ничего больше не попросит. И блох у него нет! — защищала Зинка друга.
Тогда годится! Сдышимся! — позвала Катька за собой и повела домой девчонку и собаку.
По пути узнала, что Зинка умеет. Оказалось, что немного.
«Ладно! Дотяну!» — решила про себя и впустила в дом обоих.
Катька рассказала Зинке о себе. Скрывать не стала ничего. О Чирии и Червонце предупредила, мол, конечно, придут.
А ты не бойся! С нами Голдберг! Он не даст нас в обиду! — отмахнулась Зинка.
Я не боюсь, но они могут дом поджечь!
Нет! Голдберг сдалека чует. А если услышит рядом с домом, выскочит и в клочки порвет. Он умный!
— кормила пса хлебом. Тот ел жадно, глотал, не жуя.
Вот это — Катя! Ее любить надо и охранять как меня! Мы теперь здесь жить будем! Сторожи всех! — разговаривала Зинка с собакой. Пес, казалось, не слушал, уплетал хлеб, но вот насторожился. Зарычал. Пошел к двери, толкнул ее и выскочил во двор с рыком, леденящим душу.
Вскоре до девчонок донеслись вопли.
Прижучил! — обрадовалась Зинка и выскочила следом за Катькой во двор.
Первое, что сразу бросилось в глаза обеим, так это голая задница, застрявшая в штакетнике. Обрывки брюк висели на ногах, голова и плечи человека болтались на улице и стали добычей пса.
Червонец! Падла! Помоги! Куда ты смываешься? Подожди! — кричал застрявший.
Катька с Зинкой увидели, как петляя по улице, бежит человек, на каком нет ничего, кроме обрывков рубахи. Он убегал с такой скоростью, что удивленная собачья свора так и не поняла: за кем или от кого он бежит? На своей, пусть и окраинной улице, псы ни разу не видели дикарей. Не решились нагонять.
Голдберг тем временем искусал руки, плечи и спину Чирия. Он давно мог бы перегрызть горло человеку, но хозяйка не давала такого разрешения, и пес развлекался, оттягивая развязку.
Ну что? Попух, лопух? — рассмеялась Катька, подойдя совсем близко.
Скалишься, метелка? Твой верх! Сама додумалась иль надоумили? — спросил хрипло пацан.
Еще слово, и пустим тебя на чучело. Милиция за твою поганую башку все мои грехи простит и премию даст. Своим ты тоже не нужен! Последний твой корефан сбежал! Бросил. У тебя научился делать ласты. Так тебе и надо!
Катька! Убери пса! Не то самой кентель оторву!
— пообещал Чирий.
Попробуй, оторви! — подошла ближе.
Забери пса! — взмолился пацан.
Нет! Пусть пошалит! Спереди он тебя уделал. Теперь с другой стороны достанет! — позвала Голдберга и указала на голый зад: — Вырви у него все, что достанешь!
Пес ждал команды Зинки. Та молчала, думала, а потом сказала тихо:
Он может загрызть насмерть, но стоит ли? Может, пусть сам уйдет навовсе? Как мы с Голдбергом. И не возвращается никогда…
Слышь, ты? Что вякнешь? — спросила Катька Чирия. Тот, чуть не плача, поклялся никогда не возникать.
Зинка позвала пса в дом. Чирий вскоре исчез. Катька одна понимала, пацан больше никогда не придет сюда, но по всему городу малолетние бомжи устроят на нее облаву. Сколько ни старайся, от мести не уйти.
А ты меня насовсем взяла? — внезапно спросила Зинка и добавила, вздохнув: — Я знаю, те пацаны теперь не придут. Выходит, мне тут делать нечего. И Голдбергу… А даром, как мои говорят, никого не кормят.
Да вам идти некуда. Живите покуда. Там увидим… Конечно, ты ни хрена не умеешь. Но, может, научишься чему-нибудь. Ведь не сдохла, хотя давно ушла из дома…
Меня Голдберг кормил: то хлеб с помойки принесет, то селедочные кишки, а один раз котлету мне отдал. Кто-то выбросил. Небось, завалялась в холодильнике, сами жрать побоялись, нам гостинцем стала. Так и выжили.
А ты меня ментам не высветишь? — выдала свой страх Катька.
Зачем? С тобой хоть как-то проживу, а менты кто мне?
Зинка не умела лукавить и говорила напрямик. не испортила девчонку. К ней не решились подойти бомжи, боясь Голдберга. Он невольно уберег от общения с ними.
А знаешь, кажется, я придумала, что смогу делать! Буду собирать пустые бутылки и сдавать их за деньги!
Так их тебе и рассыпали! — рассмеялась Катька.
Знаешь, я один раз на целых двадцать рублей набрала. Возле магазина. Хлеба купила на все. От пуза нажрались! А если хорошенько поискать? Да их по мусорным контейнерам всегда полно! Одно плохо: на них много охотников. Даже дерутся. За каждую бутылку. Сама видела. Но в скверах, возле пивных, даже на кладбище, что-то и нам останется!
А и правда! Пусть маленький, но навар. Лучше что-нибудь, чем ничего, — согласилась Катька.
На следующий день Зинка пошла на кладбище. Катька, узнав, куда собралась Зинка, не поняла:
Да разве мертвяки и на том свете бухают? Им что, при жизни не хватило? Интересно, откуда они «бабки» берут? Небось, живых алкашей трясут. То-то мой родитель, ужравшись, все со своим отцом виделся. Даже спорил. И ты смотри, чтоб у тебя последнее не отняли — Голдберга! Он хоть и сам кусается, но и его на закусь пустить могут…
Зинку от такой шутки затрясло, но осекать Катьку побоялась и ушла молча с сумкой на плече.
Вернулась она уже в сумерках. Катька еще не пришла, и девчонка, разгружая сумку, довольно улыбалась.
Еще на кладбище досыта накормила Голдберга Было чем: с пяти похорон много объедков осталось. И бутылок без счету. Три раза носила их сдавать. В кармане захрустели деньги. Целых пятьдесят рублей. Жратвы приволокла немало: колбасы и сыра, яблок и помидоров, копченой рыбы и хлеба. Даже водки половину бутылки прихватила, сама не зная зачем. Все аккуратно разложила на столе. И пока Катька не вернулась, прибирала в избе. Подмела полы, протерла окна, подоконники, помыла стол, подмела в коридоре. Только хотела навести порядок во дворе, услышала шаги. Голдберг радостно завилял хвостом. Значит, опасаться нечего. Зинка выглянула за дверь, увидела Катьку. Та еле шла. Все лицо в синяках.
Видишь, как отмудохали? Уделали классно бомжихи Кольки-Чирия. Ну я им тоже навтыкала. Особо Юле. Юлой ее сам Чирий прозвал. За жопу. Она у ней как волчок крутиться умеет. За Чирия избили?
За все разом: за него и Червонца; за то, что от них слиняла, а на базаре навар имею; за то, что вертатьсяне хочу к ним, — рассказывала Катька, прикладывая на синяки медные монеты.
Зинка заставляла ее поесть:
Давай, пожри, сколько сможешь. Не то, так и сдохнешь в синяках. Я когда не жравши была, даже ходить сил не было. Совсем как мой дед! Он вовсе старым стал, от того помер. А мы с тобой с голоду сдохнем! Теперь что ни день, людей хоронят. Кто от голода, кто от жира мрет. Во и сегодня хоронили пятерых. Трое — бедные навовсе, зато двое салом залились. От того сердце отказало. Не выдержало перегруза. Один мужик за четверых был. Пузо с гроба горой торчало. Морда еле поместилась. Сам здоровенный, больше твоей избы. Видать, жрал без отказа. А гляди, подох, не дожив до стари. Его закопали люди. Их много было. Пили, ели, много говорили. Венками всю могилу завалили, но никто не пожалел. Ни одной слезы не потеряли. Ровно собаку закопали, да и то чужую, какую не жаль. Зато памятник приволокли огромадный, целую многоэтажку. И на могилу — эту скалу! Чтоб мертвяк не выскочил. Знать, он при жизни многим досадил. А вот бабулю хоронили совсем бедно. Трое людей за гробом шли, ничего не говорили. Только плакали. Горько-горько. Не глазами, сердцем. И очень жалели бабку. Потом девчонку… Тоже весь гроб мокрый от слез. Я даже позавидовала ей. Видать, чтоб пожалели, надо сдохнуть. Хотя меня и мертвую перешагнут спокойно.
Зинка! А почему нас никто не любит? Никому не нужны! Все гонят, клянут! За что? Отчего мы несчастные? Может, лучше было б не родиться вовсе? — спросила Катька.
А что мы могли сделать? Я не выбирала родителей. Сами нашлись. Да только на время. Зато Голдбергу нужна. Пусть он — собака, зато один за всех людей меня любит.
Да тоже сыщет сучку и смоется! — усмехнулась
Катька.
Он никогда не убежит! Верней его в целом свете нету никого! А ты чем дразниться, иди поешь! — позвала настойчиво и добавила: — Если мы с тобой помрем, кроме Голдберга нас никто не пожалеет. Даже закопать станет некому…
Значит, врагов нельзя терять. Эти не то мертвых, живьем рады урыть, — вздохнула Катька и, подойдя к столу, удивилась: — Это все ты притащила? Ну, лафа! С тобой не сдохнешь с голоду!
Ели девчонки с жадностью.
А ты знаешь, я сегодня отца видела. Он в трамвае ехал. Такой веселый, с той бабой своей. Раньше сердитый был. Теперь даже шарфа нет. Шею укутать нечем. Без шапки, без перчаток, а довольный. Может, потому что заботиться не о чем, меня не стало, мороки отошли? — спросила Катька саму себя.
А ты когда большой станешь, будешь детей себе родить? — спросила Зинка, покраснев.
Катька, услышав такое, поперхнулась, подавилась пряником.
Ты, че? У тебя крыша едет? — округлились глаза девчонки. Она заорала так, что Зинке вмиг расхотелось есть. Она вобрала голову в плечи, почти не дышала, боялась вставить слово. И тут не выдержал Голдберг. Вылез из-под стола, ощерил клыки, рявкнул угрожающе, двинулся на Катьку. Та вмиг умолкла. Зинка уговорила пса успокоиться.
А я когда вырасту, стану чьей-то мамкой. Если доживу. На елку буду водить, конфеты приносить…
Дура ты, толченая! Мамкой стать захотела она! Пузо набить тебе любой мудак сумеет. Вон Чирий — говно вонючее, а сколько девок от него аборты сделали! Они что, дурней тебя? Кто теперь рожает? Только новые русские или мафия! Другие и не думают. Сами кое-как дышат!
И не бреши! У нас соседка ребенка родила. Без дядьки! Сама себе! Чтоб жить нормально. Так и сказала, что теперь в ее жизни смысл есть.
Забот у ней не было! Если б в голоде дышала, про ребенка не подумала!
Постой! Но и нас с тобой родили! Не враз возненавидели! Меня из-за котлет прогнали! За Голдберга!
Не вешай лапшу на уши! При чем пес? Надоела ты им. Тяжко теперь жратва дается. Ты же последнее собаке отдавала. Может они эти котлеты себе оставили пожрать. Тут-то и сработало! Они — в дом, а ты — псу! Сама ни хрена не принесла! Считай, как выкинула! Своих не жравши оставила! И я тебя вышвырну, коли лучшее станешь кобелю отдавать! Доперла? — спросила Зинку.
Ты сегодня ничего не принесла! За что кричишь? Я из твоего не буду кормить Голдберга. Сама ему принесу, — шмыгнула носом Зинка.
И смотри, если брюхатеть задумаешь, жить вместе не станем! Сама такая доходная, а уже сопляка заиметь хочет! Во, дура! — насупилась Катька.
Я ж не теперь, когда совсем вырасту.
Ты доживи до того! Чего наперед судьбы скачешь? Вон я! Старей тебя на сколько, а и то про детей и не думаю. Пузатеть не собираюсь. Чего загадывать, если меня сегодня прибить могли. На что сирот и бомжей в свет пускать? Сами как говно в луже!
Ладно тебе ворчать! Ешь лучше! Да давай придумаем, как нам дальше быть? Ведь я еще побираться смогу. Сбрешу, что беженка! Будто мамка с папкой потеряли меня, а я одна осталась. Неделю не евши мучаюсь…
Ага! Менты тебя враз сгребут. В дежурку! Вломят так, что до самой задницы расколешься. Так отметелят, ночь от дня не отличишь! К тому ж Чирий тебя видел. Своих натравит. Его пацаны тоже на базарах побираются. Беженцами, сиротами прикидываются. Им подают и поддают. Они своих мест даром не отдадут. Не пытайся, не пробуй. Все, что соберешь, у тебя отнимут, — предупредила Катька.
Но Зинка не поверила. «Не могут они за каждой побирушкой следить», — решила девчонка. И утром села на углу магазина с протянутой рукой. Она, заунывно гнусавя, просила милостыню.
Худая, грязная, дрожащая от холода Зинка не просто вызывала жалость: даже подвыпившие, глядя на нее, трезвели. И, нашарив в карманах оставшееся от попоек, сыпали девчонке в подол, не считая.
Мать честная! До чего довели! Она ж не иначе чахоточная! Ее лечить надо! — обронил кто-то, приостановившись.
Сейчас вылечим! — подошел милиционер и схватил девчонку за шиворот: — А ну, пошли со мной! Сейчас узнаем, откуда ты здесь выросла!
Отстаньте! Оставьте ребенка! — возмущались люди, но поздно: рука, державшая за воротник, не ослабла.
Дяденька, отпусти! — попросила Зинка тихим голосом.
Сейчас! Ишь, развелось вас здесь, как блох у барбоски! Иди, не трепыхайся! — прикрикнул грубо.
И девчонка вспомнила, как жестоко избили ее в милиции за бродяжничество, когда забрали в первый раз. Ей стало страшно. Она крутнулась, хотела вырваться, но милиционер держал крепко. Его пальцы оказались слишком близко… Зинка и сама не знала, как все получилось. Она вцепилась зубами в руку, а трусивший следом Голдберг сшиб его с ног, не дав ударить хозяйку. Девчонку и пса словно ветром сдуло. В какую сторону они побежали, никто не увидел. И раздосадованный сконфузившийся милиционер стоял среди улицы, не зная, как нагнать, где искать малолетнюю побирушку, которую даже в лицо не запомнил. А неподалеку, в десятке шагов, откровенно смеялась кучка людей.
Зинка с Катькой, пересчитав деньги, ликовали:
Если б до вечера посидела, целый мешок собрала б! Да лягавый помешал! Во, гад! Поднесло его не во время.
Хорошо, что смылась! Не то б до копейки вытрясли в ментовке! Там на это горазды! Сам не делишься, значит, все отнимут! — смеялась Катька и добавила: — Жаль, что только клешню повредила. Таким гадам башки стоит отгрызать.
Так Голдберг его с ног сшиб, — напомнила Зинка и продолжила; — Выручил он меня. Уже в какой раз! Покормить бы его…
Катька поняла. Вздохнув тяжко, встала, вытащила хлеб из стола:
На, ешь, корефан! Свое ты заработал! — погладила пса, признав его законным жильцом дома…
Ты знаешь, без жратвы я не сидела, а вот с' «бабками» — дело хуже. Это надо по карманам и сумкам шарить. Мне в том не светит. Не могу. Ловят и тыздят круто. Сколько раз чуть не урыли. Особо один раз в барахольном ряду. Старуху ощипать вздумала. Приметила, как старая плесень башли в тряпочку уложила, завязала в узелок и в карман сунула. Сама себе халат приглядывает. Когда ощупывать его принялась, я ее тряхнуть вздумала и сунулась за узелком. Тогда еще не знала, что старухи такие глубокие карманы делают. В них только с башкой нырять надо, чтоб что-то выудить. И у той на самой манде тот узелок лежал. Я как слезла, она как взвизгнет. Наверно я поторопилась и не за то ухватила бабку, но она меня — враз без промаха за горлянку! Чирий видел все и вместо того, чтоб помочь, со смеху усирается. Ну, когда увидел, что бабка меня всерьез душит, подлетел сзади, хвать ее за жопу. Бабка про меня забыла, отпустила глотку, смотрит по сторонам, какому озорнику ее жопа глянулась? Я тем временем слиняла. А уж в кодле сказали, что старух без понту щипать: у них в тех узелках башлей очень жидко, не больше пенсии, но вони много. Не стоит рисковать из-за такой пыли. Другое дело фирмача тряхнуть, коммерсанта наколоть. Но они не бывают на базарах и пешком не ходят. Их голыми руками не взять. Все с охраной. Вот и остались на нашу долю бабы да пацанва. Они теперь ходят — пальцы веером, сопли пузырями, ноги кренделями. Все — новые русские, а в карман к ним сунься, больше полусотки не нашаришь. Чаще жвачка изжеванная в бумажке завернута, чтоб вечером ее до конца истискать. Ну, еще гондоны… Эти и у девок, и у пацанов…
А что такое гондоны? — спросила Зинка.
Во, дура! Не знаешь? — удивилась Катька и популярно объяснила.
Я после той старухи еще раз попыталась в карман влезть к мужику. Долго смотрела, кто с них куда «бабки» прячет. И приглядела. Такой толстый, пузатый. Его морду целой кодлой не обнять. Весь потный, красный. Сунул он бумажник в кошелек, какой у него на пузе мотался, и как только сунулся в толпу, я бритвой по ремню. Кошелек упал. Схватила его и бегом. От счастья все пятки обоссала. Ну, думаю, небось одна «зелень» там. И к сортиру бегом. Открыла тот кошелек, а там — твою мать! — калькулятор самый сраный, два
блокнота и всего-навсего тридцатник «деревянными». Ну и этих, гондонов, целый пакет. Нашей кодле на месяц хватило! Я чуть усралась от злости: весь бумажник вместе с кошельком наизнанку вывернула Все не верилось, что такой толстый мужик с таким тощим кошельком посмел на базаре нарисоваться! — возмущалась Катька даже через время, а, чуть успокоившись, похвалила Зинку: — Ну, ты прикольная! Смекнула как «бабки» поиметь и голодной не остаться.
Жрать захочешь — придумаешь! — согласилась девчонка и, вздохнув, добавила: — Я не умею воровать. Не пробовала, потому что боюсь. Один раз видела, как соседи двух цыганок поймали. Уж и не знаю, что украли, но били их всем домом. Из подъездов люди выскочили и так колотили, что цыганки не только убежать, шевелиться не смогли. Их втоптали в землю живьем! Потом «скорая» увезла, но вряд ли выжили. С тех пор лучше сдохну, но воровать не смогу. Все перед глазами те цыганки…
Ты и без того не пропадешь! — ободрила Катька и, пересчитав деньги, сложила их, спрятала под печку.
На всяк случай! Когда никого с нас дома не будет, чтоб не сперли! Дошло?
Зинка согласно кивнула.
Вскоре они решили промышлять вместе. На окраинном захолустном рынке Катька воровала жратву, а Зинка побиралась, собирала бутылки, ругаясь за каждую с уборщицами, сторожами, старухами и детворой. Один раз ей крупно повезло.
Обшаривая мусорные контейнеры ранним утром, выволокла громадный узел. Когда развязала, чуть не заплакала от радости — детское барахлишко. Как раз на нее с Катькой. Чего ж тут только не было! Пальто и платья, туфли и сапожки, даже нижнее белье, а уж кофт, юбок — прорва. Девчонки ликовали и примеряли тряпки весь вечер. В их глазах было столько счастья и радости, словно им обеим в одночасье разрешили вернуться в семьи.
Послушай, а почему все это выбросили на помойку? Не с добра такое! Наверно, носить стало некому? — спохватилась Зинка.
Да может взрослые бомжи сделали налет. Сгребли подряд, а когда глянули, детское откинули. Хотя такое не выбросили б. За бутылку могли загнать. За целый ящик… Ну и ладно! Нам досталось! Мы не украли! Можем носить! — отмахнулась Катька.
А через время пошла Зинка на кладбище, наступила Пасха. В эти дни на всех погостах щедро раздавали милостыню и угощенье. Не хотелось терять и эту возможность. Девчонка взяла с собою две большие сумки, позвала Голдберга и шла, предвкушая, сколько вкусных вещей принесет она домой сегодня.
Ей и впрямь повезло с самого утра.
Катька решила обойти торговые ряды, где шла бойкая праздничная торговля.
Встретились девчонки поздним вечером дома. Стол был завален куличами, крашенными яйцами, колбасами всех сортов, конфетами и яблоками. Еды надолго хватило б. У Зинки карманы едва вместили милостыню и готовы были оторваться от платья, не выдержав тяжести. Казалось, более удачливого дня не было давно, но… Обе сидели хмурые, насупленные.
Почему-то не хотелось говорить. Даже Голдберг влез под стол и не высовывался наружу, стараясь не вызывать раздражения.
Я сегодня соседку увидела. Ну, баба такая! Она на одной лестничной площадке с нами жила. И теперь там дышит. Увидела меня, узнала, обрадовалась. Давай расспрашивать, как живу, про отца говорила, — призналась Катька.
Ты сказала ей, что бомжуешь? — ахнула Зинка тихо.
Как бы не так! Я рожу кверху задрала! И лапшу на уши бабе намотала. Спиздела, что меня хорошие люди к себе в дочки взяли. У них нет своих детей. Меня как родную держат. Даже свою комнатуху имею. Игрушек накупили, одежды всякой, а уж жратвы всегда полно. Любой! И никто не выгоняет из дома, наоборот, когда выхожу гулять, зовут меня, чтоб не простыла или поесть, посмотреть мультики по телеку. А на Новый год купили торт больше меня ростом и всяких конфет сумку. На ночь сказки рассказывают и желают спокойной ночи…
И она поверила? — удивилась Зинка.
Эта соседка мамкиной подругой была, пока та не скурвилась. И с отцом никогда не ругалась. Не знаю, поверила иль нет, только глаза у ней печальные сделались. Поцеловала в щеку и сказала: «Ох, и давно ты не мылась, Катюша! У меня нет тортов и конфет, но если захочешь искупаться, приходи. У тебя вши по шее, не только по волосам, ползают. Несчастная ты моя! Вон и отец твой в психушку угодил со своими запоями. Уже полгода его лечат. Поначалу сбегал, его снова забирали. Теперь уж надежно за него взялись. Все его бабы поняли, что после больницы он их разгонит и разбежались сами, загодя… Ключи от квартиры вашей в милиции держат. Их отцу отдадут, когда целиком вылечится. Может, и ты к нему воротишься. Как не хорошо у чужих, — а свой отец — он все же родной. Надо уметь прощать друг друга. Не все в этой жизни зависит от сытого пуза. Может и попостнее кусок в своем доме, но он родными руками даден, всегда впрок пойдет. Оно, глядишь, мать одумается. Домой воротится. Годы свое возьмут. Не все молодой будет. Ведь вот какая у вас семья была: красивая, дружная, всем на зависть! И как кто сглазил! Вот если б кто из вас троих сходил бы в храм, попросил бы у Богоматери и Господа воротить былое, дал бы Господь это счастье, вернул бы вас друг другу…».
И ты послушалась ее? — дрогнул голос Зинки.
Нет! Я отвыкла от них. И никому не верю! Теперь уж никто мне не нужен. А детство ушло, я его так и не увидела. Наверно проспала, когда тут вот, в холодной избе коченела. Ты про собаку не забываешь, кормишь. В морозы на улицу не пускаешь. Меня позабыли, будто я хуже псины. А значит, нет у них сердца. Пропили иль застудили его вовсе. Стоит ли вертать? И почем знаю, может они опять разбегутся, а мне снова надо уходить на улицу? Нет! Пусть все останется как есть! Зачем Богу надоедать и просить про пустое. Да и мое сердце не болит за них, — вздыхала Катька, поняв, чего испугалась Зинаида.
Я бы тоже не вернулась! Из-за Голдберга! А еще не схотела б тебя одну оставить. Вдвух лучше. Правда?
А я сегодня до жутиков напугалась! — вытаращила глаза Зинка и рассказала: — Прихожу я на кладбище и как всегда к тем могилам, где людей много. Ну, от одной кучки к другой. Кто жратву дает, просят помянуть, другие — деньги. Никто не ругается, не гонит. И я от могилы к могиле. Народу на погосте нынче как грязи. Все приперлись к своим мертвякам. Причина появилась: выпить на помин. Одна старуха так набралась на могиле своего старика, что кверху жопой так и уснула. А рядом — две бабы своего поминали, да так ужрались, что все перезабыли, даже где они — не помнили. И какие песни пели, небось, покойники краснели, а потом вовсе вкруг могилы плясать стали. Во веселуха! Покойник, небось, перед своими соседями стыдился. Зато бабье душу отвело. Аж три бутылки вина выжрали. Всю могилу в объедках оставили. Чего там только не было! От вареной картохи и селедки до сыра с сапом. С десяток крашеных яиц ногами подавили. И ни одного кулича. Алкашки! Но мне много чего дали. Даже денег. Целую десятку. Просили ихнего покойника помянуть. Я не отказала. А чуть подальше мужик свою бабу поминал. С памятником чокался. Поначалу тосты говорил, пил, закусывал. Потом что-то не поделил с мертвой, видать перелил ей лишку. Да как пошел ее полоскать. За двадцать пять лет все грехи наружу выволок: «Зачем с соседом Яшкой закрывалась на Новый год? Говоришь, что ничего промеж вами не стряслось? Так и поверил тебе, сука!». Бил он памятник, плевал на могилу, даже ногами топтал. И все матом поливал жену. Зачем такие приходят на кладбище?
Водка погубила! — ответила Катька.
Там, знаешь, даже бомжи были. И тоже своих поминали. Тихо, без шума.
А почем узнала, что бомжи?
Люди, что вокруг были, сказали. Да и видела, как они с могил поминальное забирали. Отнимали у мертвяков, что им живая родня оставила: и водку, и закусь, — все подчистую мели. После них даже птицам клевать было нечего.
Голодали долго, — заметила Катька
А еще одна кучка поминала своего корефана. С самого утра они на кладбище приволоклись Знаешь, аж целую сумку водки притащили и все выпили. Какие анекдоты рассказывали! Даже Голдберг не выдержал, лаять на них стал. Ну и что? Им до задницы. Они за ограду вышли и на соседнюю, даже не поверишь, середь белого дня ссали
Ну и что? Хоть материного не было! — усмехнулась Катька.
Еще как! Мне стыдно стало слушать. Даже за милостыней не подошла. Приметила бабку, какая на скамейке возле могилы сидела и к ней. А она увидела, вся задергалась, давай крестить меня и говорит: «Свят, Свят! Огради и защити! Пронеси мимо силу нечистую!». Сама в мою сторону плюет. Ну, думаю, эта тоже до белой горячки набралась, что во мне черта признала. Бабка тем временем крестится и молится. Все ж решилась к ней подойти и спрашиваю, с чего она зашлась? Та в меня пальцем тыкает и говорит, мол, на мне одежа ее мертвой внучки. Та уже с год как похоронена. Ее, десятилетнюю, поймали двое гадов, когда со школы домой шла, затащили в подъезд, изнасиловали и убили. Отец с матерью чуть не свихнулись. И чтоб память не будоражить, родственники той семьи собрали все вещички девчонки из квартиры и вынесли их куда-то подальше от глаз. Навсегда из жизни и памяти. Ан, я в них! Живая! Как назло! И хоть не похожа лицом, а ростом — одинаковая. Ну, мол, зачем явилась сердце терзать? Зачем вещи внучки на себя напялила? Где их откопала? Я ей рассказала кое-что. Ох и жалела она меня, бояться перестала. Посадила рядом с собой на скамейку, кормила, все мне отдала. Жалела как свою. И просила, когда буду на том погосте, — навещать внучку, поминать ее добрым словом как подружку свою
Да, но она ничем не болела. Убили ее. Враз. А разве мы с тобой не могли оказаться рядом с ней? Только та разница, что эту чужие сгубили, нас — свои, — сопнула Зинка, согнув голову, и добавила: — Ее еще долго поминать будут и любить. Хотя бы родственники. Даже и там она счастливее. Не бомжевала, не голодала, не мерзла, быстро кончилась. А мы? Когда отмучаемся? Сами не знаем… Я только вот чего хотела сказать тебе. Там, на погосте, двое мальчишек уже давно помирают возле могилы. Мать у них померла. От болезни. Родня, понятное дело, не хочет их к себе забирать. Отца они не знают, с матерью жили. У родни. В кладовке. Когда одни остались, их не впустили.
И что ты надумала? — прищурилась Катька, уже догадавшись, к чему клонит Зинаида.
Они не будут дармоедами. Станут на кладбище ходить каждый день. Жратву и бутылки собирать вместо меня, а я — побираться. Они только ночевать будут, если разрешишь. На погосте много кормятся. И эти не пропадут с голоду, но вот замерзнуть могут насмерть. Негде там согреться. Разреши им прийти. Не помешают. Давай возьмем! — попросила Зинка.
Сколько им лет?
Да кто их знает, но меньше меня. И умные. Смышленые оба. Вот только сироты совсем.
Ладно! Веди! — нехотя согласилась Катька и через полчаса Женька с Димкой пришли в дом.
Им было немного, лет по пять, но оба серьезные. Оглядевшись, начали подметать полы, носить воду, рубить дрова, топить печь. Каждый день ходили на кладбище за бутылками, собирали их возле магазинов и даже в парке. Побираться не умели, воровать боялись. Разве только у своей родни всю картошку на участке выкопали. Потом и про дачу вспомнили.
Они никогда не дрались и не ссорились между собой. С первого дня отдавали Катьке бутылочные деньги до копейки. И девчонки стали их кормить, делясь всем, что имели сами.
Женька с Димкой спали на полу. Катька отдала им старое ватное одеяло, сшитое бабкой из лоскутов. Мальчишки сами заботились о тепле в доме. Да и попробуй не протопи. В холодной избе на полу до утра не дожить. Вот и старались не столько для девчонок, сколько для себя.
Они были удивительно похожими. Разве только у Димки, несмотря на малый возраст, вся макушка была седою. Женька сказал, что побелела она у брата в день смерти матери. Она умерла у них на глазах, дома. Не было денег на лечение, никто не позаботился, не отправил в больницу. Что с нею было, мальчишки не знали. Мать умерла молча, без стонов и слов. Как дерево, быстро почернела. Женька с Димкой старались не вспоминать тот день. Он стал последним днем детства. Их розовая радуга погасла, не успев разгореться на горизонте, и для мальчишек среди весны наступила зима…
Дети быстро свыклись. Лишь поначалу присматривались друг к другу, а вскоре жили одной семьей, словно с самого рождения знали лишь нынешнее, и никто другой не имел к ним никакого отношения.
С утра до вечера проверяя тщательно бутылки на кладбище и возле магазинов, мальчишки покупали хлеб и возвращались вместе с Зинкой. Целый квартал она шла одна, чтобы никто из подавших милостыню, не заподозрил, что имеет девчонка свою семью. Когда возвращалась Катька, все садились к столу, считали доходы дня. Они случались разными. И только после этого ужинали.
Поначалу Зинка робко отказалась от своей доли сала и халвы, отодвинула мальчишкам, сказав, что не хочет, а малышам надо. Потом и Катька стала отдавать им все конфеты и шоколад. Привыкла к ребятне и в холодные ночи забирала к себе на койку Димку. Женька тут же залезал под одеяло к Зинке.
Длинными ночами детвора, прижавшись друг к другу, слушала Зинкины сказки, какие ей рассказывали еще дома, когда она жила в семье. Ее стало, а сказки помнились и грели. Под них так хорошо спалось, и в сиротские сны, пусть ненадолго, лишь до утра, заглядывал улыбчивый солнечный зайчик.
Но случалось не до сказок. Зинка вернулась зареванная: отняли милостыню два алкаша. Всю до копейки. Пристали под вечер, просили на бутылку, обещая завтра вернуть. Девчонка не давала. Тогда схватили ее в охапку, измордовали и, подняв кверху ногами, вытрясли все. Девчонке надавали пинков и велели бежать без оглядки.
На следующий день Катька пошла вместе с Зинкой, понимая, что если не защищаться, девчонку станут трясти всякий день.
Первое, что сделал Катька, так это узнала у дворовой детворы о семьях алкашей. Ей показали их квартиры, за горсть конфет согласились даже измолотить пропойц. Едва они появились во дворе, их попросту смела со своего пути дерзкая орава. Им заломили руки и ноги, измяли лица и ребра, вытрясли все деньги из карманов и, пригрозив расправой с детьми и семьями, потребовали не подходить ни к кому из детей и подростков. Алкаши пообещали, но на следующий день жестоко избили троих пацанов двора, участвовавших в драке. Дворовая свора озверела и ночью разбила камнями все стекла в окнах квартир алкашей. Те примчались к родителям мальчишек, завязалась жестокая драка. Алкашей увезла в больницу неотложка. Целый месяц было тихо, но едва пьянчуги встали на ноги, они тут же сбежали домой и уже на второй день взялись бить окна в квартирах пацанов.
Сколько длилась бы эта дворовая война — никто не предугадал бы, если бы в один день не исчезли дети алкашей. Оба мальчишки словно испарились в один миг. Их искали по всем родственникам, у друзей и соседей, облазили чердаки и подвалы, все ближние и дальние дворы. Мальчишки словно сквозь землю провалились. Их нашли на шестой день в заброшенной балке за городом. Жестоко избитые, они сказали отцам, если те не перестанут воевать со двором и приставать к детям, то их — обоих сыновей — закопают живьем в этой балке, и никто тому не сумеет помешать.
С тех пор к Зинке никто из алкашей не приставал, ничего не просил и не требовал. Выздоровевший же после простуды Голдберг ни на шаг не отставал от хозяйки.
Катька! А зачем мы копим деньги? Гля, сколько набралось, а ты все жадничаешь! Даже чулки себе не купишь! Зачем тебе так много? — удивился Женька.
Денег лишних не бывает. Их всегда не хватает. Скоро увидишь, зачем они, — усмехнулась криво.
И будто накаркала. Через неделю простыла Зинка. Свалилась с высокой температурой. В жаркой избе стонала от холода и все просила пить.
Врача ей надо, иначе помрет как мамка. Слышь, Кать, не носи конфет, спаси Зину. Если б не она, мы тоже не жили б! Давай врача приведем к ней!
Катька пыталась вылечить девчонку сама: лила ей водку в рот насильно, как это делали бомжи при простуде. Девчонку рвало, Зинка металась в жару.
Когда Женька привел врача, тот осмотрев, сразу определил пневмонию и забрал Зинку в больницу, сказав, что лечение требуется длительное и серьезное.
Зинку уносили из дома на носилках Девчонка задыхалась, теряла сознание и кричала:
Мам! Умоляю, не бейте Голдберга! Я не ела, я свое ему отдала!
Катька вместе с мальчишками поехала с Зинкой, узнала, где ее положили. Не спеша, она возвращалась домой. Ей вспомнилось, что накануне болезни рассказала ей Зинка.
Знаешь, я сегодня своих видела. Не заметила их сразу. Они как ниоткуда свалились. Будто из-под земли выросли. Я сразу узнала обоих, хоть больше года прошло, а они сначала прошли мимо, не заметили. Потом мать оглянулась и остановилась. Задом попятилась ко мне, потащила отца за собой. Остановились напротив, и мать говорит: «Кажется, Зинка! Во, до чего докатилась! Побирается! Плохо ей жилось! Пса котлетами кормила. Теперь, небось, у него хлеб отнимает. Вон как дошла. Шея тоньше песьего хвоста!». Знаешь, Кать, я слушала и плакала. Меня чужие жалели, давали нам на хлеб, не осудив, не обругав. Иной, проходя, по голове гладил, Бога просили, чтоб меня увидел. Это чужие… А свои… Как горько, Кать, что у меня были родители, а вот отца с матерью не имела никогда! Ведь оба, когда уходили, по всякому обозвали меня: свиньей и дурой, сволочью и негодяйкой. Я из милостыни достала тридцатник, отдала им за котлеты. Рассчиталась…
И взяли? — отвисла челюсть у Катьки.
Взяли… И лишь тогда умолкли, перестали сволочить, проклинать. Я и не знала, когда жила с ними, их брань деньгами можно. Одно теперьпойму, выходит, в семье среди чужих жила, — заплака Зинка совсем по девчоночьи, горько-горько…
Катька решила каждый день навещать Зинку в
Понуро плелся за Катькой Голдберг.
Ну, что ты хвост волокешь на пятках? И тебе Зинку жаль? Пошли в аптеку, надо лекарств купить. Врач вон сколько понаписал. На целый мешок! О том не подумал, где столько денег взять? Нынче за эти таблетки нужно с месяц вкалывать, а мне — лохов трясти, если повезет. Даром ничего не дадут. Надо лечить, не то помрет Зинка. Слышь, черт лохматый? Тогда и вовсе без башлей останемся. Все, что скопили, на похороны пойдет. А жить как? Придется тебе за место Зинки побираться. Вот только кто подаст такому козлу? У тебя харя толще, чем у коммерсанта! Никто не поверит, что голодаешь. Тебе только в налетчики иль в рэкет. Там ты корефаном станешь, своим! Зинке поможешь, и себя прокормишь. А побираться мы пацанов пошлем. Пусть учатся. Нынче все уметь надо, — говорила псу, тот хмуро поглядывал на Катьку, чихал, порыкивал, но держался рядом, не отставая ни на шаг. Так они дошли до аптеки.
Подожди меня здесь. Я скоро! Только лекарства возьму! — ушла Катька.
Глава 2. Королева
Катька! Ты? — услышала девчонка, едва переступив порог аптеки, и увидела Ольгу, рослую, здоровуюдеваху из кодлы Чирия. Когда-то именно она вступалась за Катьку, не давая бомжам замордовать девчонку насмерть.
Тебя сам Бог привел. Дай стольник! Не хватает мне на колеса. Хочу отраву купить. Опять подзалетела с Колькой. Ох и надоело ковыряться. Осенью чуть не
загнулась. И теперь снова подхватила! — поделилась бомжиха, первая любовь Чирия. Она была на три года старше Кольки.
А зачем тебе отрава? — медлила Катька отдавать деньги, надеясь отговорить Ольгу от глупости.
Я не себе! Этому! — хлопнула себя по животу: — Уж чего только не пила. Пахикарпин и синестрол! Они должны были состряпать выкидыш, но ни хрена! Только сама оглохла! А этот зубами зацепился! Не хочет подыхать! Хоть ты его ломиком выковыривай. Катетер вставляла себе, и снова без проку. Во забил, козел! Будто цементом его обложил.
А может, родишь?
Ты чего? Крыша поехала что ли? На хер он кому нужен? Только этой заботы мне и не хватает! Теперь рожают только дуры! Я еще не свихнулась! Куда его дену? А и сама кому нужна?
Кольке! — неуверенно сказала Катька.
Да у него таких как я больше, чем мандавошек на хрену. Дети ему до задницы. У него их в яйцах — полдеревни пищит. Сама знаешь, он со всеми перетрахался. Узнает, что беременна и решила оставить, на- смех поднимет и выкинет из кодлы. А куда денусь?
Да, не повезло тебе!
Давай стольник! Не жмись! — протянула Ольга руку за деньгами.
Катька, вздыхая, отдала сто рублей. Ольга, поговорив с женщиной-фармацевтом, купила лекарства и тут же попросила стакан воды. Катька подала в окошко список лекарств, написанный врачом, и с ужасом думала, хватит ли ей денег рассчитаться за них Руки и лоб вспотели, пока фармацевт считала.
Когда женщина назвала сумму, Катька стала выскребать мелочь из всех карманов. Она не спешила выложить все сразу, чтобы Ольга, внимательно наблюдавшая за нею, не попросила денег еще.
Катьку торопила очередь. Та достала из карманов по копейке, сопя и кряхтя. Женщина в окошке ждала. Ольга наблюдала. У Катьки тряслись руки. Она очень не любила отдавать деньги.
Наконец кто-то в очереди не выдержал:
Сколько там у нее не хватает? — коренастый, хорошо одетый человек. Он торопил больше всех и с беспокойством смотрел на часы.
Тридцать шесть рублей, — ответила фармацевт.
Я оплачу! Отпустите ее! Времени нет. Поспешите! — помог Катьке сложить в сумку лекарства и тут же забыл о ней, отвернулся к окошку.
Катька осторожно вытащила портмоне и заторопилась к выходу. Ольга увязалась следом.
Катька свернула за угол и уже оттуда услышала негодующий крик из аптеки. Девчонка затаилась. Ольга поняла все без слов.
Боковыми кривыми улочками они уходили от центра города. Когда расстояние стало безопасным, Катька остановилась. Она вовсе не собиралась вести Ольгу к себе и спросила:
Так ты иди к своим! Небось, ждут? А то мне еще кой-куда надо…
А я с тобой! Не помешаю…
Не могу! Там мне одной надо нарисоваться! — упорствовала Катька.
Я подожду!
На хрена? У тебя кодла! Чего ты от нее отмыливаешься? Я же откололась от вас!
От них! Я тебе никогда не была врагом. И помогаладышать, как только могла, — напомнила Ольга и добавила: — Нельзя мне теперь туда! Замокрят. Размажут как суку!
За что? — удивилась Катька искренне.
Иль мозги посеяла? Кому я там нужна сейчас? Покуда не скину выблядка, лучше не возникать. Уроют.
Так разве только ты виновата?
Дура! Кто о том вспомнит? Да и я не знаю точно, от Кольки подхватила иль от Червонца? А может кого-нибудь. Все ж по бухой. Я даже не знаю, кто на меня влезал. Может пацаны из новичков учились мужичьему. Счетчика втранде не имею.
Ты чего, даже не проснулась? — изумилась
Катька.
Дурная! Выходит, лапшу на уши повесил Чирий, когда хвалился, что ломанул тебя! Иначе знала бы: по бухой ничего не помнишь.
Козел твой Чирий! Ничего у нас не было! Отмудохали его классно! Он умолял отпустить и обещал не возникать.
А натрепался, что оприходовал и остыл к тебе! Во, ботало! — внезапно сморщилась Ольга и схватилась за живот.
Ты чего?
Прокалывает. Больно, но ничего, это пройдет, — остановились у больницы.
Мне лекарства надо отдать. Своей кентухе. Ты иди куда-нибудь. Мне с нею побыть надо!
Пыли! Я тут поканаю, — простонала Ольга, и Катька поняла, ей не отвязаться от нее.
Отдав лекарства, она присела рядом с Зинкой, рассказала об Ольге.
Возьми ее на время. Ведь она помогла тебе выжить, а значит, и мне. Не прогоняй. Пусть переживет свое. Ведь в кодлу ей нельзя. Выходит, мы — единственные, кто примет. Не тяни время. Не мучай. Она ведь ждет. И Голдберга не забывай. Корми его, пока я здесь…
Катька вышла на улицу, надеясь, что Ольга ушла. Но не тут-то было.
Пошли, — поджала губы и повела девку домой, уговаривая Голдберга не рычать на чужую.
Ольга по пути несколько раз останавливалась, просила Катьку притормозить. Рот девки кривила боль, но она терпела молча.
Может в больницу тебя уложить? — предлагала Катька бомжихе.
Ты знаешь, сколько теперь стоит аборт? У меня нет столько башлей. Кодла не даст. Ей дешевле живьем урыть! Терпеть надо. Подожду, пока этот засранец сдохнет от лекарства и выскочит, освободит меня. В аптеке сказали, что к утру все кончится. Лекарство сильное, импортное, дорогое должно помочь! — вошла в дом, сцепив зубы.
Катька уложила Ольгу на полу, попросив Димку с Женькой накрыть на стол. Те послушно ушли на кухню, старались не шуметь.
Сядь рядом, Катюха! И за что тебя прозвали Дикой Кошкой? Ведь ты добрая и хорошая! Только недоверчива как все теперь. Если б ты была моей сестрой.
мы не стали пошла а ты ходила бы школу, — улыбнулась Ольга
Сама с чего в бомжи? — спросила Катька.
Девка глянула, посуровев. С лица сползла улыбка. И рука, собиравшаяся погладить голову девчонки, упала на одеяло, ослабев.
Другого выхода не нашлось. Тогда, будь проклято это время, без работы остались многие. И мои… Отец и мать. Я училась в пятом классе, когда все стряслось. Завод, где работали мои, закрылся. Он разорился. Мать подалась в челноки. Моталась за тряпками в Польшу и Турцию. Отец их продавал. Так жили многие. Разными были лишь результаты. Понемногу стали привыкать, осваиваться, но… той прибыли, о какой мечтали, не получили. И оба начали пить. Часто ругались. Я не понимала тогда из-за чего. Отец упрекал мать, что другие бабы — оборотистые, менее разборчивы, больше о семье заботятся. Она его попрекала неудельностью. И снова уезжала то в Германию, то в Сирию. А он ждал и пил. Чем дольше ее не было, тем длительней были запои. И однажды я не выдержала, пригрозила, что расскажу матери, куда деваются деньги, что он — отец — заморил меня голодом, — выдохнула Ольга и, переждав очередной приступ боли, продолжила: — Зря я это сделала! Собираясь убить, нож не показывают. Тогда не знала той истины и ляпнула… Отец как-то странно оглядел меня. Никогда раньше так не рассматривал, словно впервые увидел, да и сказал: «А ведь ты уже большая и можешь вполне заменить свою мать. Вот тогда поймешь, от чего пьют мужчины?». Я не доперла, о чем он сказал, и ответила, мол, и так заменяю мать: стираю и готовлю, убираю в квартире, — чего еще от меня надо? Я и по магазинам хожу! Отец рассмеялся как-то нехорошо, схватил меня за шиворот и поволок в постель. Он был жутко пьяный, — всхлипнула Ольга, скорчившись на одеяле тою самой девчонкой-пятиклашкой. — Я ничего не понимала знала тогда. Была здоровой, самой рослой девчонкой в своем классе, но отца боялась как огня. Он зашвырнул меня в постель и сорвал все! Потом и сам разделся догола… Я догадалась и заорала Мне стало страшно, а какою-то тряпкой и сказал: «Молчи!». Мне так хотелось умереть. Я отбивалась, вырывалась, как могла. Но он будто озверел. Бил, когда дергалась, а потом сдавил как в тисках. И всю ночь насиловал. Утром я пошла в ванную и закрылась там. Сделала петлю из бельевой веревки и только влезла в нее, отец выломал дверь и вырвал меня из петли. Я думала, протрезвев, поймет, что натворил, станет просить прощенья, но зря надеялась. К времени он пропил все человечье. Отмудохал так, что сознанье потеряла, снова насиловал и грозил, если скажу матери, своими руками вздернет меня… Так продолжалось до самого приезда. Она вернулась через неделю из Греции, привезла много тряпья и была очень веселой. Я старалась держаться, смолчать о случившемся. Была уверена, что раз мать приехала, он не полезет ко мне. Но ночью отец пришел в мою комнату и снова залез на меня. Я заорала во весь голос, разбудила мать. Отец и впрямь схватил за горло так, что я стала задыхаться. В глазах — ночь. Не увидела, как мать включила свет. Я так старалась спрятать синяки. На мне живого места не было. А тут мать сама увидела все. Я была без сознанья. Пришла в себя, когда услышала какой-то жуткий крик, с меня свалилась тяжесть, а на плече осталось что-то липкое, вязкое. Когда огляделась, увидела мертвого отца. Он лежал на коврике возле койки, осклабясь. Глаза еще жили, но руки и тело уже не действовали. Я не помню, как орала от страха и ужаса. Соседи вломились. Их было много. Они вызвали милицию Нас с матерью забрали и вместе с мертвым привезли в отделение, — прорвало Ольгу, и слезы полились по щекам ручьями.
Да успокойся ты! Это уже давно прошло! — уговаривала девку Катька.
Господи! Да забери же ты меня! — крикнула она хрипло, скрутившись в спираль.
Ну, чего ты? Забудь, зачем помирать, жить надо! — уговаривала Катька.
Зачем? Пропащая я! Хуже собаки! Ведь вот и там, в милиции, знаешь, как трахали меня менты? В очередь. Когда орала — били. Даже дубинками. Обзывали сучкой, блядью, проституткой. Заставляли делать минет. Меня рвало. Они хохотали. Они как и отец были в отключении. Они пили прямо из горла и меня поили насильно под регот и угрозы, под кулаки. Я отлетала из одного угла в другой. Кто ловил, тот и тешился мной. Так до утра. Мать держали в другой камере. Через неделю, когда она увидела и узнала от меня все, сошла с ума. Ее поместили в психушку, а меня через месяц выкинули из милиции на улицу, пригрозив, если не перестану простиковать, закрыть в камере до самой смерти.
Встань, поешь, а хочешь, сюда принесу, — предложила Катька.
Нет, не хочу. Вот если б чаю! — попросила хрипло.
Катька спешно налила чай, подала Ольге. Та отхлебнула и выронила стакан:
Прости, что-то клешни не держат. Ты не обращай внимания. Еще немного. Вот чуть-чуть отпустит, и я уйду. Уже кровь пошла. Значит, помогли таблетки. К утру освобожусь. Уж и не знаю, куда бы подалась, если б не встретила тебя! — обняла Катьку.
Вот так и влетела в бомжихи!
А почему домой не вернулась?
Квартира была опечатана. И мне популярно объяснили, мол, городское жилье предоставляется порядочным людям, какие не занимаются темными делами, не промышляют запрещенным ремеслом. Таким нет места в домах общего пользования! Мне даже не разрешили взять свои вещи. Это позволялось лишь после приговора суда. А и судить мать в том состоянии не имели права. Лишь после излечения, какого я так и не дождалась. Умерла она в психушке. Не перенесла. Слишком сильным было потрясение. А я стала виной всему, — заплакала Ольга, уткнувшись лицом в одеяло. Катька гладила ее по плечу.
Я никому не говорила правду. Не хотела насмешек. Слишком много слышала и пережила. Потому назвалась клевой. И схлестнулась с Чирием, тогда еще малолеткой. Он кормил и оберегал, не давал в обиду. Я была у него первой. Уж лучше путаться с одним пацаном, чем со всей улицей, решила тогда. И прикипелась к бомжам. Больше некуда было деться, — призналась Ольга.
А как ты познакомилась с Колькой?
В магазине! Вздумала булку спереть. Уж очень жрать хотелось. Меня засекли. Не сильно тыздили. В лягашке куда круче досталось. Там за шкирняк поймала баба. Выволокла из магазина, дала поджопника, покричала малость. Я в лужу угодила, только встала, глядь, пацан на меня вызырился и спрашивает «В одиночку бомжуешь?». Я сказала, что еще не стала бомжей. Жрать очень хочется, а денег нет. И жить негде. Он улыбнулся и позвал за собой на чердак пятиэтажки. Там с десяток соплюганов было. Все пацаны. Я им про себя все рассказала. Колька тогда был человеком. Он меня накормил от пуза и куда-то послал своих шнырей. Через час меня засыпали барахлом. У меня появилось все, даже то, о чем и не мечтала: платья, костюмы, шуба, дубленки «мокрые» и «сухие», сапоги, шапки, даже нижнее. Меня те пацаны признали своей королевой и смотрели с обожанием. Когда я глянула на себя в зеркало, сама себе понравилась: свитер- облигашка, кожаная мини-юбка с широченным ремнем, ажурные французские колготки и сапоги кожаные в обтяжку до колен. Когда я вышла к пацанам уже переодетой, у них челюсти поотвисали. У Кольки слюни потекли. Они все онемели. И вскоре мне стали носить духи, лаки, краски. Кормили пирожными, мороженым, булки стыдились предложить. Я для них была мечтой, сказкой на будущее. Вскоре мне принесли кучу всяких сумочек, одна другой краше. А какие туфли носила! На зависть всем! Когда я вот в таком виде впервые вышла в город, на меня оглядывались взрослые парни и мужики. Девки и бабы с завистью смотрели вслед Я шла с гордо поднятой головой! Ведь вот не сдохла! Не втоптали меня в землю! Выжила назло всем и не хуже их живу! Возле универмага меня узнал кто-то из лягавых. Хотел притормозить, но просчитался. Я уже была не одинока и целый десяток бомжей-мальчишек сопровождали всюду. Они показывали меня городу как свое бесценное сокровище, готовые своими головами защитить, оградить всюду. Того мента, едва сделал шаг ко мне, тут же оттеснили за магазин, оттыздили, смяли. Так продолжалось с полгода. Колька был рыцарем и дал мне время прийти в себя. А на Новый Год.
его мы встретили на чьей-то даче, я впервые выпила и окосела. Колька осмелел и в тот день стал мужчиной. Со мной… Ему это понравилось, но он скоро перестал преклоняться передо мной. Я из королевы превратилась в обычную любовницу. И Чирий стал забавляться мною как игрушкой, на глазах у пацанов. А потом и вовсе привел Ирку, потом — Любку. С ними не церемонился. И в этот же день сделал своими блядями. Меня первую передал пацанам, разрешив пользоваться и взрослеть. Кодла не промедлила. Потянули жребий на первого! Им стал Червонец. Гошка выпил для храбрости и уже без уговоров, без слов толкнул на пол, насел сверху и хамски, грубо сделал свое дело, будто высморкался в меня. Потом другие пошли по очереди как по кругу. Мне было обидно лишь поначалу. Но к тому времени я уже пила, а под кайфом какая разница, какой петух топчет? Смирилась, привыкла, сжилась со всеми. Те, что после меня пришли, ни одного дня не были в королевах. Это так и осталось за мной. Но в кодле, да еще по бухой, короны скоро тускнеют: сначала их перестают замечать, потом и вовсе о них забывают. Того не знала, но и что могла сделать? Иного выхода не было, — бледнела Ольга, хватаясь за низ живота.
А почему ты делаешь аборты? Разве Колька не может купить резинку в аптеке, чтоб не мучилась?
Хм-м… Ему дешевле сменить любовницу! Знаешь, я у него дольше всех задержалась в подружках, другие в метелках и телках — не дольше двух ночей. Быстро надоедали, наскучивали, он приводил новых. Случалось клеил малолеток с панели. За червонец, даже за бутылку вина уламывал. Теперь таких по городу прорва. Особо вечером на улицах. Глянь, что творится, сами виснут на шею. Бери и веди, куда хочешь, хоть под мост иль в кусты, а коли некогда, прямо за домом или в подъезде. Раньше возмущались, орали, стыдили, прогоняли. Нынче никто ни на кого не обращает внимания. Проходят мимо. И малолетки оборзели. Еще недавно пришла в кодлу одна вот такая. Ну, сученка! Ей всего десять лет, а она уже знает больше любой бабы! И могет еще как! Ей не по кайфу обычный секс! Подай лишь крутой! Такая зеленая, а уже с пятью пацанами за ночь! бы что! Я спросила, со скольки лет она трахается? Знаешь, что ответила? «С детского сада!». А меня дряхлой старухой назвала сикуха и добавила, что в моем древнем возрасте — уже не в спросе! Никто не «снимет» такую старую. «Клеют» молодых. Даже она через пару зим выйдет в тираж, потому спешит — время уходит. И добавила гадовка уже при всех, что в моем возрасте пора из кодлы гнать или запрячь, чтобы «пахала», не обжирала других. Правда, этой стерве не повезло. Обрюхатил ее кто-то. Подзалетела сикша. Ну и спеклась. Бомжи сопляков не растят.
А куда ей теперь деться?
Хрен ее знает! Может вздернется или аборт сделает. У нее, по-моему, семья имелась, но возьмут ли обратно с пузом? Она ж теперь на передок злая. Познала мужиков давно. Не остановится. Это нас с тобой в бомжихи за руку привели. Та сама нарисовалась. Дома ей всего хватало, кроме мужиков. Вот и нашла вольницу. Ей бы в клевые! Но туда из детсада не берут, — усмехнулась Ольга.
Э-э, если б не моя беда! Если б не сломал мою житуху отец, все иначе сложилось бы в судьбе! — вздохнула девка и попросила: — Холодно мне. Дай чем- нибудь укрыться. Все внутри леденеет.
Ольга! Ты ж возле горяченной печки сидишь. Тут поджариться можно, — удивилась Катька и пошла на чердак, где хранились старые бабкины одеяла.
Едва нагнулась, из-за пазухи выпал портмоне, какой украла в аптеке из кармана мужика Она забыла о нем, а тут он сам о себе напомнил.
Катька открыла его и ахнула: сплошные доллары… Сотки… Даже руки задрожали. Такого богатства не ждала…
«Вот почему он поднял базар в аптеке!» — вспомнилось Катьке. Она поняла, что тот мужик, конечно, попытается найти ее. «Если хватит ума, выйдет на Зинку. Та не выдаст, но засаду в больнице устроить могут. Хотя… По списку врача сумеют и в дом нагрянуть. Подпись там внизу стояла, а эти аптекарши всех врачей наперечет знают», — погасла радость.
«А я собаку на крыльце держать буду. Голдберг хрен кого пустит в дом. Да и попробуй докажи, что я стыздила? За руку не поймали!» — успокаивала Катька саму себя, роясь в старье.
Спустив с чердака пару одеял, она внесла их в дом. И не успокоилась, пока не спрятала доллары под печь. Но, несмотря на это, вздрагивала от каждого стука, шороха. Тут же, будто назло, Женька с Димкой взялись рубить дрова. Приволокли откуда-то доски, какие нужно срочно поколоть и гремят в два топора.
Катька невольно подскакивает от каждого удара. Остановить пацанов, запретить им тоже не хочет. Ночью будет холодно. Сама не знает, что теперь делать? То к Ольге подсядет, то к окну подойдет.
Ты чего заметалась? Кого ссышь? — заметила
девка.
Чирия! — соврала Катька.
Если и возникнет он, я здесь. Не тронет. Не дергайся! Это верняк! Когда смоюсь, барбоса во двор выпусти. Он на пса не попрет! Боится собак! Его в детстве чуть не разорвали кобели. Он тогда только начинал воровать. С тех пор говорит, что пес и вор в одной хазе не сдышатся. Теперь собак многие заимели. Тяжело стало промышлять, Катька! Недавно сама нарвалась на беду. Злая была на всех. Шла по парку, навстречу старуха с собакой маленькой и гадкой, с хвостом поросячьим, а уши как у зайца. Я уж сплюнула, что эдакую мерзость на поводке водят. Да ни где- нибудь в сарае, в доме держат. Нам жить негде! А на этом лидере шерстяная телогрейка с пуговками. А старая услышала, как я ее за того кобеля обложила, и косится на своего гада, успокаивает. Меня смех разобрал. Я такого гниду с ползахода обоссу. Ну и ляпни бабке, мол, тебе что, деньги девать некуда, что мандавошку в стремачи сфасовала. Что тут стряслось, не передать словами! — рассмеялась вымученно.
Бабка как заорала на меня: «Ходят тут всякие поганки! Проходу от вас нигде нет! Мальчика выгулять не дают! Может он — единственный друг, который у меня остался! С полуслова понимает! Помру — он оплачет, и я спокойно глаза закрою, зная, что хоть кто-то на земле любил меня! Он хоть и собака, а умнее и чище таких, как ты! Гадкая дрянь, негодяйка похабная!». Ну, я ей в ответ, мол, чего заходишься? Возьми меня к себе вместо этого кобеля. Я тебе и глаза закрою, и урою в момент! Коли будет на что, то и памятну! Без мороки! Зато меня прогуливать не надо, говно не станешь за мною выносить. А и жить сумею на полу. Если половикдашь, благодарна буду! Чего вопишь? Надо ближнему помогать! А ты собаку вместо человека в доме держишь! Дура старая! Как куклой им тешишься! А этот пес вдруг заворчал. Бельмы стали красные. Из хавальника пена пошла. Я плюнула в его сторону. Он как рванул ко мне, сбил с ног, да и бросился к горлу. Я от него отбиваюсь изо всех сил, а он то в плечо, то в живот, то в грудь как даст своей башкой. Она у него что булыжник. Да ладно бы его башка! Но ведь и зубы! Он, паскуда, всю меня изжевал. Я уже взвыла от него. Все тряпки, что надела, этот лидер в клочья пустил. Да еще и обоссал с ног до головы. Бабка вместо того, чтобы оттащить его, вокруг бегает, успокаивает гада, уговаривает: «Марсик! Оставь, не трогай! Ты же видишь, она не мытая, на улице живет. Может больная! Не приведисьзаразишься и заболеешь! Плюнь! Пошли домой! Я тебе колбаски дам! Зачем эту кусаешь? Она вонючая! Тебя тошнить будет!». Я от злости чуть не лопнула! Во, выдала плесень! Кобеля от меня вырвет! За мною мужики сворой ходили, слюни до колен роняли! Тут же пес от меня заразится! Ну, достала! Я в кулак вся собралась, изловчилась, хвать по хребту эту гниду! Он враз расклеился! Заскулил, повалился на бок. Бабка к нему! Я ей врезала в ухо и давай материть. Не заметила, как тот падла подполз и вцепился в пятку насмерть. Лежит, зубы разжать не может, хоть ты убей! Тут уж сама взвыла хуже собаки. Мужики мимо шли. Ножом клыки разжали псу. Старая его на руках домой понесла. Так он, говнюк, из-за ее плеча рычал, грозился, рожи мне корчил. Все обещал на будущее повидаться и расквитаться. Так вот тогда я узнала, что это был французский бульдог. Мама родная, с виду хуже нашей шавки, но злой как целая кодла бомжей. И ты знаешь, нынче эти гниды по всему городу развелись, в каждом доме их держат. Вот и подойди к такой бабуле! Кольке-Чирию такой же чуть яйцы не вырвал недавно. В квартиру влезли к одному и не знали про бульдога
Ни то ощипать коммерсанта не пришлось, сами голиком смывались. Короче, полный облом!
Голдберг не мой, Зинкин пес. Меня только терпит. Да и не люблю собак! — призналась Катька, прислушавшись к звукам во дворе. Там стало тихо. Мальчишки разговаривали с кем-то. У девчонки лоб покрылся испариной. Когда Катька выглянула во двор, увидела старуху-соседку. Она просила мальчишек помочь ей с дровами, те торговались, что за это получат.
Девчонка, продохнув комок страха, вернулась в дом. Ольга лежала, укутавшись в одеяла, бледная, с синими кругами вокруг глаз.
Ну, как у тебя? — поинтересовалась Катька.
Хрен меня знает. Кровь хлещет как из крана, а вышло что-нибудь иль нет, не знаю. Все тряпки хоть отжимай. Боль отпускает. Уже не разрывает. Приступы реже, но силы уходят куда-то.
А ты поешь и поспи!
Не хочу. Чувствую себя, как будто со всей кодлой ночь прокувыркалась…
Оль! Ты кого-нибудь любила?
Девка глянула на Катьку удивленно.
Может любила… Но это было давно.
Кольку?
Да Бог с тобой! С чего взяла? Сопляка любить — самой измазаться. Я его всерьез не держала.
А кого? — пристала Катька.
В школе мне мальчишка нравился. Он на два года старше был. Серьезный. На всех олимпиадах побеждал, но никогда не приходил на школьные вечера. Я, грешная, что только не делала, чтоб его внимание привлечь. Все бесполезно. Он не замечал никого. Сколько слез в подушку пролила — не счесть. Первая любовь! Она самая жгучая и памятная!
Ты с ним не виделась, когда в бомжи свалила?
В том-то и дело, что встретились. В прошлом году, — умолкла девка.
Расскажи! — попросила Катька, оглянувшись на окно. Там уже стемнело, и девчонка окончательно успокоилась, села поудобнее.
В то время я уже всерьез простиковала. Червонец отводил нас к клиентам. Из королев меня давно вывели, и подрабатывала как все. В тот день Гошка пришел довольный. Не дал выпить нам. Выбрал троих, велел прибарахлиться, помыть рожи, навести полный блеск и шмыгать за ним. Привел в гостиницу. Там — хмыри. Стол уже накрыт. Выпивона — море. Музыка гремит. Короче, все как полагается. Номер четырехместный, а козлов — трое. Ну, мы бухнули, жрем. Потом свет выключили. Нас по койкам раскидали. Ублажаем клиентов, и вдруг — стук в двери. Мы, понятное дело, в ванную забились. Испугались ментовской облавы. Такое случалось. Хмыри открыли дверь. Оказалось, четвертого жильца поселять пришли. Ну и все успокоилось. Клиенты затащили нового соседа за стол, угощать стали. Нас из ванной выволокли. Я как глянула на нового и язык отнялся. Он! Оказывается, давно закончил институт, сюда — в командировку его прислали. Но все это потом узнала, а поначалу с места двинуться не могла. Вылупилась на него и молчу. Хмыри к нему меня подталкивают: расшевели да ублажи, чтоб не высветил их, чем они в гостинице занимаются. Короче, на плечи к Сашке меня повесили. Тот поначалу возмутился, а когда я сказала, что знаю и помню его, потеплел. Поговорили мы с ним. Вспомнили школу. Выпили. Я ему и призналась, как любила его. Санька, ох и здорово он целовался, все уговаривал уйти с панели. Но куда? Как жить стала бы, сдохла б с голода под забором. Да и он ничего не предложил, кроме советов. А под утро уже я сама затащила его в постель. Оказалось, он еще ни с одной девкой не был. Ну и давай уговаривать, уехать к нему, стать женой, забыть все прошлое. Он так красиво говорил. Если б я слышала все это раньше… Тут же поезд ушел. Поздно, я все прекрасно понимала. Ну какое будущее впереди? Копеечная зарплата Сашки, какой не хватит даже на курево, и постоянные упреки за то, что я не сумела получить образование, и нет возможности устроиться на хорошую работу. Там и моим прошлым начнет попрекать. За бездумье. В конце концов все равно разбежимся. Не сможем жить вместе. Хорошо, если спокойно расстанемся, но можем и врагами расскочиться. Кому нужно такое? Я привыкла к своей жизни и ничего не хотела в ней менять. Да и любовь прошла. Осталась лишь память как солнечный зайчик. Ее так не хотелось марать. Я понимала, ничего хорошего не получится из совместной жизни, и соврала Сашке. Сказала, что замужем, имею ребенка, но… Пришлось подрабатывать вот так. Трудно с деньгами, но от семьи не уйду никуда. Он все понял. И на прощанье сказал так грустно: «Лети, моя ласточка, в свое гнездо! Но только береги крылья и сердце. Не подпали их. Пусть зима никогда не нагонит тебя…». Так вот и расстались. Больше я его не видела. Он стал единственным клиентом, какого обслуживала бесплатно.
Жалеешь теперь о нем?
Нет, Катюха! Он жив в памяти, как кусочек детства, но оно ушло. И время изменило всех. И его… Любить тень, все равно что поклоняться призраку, а мы живем не придуманно. Трудно. Ему такое не понять и не выдержать. Хорошо, что не сглупила, не искаверкала его жизнь. Пусть он идет своею дорогой. И больше никогда не встречается на моем пути.
А я, наверно, никого не полюблю… Бомжихам нельзя этим болеть, — вздохнула Катька.
Ой, уморила! Да разве это с разрешенья бывает? Любовь на земле сама по себе живет. У нее свои крылья. И коль повезет тебе полюбить, дурочка ты моя, твоя жизнь станет совсем иною.
А какой?
Все беды и неприятности отойдут. Ты почувствуешь себя самой красивой и счастливой на земле.
Это когда много башлей стыздишь, так?
Эх, ты! Про «бабки» и не вспомнишь!
Ну, да! Не может быть! Чтоб я про них забыла? А как дышать без них? — покосилась на печку.
Слушай, Каток! Я скоро умру! — внезапно посерьезнела Ольга и заменила мокрое белье на сухое.
Все сдохнем, — согласилась Катька, с испугом глянув на пятно крови, расползающееся под Ольгой.
Ты долго жить будешь, а я уже ухожу.
Чего это ты завелась?
Нет. Я не боюсь ничего. К утру все кончится. Я слышу, как во мне звонят колокола как в церкви. Ты слышала их? А я знаю, они меня отпевают.
Ну и придумала! Тебя в тебе отзванивают.
Чего рыгочешь? а вот теперь слышу. колокол. У них свои голоса, совсем разные как у людей. Когда-то, еще в первом классе, пошла я с матерью в на Пасху. Не в собор, а на окраину. Там народу было поменьше. Я знала ничего о Боге. Дома о Нем не говорили. Лишь дети во дворе делились, что рассказывают старшие. Мать оставила меня возле большой иконы Богородицы, а сама пошла освятить крашенки и куличи. Мне велела подождать. Я смотрела по сторонам и боялась. С каждой иконы на меня смотрели строгие глаза и будто упрекали молча. Я прижалась спиной к стене и заплакала Вот тогда ко мне подошел человек весь в черном, с бородой, будто из иконы сбежал на время и стал успокаивать. Я перестала реветь, поверила, что в Божьем доме бояться нечего, там никого не обижают, надо только молиться и просить Господа о помощи и милости, — слабо улыбнулась Ольга, голос ее стал совсем тихий. — Я стала спрашивать о Боге и очень не хотела, чтобы человек снова сбежал в икону. А он и не спешил. Как много нужного узнала от него. Он говорил, а я старалась все запомнить. И тогда впервые услышала, что в душе каждого живет храм Божий. Со своими колоколами в самом сердце находится. Коль грешит человек, молчат колокола. Если с чистой душой обращается к Господу, звонят колокола переливчато, звоном малиновым. А грешник услышит их под самую смерть, чтоб имел время на раскаянье.
Ты не грешней других. Да и в чем мы виноваты? Разве хотели стать бомжихами? — погрустнела Катька.
Да разве в том беда? Я знаю, за что меня Бог наказал. Сама виновата! Ведь аборты, Катька, это душегубство! Но пускать на свет таких как сама, с моею корявой судьбой не могу, — заплакала Ольга внезапно.
Во, дает, метелка! Сначала отравила, а теперь
воет!
Да куда б с ним делась? Ведь даже ты не впустила бы нас на порог. А теперь, загубив его, сама подыхаю.
Ну, это закинь! Сколько вас ковыряется всякий день? На чердаках и в подвалах. Ни одна не откинулкак хотите. И черт вас не берет! — не поверила девчонка бомжихе.
Может и выживу. Если это обломится, слиняю от бомжей насовсем!
свалишь?
В монастырь попрошусь!
Там свой бардак сколотишь? Тебя оттуда попрут. Туда безгрешных берут.
Таких нету на земле! Даже моя мать про это говорила. Она перед смертью в себя пришла и все меня жалела. Говорила, что если б не жадность, она не потеряла бы меня и свою жизнь. Погналась за большими деньгами, а ушла с пустыми руками. Без радости, в слезах умерла. Да и в жизни ничего хорошего не видела, кроме горя и боли. И я впустую копчу. Сама не знаю зачем. Оттого, если помру, только лучше будет. Ни за спиной, ни впереди — никакого просвета, — простонала Ольга, упав на одеяло.
Знаешь, я на кладбище познакомилась со сторожем. Классный дед. Вот только совсем старый хрен. Даже кашляет в два конца сразу. Ему уже много лет. Он всех пережил. Сталин на Колыму согнал. Другие вынули уже полуживым. Тоже не хотел жить. Всех потерял. Потом опять всех заимел: и женой, и детьми обзавелся. Дом построил, сад посадил. Когда все сделал, его уже из этого дома семья выперла. И сказали, мол, пока строил был нужен, теперь гуляй. Он живьем в землю лез. Бомжи его не взяли. Он смерть звал, она не пришла. Так что думаешь, в сторожа его взяли на погост. Так он и там выжил. Все могилы без разбору доглядел. Прибрал, кресты, ограды поправил…
Во! Скоро я к нему пожалую! Пусть и меня не обходит. Не то припутаю ночью, по старой привычке, погляжу, где он свой порох прячет, как сумел канать через беды? Я одна не продышала. Слабачка! Видать, все мы, бабы, сильны, покуда любимы. Как только нас забывают мужики, жизнь тоже отворачивается.
Но тебя любили многие?
Ольга оживилась и, хотя вставала трудно, села на одеяле, попросила сигарету впервые за все время и, закурив, заговорила:
Любили! Но по-разному! Одни — как ту вошь в подштанниках: чем чаще чешут, тем я жирней. Знаешь, сколько мне платили поначалу? Хо! Только баксами! За ночь до штуки имела! Ох и клево канала! Вот только одна беда, «бархатка» не бесконечна!
Я ж про любовь! — покраснела Катька густо.
А я за что подыхаю? Мне нет семнадцати! И до утра так долго! Ты еще веришь в нее, значит, тоже хлебнешь по горлянку. Плюнь! Люби только себя! И никому не верь, ни одному козлу! Иначе загнешься как я! И тебя тоже даже у рыть станет некому, потому что и за это нужно сначала отбашлять! Или напакостить полные карманы!
Катька вздрогнула на стук двери. Это Женька с Димкой вернулись в дом. Поев и покормив Голдберга, легли на Зинкину постель и вскоре уснули.
Катька тоже прилегла, но Ольга не дала уснуть. Она стонала так жалобно, будто маленький ребенок, заблудившийся в ночи, умирал от стужи и страха.
Оль! Я за врачом! Не могу больше видеть, как мучаешься! — сорвалась девчонка с постели.
Посиди со мной. Не надо врача! Мне так плохо одной. Говори о чем-нибудь, только не молчи. Я ненавижу тишину. Она — сестра погоста. Пока живу, не бросай меня. К утру все кончится. Я уйду за тою звездой, какая погаснет на небе последней. Потому что падшие и последние — прямая родня, — заткнула рот кулаком, чтобы не заорать.
Прости, Катька, знаю, хочешь спать. А я не могу! Спящие похожи на мертвецов! Я боюсь смерти! Почему-то только сейчас захотелось жить! — призналась Ольга, плача.
Все! С меня хватит! Я за врачом пойду! От бабки Лизы в неотложку позвоню! Пусть приедут, помогут! — одевалась девчонка, уже не обращая внимания на слова Ольги.
Катька глянула на часы. Поздновато, конечно, будить старуху, но случай особый. Она боялась, что девка умрет в ее доме, и тогда докажи, что не виновата в ее смерти…
Катька позвала Голдберга и вместе с ним вышла из дома, пообещав Ольге скоро вернуться.
Она боялась одиночества в ночи. И хотя старуха жила неподалеку, всякий шаг в темноте грозил опасностью, потому с собакой чувствовала себя уверенней.
Катька долго стучала в окна и дверь. Колотила кулаками изо всех сил, кричала. Старуха спала крепко. Катька уже хотела уйти, как вдруг увидела, что в окне бабки загорелся свет. Соседка прильнула к стеклу, разглядывая, кто колотится к ней в эдакую ночь?
Узнав Катьку, надела халат, долго искала тапки, еле сдвинула примерзший засов, впустив девчонку в коридор. Долго не пропускала в дом, все не могла понять спросонок, зачем той понадобился телефон?
Бомжиха помирает? Да они, елки-палки, только плодятся. Добрые люди умирают, этим ни хрена не делается, — не верила бабка Лиза.
Умирает! Совсем плохо ей! Надо неотложку вызвать! — рвалась в дом девчонка.
Да «сто сейчас сюда поедет? В наш район по белому дню никого не докличешься. Нынче и подавно. Все спят. Это надо к им бежать! Будить, упрашивать докторов. Надысь, дед Василь помер. Знаешь, от чего? Врачи отказались ехать к нам. Сказали, что нетути бензина для машины. А пехом к нам идти никто не согласный. И к вам откажутся. Это как пить дать, — нехотя открыла дверь перед Катькой, зорко следя за каждым ее шагом.
Девчонка быстро набрала номер. Услышала сигнал — занято. Ругнулась сквозь зубы. Опять набрала, и снова короткие гудки. А время шло. За окном злобно паял Голдберг, звал Катьку скорее вернуться домой, но она не могла уйти, не вызвав «скорую». С полчаса набирала номер. Подбородок дрожал от страха. Что если вернется, а Ольга уже умерла? Времени прошло нимало. Катьке оно показалось вечностью. Теряла терпенье и бабка Лиза: она недовольно косилась на Катьку, что-то беззвучно шептала морщинистыми губами. Ей очень хотелось спать.
Катька даже поперхнулась, когда услышала в трубке:
Алло! Скорая помощь! Слушаю вас!
Тетенька! Ольга умирает. Спасите ее! Я отбашляю, падла буду! — заорала в трубку срывающимся голосом.
Успокойтесь! Назовите адрес! Не тарахтите! Я записываю! — услышала Катька и попыталась взять себя в руки.
Сколько лет больной? Фамилия, имя? Что с нею?
Фамилию не знаю. А вот таблеток она нажралась. Прямо в аптеке! Не знаю каких! Она была беременной. Хотела скинуть! Нет! Мы не можем сами ее привезти. У нас нет машины. Тут они не ходят. Вас ждем!
У меня ваш вызов тридцать первый! А машин всего четыре! Нет бензина. Не хватает врачей. Придется ждать! — услышала Катька.
У Ольги крови целое море вышло!
Что могу сделать? Неотложку не нарисую. Тем, кто раньше вас сделал вызов, тоже срочно нужна помощь, и люди ждут.
Но Олька умирает. Она не доживет до утра, если не поможете!
Ждите своей очереди! — положили трубку на рычаг на станции скорой помощи. Катька, рыдая, поплелась домой, забыв поблагодарить соседку, извиниться за беспокойство. Та качала головой, глянув вслед девчонке.
Катька шла, опустив голову, не глядя вперед, и чуть не упала, наткнувшись на машину, стоявшую перед домом.
Страх за Ольгу погасил осторожность. Девчонка даже не испугалась, не подумала, откуда она здесь взялась, и влетела в дом, дрожа за бомжиху.
Явилась? Долгонько тебя ждем! — встал ей навстречу человек, какого она обокрала в аптеке. Лицо его было перекошено злобой, бледное.
Димка с Женькой были на ногах и стояли перед вторым человеком, незнакомым Катьке. Ольга лежала на одеяле, и девчонка не увидела, жива она или нет.
Давай портмоне, сволочь! — схватил Катьку за грудки тот, кого обокрала. Та вскрикнула, но отдавать деньги и не подумала.
Я кому звоню? — приподнял ее одной рукой, тряхнул так, что у Катьки слезы из глаз брызнули.
Колись! Где они? — отвесил пощечину. Катька отлетела к двери, та открылась настежь. В дом влетел Голдберг. Увидев чужих, оскалил клыки, зарычал глухо, бросился на ударившего, вдавил в стену, прижав папами. Тот от неожиданности растерялся. Пес караулил всякое движение и дыхание.
Никаких денег мы у вас не брали! — внезапно прозвенел голос Димки.
Убери собаку или будет плохо! — нырнул в карман второй мужик.
Голдберг! — крикнула девчонка, указав на опасность. Пес молнией отскочил. Пуля попала в плечо обкраденного. Стрелявший уже лежал на полу, придавленный псом.
Твою мать! Ты что? Крышу посеял напрочь? — ругался раненый, согнувшись в три погибели, зажимая рукой плечо.
Ольга! Оль! Неотложка скоро будет! — крикнула Катька, но девка не шевелилась.
Олька! — бросилась к ней девчонка, оттолкнув раненого. Мальчишки, воспользовавшись моментом, выскочили из дома.
Ты жива? — склонилась к бомжихе. Та открыла глаза. Увидев Катьку, попыталась что-то сказать, но голос был таким тихим, что из-за рыка Голдберга ничего не разобрала.
Уйдите вы все! Она умирает! — закричала Катька.
Верни деньги, дрянь! — услышала совсем близко.
Катюха! У них умер ребенок. Девочка! Если не отдашь, скоро за нею уйдешь. За детей Бог наказывает, — услышала девчонка слова Ольги. И, молча вытащив портмоне, отдала хозяину.
Тот спешно открыл, пересчитал деньги. Положил во внутренний карман. Наклонился над Ольгой:
Может, с нами поедешь? Поверь, все устроим как надо!
Нет! Не хочу! Тебя сильно ранили?
Повезло. Слегка задел. Пуля в стене осталась. На память. Больше испугался.
Ты всегда был везучим! — слабо улыбалась
Ольга.
Катька освободила от Голдберга второго мужика Тот, едва встав на ноги, тут же выскочил из дома, сел в машину и теперь сигналил, торопил своего друга.
Спасибо тебе, Ольга! Эта стерва никогда не отдала бы нам баксы, если бы не ты. Прости нас! Возьми денег. Когда встанешь на ноги, пригодятся! — сунул под подушку пачку десяток и, огрев Катьку злым, ненавидящим взглядом, выскочил на улицу, не оглянувшись на дом. Вскоре они уехали.
Минут через пятнадцать, подпрыгивая на ухабах, к дому подъехала неотложка. Врачи вошли в дом с носилками.
Где больная? — спросили с порога. Увидев Ольгу, поморщились.
Какой срок беременности? — задрали юбку и, осматривая, переговаривались между собой.
Бомжихе замерили давление. Сделали много уколов. Но Ольга, словно только их ждала. Она стала терять сознанье.
Бесполезно! Большая потеря крови! Поздно! — выдохнула врач и, глянув на Катьку, спросила: — У нее есть родственники?
Да! — вспомнила девчонка Кольку-Чирия.
Мы госпитализируем больную. Пусть они придут сегодня, поинтересуются, — написала адрес и телефон на клочке бумаги.
Когда Ольгу перекладывали на носилки, она открыла глаза. Глядя на Катьку, уже не видела ее. Губы приоткрылись, но ни слова не разобрал никто.
Ну, что? Сразу в морг? — спросили санитары
врача.
Попробуем откачать. Живей в машину! — приказала та жестко.
Когда уехала неотложка, Катька выхватила из-под подушки пачку денег. Спрятала в заначник, сгребла одеяло и, выбросив его, позвала в дом Женьку с Димкой. Шуганула Голдберга, воющего вслед машине.
Накормив всех, села у стола. Поесть бы. Да не лезет кусок в горло, становится поперек, хоть колом проталкивай его.
Катьке было жаль денег, какие пришлось вернуть. Она злилась на Ольгу и удивлялась, откуда та знала приехавшего мужика? Может, с ним тоже путалась? Хотя непохоже! Такие как он не клюют на бомжих. Эти снимают валютных, самых прикольных, классных путанок. Ольга давно перестала быть такой.
«Недолго цветут розы!» — вспомнились слова Червонца о бомжихах, и Катьке стало холодно.
«А что, если Ольга помрет? Чирий даже знать не будет. Хотя сам виноват во всем. Если б не лезли к Ольге, жила б она!» — вздохнула тяжко. «Врачи велели родственникам прийти. Выходит, надо достать Чирия. Он своим бомжам — самый главный родитель», — шмыгнула девчонка носом насмешливо и стала думать, где теперь его можно отыскать. «Конечно, на базаре!» — решила Катька и, приказав мальчишкам не отлучаться из дома надолго, оделась и пошла искать Чирия, заодно вздумала собрать для Зинки на базаре фруктов.
Она уже набрала полную сумку, хотела уходить, как вдруг на самом выходе кто-то толкнул ее на обледенелых ступенях. Катька кувырком слетела вниз, придержав сумку. Не успела встать, получила в ухо. Рассвирепев, вскочила, увидела ухмыляющегося Червонца. В глазах девчонки черные искры замелькали. Она налетела на него разъяренной кошкой, била, царапала, кусалась, материла. Даже когда тот упал, не отстала:
Душегуб, вонючий козел! Чтоб ты сдох! За что Ольгу угробил, лидер? Тебе давно откинуться пора, а вы ее убили, суки!
Никто на всем базаре не обратил внимания на эту драку. Не кинулись люди разнимать детвору, дравшуюся жестоко, не по-детски свирепо.
Вот кто-то поддел Катьку сапогом в бок. Та, отлетев, снова вскочила на ноги, кинулась уже на Чирия. Достала головой в «солнышко». Тот упал, девчонка схватила его за горло, оседлав так, что оторвать невозможно.
Киллер треклятый! Кобель гнилозубый! Мандавошка! За что Ольгу угробил, свиное рыло? — изодрала лицо в кровь и изо всех сил душила пацана. Тот задыхался не на шутку.
Гля, какая борзая сикуха! Сама с хрен ростом, а махается, стерва, как бомжиха! — обронил кто-то мимоходом.
Давай, дави его! Небось, изменил красавчик! — смеялись люди.
Она помирает, и ты сдохни! — навалилась всем весом. У Кольки начало синеть лицо.
Братва! Эта гнида всерьез мужика мокрит! — не выдержал мужик в «варенке» и оторвал Катьку от Чирия. Тот не сразу пришел в себя. Долго сидел на ступеньках, широко, по-рыбьи разинув рот, тряс головой, смотрел вокруг мутными красными глазами. Увидел, что люди все еще удерживают рвущуюся к нему Катьку, и хотел было уйти, чтоб не связываться, не позоритьсяиз-за нее перед хохочущей толпой.
Да отпустите ее! Пусть врежет по самые! Хоть душу отведет. Гля, как трусится! Она ему не то яйцы, голову откусит! Ну и бедовая, зараза!
Видать, нашкодил, коль так озлил! Заслужил каленые! Молодец девка! Так их, гадов, надо! Оскопить на ходу! Чтоб неповадно было!
Катьке хотелось втоптать Чирия живьем в землю за все разом. Ей и теперь было страшно за Ольгу. Девчонка, увидев, что Чирий собрался уйти, вырвалась из цепких рук, нагнала пацана и сказала хрипло:
Я тебя из-под земли выковырну, если Ольга помрет! Допер, козел! Ты виноват!
Что с ней? — дошло до Кольки.
В неотложке помирает. Кровяной залилась из- за тебя! Аборт сделала. Колес надралась. Всю ночь у меня лежала. «Скорая» под утро забрала. Тебе прийти велели нынче.
А почему мне?
У ней другой родни нет! Вот и возникай, кобель облезлый! За свои яйцы ответишь хоть раз!
Дура ты! Я при чем! С Олькой уже полгода ничего не имел! Кто засадил, тот пусть и отвечает. Сечешь? А ты свою транду стереги, не болей за чужую. Не то сама загремишь в ковырялки, — ухмыльнулся, оглядев Катьку.
Сволочь ты, Чирий! Хорек! Сам подставлял Ольгу за деньги всяким. Теперь треплешься, что не виноват? А кто «бабки» прожрал?
Заткни хлябало! Не то я его закрою, — пригрозил пацан. И, сбавив тон, продолжил: — Все жили, как могли. И я не сидел без дела. И мой навар хавали. Я не считал, кто сколько принес. На всех поровну шло. Другие метелки тоже трахаются, но ни одна не подцепила. Только с этой — вечный прокол! Ладно, навещу ее вечером, — пообещал хмуро и спросил: — Она просила что- нибудь сказать мне?
Ольга жалела тебя. И всех вас, меня тоже. Все рассказала. Говорила, что с последней звездой помрет, а потом жить захотела. Но крови много ушло. Надо узнать, жива ли она?
Чирий огляделся, приметил телефонную будку. Катька отдала ему бумажку, написанную врачом, указала номер телефона. Следом за Колькой подошла к будке. Чирий набрал номер, Катька ждала.
Это «скорая»? Вы утром забрали из дома девушку с криминальным…
Фамилию, имя, адрес назовите! — послышалось в ответ. Колька назвал.
Приезжайте за нею!
С нею все в порядке?
Лучше некуда! Сразу в морг отвезли! Скончалась по пути? Вы — муж ее?
Нет!
Тогда чего звоните? Пусть родные забирают ее из морга и хоронят.
У нее нет родных! Никого.
Но от кого-то сделала аборт!
Я его не знаю.
Вы можете ее похоронить?
Сумеем, — ответил Колька, смахнув слезу со щеки. Он отворачивался, но Катька заметила. Поняла, что жила Ольга в душе Чирия первой любовью, самой лучшей, самой красивой, королевой сердца… Вот только уж очень поспешила уйти. Даже проститься не успела ни с кем. А и нужно ли это было…
Плачет Катька навзрыд. Ей хочется покусать, исцарапать всех подряд. Как жаль Ольгу, улетевшую за своею звездой. Зачем только кончилась эта ночь? Уж лучше б она продолжалась, и тогда жила бы Ольга на земле…
Горстка ребятишек идет по дорожке кладбища Тащат гроб к могиле.
Сюда! — сворачивает Чирий, торопя свою кодлу.
Кладбищенский сторож любопытно наблюдает за необычными похоронами. «Ни одного взрослого человека. Дети хоронят… Кого-то из своих… Не с добра такое. Разве правильно, что, не став взрослыми, умирают», — качает дед седою головой и, подойдя поближе, видит, как прощаются с покойной.
Прости, Оля. Я любил тебя. И всегда буду помнить свою королеву, — закашлялся Колька.
Красивая метелка была. Зачем поторопилась уйти от нас? — согнул голову Червонец.
Беззвучно плакали девчонки. Пока мальчишки опускали гроб, закапывали его, никто больше не обронил ни слова. Мертвые цветы легли на могилу ярким букетом.
Вот и все. По глотку из бутылки сделал каждый по кругу. Одна буханка хлеба на всех. Пора уходить. Все кончено, но не спешат покидать погост, не торопятся. Значит, осталось тепло к покойной в сердце каждого… Вот и держится память. Не верится, что не прозвенит ее смех у плеча, не пройдет рядом по городу, как бывало, гордой королевой.
Молчат пацаны. Лица бледные, губы синие. Как похожи они сейчас друг на друга и… на Ольгу…
Кто же следующий останется здесь?
Глава 3. Взросление
Катька сидит рядом с Зинкой в палате и насильно запихивает в рот ей манную кашу:
За Голдберга! Жри, говорю!
Теперь за Димку! Давай глотай!
За Женьку! Живо! Не дергайся!
Теперь за меня! Я что, хуже всех?
Не могу больше! — отталкивает Зинка ложку, но Катька неумолима: — Хавай! Это халява! Жри, пока пузо не треснет!
Всего две тарелки! Слабачка, одолеть не можешь! Я б не меньше кастрюли сожрала б. Да не дадут. Так хоть ты за всех нас лопай. Когда пузо полное, болезни из человека выходят. Их жратва выдавливает. Поняла? — запихивает ложку каши в рот заслушавшейся Зинке.
Я тебе яблоков принесла, конфет и апельсинов. Хавай все, чтоб ничего не осталось. Завтра опять приду. Если не сожрешь, измолочу. Ты здесь лечишься. Валяться дарма не дам. Дома делов полно. Мне одной не справиться. Да и Голдберг твой психоватый стал. Вчера всю колбасу со стола стащил и сожрал. Я пообещала, что в другой раз самого на колбасу пущу. Он нас плохо слушается, скучает по тебе, а в палату его не пускают. Говорят, халатов таких нет, и тапок по его размеру не подобрать. Он через окно хотел, но сторожиха притормозила! За самые яйцы поймала. Ох и орал он, на весь свет. Никого не боялся, а как эту бабу видит, хвост поджимает, загораживает яйцы и с воем убегает. От страха, что в этот раз она ему все на свете живьем вырвет.
Катька хотела рассмешить, а Зинка заплакала. Жаль ей стало Голдберга.
Так домой хочу. Надоело лежать. Вставать не разрешают, будто рассыплюсь. А знаешь, как меня здесь отмывали? Почти что скребками. И мыла с ведро извели. Говорили, будто я грязней своего барбоса. И все хотели постричь наголо. Одежду в кипятилке шпарили. Вошей травили. Трепались, мол, их больше, чем волосьев. Теперь вовсе скучно стало. Голова не чешется, жопа не зудит. Снегуркой сделали. Лежи и про болячки думай как старухи. Не-ет, не выдержу долго, смоюсь. Да еще книжки читают, тошные до чертиков. Уколами всю истыкали. Скоро таблетками срать начну, — жаловалась Зинка.
Катька кое-как уговорила девчонку полежать, пока спадет температура. Зинка еле дотерпела. И в тот же день сбежала домой. С неделю Катька не выпускала ее на улицу, а как только вышла, вскоре привела Шурку.
Полуторагодовалая либо двухлетняя девчонка спала вместе с Зинкой в одной постели. Она не капризничала, ничего не просила и не требовала. Люболытно глазела на всех, запоминая, привыкая к каждому, усваивая новое.
Катька не обращала внимания на девчонку. Не удивилась, когда та заговорила. Знала, Зинка не обидит. Той и впрямь нравилось, что малышка зовет мамой и бегает за нею хвостом повсюду.
Но… у бомжей нет детства, и Зинка решила приучить Шурку к делу, чтоб та зарабатывала свой кусок. Знала, иначе будут неприятности. Катька не потерпит в дармоедах никого, и повела с собой Шурку к магазину, села побираться на углу. Девчонка примостилась рядом.
Толстая баба, спешившая в магазин, приостановилась, жалостливо вздохнула, полезла за кошельком. Зинка обрадовалась — первая милостыня… А Шурка скорчила рожицу, высунула язык — дразнила бабу. Та, приметив, спрятала кошелек, ушла, не уронив ни копейки. Шурка тут же вскочила и, расставив ножонки, отклячив зад, прошла несколько шагов следом, надув щеки, подражала толстухе. Зинка хотела поругать Шурку, но трое парней, выйдя из магазина, увидели, как дразнит девчонка толстуху, хохотали громко и сыпанули Зинке в подол горсть монет.
Шурка не могла сидеть на одном месте. Она всегда куда-то исчезала, убегала, уползала. Она обошла весь магазин, любопытно глазела на прилавки. Особо полюбила отдел, где продавалась музыкальная аппаратура и телевизоры. Она не просто смотрела и слушала, запоминала все с первого раза. Вот так и вышла она из магазина, кривляясь и напевая:
«…вот тогда я поняла,
че те надо, че надо,
но не дам, но не дам,
че ты хошь…».
Следом за Шуркой, держась за животы, переломившисьпополам от смеха, вываливались парни и девчата, целая толпа людей. Их разрывал смех. А Шурка, ничуть не смущаясь, выдала по полной программе весь репертуар ансамбля «Балаган». Ни одной частушки не забыла. Не только покупатели, продавцы вышли из магазина посмотреть на девчонку, а та пела звонко:
«Гармонист, наш гармонист,
на улице, — скривила губенки, готовая заплакать.
Не хотела вашего сиротства. А нас, всех троих, вышвырнули! Живые! Чуешь разницу? Ты — сирота! А мы — бомжи! Вам нечего стыдиться. Мать до последней минуты любила вас обоих! И не отказалась! А мы как лишние щенки. Теперь, когда выжили всем назло, может и позовут, чтоб помогали прокормиться. Раз сумели уцепиться за жизнь, глядишь, не станем нахлебниками. Кому нужна такая семья? Она ничуть не лучше кодлы Кольки-Чирия. Так в ней даже заступались иногда и за меня. А мать? Она даже ни разу не пришла, не проведала, не знала, что давно не живу у отца. Да и теперь зачем я ей? Не болело сердце. Не искала! Забыла. И мне не стоит о ней думать. Пусть все останется как есть. Мы давно чужие. Своими не становятся, ими рождаются. Конечно, так хочется нормально жить. Только с нею не получится. Не смогу простить и забыть все.
сказал: — Мы помогли ее спереть, я и заберу!
от всех всегда», — улыбалась Катька темным стенам, потолку. И вдруг вспомнилось…
ней.
Юлька отравилась. Не выдержала, не смогла преодолеть свою ревность и унижение. Чирий не хоронил ее, а через месяц забыл даже имя…
И он снова придет. К ней!» — гулко билось сердце.
накормила пса и, велев Зинке убрать в доме все до блеска, не разрешила никуда отлучаться.
знает! Тебя ждет. С тобою говорить хочет. Вишь, как торопится, — скривилась Зинка. И Катька узнала Дашку. Ту самую, какая пришла в кодлу к Чирию незадолго до ее ухода.
нехотя встала.
О тебе? Конечно. Теперь не станет прикипаться. Считай, отвалил.
Надолго ли? — не поверилось ей.
Навсегда! Я не Колька! Свое умею заставить уважать. Мое слово он знает.
А что сказал? Пригрозил?
Это наш с ним разговор. Мужской. Он понял и согласился. Слово дал.
Толик, не рискуй собой. Не верь Чирию. Я знаю его, гада. Мне он тоже обещал защиту. Да только трепался. Когда влетела с торговкой, он даже отнять меня не попытался. Смылся как последний фрайер. Сама выкрутилась. Теперь не верю ни одному его слову. Падла он, а не кореш! Не подставляй за него голову! — предупредила тихо.
Я его тоже знаю. Рискую с ним на равных. Ему от меня не сорваться. Крючок имею, — усмехнулся коротко.
Он привык на ком-то ездить и дышать за чужой
счет…
Я сам джигит, и если мне на шею слишком давят: сбрасываю тут же.
Он доставать начнет! — вспомнила девчонка
свое.
Пусть о себе подумает. Если я его достану, дышать станет нечем…
Катьке понравилась уверенность Толяна. Она перестала говорить о Кольке и спросила:
Дашку ты привел в кодлу?
Да! Как поняла?
Иначе б не держал. Наплюнул бы!
Нет. Не смог бы…
Ты ее до кодлы знал?
Пусть она сама расскажет, когда придет время. Я не все знаю про нее. Да и теперь не усмотришь… Конечно, жаль человечка. Дать бы ей подрасти хоть немножко, силенок набраться. Но и тут, как повезет… Меня самого сегодня лягавые чуть не пристрелили. Узнали, — почувствовал как дрогнула рука девчонки. Испуганный вздох вырвался тугим комком со стоном.
Не бойся! Пронесло! Дышу! — притянул к себе девчонку. Та плакала.
Ну, чего ты? Не надо! Все позади…
Где тебя застремачили менты?
На улице! Возле ларька. Хотели в кольцо взять, да не успели. Я лихо ласты сделал. Отвалил в кодлу, и крышка! Они вслед мне стреляли. Но только два раза. Народу было много, боялись прохожих задеть. Я тем воспользовался. Все дворы насквозь знал. Влетел в сквозной. Там два выхода. Они — за мной. Да не туда. Я на другую улицу и в проулок. Потом и вовсе — садами и огородами. Так и смылся.
Выходит, не зря целый день за тебя боялась, — проговорила Катька.
Он притянул ее к себе бережно:
Девочка моя! Значит, очень ждала? — поцеловал Катьку, прижал к себе. Они долго стояли вот так, замерев от счастья, подаренного, пусть короткого, единения.
Ты самая лучшая на свете, — шепнул на ухо, чтоб даже березы не услышали, не осмеяли первого признания. — Я люблю тебя…
Катька слушала, замерев.
Береги себя… Для меня. Ладно? — ответила в тон Толику.
Как получится, но очень постараюсь! До завтра, Катюша! — так не хотелось отпускать девчонку…
Та быстро возвращалась домой. Заметила свет в окнах. Поняла, ее ждут.
Зинка была дома. И, едва Катька ступила на порог, сказала, прищурясь:
А я видела, как ты с Толяном целовалась!
Тебе какое дело? — удивилась Катька, поняв, что Зинка следила за нею. — Послушай, Вобла, еще одно слово, и я насовсем выброшу тебя на улицу и никогда не пущу в дом! Поняла?
Может, я сама от тебя уйду! Думаешь, что ты и взаправду самая лучшая в свете? Шиш! Брехня это! Ты вовсе некрасивая! И Толяну с тебя только бабье надо! Он всмятку! Наполовину — бомж, наполовину — крутой! Такие не женятся, только трахают!
Катька не выдержала, отвесила крепкую пощечину, добавив, чтоб утром Зинка вымелась от нее насовсем.
Конечно! Твой засратый дом отмыла, все в порядок привела и сразу не нужна стала. У тебя хахаль завелся, заступник, полюбовник: «Ах, Толян, как я боялась за тебя!» — орала девчонка в истерике. Катька била ее, не щадя кулаков.
Мальчишки испуганно притихли под одеялом, боясь пошевелиться. Дашка смотрела на все, затаив дыхание. Ей было жаль обеих, и она не выдержала:
Зачем Зинку колотишь? Пусть она уходит, если не хочет с нами жить. В кодле ей совсем плохо станет. Она еще не знает, как лихо там! Когда пацаны затащат ее в очередь, тогда сама бегом к тебе воротится.
И не вернусь! Катька такая же сука, как и все! — заорала от сильного удара в подбородок, и тут не выдержал Голдберг, выскочил из-под стола, с рыком бросился на Катьку, сбил с ног и, вдавив в пол, завис над горлом, ощерив клыки.
Получила! — ликовала Зинка.
Вон из дома! Оба! Сейчас линяйте! Чтоб не видела!
Зинка спешно собирала тряпки, потирала ушибы, гундела. Катька бросала ей вещи в кучу, материлась.
А тебе есть куда прикипеть? — спросила Дашка, подойдя сбоку.
— Нет!
Куда ж ты подашься?
Хоть на погост! Тебе что за дело?
На воды. Попей. Успокойся. Сама, дура, виновата! Не лезь в могилу башкой! Покрепче тебя шеи поломали. Ты и вовсе загинешь. Не брешу. Ладно, сама! Собаку пожалей. Ему не выжить. Словят в клетку как бродячего, а потом и тебя как беспризорную. Говорят, скоро всех бомжей отлавливать начнут. Наверно, на мыло. Недавно лягавые замели пятерых бомжей, сказали город от заразы чистить станут. Всех заберут, кто на улице дышит. Ночью ловят. И тебя схватят. Вместе с псом в одну клетку! Почему Толян меня сюда прислал? Чтоб в доме жила. Таких не заметают. А тебе стоит за калитку сунуться, больше не воротишься. Это верняк! — сморкнулась Дашка в рукав.
Зинка так и села, разинув рот:
Брешешь?
А вот и нет! Спроси кого хочешь! Теперь бомжей как говна развелось. Говорят, что в городе от них дышать нечем. Вот мы дом с тобой мыли? Люди город станут чистить как от грязи.
Это мы — грязь?
Мы — не бездомные, потому не выкинут. Не всамделишные бомжи. Мы — бездельные, но еще малолетние. От того заразой стать не успели. Не мы от города сбежали, он нас выкинул. А большие бомжи еще и пьют, на водку воруют. Оттого их за жопу возьмут и всех бездомных. Так сам Пузырь трепался. Я слыхала.
Ловить в клетку? Брехня! — дрожал голос Зинки.
Че брехня? Сама видела, как бомжей из подвала отлавливали. Пришли туда мужики в белых намордниках, как запустили чего-то гадкое, от него тараканы со всех этажей наружу уже дохлыми падали, целой рекой. Бомжам тоже дышать стало нечем. На карачках начали выползать. Их враз за шкирняк и в машину. Она вся в решетках: и спереди, и сзади. Когда затолкали — двери закрыли на замок. Кто-то спросил: «Куда вы их денете?». А мужики в намордниках сказали: «На мыло переварим нечисть! Хватит им город засирать!». И поехали. Те бомжи так орали, на весь город! И тебя схватят! — пообещала Дашка, добавив: — Вот только какое мыло с тебя сварят? Наверно, простое, тряпичное. На туалетное не тянешь. И Голдберга с тобой в одну кастрюльку! Глядишь, кусков пять получится.
Нас на мыло? Ни хрена себе! Это если всех бомжей переварят, мыла будет пропасть сколько!
И главное, твоей семейке обломится кусок из тебя иль Голдберга! — вставил Женька насмешливо и добавил: — Станут вами жопу мыть!
Зинка, не выдержав, заплакала, будто ею уже помылись.
Я недавно была на улице. Уже темно, а никого не ловили.
Ты за Катькой подглядывала, пряталась, а когда уснешь — найдут. Те люди с собаками ходят. Учеными на бомжей.
Да мы тоже сегодня видели эти машины. Они на свалке бомжей ждали! — поддержал Дашку Женька и по ходу придумал жуткую историю, от какой Зинка на ногах не устояла.
Кать! Прости, я больше не буду! — испугалась не на шутку.
Спи до утра. Завтра посмотрим, куда тебя спихнуть!
Не надо! Я не хочу на мыло! — обняла в конец растерявшегося Голдберга.
Тогда дыши тихо! Еще раз высунешь язык, сама вызову ту машину! — пригрозила Катька.
Зинка спешно рассовала вещички по местам и позвала Дашку к себе в кровать, заботливо укрыла одеялом, уступила половину подушки и до утра вздрагивала, словно стояла на краю мыловаренного чана
Дашка заснула быстро. Она давно не спала в постели, потому проснулась утром позже всех.
Ни мальчишек, ни Зинки уже не было. Катька тоже собралась уходить.
А мне что делать? — спохватилась Дашка.
Ты отдыхай пока. Потом что-нибудь для тебя придумаем! Ешь, спи! Никого чужих не пускай в дом. А за вчерашнее вот тебе конфеты! Лихо Зинку напугала! Умница! — погладила девчонку по голове и, сунув ей в руки целый кулек, выскочила из дома.
Дашка из окна долго смотрела ей вслед. Завидовала Катьке, что та уже большая, и ее уже по всамделишному любит Толик. Это Дашка поняла до того, как пришла сюда.
Девчонка весь день стирала старое ребячье белье, Зинкины и Катькины вещички. Готовила поесть и все ждала, когда хоть кто-нибудь вернется домой. Она так обрадовалась шагам во дворе, что даже выскочила навстречу, радостно улыбаясь. Но… к крыльцу подошли трое хмурых мужиков, и Дашка, попятившись задом, быстро захлопнула перед ними дверь, закрылась на крючок.
Послушай, ты, козявка, Катерина дома? Позови ее!
Отвори! Не ссы! Мы не бандиты! — послышалось с крыльца.
«Все так треплетесь! Кто ж про себя сознается? Вон и Чирий болтает, что рыцарь он, джентльмен, господин! А на самом деле — падла отпетая!» — думала Дашка и не собиралась открывать.
Когда Катька возникнет? — спрашивали снаружи.
«Нашли дуру! Чтоб я вякнула, а вы мне двери вышибли и дом обчистили? Хрен вам в задницу по самые листочки! Да и откуда знаю, когда она возникнет. Станет кошка блохе отчитываться? Идите все в жопу!» — затаилась Дашка, подслушивая.
Небось усралась со страху. Они ж тут людей не видят, живя на отшибе!
А не люди загнали их сюда? Такие же говноеды как мы! Небось от того испугалась, что не видела добра и не ждет его, не верит никому. Вот и закрылась девчонка. Хорошего не ждет, плохого получить не хочет.
Ждать придется. Ежли б Катерина имелась в доме, давно бы вышла.
А вот она идет!
Дашка от двери — в дом, к окну прилипла: что велит Катька? Та заговорила с чужими во дворе и требовательно стукнула:
Дашка! Открой!
Все трое разулись у порога, увидев вымытые полы. Дашке это понравилось. «Не вовсе дикие», — похвалила молча.
Входите, — позвала Катька и попросила: — Дашка, чайку сделай всем!
«Боится, чтоб не подслушала. Не верит!» — обиделась девчонка, уходя на кухню. И оттуда услышала:
Здорово ты нас выручила. Даже мент не выдержал, похвалил тебя. Но и впрямь, не виноваты мы. Никто из нас твоего отца пальцем не тронул. Хотя он всем нам судьбы изувечил. Поначалу хотели отмудохать, а он куда-то исчез. Потом, видно, время свое сделало, и мы забыли о нем. Выпал из памяти. И тут…
А кто вы есть? — спросила Катька.
Человек закашлялся, смутился от прямого вопроса, заданного в лоб:
Теперь я — Шнырь!
Ну, это кликуха! Я знаю! А до того? — настаивала девчонка.
Кем был до того, как стал бомжем?
Да! За что злился на отца?
Не я один! Он многих достал.
Я не хочу про всех! Ты скажи про себя!
Значит, желаешь увидеть подноготную? Что ж, изволь! Твоя воля — твое желание…
Дашка подала чай, присела в уголке на низкой скамейке: взялась зашивать Женькину рубашку, внимательно слушая рассказ человека, сидевшего за столом у окна. Он пил чай мелкими глотками, изредка смотрел в окно, курил.
Густые пепельные волосы, схваченные сединой, были коротко пострижены. От этого его продолговатое лицо казалось вытянутым как у лошади. Тонкий нервный нос никак не вязался с подбородком, выступавшим настырным кирпичом. Маленькие уши, плотно прижатые к голове, выдавали злую, скрытную натуру. Выпуклый громадный лоб и суровые серые глаза подчеркивали умную упрямую натуру. Жилистая шея и широкие плечи говорили о том, что не брезговал этот человек физической работой. Умел вкалывать. А вот руки никак не вязались с остальным. Изнеженные, с тонкими пальцами, они скорее походили на руки музыканта.
Вот всеми стариками здороваться, ни за что не станешь!
На хрена они мне сдались? — удивилась Катька неподдельно,
Попробовал бы я так сказать? Бабка весь валек об мой загривок изломала. Да только лиха беда заставила и ее под старость сменить мнение. Вот так кляузе соседа выселили нас в Сибирь как врагов народа. Из двенадцати втроем остались. Бабка, умирая, все обещала вымолить для нас защиты у Бога. Да, видно, и теперь еще до Него не дошла. Отец все жалобы писал: искал правду. Так и не нашел. И только мне повезло. Выучился! Один на пять деревень получил высшее образование и стал юристом. Уж кем только не пришлось работать, чтоб допустили к следствию, где смог бы я помочь людям… И только в сорок лет взяли в адвокаты. Это уже перед самой перестрой Ты ничего не помнишь, а мне нынче обидно. Как позорили нашу семью лишь за то, что отец десяток ульев держал!
Ты че это мне дурь на уши вешаешь? Иль свободные лопухи сыскал? При чем твои ульи? Мой отец не стал бы этим заниматься. Кончай хныкать. Твою бабку обидели, отца зажали? Но они сами откинулись! А моего отца пришили! И без ульев. Ты скажи, с чего с отцом заелся? — насупилась Катька.
Я на него не наезжал. Твоя мать… Суд назначил меня ее адвокатом. По делу о покушении на убийство. Ей грозил громадный срок. Я изучил, проверил все материалы дела и взялся. Вот тогда впервые мне позвонил твой отец. Представился. Спросил, как я намерен вести защиту. Выслушал и сказал: «Не советую вам, коллега, выкладываться на этом деле. Подзащитная не имеет средств, чтобы достойно оплатить ваш труд. Да и не стоит она тех усилий. Будь она обольстительной, я бы еще понял вас как мужчина мужчину. Здесь — полный ноль! Зря вы взялись». Мне стало обидно. Тогда я еще верил в законность! Это и помогло добиться успеха в деле твоей матери. Я хотел помочь и дальше: восстановить на работе, отсудить одну из комнат в квартире твоего отца, доказать ее способность растить и воспитывать тебя… Все это было реально. И я начал собирать документы. Готовился тщательно. Знал, твой отец — крепкий орешек, и голыми руками его не взять. Конечно, старался как мог, конспирировал свои действия. Но опять позвонил твой отец и высмеял меня. Сказал, что я очень пожалею о своем настырстве. Если не остановлюсь, найдутся желающие меня затормозить. И тогда уж вступиться станет некому, — закурил Шнырь.
Слушай, кент! Ты не с того начал и не туда попер! Не сей крышу! Ты с кем говоришь? Проснись! Она ведь сама прошла через пекло! А ты об чем? Станет ли здороваться со стариками? На хер они ей нужны! Или как ты защищал ее мать? А она с нею дышала? Ей это надо? Она кентовалась с отцом. Ты его хочешь забрызгать за то, что он тебе грозил, а потом подстроил козью морду, и ты свалил в бомжи!
Не сам свалил, меня выкинули в бомжи. Как мусор выбрасывают на свалку, так и меня! А все он подстроил и состряпал! Он! Я из-за него скатился!
Кончай! В моей беде не он, партнер виноват. Ведь я не хуже тебя был! Дышал как человек! что теперь? Но не скулю!
Ох! Вашу мать! Как опаскудело все это! Один — адвокат, другой — коммерсант. Все жили — пальцы веером. Зачем теперь о том? — и повернувшись к Катьке, сказал: — Конечно, другая захотела бы подставить нас. В ментовке! Ведь Шнырь, чего уже темнить, достал твоего пахана. И когда у него не заладилось с матерью, не дал ему дышать спокойно. Измотал своими жалобами. Тот и озверел: по всем судам с год таскал. А зачем? Что ты имел с того? Да ни хрена! Ему и надоело! Ну, как, скажи мне, дышать в квартире с бабой, какая убить хотела? Ты с такою на свалке не смирился б! А Шнырь принуждал! Мало того! Не приводи любовницу! А он что — кастрат? Вот он и устроил тебе облом по всем правилам. И я на его месте устроил бы такое же! А тебе, Чита, партнера достать надо!
Может, вы со своими делами сами разберетесь. Зачем мне это знать? — начала злиться Катька.
А ведь и верно! Ни к чему весь разговор тебе! И мы здесь не за тем. Пришли сказать, что знаем твое доброе. И нет вины за нами, — опустил голову Шнырь, приметив Зинку и мальчишек, ожидавших, когда их дом покинут чужие люди.
Все в этой жизни переменчиво! Вчера мы были одними, сегодня — иными, но в чем-то не меняемся и остаемся прежними. Жизнь еще не кончилась. И если вдруг тебе станет тяжко, знай, что я у тебя есть, — сказал Шнырь Катьке. Та едва кивнула головой.
Бомжи шли, не спеша, направляясь в центр города. Там, в пивном баре, пристроившись у занятой барной стойки, глянет бездомный в глаза тех, кто пришел сюда утолить жажду, выпить по паре кружек холодного пива, разлить на троих бутылку водки. Бомж смотрит им в глаза пронзитепьно, просяще, без слов. Ему не слишком дорога жизнь, куда как нужнее воля. Сегодня они ее получили вновь. Как хочется обмыть. Кажется, поняли мужики. Протягивают недопитое. И на том спасибо. Ох и хорошее пиво! Холодное как нары в следственном изоляторе, горькое как жизнь… Залить бы им обиду, чтоб не скулила выброшенным на улицу щенком. Но как погасить боль, которая всегда живет в сердце и неотлучна от человека ни на секунду.
Шнырю повезло больше других. Ему не просто пиво оставили, а и плеснули в него водку. Почти стакан. Кто-то забыл на стойке воблу. Пьет Шнырь, хмелеет, а может память одолела. И катит по впалой щеке одинокая слеза. Вот застряла в морщине, снова выкатилась хрустальной каплей, замерла в щетине на бороде и упала прямо в кружку. Шнырь и не приметил. На душе потеплело. Как редко такое случается.
Когда-то и он приходил вот в этот пивбар совсем иным. Смотрел на алкашей с непониманием. Особо не терпел и презирал пьющих баб. Его мутило от их приставаний и назойливости. Он никогда не думал, что окажется вскоре среди них. И пусть без слов, молча, будет клянчить глоток…
Случалось, вот как сегодня, оставляли. Бывало, выплескивали в лицо остатки с матом… Кому какое дело, почему он докатился до Не устоял, вот и наплевали еще… В самую душу. Как и тогда некому было поддержать, а подтолкнуть в пропасть всегда хватало желающих. Пьет бомж… Горькое горькими запивает. Не по пьянке. Но чужая боль не болит. Оттого никто не спросит, не оглянется и не поможет…
Вместо имени — унизительная кличка. Свое родное забываться стало. Скажи о таком ранее — не поверил бы. Не только по с отчеством называли. Иначе никто и не посмел бы обратиться. Теперь кто узнает в нем Ивана Васильевича? Да и лучше, что не узнают. От знакомых лицо прячет. Совестно. Потому что не все потеряно.
Вот допьет последние несколько глотков и пойдет вместе с бомжами куда-нибудь. Может, к себе на свалку. Там из всякого хлама соорудили и ему бомжи хижину, назвали ее бунгало. Из досок и ящиков, картона и рубероида стоит она, раскорячась. Что-то среднее между большой конурой и шалашом. В полный рост не войдешь, только согнувшись пополам или ползком. Тепло не держит, зато снег внутрь не попадает. Дожди, конечно, достают. Об уюте и комфорте тут не вспоминают. Спят прямо на земле. На старых тряпках, в опилках, даже обычный песок — подарок. Старая «буржуйка», украденная с чьей-то дачи, дает немного тепла. На ней прокопченный чайник, такие же сковородки и кастрюли. От запахов готовящейся еды даже бродячие псы с визгом и воем убегают прочь. А бомжи хоть бы что, все переварят и съедят, даже падальным воронам на удивление.
Конечно, не враз привыкли к такому. Нужна была адаптация. Она была самой болезненной. Поначалу никому не верилось, что жизнь «сыграла оверкиль».
Иван Васильевич оглядывает зал пивбара помутневшими глазами. Вон Чита пристроился к троим мужикам. Может, бывшие знакомые? А может, вешает лапшу на уши? Вон как тарахтит без остановки. Вымогает выпивон и жратву. На халяву трепаться не станет. Ему, видать, повезло. Полная кружка пива в руке и тарелка с раками. Пожалели или расщедрились? Чите хватит и ста граммов водки, чтоб свалиться под стойку. А там до вечера, пока уборщица не выгребет шваброй. Сам по себе, своими ногами, ни за что не уйдет, только вытаскивают, выбрасывают. Иногда выбивают бомжей отсюда.
«Значит, его ждать не стоит. К ночи сам приползет, когда протрезвеет», * ищет взглядом Финача. Тот уже пристроился в углу, возле него три недопитых бутылки, обгрызанные селедочные хвосты и потроха Смакует мужик. Всю рожу отделал, зато блаженные слюни текут по бороде. Не часто так везет. «Лучше ему не мешать теперь. Пусть тешит душу», — думает Шнырь и тихо уходит из бара.
«Скорее к себе — в хижину! Только бы добраться, доползти», — не без труда переставляет переставшие слушаться ноги.
Сколько он шел? Да разве имеет значение время? Для попавших на улицу оно остановилось.
Вот и хижина! Пусть хреновая, но своя!никто не выгонит. Не решаются сунуться к бомжам ни милиция, ни горожане. А потому опасаться некого. Если и завалится, то только свой, перепутав свою конуру с чужой по пьянке. Но это не страшно. Можно оставить, пока проспится, можно вытащить и отволочь в его жилье. Редко такое случается.
Шнырь влезает в свою лачугу. Холодно. Печка совсем остыла, негде согреться. И нет сип, чтобы самому затопить. Руки не слушаются. Иван Васильевич с головой зарывается в кучу тряпья. Так можно быстрее согреться, а уж потом затопить буржуйку. Сколько дней она не протапливалась? Ведь в милиции были бомжи. Хижина заждалась хозяев и продрогла насквозь.
Иван Васильевич лежит, подогнув колени, свернувшись калачиком. Вот и теплее стало как в мышиной норе. Не видно неба, зато жив.
Когда же это все случилось? Впервые попав на свалку, он дольше всех привыкал к положению бомжа.
Он не любил ворошить память, но она будоражила его даже во сне.
Падение, как и у всех, началось со взлета. В юридической консультации ему завидовали коллеги. Еще бы!него было очень много клиентов. Всяких. Неплохо платили, грех обижаться. За год сумел собрать не только на трехкомнатную квартиру, но даже отремонтировал и обставил ее. Потом и дачу, и машину заимел. Сына устроил в экономический институт, дочь — в педагогический. Жена даже дома ходила в импортном. На обновы для нее не скупился. Больше двадцати лет в нужде жили. Все стерпела. Вот и решил побаловать, дал ей волюшку. Она и рада: свою портниху заимела поначалу, потом парикмахера. Завела знакомства в высшем обществе. И незаметно стала меняться.
Иван Васильевич тогда упустил, не сразу приметил, что у жены появились свои друзья, свои праздники. Она ничего не говорила ему о них. Не делилась как прежде заботами. Он даже радовался, что она сама справляется со многими проблемами.
Что? Сын не сдал сессию? Сама улажу. Дочка хочет поехать в круиз? Пускай резвится! Это не твои заботы! Не надо ущемлять ребенка! — отвечала уверенно.
Он часто бывал в разъездах. Работал до глубокой ночи, не вникая в жизнь семьи, лишь снабжал ее деньгами. А зарабатывал помногу.
Как-то изумился, увидев, что жена, даже не задумываясь, купила дорогие французские духи. На ее туалетном столике появилась изысканная косметика бижутерия.
Зачем тебе все это, да столько? — удивился Иван Васильевич.
А как ты хочешь? По-твоему, я всю жизнь должна носить вещи из уцененки и комиссионок? Ты безнадежно отстал от жизни. Теперь без хороших вещей никуда не появиться! Будь хоть семи пядей во лбу! Особо женщины за собою следить обязаны. Оглядись вокруг!
Болезненно прошла стычка с дочерью. Увидел ее в лосинах. Она собралась с подругами на дискотеку.
В таком виде? — встал он у нее на пути.
Все так одеваются! — не поняла она.
Ты — не все! Ты — моя дочь! Оденься как положено! Посмотри! У тебя все видно! — покраснел тогда, указав дочке ниже пояса.
Ну и что? Сейчас это модно!
Живо в комнату к себе! И в голом виде ни шагу за дверь! — оттолкнул от двери и подруг.
Пещера! Тундра! Ископаемое! Домострой! Самодур! — услышал через стенку в свой адрес и влетел в комнату разъяренный.
Так кто я? — встал перед нею бледный, с перекошенным лицом. Дочь не заметила в истерике и крикнула: — Как только мать жила с ублюдком столько лет? Ты — не человек! Быдло!
Пощечина не остановила, наоборот, развязала язык:
Старая плесень! Придурок! Правильно мать сделала, что наставила тебе рога и завела хахалей! Они — люди! А ты — говно!
На эти слова в комнату влетел сын.
Чего тут за визги? Кто достал? Ты с чего к ней прикипаешься? — встал перед оглушенным отцом, до которого только теперь дошел смысл услышанного.
Значит, хахали в доме появились? Они — люди, а я — ничто?
Во, прикольный пахан у нас! Да ты что, с завязанными глазами дышишь? Все теперь так живут! Одни бабки — ничто! Нужны связи. А они сами по себе не появляются. Их приобретают, не гнушаясь средствами! Иль ты застрял в своих лаптях на лежанке печки? Так вылези из своего навоза, деревенщина! Мать — умница! Она знает, что делает. Ни чета тебе, дремучему! И отстань от сеструхи, — отлетел вглубь комнаты, подцепленный кулаком в дых.
Сын оглядел его ненавидяще и, продохнув, процедил сквозь зубы:
Дышать вместе не будем!
Жены дома не было. Она, как всегда, ушла к подругам на день рожденья.
Иван Васильевич стал названивать, разыскивая ее. Хотелось спросить у самой. Она приехала через час и, узнав о случившемся, отмахнулась:
Мало что в злости наговорили. Не лезь ты к
ним…
Но Иван Васильевич не поверил ей. Решив убедиться, через несколько дней предупредил жену, что уедет по делам на неделю. Собравшись, ушел. А вечером, часов в девять, позвонил в дверь. Еще с лестничной площадки услышал голос крепкой попойки.
Двери ему открыл незнакомый человек. Оглядел Ивана Васильевича осоловелыми тазами, спросил заплетающимся языком:
Что нужно?
Я хозяин этого дома! — отодвигал мужика в сторону.
Машенька! Тут какой-то хмырь хозяином называется! Выйди, разберись!
Жена появилась, держась за стенку от хохота. Увидела Ивана, протрезвела:
Ты не уехал?
Вернулся досрочно! — сорвал с себя пальто и шапку, прошел в зал.
Проверить меня решил? А сам где шлялся до этого времени? — услышал за спиной голос жены.
В зале за столом сидели полупьяные люди. Никто из них не обратил никакого внимания на появление хозяина.
Что за праздник отмечаем? — спросил жену
резко.
Просто встречу с друзьями, — ответила та спокойно.
Не слишком ли громко?
Я тут и мне бояться нечего! Присядь к столу, познакомься с людьми, — предложила Васильевичу.
Машенька! А этот хмырь кто будет? — подошел к жене человек, открывший двери.
Это муж…
А я кто?
Ты — наш друг.
И все? Я не согласен! — обнял жену и продолжил: — Сегодня у тебя останусь…
Иван Васильевич в считанные минуты вытолкал всех гостей и, оставшись с женой, впервые за все годы затащил в спальню и надавал пощечин.
Смотри, Ваня, сторицей верну каждую! Кровавыми заплачешь, — пообещала ему и легла спать на диване в зале. Утром, когда он встал, жены уже не было. Дети с ним демонстративно не разговаривали, не замечали, не отвечали ему.
Он пошел на работу в дурном настроении. Там узнал, что три его жалобы по делам клиентов отклонены, и решение судов оставлено в силе. Не успел передышать это фиаско, новая неприятность свалилась. Его подзащитный повесился в камере. Через пару часов сразу несколько клиентов обратились к заведующему юрконсультацией с просьбой передать их — дела другим адвокатам. В производстве Ивана Васильевича осталось последнее дело по защите Катькиной матери.
Если так будете работать, то в конце месяца ни копейки не получите! — предупредили на работе. Он шел домой, не видя земли под ногами.
Хотел поделиться с женой, примириться с нею, предложить ей забыть все ошибки. Ну, мало ль чего не бывает. Все оступаются, но главное нужно сберечь.
Жена сидела напротив него за столом на кухне. Сама не осталась бы, он попросил.
Насупленная, злая, она смотрела в сторону и, казалось, не слушала его.
Говоришь, клиенты разбежались? Чего ж удивительного? Они нашли более умного юриста, на какого ты ловушки ставишь. Да где такое видано, чтоб своего коллегу-юриста топили? Ты знаешь, какие у него связи и знакомства?
У меня один знакомый — Закон!
Дурак ты, Ваня! Вот выгнал гостей! А средь них много было полезных. Теперь вредить тебе станут, мешать. И тот коллега не упустит подножку подставить. Да и я не стану вытаскивать. Живи самостоятельно. Сам себя по морде бей! — ушла из-за стола.
Вскоре он узнал, что клиенты отказались от его услуг по совету Катькиного отца, что он был одним из хахалей жены. Именно от нее он узнавал все, что делал Иван Васильевич. Она выдала его с головой. И вскоре Ивана Васильевича вызвал заведующий юр- консультацией и сказал:
Больше мы с вами не сможем работать вместе! Это окончательно! Давно мне говорили о вас нелицеприятные вещи. Думал, сами поймете. Делал замечания. Не помогло. Значит, расстаемся!
Почему? — удивился Иван Васильевич.
Зачем вы передали подзащитному в камеру деньги? Для взятки! Вы не могли не знать о том!
Я передал ему одежду и еду по просьбе родственников и с разрешения начальника следственного изолятора.
Не стройте из себя наивного! Это и сами родственники могли передать. А вот деньги он получил через вас. Когда вскрылось — досталось мне. Мало того, лекарства принесли. Хорошо их не передали, проверили! Знаете, что это было?
Сердечные и от давления!
То ли простак, то ли дурак! Но и то, и другое опасно. Вас самих под суд за такое отдать надо! Да репутация фирмы дорога! А потому давайте тихо расстанемся по обоюдному желанию. Пишите заявление! — положил лист бумаги, подал ручку…
Иван Васильевич вышел из кабинета, шатаясь. Ему впервые не захотелось идти домой. Он знал, там его уже не поймут и не поддержат.
Он сидел на парковой скамье, пытаясь собрать воедино все узелки случившегося.
«Как исправить, что предпринять? К кому обратиться за помощью?» — лихорадочно копался в памяти.
«Стольким помог, а сам остался беззащитным. Слишком самоуверенно жил. Наверное, потому никого вокруг не осталось. Но что с того? Хоть в кровь себя искусай, задницу не достанешь», — поплелся домой в потемках. И первое, что увидел — насмешливое, отчужденное лицо жены:
Ты где это шлялся до сих пор? — спросила, прищурясь.
Плохи дела, Маша. Очень плохи. Хоть в петлю головой сунься, — пожаловался тихо, перешагнув порог.
Веревку намылить? Иль стульчик подставить? — спросила ехидно.
Ты что? Совсем спятила? Иль всякую совесть потеряла? — изумился Иван Васильевич.
Совесть? Это что такое? Ты кто, чтоб мне про совесть говорить? Два месяца на нашей шее сидишь, ни копейки не принес, а туда же! Дети работать пошли.
Того гляди, институты бросят: платить нечем. При живом отце такое безобразие творится! Я сегодня отнесла в комиссионку свою норковую шубу! А ты про совесть вспомнил?
Без работы я остался! Уволили…
Дожил… Выкинули! Зато умеешь друзей разгонять, вредить людям. Вот и получил. Ну, да я тебя на своих плечах возить не буду. Детей кто-то должен на ноги поставить. Коль ты последние мозги посеял, я не должна голову терять.
Попробую устроиться в другой консультации, а может в частную юрконсультацию пойду! — осенила мысль.
Давай-давай! — усмехнулась криво.
Целый месяц ходил Иван Васильевич в поисках работы. И всюду ему отказывали.
Своих полная обойма!
Сами сокращаем штат!
Мои и так без нагрузки. Заработков нет. Куда брать нового?
Не О тебе звонили! Не советовали принимать: репутация подмочена. Всех клиентов отпугнешь. Не хочу рисковать! — сказали честно бывшие однокурсники.
Иван Васильевич ходил в нотариальные конторы, но и там нарывался на занавес отчуждения: кто-то успевал опередить его. Надежда найти работу по специальности с каждым днем таяла.
Попробовал устроиться преподавателем в колледж. И там отказ. Начал искать работу по объявлениям, но как только называл фамилию, разговор о приеме на работу обрывался.
Дома его уже не замечали. Иногда он по часу звонил в двери своей квартиры, пока кто-нибудь откроет. Ключи у него забрали, потому что в доме должна была появиться невестка.
У него не стало своей комнаты и постели. С дивана в зале его выкинули на кухню на раскладушку. Ему никто не стирал и не готовил. И однажды вечером сын не выдержал:
Ну, что, законник? Нахлебался правды? У тебя теперь один выход остался!
Руки на себя наложить? — мрачно заметил Иван Васильевич.
Не-ет! Наняться в интим!
А что это такое? — не понял подвоха.
О-о-о! Самое клевое место! И главное, голова ни о чем не болит. Мозоли не появятся. Зато бабки рекой текут. И никакой ответственности. Дал объявление или свой телефон в фирме, тебе звонят, дают адрес бабы, к какой надо прийти, ты ее ублажаешь, получаешь бабки и вперед на следующий вызов.
Я? В кобели по вызову? — затрясло Ивана Васильевича.
А что тут такого? Не в кобели, а в джентльмены для желающих! Они теперь в самом большом спросе. И зарабатывают лучше всех!
Маша! Ты слышишь? — повернулся к жене.
С худой овцы хоть шерсти клок. Коль нигде больше не нужен, хоть там себя покажи! — рассмеялась жена.
Вы свихнулись! Смеетесь в наглую! Иль забыли, как я отношусь к подобным связям?
Жрать захочешь, на все пойдешь! — услышал сыновнюю реплику, брошенную через плечо.
Нет, он не обратился в интим. Он все еще надеялся найти работу. Но через неделю, вернувшись после неудачных поисков, увидел в доме чужого мужика. Тот был в пижаме, тапках. Иван Васильевич подумал, что перепутал квартиру, позвонил к чужим. Но нет… Он не ошибся. Просто в доме появился новый хозяин. А его решили выкинуть. Вон в углу чемодан с вещами, портфель с книгами и кодексами. Жена даже не смотрит в сторону Ивана Васильевича.
Маш! Это что? Всерьез? — не верится человеку.
Не суши мозги! Давно пора было понять, что ты здесь лишний! У меня нет жизни про запас, а мучиться с тобой до гроба не хочу. Я устроила свою жизнь с другим человеком. И не мешай нам, если тебе хоть немного дороги дети. Пусть хоть они встанут на ноги и не собьются с пути как ты… Нам не стоит больше видеться. Иди. Сыщи себя. Может, хоть врозь мы будем счастливы?
Иван Васильевич вышел из дома в сумерках. Ему не предложили переночевать или поужинать.
Без копейки денег в кармане он вышел из дома, не зная, куда направиться.
«Надо было морду расквасить тому хахалю! Вышвырнуть с балкона! Ведь я хозяин! Ну почему и здесь не смог за себя постоять? Дал волю бабе! Хотя не заставишь жить с собой насильно. Кто я им теперь? Выбывший хозяин? Этот может и впрямь поможет детям. Я исчерпал все…», — ругал себя человек, все больше смешиваясь с сумерками.
Эй, красавчик! Не меня ли ищешь? — вывернулась из-за угла взлохмаченная баба и взяла под руку.
Отстань! У меня нет ни копейки!
Тебя выперли из дома? — заглянула в лицо участливо.
Да, — попытался высвободить руку.
И куда ж теперь?
Хрен меня знает! — вырвалось злое.
Ты погоди, не ерепенься. Не только тебя отшили! Теперь бездомных мужиков больше, чем бродячих собак! Пошли со мной. Отведу к бомжам. Авось не пропадешь. Жив будешь, — повела его к окраине города торопливо.
Во! Еще одного вышвырнули на улицу! — подвела к куче мужиков, роящейся в подвале пятиэтажки.
Кто будешь? — спросили хрипло.
Теперь уж «кем был?», — опустил человек голову, понимая в глубине души, что случайная женщина спасла от верной смерти.
Ведь, не признаваясь самому себе, шел к мосту, чтоб сброситься с него вниз головой. Тихо и незаметно для всех. Знал, никто не должен помешать свести счеты с жизнью. Он решился на это как-то враз, перешагнув порог дома. Знал, никто не станет искать его. Да и кому нужен неудачник? А тут баба вцепилась репейником, не дала сдохнуть, увела от моста. Притащила к мужикам вовсе незнакомым. Вот и обступили они его плотным кольцом:
Говоришь, баба выдавила, другого привела? Таких средь нас хоть хреном мешай: полно! И юристов можно ложкой черпать! Тут повыше тебя прикипели.
Известными были! Нынче — никто! Бомжи мы все. Допер? И тебе деваться некуда. Дыши средь нас, не вы- пинаясь…
В ту первую ночь он лег в подвале на батареях, на куче старого тряпья. Не спалось. Он ворочался с боку на бок, иногда вставал покурить.
Иван! Не дергайся! Смирись! Ведь кто его знает, может, только теперь познаешь счастье? Ить от хомута избавился. Семья — это кандалы, вечные заботы, воз проблем. Ты тащил на себе все! Теперь ничего нет! Свобода! Ты не нужен им! Вот и отдыхай от кровососов! Иль привык? Да лучше нищим жить, чем так, как ты дышал. Сам себе не нужен — все для них! Переведи дух и оглядись! Человеком себя ощути! Мы ить тоже страдали, как и ты! Нынче поумнели. Никого из нас в семью на аркане не затянешь. Клянусь своими лысыми мудями, лучше в петлю башкой, чем свою волю на тарелку супа променяю! Возьми себя в руки, будь мужиком. И не мучайся памятью! От нее лишь башка трещит. Бомжи — самые счастливые люди в целом свете! Нам никто не указ. Сами себе хозяева. Коль здесь приживешься, значит, ты — человек! — говорил седой старый бомж, высунув из-под тряпья морщинистое маленькое лицо, похожее на усохшую тыкву.
На третий день Иван Васильевич обнаружил у себя вшей и испугался.
Ты чего? Вошки, блошки, мандавошки — наши младшие братья! Поверь, они не высосут столько крови, сколько баба выпила! — хохотали мужики, почесываясь ежеминутно.
С ним делились всем, что имели, крали, меняли, выпрашивали.
Поначалу болел желудок, тошнило от запахов, случалось, рвало. Потом начал привыкать, втягиваться.
Милиция гоняла бомжей из подвалов и чердаков, с дач, грозила упечь в каталажку. Иногда бомжей били. И устав от всего они ушли на свалку, подальше от города и горожан.
Постепенно привык человек к налетам на дачи и участки. Приносил картошку и яблоки, лук и капусту.
Даже кур с одной дачи. За это и назвали его Шнырем.
Иван Васильевич тяжело отвыкал от семьи. Месяца три звал во сне жену и детей, но они не услышали. А через год, казалось, совсем их забыл. Старался не появляться поблизости, чтоб не столкнуться ненароком. Но однажды увидел дочь, гуляющую в парке с парнем. Тот целовал ее, а потом… привел на уединенную скамью в кусты. Повалил грубо, неожиданно. Дочь не успела вскочить, но обеими ногами поддела в пах.
Дура ты, пещерная! Уходи! Не нужна ты мне! Старая метелка! — сказал, еле разогнувшись. Дочь плакала.
Ивану Васильевичу так хотелось подойти, утешить, успокоить, но сдержался. Вспомнил некстати, как когда-то она обозвала его. Теперь сама получила…
Кому ты нужна? Скоро четвертак! А тебя никто не ломанул! Никому не нужна. Теперь девки умнее: не засиживаются. Да и ты за что держишься, старая плесень? — говорил парень, смеясь в
Дочь поспешно встала. Когда она вышла на аллею, нагнал парня Иван Васильевич, сшиб с ног и отметелил так, что тот до самого утра провалялся на земле.
Но после той встречи никогда не появлялся в том парке. Однажды видел мельком Марию. Та несла с базара тяжеленные сумки. Ей никто не помог.
Иван Васильевич, глянув ей вслед, лишь головой качал. Когда-то на базар они ходили лишь вдвоем. Он никогда не давал жене носить тяжелое.
Ну что, мужики? Скоро Новый Год! И мы его отметим! Постарайтесь с харчишками! — напомнил бомжам самый старший из них, Кузьмич.
Вот у кого учись! Ему за семьдесят, он же еще нас переплюнет! Сам в бомжи слинял. От бабки и внуков. Заели деда вовсе. Довели до чахотки и в сарай прогнали жить. Так он отмочил: пенсию на книжку перевел, а сам к нам сорвался, мол, коль сдохну, так середь людей, а не в говне. И чтоб ты думал? Болезнь от него отступилась. Прошла. А ведь он, когда пришел, кровью харкался. Нынче забыл про чахотку, хоть и жрет, что попало, все подряд, и выпивает, и махру курит. Видать, туберкулез лишь семейных гложет, бомжей боится, — смеялись мужики.
Казалось, Ивана Васильевича недуги тоже опасались, но на Новый Год свалило и его: поднялась температура, разболелась голова, дышать было нечем. На третий день сознанье потерял: не знал, не помнил, что кричал. Бомжи, сгрудившись в кучу, спасали мужика. Натирали водкой докрасна. Вливали в пересохший рот добытую с таким трудом самогонку. Заставляли глотать. Надели на него все теплое, собрав у всех последнее. Даже ноги растерли самогонкой так, что от них до утра шел стойкий запах.
Кузьмич! Чего ты там присох в ногах?
Нанюхался, теперь закусываю! Не пропадать же добру! — хохотал старик, забросив в щербатый рот головку лука.
Маша! Машенька! — кричал Шнырь, забыв в болезни, что семья давно отреклась от него. Ее не вернуть, сколько ни кричи. Не дозваться, не вымолить сострадания у потерявших тепло.
Доченька моя! Не верь! Ты красивая. Не ходи в
парк!
Чего это он несет? — удивлялись бомжи.
Хворь в семью закинула! Ненадолго! Силы точит. Оно завсегда так-то! От болезни как и от бабы отвязаться тяжко, но надо! Плесни ему еще самогонки в горло! На-ка вот мою! Нехай живет мужик. Ни то не отвяжется от болячек. Они и в земь загнать могут, неровен час.
Лишь через неделю пришел в себя человек. Болезнь сдалась. Никто из бомжей не сказал, как лечили его, как трудно было вырвать его из лап смерти.
Даже по пьянке никто не проговорился, как звал он к себе жену и дочь.
Каждый понимал, что поневоле, даже через много лет и бед, живут в сердце и памяти родные. Хорошие иль плохие, их дала судьба на всю оставшуюся жизнь. А своим болезням и снам не прикажешь.
Иван Васильевич всего за год узнал город так, как не постиг его за всю прежнюю жизнь.
Он точно определял время, не имея часов. Знал, где сегодня выбросят весь мусор с рынков. А там, если покопаться, можно много чего найти не на один ужин бомжам.
Он сумел не только ужиться, а понять каждого бомжа. И то, что еще недавно казалось диким, стало простым и понятным.
Трудно было начинать. Когда втянулся, жизнь показалась несложной и объяснимой. И совесть перестала терзать.
Вот ты, Иван, думаешь, нам легко было? Мы тоже не родились на свалке бомжами. Сюда не с добра пришли. Другого хода не было. Разве руки на себя наложить на радость бабам! Они так бы и трепались, мол, вот, погляньте, без меня дышать не сумел, пропащий! А вот им всем! — отмерил бомж по локоть. Он и не знал, что каждую ночь во сне звал свою бабку, называя ее так ласково, как когда-то в молодости. Она ушла, а память осталась. И, отбросив обиды унижения, продолжала любить и в старости, живя в сердце человека своей судьбой и наказанием.
Иван Васильевич даже не пытался узнать что- нибудь о своей семье. Он заставлял себя забыть ее. И беспощадное время помогало лучше всех.
Среди бездомных, как в куче мусора, не все были алкашами, ворами, распутниками. Кого только не приютила городская свалка. Все бывшие… Даже из тех, кто занимал высокие посты. И женщины… Какие совсем недавно считались самыми умными и красивыми во всем городе.
Вот и эта… Отказала когда-то Ивану Васильевичу, не взяла на работу, а через год сама стала бомжей.
Шнырь, увидев ее, поначалу глазам не поверил, на сходство свалил. Но нет. Сходной родственницей оказалась беда. Не уступила притязаниям того, у которого были связи. Он и отплатил ей за неуступчивость: подсунул «благодарного» клиента. Тот и настрочил жалобу, обвинив заведующую в алчности и корысти. Ее вскоре выкинули с работы. Дома свекровь заела: «Зачем на тебе, пьющей, сын женился?».
Так и скатилась. А когда муж выставил за двери после скандала с матерью, поняла, что потеряла все.
Хотела броситься под проезжавшую машину, но водитель успел затормозить. Выскочил. Врезал в ухо так, что в глазах молнии засверкали, и обозвал так грязно, что взвыла баба во весь голос. Тут ей не столько больно, сколько обидно стало. Ведь замужняя, никогда блядешкой не была. Но кому докажешь? И какое дело спящему городу до одинокого стона? Нынче за каждым окном плачут. Одинокие и замужние. Только молча…
Он ни о чем не напомнил ей, не злорадствовал, не упрекал. Она, увидев Ивана Васильевича, опустила голову. Ничего не могла сказать. Да и к чему? Никакие слова не воротят и не исправят случившегося.
А вскоре он делился с нею всем, что имел сам. Без попреков. Она долго не могла смотреть в глаза Шнырю. Кусок становился колом в горле. Вот тогда он не выдержал:
Меня обидела заведующая юрконсультацией. Самоуверенная бабенка. Я на нее обижался, но лишь по началу. Потом простил, а теперь благодарен ей. Вернула мне меня. Ну, а на бомжей вообще не обижаюсь! Со временем дойдет, почему?
Иван Васильевич, когда узнал о смерти Катькиного отца, не сразу понял, что того убили. За что, даже не интересовался. Сказал коротко: «И этого не обошло. Достала судьба. Пометил Господь шельму…».
Никто из горожан не слышал тех слов, но в милиции о них узнали. Как и о том единственном звонке, едва не ставшим роковым.
Он и впрямь пригрозил отцу Катьки, что достанет его даже из-под земли и тогда снимет с него шкуру своими руками. За все разом. И за свое.
Ты, гнида, еще грозишь мне? Да что ты есть? Ведь в своей семье никогда не был хозяином! Баба всем командовала. И тобой! В первую очередь! Наставила рога! Считаешь, я один у нее был? Полгорода! Все кому не лень, кроме тебя, козел!
Я не о ней! И прошлое ушло. Запомни, оно изменило все! Ты слишком многим перешел дорогу, пришло время остановить. Когда ты путался с бабами, это могло кого-то злить, других смешить. Когда ты сбивал с толку клиентов своими сплетнями, это тоже не было опасно. Но ты пустил по миру с сумой много людей. Оградил от ответственности мошенников, устроивших «кидняк». Сколько из-за тебя ушли на тот свет?
Ты мне не поп, и я не на исповеди. Иди ты в задницу! Я живу по своим убеждениям и помогаю тем, считаю сильными. Все имеют право на защиту. И тебе сие известно!
Я даже не о них! Они все ж живы! Но ты, хорек вонючий, стал домогаться моей дочери. За это я тебя в куски пущу! Терять мне нечего! — выпалил Шнырь на одном дыхании.
Твоя дочь? Она давно на панели! Я таких не снимаю! — расхохотался в трубку и бросил ее на рычаг.
Шнырь запоздало обматерил собеседника и ушел от телефона-автомата, спотыкаясь на каждом шагу.
Он ругал себя за звонок, но не мог ни пригрозить сожителю жены. Пусть знает, что его приставания к дочери не остались в тайне. И он при встрече не отвертится.
А узнал о том случайно в пивбаре от соседа по лестничной площадке. Тот зашел выпить пива. Увидел Шныря, узнал его, пригласил к стойке, так и разговорились:
Я ить всю твою подноготную знаю. Ить сколько лет, считай, вместе живем. Я через свою стенку не то всякое слово, каждый ваш бздех слышал. Мог точно сказать, кто это сделал. И говорю верно, ты — путевый мужик! А вот жена твоя — сучка подзаборная! Привела в дом хахаля. Сама с ним во всю ночи напролет… Так ему того мало, стал к твоей дочке подбираться. Своими ушами слышал, как он к ней лез. Она заорала, и он отстал. Это потому, что я ему в стенку постучал. Упредил, мол, слышу. Так он закинул к ней лезть, а то все бубенил: «Ведь не на халяву! Довольна будешь! За такие бабки я десяток телок заклею. Чего ломаешься? Все равно никому не нужна…». Во, гад паскудный! — делился сосед, так и не приметив, как мелкая дрожь одолела Ивана Васильевича.
Придавить бы его как клопа! Будь я моложе, того козла спустил бы с балкона! Неужель не собираешься к своим воротиться? Ить квартира твоя!
В ней дети живут. Их я не выставлю на улицу. А Мария, какая ни на есть, мать им.
Так вовсе ссучилась! Детям уже срамно становится. Ругают ее часто, хотят остановить. Да вот одной ей тяжко себя в руки взять! Тут же еще козлы всякие, до греха недалеко. Не приведись, девку вашу с пути собьют. Что тогда? Это не воротишь! Одумались бы! Хоть ради самих себя…
Ну, а ты простил бы своей жене такое? — не выдержал Иван Васильевич.
Да моя не то за деньги, за пачку махорки никому не нужна! Если б на нее кто глянул бы, не сплюнув, я б ее тем же мигом за бутылку отдал бы. Только без возврата!
Нет! Вот если б изменила, простил бы ее?
Я? Бутылку за моральное унижение стребовал бы и погнал бы заработать вторую! А сам работу бросил бы! Только сидел бы дома и моральные ущербы заливал, — облизнулся сосед и добавил: — Да вот только никому она не нужна. Даже если голиком по улице пойдет, мужики пачками падать начнут. И все от страхов. На нее, срам сказать, старый козел не оглянется. И я на ей по пьянке застрял. Протрезвела она уже беременная! На сносях. Я как глянул на ее, сам чуть не родил прежде времени. Но сын в меня пошел. Вот уж радость! Такой же алкаш! Весь в родителя! А какими нам с ним быть? Протрезвели, глянули на мать, скорей за бутылку, чтоб от жутиков не сдохнуть. Так и маемся с ним всю жизнь. Ты ж про ревность! Кого мне к кому ревновать? Да я, коль хочешь знать, нарошно свою кикимору выставлял на лестничную площадку, когда хахаль твоей бабы выходить собирался. Все мечтал, что в темноте, не разобрав, нанесет мне моральный ущерб. Сам в замочную скважину наблюдаю, чтоб на горячем словить. И чтоб ты думал? Он, тот кобелюга, как увидел мою, про лифт забыл. Кубарем скатился по лестнице. И все матом лаял мою кикимору, мол, зачем этой бляди без разрешенья и пропуска дали с погоста слинять к людям? Хотел бы я тянуть на того, кто на мою падлу оглянется, не дрогнув. А у тебя — баба! Все при ней! Озорная малость. Зато баба! Ее хоть днем, хоть ночью раздень! Рядом с ей старик молодцем ходит. Простил бы ты! Да и помирились бы! А то уж вон
сколь времени на бутылку занять не у кого! — сознался сосед.
Иван Васильевич посмеялся от души и, поблагодарив мужика за угощенье, заверил, что простил ему все долги.
Такты воротишься, Иван?
Подумаю! — ответил уклончиво.
Смотри! Время идет. Чем скорей, тем легше примиренье, — добавил сосед, уходя.
Кому оно нужно теперь? Мы безнадежно отвыкли друг от друга. Даже не верится, что столько лет жили вместе. В памяти ничего доброго не застряло. И в сердце провал. Не просто предала, а и оплевала, опозорила. Через эту стену не подать руки, не перешагнуть, — подсел к Чите и Финачу. Закурил.
Уламывал вернуться?
Ага!
Ты то как?
Пустое все. Не могу. Отвык.
И верно! Не стоит оставшуюся жизнь под хвост бабе совать. Ни одна того не достойна, — согласился Чита.
Да что у нас своих баб мало? Глянь, какие прикипелись. Любую на ночь пригреть можно. И ничем не обязан. Поутрянке жопа об жопу, и расскочились без претензий на завтра.
Что верно, то правда! Наши бомжихи ничуть не хуже городского бабья. А коли отмыть и прибарахлить, еще сто очков вперед дадут любой! — поддержал Читу Финач.
Ивану Васильевичу враз недавнее вспомнилось, свое. Вернулся он из города уже затемно. Помог старухе, что жила на окраине, дрова порубить, сложил их в поленницу, даже двор подмел. Бабка расчувствовалась, в дом позвала. Накормила ужином. Дала почти новую телогрейку, с собой — кусок сала и буханку хлеба. Потом, когда Иван Васильевич наносил ей в бочку воды в благодарность, достала бутылку самогонки. Отдала человеку. Такая плата у бомжей считалась царски щедрой.
Шнырь хотя и устал, но к своим поторапливался. Не стал пить в одиночку. И едва поравнялся со свалкой, услышал:
Эй, красавчик! Живой и дышишь! Когда меня благодарить будешь за то, что я тебя к людям привела? — появилась баба словно из-под земли.
Ладно! Присядем! Оно и верно! Пора рассчитаться! — достал из-за пазухи бутылку самогонки, сало, хлеб.
Вот это мужик! Тебе часто так обламывается? — загорелись глаза.
Редко! Но ты почуяла! На вот, сделай глоток, другой. Да пойду к мужикам, разопьем удачу, — дал бутылку бабе. Та, присосавшись, выпила до дна одним духом и, ухватив сало, впилась в него с воем. У Шныря все внутри оборвалось.
Твою мать! Я ж мужикам нес! Сам даже попробовать не успел.
Классная была сивуха! — еле разжала зубы.
Я что, для тебя целый день пахал?
Возьми сдачу натурой! Какой болван, получив пузырь, не воспользуется случаем? — смеялась баба.
Э-э! Тихо лечи. Отдай сало! Глянь, сколько сожрала! — вырвал оставшееся и досадливо ругался.
Ладно, не бухти! Пользуйся случаем, пока добрая!
Иди ты! Все настроение обосрала! Я как на крыльях летел, а ты ощипала. Теперь уж ничего не надо. И тебя прежде всего.
Ладно, в другой раз умней будешь! Зато и со мной рассчитался кучеряво.
Иван Васильевич всегда был сдержанным и осторожным в связях с женщинами. Не признавал мимолетных коротких встреч. Может потому, даже покинув семью, долгое время не смотрел на женщин, считая, что ему с ними не везет.
Но весеннее тепло сказалось и на нем. Едва пригрело солнце, бомжи перестали прятаться по хижинам, не спешили лечь спать. Все сидели на воздушке у неярких костерков. Молчали, вспоминая или мечтая каждый о своем.
Вань! А тебя любили? — спросил тот же голос.
Он бережно погладил дрогнувшие руки:
Сны надо забывать, — ответил коротко.
Сухие губы поцеловали щеку и выдохнули:
Опять весна… И снова сердце поет.
Выпить просит, наверное?
Нет, Вань! Сердцу другой хмель нужен. Но у тебя не осталось тепла. Ты весь сгорел в пепел!
Ну, нет! Ты не права! Я не умею как другие все делать в одну ночь.
Вань! А весна короткая! Она как молодость: не воротишь, сколько не зови. До следующей доживем пи?
Мне нынче все равно…
Ты все еще ее любишь?
Не знаю. Да и какое имеет значение?
Тогда побереги время. Весна не вечна.
Они ушли тихо от догоравшего костра. Никто не рассмеялся вслед, не бросил в спины грязные слова. Их уход, желание уединиться понял каждый и не посмел испачкать его обидными словами.
Вернулись они под утро, когда все бомжи спали: одни — в хижинах, другие — у погасших костров. Никто, заслышав их шаги, не открыл глаза. Бомжи, осмеянные всем светом и судьбой, никогда не глумились над тем, что считали святым для себя.
Иван Васильевич был очень благодарен им за и такт, за сдержанность и мудрость.
Он тихо подвел женщину к своей хижине и, сказав все без слов, лишь взглядом, вернулся в свою лачугу. С того дня он все реже вспоминал о семье.
Шнырь искренне удивился, когда к нему в пивбаре подошли двое в милицейской форме. Оглядев Читу и Финача, велели всем троим тихо сесть в машину, ожидавшую у входа.
А за что? Почему нас заметаете? — не понял Чита и не согласился покинуть пивбар, где у него осталась недопитой половина бутылки пива. Он раскорячился в двери, но сзади подтолкнули бесцеремонным пинком:
Пшел вон, козел!
Сам пидер! — огрызнулся Чита и уже в машине, при закрытых дверях, получил в ухо за оскорбление должностного лица, находящегося при служебных обязанностях в общественном месте.
Лягавая собака! Мент вонючий! — не сдержался мужик и получил бы еще оплеух и затрещин, не загороди его во время своими плечами Иван Васильевич и Финач.
Ну, падла! Покажу я тебе нынче пятый угол! — пригрозил сержант. Но осуществить ему свою угрозу так и не удалось. Едва вывели бомжей, наряд послали на новое задание, а доставленных тут же отвели в камеру, закрыли, не объяснив причину внезапного задержания.
Слушай, мужики, за что нас замели? Что-то не врублюсь! Никого всерьез не трясли. Разве только по мелочам. За них не то в ментовку, даже пинка поленятся дать! Никому рыло не начистили, ни одного фингала никому не поставили, ни к одной городской сучке не клеились! За что ж сгребли? — недоумевал Чита.
Узнаем, Долго не будем ждать. Может, подставить хотят? Иль кто-нибудь оббрехал? Настучали на нас. Но ведь я сам юрист, разберемся! — успокаивал бомжей Иван Васильевич, но на душе лежала тяжесть.
Чую, нам здесь долго канать! Давай на нары! Хоть выспимся в тепле и жратву халявную получим. Я ж в прошлую зиму сам хотел в лягашку. Зиму перекантоваться без беды. Да не взяли, сказали не за что. Хотел стекло в магазине разбить, и тут менты помешали. Пинка врубили. Я через дорогу на ушах перелетел. Как сунулся башкой в стену дома, так и вырубился. Враз посеял, зачем сюда возник? — пожаловался Финач.
Эту ночь, проведенную в неведении на нарах. Иван Васильевич провел без сна.
Он знал, что следствие теперь совсем захирело. Разучились раскрывать преступления. И, конечно, их троих взяли по чьей-то наводке или оговору. Но что хотят повесить на них? Чей грех вздумало скрыть следствие, подставив вместо истинных виновных обычных бомжей?
Его вызвали к следователю первым.
Иван Васильевич, вернувшись в камеру, долго матерился:
Мокроту хотят на нас повесить! На меня! А вас в соучастники клеют. Во, падлы! Его из пистолета грохнули! Где б мы его взяли? Да ладно б это. Еще трясут, на какой машине смылись с места происшествия?
Кто? — не понял Чита.
Мы! Убили и слиняли на машине. Теперь врубился? — злился Шнырь.
Ни хрена не допер! Мы убили? Но кого?
Чикина! Юриста! Того самого, чьей жене я помогал. Он же — сожитель моей бывшей жены.
Ну и что? Сколько лет прошло?
Его кто-то размазал, а на нас хотят повесить убийство! Допер?
Не-ет! Я не фалуюсь!
Да кто согласье спрашивает? Того киллера искать надо, а мы под боком! Вот и сгребли.
Вскоре к следователю увели и Читу. Вернулся он оттуда весь измятый, в синяках, с рассеченной губой.
За что уделали? — спросил Финач.
Скоро узнаешь! — буркнул Чита и, свернувшись в клубок, отвернулся к стене. От ужина он отказался.
Финача втолкнули в камеру через час. Сам идти не мог. Ему и впрямь искали пятый угол подвыпившие охранники.
Кончай ломаться. Колись! За какой навар уломали грохнуть Чикина? — орал следователь.
Да я не знаю его!
Не вешай лапшу на уши! Освежите ему память! — кивнул охране следователь.
Нечем стало дышать. Сапоги врубались в грудь и в ребра, в затылок и в лицо. От них, как ни уворачивайся, не спрятаться нигде.
Вспомнил?
Не знаю его! — взвыл бомж.
Теперь его взяли на кулаки. Финач то в стены, то в пол влипал всем телом.
Будешь говорить?
А я и не молчу! Не убивал…
Из кабинета его выволокли, когда он окончательно потерял сознание.
На следующий день вызвали с утра Ивана Васильевича.
Вы — бывший юрист и должны понимать, что следствие располагает доказательствами, неопровержимыми уликами вашей причастности к убийству Чикина!
Какие доказательства? — изумился Шнырь.
Запись разговора по телефону осталась на кассете! Там вы грозили расправой!
С момента разговора сколько времени прошло! Уж если б намеревался убить, не взял бы отсрочку ни на минуту. Тут же больше прошло. У него, у вашего Чикина, как я полагаю, врагов — половина города. Кому-то он досадил больше, чем мне!
У вас к нему имелись особые счеты. Он сожительствовал с вашей женой!
К сожалению, не он один. Да и сожительствовал несколько лет. И жил! Если б меня это задело, расправился б с ним сразу, еще в первый день, когда увидел в своем доме.
Не хотели при свидетелях! Выбрали момент.
Насильно мил не будешь! Отнимать женщину не в моих правилах. Я даже грубого слова не сказал ей. Ведь в квартире дети. Зачем унижать их мать? Я ушел, не причинив вреда никому. Стал бомжем. Мы не убиваем. Это нас… Впрочем, о чем я?
Вот именно! К чему изворачиваться?
Что вы себе позволяете? — возмутился Иван Васильевич.
Следователь, потеряв терпенье, грохнул по столу кулаком:
Хватит ломаться, не изображайте из себя идиота! Он слова грубого не сказал в квартире! А по телефону обещал голову свернуть! Да кроме вас никто не мог с ним свести счеты. Чикин был прекрасным юристом, коммуникабельным человеком. И только вы, негодяй, посмели убить его!
Моей вины в том нет!
Так и поверил, что признаете! Вам лучше других известна мера наказания за умышленное убийство.
Мне не объяснять. Уголовный кодекс знаете не хуже меня. Потому я не столь наивен, чтоб рассчитывать на чистосердечность. Хотя улики имеются и помимо телефонного разговора, кассеты с записью.
Что ж, назовите их! — предложил Шнырь.
Всему свое время! Знайте, оно работает не на вас! — кипел следователь.
И не на вас, если действительно хотите раскрыть дело, найти убийцу. Вы не тем путем пошли.там ищите! Теряете время! Не из ревности его убили. Во всяком случае не мы! Нашлись другие! А улики подтасовать — дело не хитрое. Я не новичок в следствии и знаю, как все стряпается. Но… Это в зависимости от того, как закончить дело? И кем назвать себя, направив его в суд?
На что намекаете?
Я говорю без обиняков. Все мы — юристы, но
разные!
Конечно! Бывший и действующий! — рассмеялся следователь.
Никчемная полемика. Юрист не бывает бывшим или будущим. Он — юрист. Остальное — весьма относительно
Скажите! Вы хотите убедить меня в том, что не питали к Чикину неприязни? — спросил следователь.
Я презирал этого человека! И у меня есть на то свои основания.
Вот вам первый довод в пользу обвинения! — вздохнул следователь.
Не спешите! Не всякий презираемый достоин смерти. Иному лучшим наказанием бывает сама жизнь. Она, поверьте, зачастую хуже смерти. Мне много раз случалось слышать о подобном. Будучи бомжем на себе испытал, не всегда жизнь — подарок. И мне грозить бессмысленно. Я ничего не теряю и уже не приобрету. Убивают из мести иль ревности, когда хотят вернуть любимого человека. Я такого не хочу. Мне не за кого убивать! У меня нет никого! Я ничего не хочу менять в своей судьбе! Пусть она корявая, она — моя, и не хочу ни с кем ее делить! — попросил сигарету. Следователь протянул пачку и молча указал на двери, разрешая вернуться в камеру.
Бомжи лежали на нарах, ожидая, что еще предпримет следователь. Но он даже на допросы перестал их вызывать.
Неизвестность вначале пугала, потом злила, а дальше люди просто потеряли интерес к будущему, жили день ото дня. Понимали, что когда-то все приходит к своему завершению.
Их кормили, водили подышать воздухом. Их не били, даже посмеиваясь, называли старожилами. Охрана шутила, что бомжи спокойно прокоротали в изоляторе эпидемию гриппа, валившую с ног горожан.
За две недели еще два раза вызывали на допрос Ивана Васильевича. Тот возвращался от следователя спокойным, уверенным.
Ну, долго нас еще морить будут менты? — спрашивал Чита.
Ты ж сам когда-то сюда рвался? — напоминал ему Шнырь.
Так то по своей воле! Зима была холодной, жрать хотелось. А тут? Весна, тепло, а нас держат!
Зато глянь, какую морду отожрал. И не вкалывая нигде. На халяву при этом харчат! Чего сетуешь?
Надоело в гостях! Пора к себе на свалку. Мне ее духу не хватает. Нынче во сне чую, знакомым повеяло. Родным. Будто возле кучи уснул. Открыл глаза — Финач задницу чуть ни на нос мне надел. А на ужин горошницу давали. Вот он и постарался, гад! — ворчал Чита.
Спасибо скажи, что хоть сонному передышку дал, домой вернул, — ответил Финач, вздохнув.
Мужики! Все на выход! — внезапно открыл двери охранник и завел бомжей в комнату, куда вскоре привел следователь для опознания Катьку Чикину.
Бомжи видели эту девчонку в городе. Много слышали о ней. Знали, что ворует она на рынках и в магазинах, в торговых рядах. Слышали от «мелкоты», что с отцом и матерью не живет и примириться не хочет. Слышали о ее мерзком несносном характере, независимой злопамятной натуре. Знали, непредсказуема она и своенравна. А потому не знали, что ждать для себя от ее визита.
Катька тоже сталкивалась с этими бомжами в городе, но ни с кем не была знакома. Ни об одном из них ничего не слышала.
Всего несколько минут разглядывала их девчонка К бомжам подсадили троих прохожих с улицы для объективности опознания, но нет… Замотала головой, мол, не знаю.
А через три дня вызвал следователь Ивана Васильевича:
Вот и расстаемся с вами. Ошибка вышла! Не подтвердились сведения. Отпускаем всех троих. Простите за недоразумение. Действительно избрали не тот путь. Надо проверить самого информатора! — проговорился следователь и распорядился отпустить бомжей на все четыре стороны.
Шнырь, после визита к Катьке, долго думал, кто мог навести на них милицию.
«Бывшая жена? Вряд ли. Она ничего не знает о Чите и Финаче! Здесь же взяли не одного, сразу троих. Мария мстила бы одному. Но за что? Ведь расстались тихо. Все ей оставил. Даже не попытался отсудить угол в квартире. Плохого слова не сказал. За все время лицом к лицу ни разу не виделись. Она живет, как сама захотела. Вряд ли это ее проделки. Верно, что даже имя забыла. Кто я для нее теперь? Чужой… Может дети? Нет-нет! Им вовсе ни к чему. Но кто-то ж нашелся? Выходит, свой, из бомжей! Не иначе! Но зачем? Кто? Вроде каждого знаю как облупленного. Кому взбрело в голову сочинить, что мы слиняли с места происшествия на машине? Где б мы ее раздобыли? Кто видел бомжа с личной машиной? Хорош бомж! Нынче этот транспорт дороже квартиры стоит. Придумал же какой- то идиот?» — качает головой Иван Васильевич.
«Надо самим информатором поинтересоваться!» — вспомнились ему внезапно слова следователя, сказанные на прощанье.
«Если из наших, засветится гад. Так или иначе, если кто-то исчезнет хотя бы на время, тот и есть стукач!» — решил проверить вечером, все ли мужики вернутся из города.
Когда стемнело, и бомжи устроились у костерков, Шнырь обошел все хижины, заглянул в каждый угол.
Где Матвей? — спросил у мужиков.
Да в парке! Ужрался, теперь под скамейкой кайфует. К утру приползет.
А Кирюха?
Тот у старухи прикипелся: сарай взялся строить. Там харчует и ночует. Через три дня закончит и появится.
Павла где носит?
Тот у блядей застрял. Своих баб ему мало?
Интересно, а как платит? С чего? — удивился
Шнырь.
Его на халяву обслуживают. Он же у них Любимчик-Пашка! Кобель! На ночь ему пятерых мало!
А где Генка?
Это ты про Рыжика? Сыну машину ремонтировать помогает. Тот попросил. В гараже, видно, ночевать оставят. Он заранее предупредил. Весь двигун перебирать надо, а это долго.
«Все остальные на месте, — чешет затылок Шнырь и тут же спохватывается: — Может, завтра сгребут стукача? В любом случае — проявится».
Иван Васильевич, тихо ступая, идет к хижине женщины, той, какая сама напомнила ему о весне.
Тамара, — позвал тихо, еле слышно. В лачуге никто не отозвался.
«Уснула. Не ждала. Устала от ожиданий и, наверное, не знала, что вернулся. Надо разбудить», — вошел в хижину, но там пусто и тихо.
«Весна и впрямь коротка. Бережет баба время: с другим ушла. Так мне и надо. Уходя, надо оставлять надежду, хотя бы одним словом. А я забыл об этом правиле. Постарел. Вот и перестал интересовать женщин! И теперь даже ее потерял», — укорил себя молча.
«Сегодня нас отпустили, а завтра кого заложит информатор? Нет, его надо высветить, не говоря никому ничего. Кто знает, может фискал среди них у костра. Затаится, прикинется, сыщи его потом?» — подходит к Чите, тот греется у костра молча.
Пока вы в ментовке парились, тут лягавые всю свалку обшмонали. С собаками возникли, какие трупы дыбают. Псы враз к нам: за упокойников приняли! Смотрят дурными бельмами и не поймут, как это умудряются из падали жратву делать? Да еще двигаемся, говорим. У них, у псов, от вони дых заклинило. Расчихались, прослезились, глядючи на нас. В кучу сбились и взвыли хором как с похмела, мол, чего жмуров дыбать, ежели они вот, на ногах стоят. Хватайте их, покуда не попадали. А какой-то борзой нашего Степаныча отделал: подошел, задрал лапу и в наглую обоссал. От плеч до жопы! Менты хохочут, мол, пометил его как родную кучу! — хохотали мужики.
А кого искали? — насторожился Шнырь.
Об том ни звука не потеряли, но всю свалку насквозь прочесали. Каждый бугор и кучу вилами раскидали. И смылись, матеря своего главного мусорилу. Видать, он не врубился, что у нас шмонать нечего. Да и псы ихние нюх посеяли. Не бомжи! Это мы все стерпим…
Иван Васильевич оглянулся, услышав тихие шаги. Двое Женщина ушла внутрь. Нет, не Тамара, а та, которая соседствовала с нею.
Шнырь вздохнул.
«Может, в другой лачуге заночевала баба? Подруг у нее немного здесь, но все же есть. Может, спросить о ней?» — вошел в жилище.
Томка? А и не знаю. Мы с ней погрызлись вчера! Шкалик занычила, а я надыбала и уговорила его. Она аж в морду мне вцепилась. Я как звезданула! Ногами накрылась стерва. Уже вторую ночь не приходит. Наверно, у Динки прикипелась. Ну, и хрен с ней! Жлобка она! С-сука! За глоток удавит.
Так у тебя как глоток, так бутылка! — вспомнил Иван Васильевич.
Ой, памятливый какой! Ну, что тебе за разница? Никто не жалуется, все довольны, — подвинулась баба на тряпье.
Я только спросить хотел…
У баб не спрашивают, у них просят! Особо ночью! Ты все еще городской! Иди ко мне! Научу любить по-нашему, — встала, смеясь.
Не надо! Я не готов! — попятился к выходу задом.
Ништяк! Во! Как прихвачу! Все дыбом встанет! Даже там, где облысело! — хотела ухватить Шныря, но тот успел нырнуть в двери и растворился в темноте, услышав за спиной: — Вань! Ваня! Ну, где ж ты, красавчик мой! Иди ко мне! Я уже! Я вот она! Нешто смылся? Во, чудак! Ну, хрен с тобой…
Иван Васильевич не решился больше искать Тамару по хижинам. Решил, увидев утром, застолбить за собою следующую ночь.
Но утром, как ни высматривал, не увидел бабу. Не мелькала среди бомжей, не видно было ее на свалке, возле хижин.
Может, приболела? — решил спросить о ней у подруги.
Тамара с час назад ушла в город. Там до вечера пробудет как всегда. А вы когда воротились? Чего ж не разбудили? — посетовала рыхлая неопрятная бомжиха.
Не там искал! — вздохнул Шнырь.
Она и сегодня ко мне придет. Теперь с нами живет, — похвалилась баба.
Иван Васильевич целый день слонялся по городу. В сквере доел чью-то булку, из контейнера достал куски плесневого хлеба, потом и кусок колбасы вытащил. Наелся и пошел к базару, не глядя на встречных. И вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Поднял голову и глаза в глаза встретился с Марией. Шнырь от неожиданности растерялся. Как много времени прошло, как много воды утекло, как состарилась она… Сколько морщин появилось на лице, вокруг глаз и губ… Как он любил ее… Как давно это было.
Здравствуй! — вылетело эхом само по себе. А может не губы, душа сказала?
Ты жив, Ваня?! Господи, как хорошо! Ты жив! Не умер, не убили! Лишь постарел немножко. Ну, самую малость. Виски вот снегом обнесло. А так все прежний, — подошла совсем близко и спросила: — Как ты? Где живешь?
Бомжую. Как многие. Живу на свалке. Хвалиться нечем.
А я челночничаю. Так что недалеко от тебя ушла. Детей надо доучить. Сын учится и уже работает, а дочь в этом году заканчивает. Вот отмучаюсь с ними и все. Можно сдохнуть.
Веревку намылить иль скамейку подать? — напомнил Марии сказанное ею когда-то.
Ты все язвишь? И не устал? Ведь столько лет прошло, мы не виделись. Ты даже о детях не спросил.
Я знаю о них все. Больше, чем ты думаешь. Ими всегда интересовался.
Почему ни разу не звонил?
На это не получил разрешенья.
Чье? Оно тебе нужно?
В моем положении — бесспорно.
А я ждала, — опустила голову.
Не надо, Маш! Не обманывай хотя бы саму себя.
Да при чем тут я? Хотя бы дети тебя услышали.
Я видел их. Пусть не часто, но было.
Вы говорили?
Нет. Я не решился подойти. Сама помнишь: они отвергли меня.
Глупыми были. Теперь изменились.
Глупыми рождаются. Эта болезнь не лечится. Она навсегда…
Неправда! Есть средство от той болезни. Бедой зовется. Вышибает глупость напрочь. Не только у детей, — глянула в глаза, как когда-то, давным-давно.
Я не верю. Беда проходит, и глупость возвращается. Она как гниль в яблоке.
Ну они и твои дети…
Они уже выросли. Я им еще тогда не был нужен, — выдохнул на стоне.
Их бы о том спросил.
Зачем? Кто я теперь для них?
Отец!
И что ты предлагаешь?
Не прятаться, не обходить друг друга. Что-то не получилось. Все ошибаются. Но я никогда не запрещала тебе общаться с детьми. Они в нем нуждаются: чем старше, тем сильнее.
Иван Васильевич недоверчиво глянул на Марию
«Видно, клюнул жареный, коль так заговорила», — подумал человек.
Зашел бы! Ведь не гость!
Беда в том, что хозяева чаще всех на гостей нарываются, а потом меняются местами. Мне и последнего не позволили.
Никого у нас нет. Втроем живем. И сын от женитьбы отказался. Повременить решил. Сами мучаемся, как можем. Друзья, знакомые отвернулись, отказались в одночасье. И мы ни к кому не ходим в гости. Сами выживаем, как Бог дает.
Иван Васильевич будто заново всматривался в лицо жены. Куда делись прежние веселость, беззаботность? Улетучились как туман, оставивший седую паутину на голове женщины.
Когда придешь? — спросила Мария.
Иван Васильевич вздрогнул от внезапности прямого вопроса и, глянув на противоположную сторону улицы, увидел Тамару, выходившую из милиции. Ее до самых ступеней проводил следователь.
Ты чего? Что с тобой? Чего побелел? — заметила Мария.
Тебе показалось. Я думаю. Не ждал от тебя приглашения. Врасплох застала. Мне нужно все обдумать, — говорил Марии, следя за Тамарой, спешившей поскорее свернуть на боковую улицу.
Я не могу появиться в таком виде.
Значит, не хочешь прийти к нам?
Мне надо решить для себя! Ведь все не так просто: вчера выгнали, сегодня зовут. А завтра чего ждать?
Пусть оно наступит, Ваня! Я буду ждать. Слышишь? Вон, у коня четыре ноги, а и то спотыкается. И не убивают его за это, и хозяин не отказывается, прощает. Неужели мы вовсе оглупели?
Ладно, Мария! Я подумаю, — не рискнул обещать заранее и добавил: — Позвоню. Это уж точно. Тогда скажу.
Постарайся не забыть нас! — попросила женщина, всхлипнув, и чтобы не разреветься здесь, у него на глазах, поспешила уйти поскорее.
Иван Васильевич, купив две бутылки самогона, вернулся в свою лачугу и, дождавшись сумерек, пошел к Тамаре. Женщина не поспешила встать навстречу. Она спрашивала Шныря, как взяли в милицию, как отпустили. Он рассказал ей, осторожно обойдя намек на стукача, и внимательно следил за реакцией.
Бутылку самогонки они выпили быстро. Иван Васильевич щедро наливал бабе, сам лишь губы мочил.
Пей, Томка! За нашу весну. Она хоть и возвращается, но тоже умеет стареть! Пей, кровь в жилах не остыла! — наливал полный стакан, предлагая выпить за любовь, за сильных людей и красивых женщин. Тамара не могла устоять перед такими тостами и вскоре стала хмелеть.
А ты Чикина как узнала? Где с ним познакомилась? — спросил будто между прочим.
В консультации. Он по делу был. Материалы уголовника смотрел. Знакомился для защиты, но отказался, когда изучил, — говорила заплетающимся языком.
А почему?
Позиции для защиты не нашел.
Вот это да! Что-то новенькое! — удивился
Шнырь.
Ну, чего нового? Возни много, а платил тот хмырь хреново. Потому отказался, я так поняла.
Часто ты ему клиентов давала?
Иногда. Он не у нас работал, но просили его! Звонили сверху. Я вызывала. Хоть и надоело мне все! Он не лучше других, но связи имел. Умел делиться с нужными людьми гонораром. Не то, что некоторые! — рассмеялась в лицо.
Значит, тебе перепадало тоже?
Хрен там! Я в той орбите не крутилась, но однажды заело. Высказала ему все. Он струхнул, а потом клеиться стал. Ну, как вы умеете! Цветы, конфеты, комплиментами засыпал. Я поначалу гнала его. Но… Нарвалась на звоночек по телефону: посоветовали быть умней и покладистей. Так-то оно, Вань. Бабья доля — колючки в поле. Давай выпьем за проклятую жизнь! — подняла стакан нетвердой рукой.
Отваливай! Ты не лучше меня! Даже раньше сюда свалил. Кто влетел в бомжи, обратно в люди не вылезет. И ты не мечтай… Пустое все. Мечты постарели. И все потеряно. Все! Слышь? Наша весна — крест в изголовье, да и то, если бомжи не забудут его поставить и не перепутают изголовье с ногами…
Если б так, не таскалась бы в ментовку к следователю! — сказал зло.
Тамара словно от сна очнулась, стала трезветь на глазах:
Следил за мной? — скривила рот в усмешке.
Случайно мимо проходил, увидел тебя.
Не трепись! Бомжи случайно возле лягашки не шатаются. И обходят ее стороной. Тем более, что недавно там «парился».
Все думал, кто нам срань подложил?
А ты не такой? Особый? Чистенький? Небось, случись что, родную мать не пощадил бы. Все вы одинаковы. Добьетесь своего и сталкиваете в яму. А выберется оттуда или нет, уже плевать. И он, и ты — дерьмо!
Заткнись!
Сам захлопнись, козел!
Стерва вонючая!
Что? Кто я? Повтори! — встала, побелев.
Иван Васильевич, глянув на нее, враз поверил: такая могла убить кого угодно.
Шнырь не стал ждать. Отбросил бабу резко, влепив всем телом в стену, и выскочил из хижины злой.
Мужики, облепив костер, галдели о чем-то своем.
Тихо вы! Чего базлаете? Разговор к вам есть! — рассказал об услышанном Иван Васильевич.
Бомжи слушали молча, внимательно.
Что будем делать с ней? — спросил человек у тех, с кем бок о бок прожил безрадостные годы.
То, что размазала мудака, дак это хрен бы с ней! А вот что своих подставила, за это спуску суке не давать! — подал голос Кузьмич.
В очередь ее оттянуть и урыть живьем, — подал голос Пашка.
Кому я родным хреном до конца жизни извиняться должен, что эдакую пакость насадил! — не согласился Кузьмич.
Оттыздить, как меня в ментовке, и урыть! — вскочил Финач.
Об эту блядь руки пачкать не стоит!
Пинками вышибить. Навовсе! — верещал старый дед.
Волоки ее, курву, на разборку! Нехай ответствует, кого еще в лягашке заложила! А там и порешим ее!
Бомжи всем скопом кинулись к лачуге, открыли настежь двери, приготовившись к расправе, но… В хижине было пусто. Тамару искали повсюду: в жилищах, средь бомжих, на свалке. Тщетно. Ее не было нигде. Она словно растворилась, став частью ночи.
Вот так и верь бабью! Сама на шею вешалась. Ведь и повода не давал. Все шло на мази. За что ж лажанула? — недоумевал Шнырь.
Все они такие! — ругался Чита.
Это ты про баб? — спросил Пашка.
А про кого ж еще? Сучьи выродки!
Ну, не скажи! Средь них случаются такие, мужикам потянуться!
Тогда чего ты тут застрял? Валил бы к ним! — оглядел Пашку Чита.
Я отпуск от них взял, — рассмеялся мужик простодушно.
Декретный иль венерический?
Бессрочный!
Во, кобель! У тебя днем отдых, а ночью течка? Всю жизнь — март. По десятку баб за ночь огуливает и все он в
Ну, это ты загнул! Десятка — многовато за ночь. Желание есть, но возможности не позволяют. Хотя, не в том суть. Бабу душой любить надо, а не телом. Тогда ответное получишь!
Душой? Это той, что у тебя про меж ног мотается? Вон, Ванька полюбил, а ответ все трое схлопотали! Не многовато ль? Чуть не загробились в ментовке. Ты тут еще трандишь про душу, — недовольствовал Кузьмич.
Одна такая завелась, при чем другие? — не соглашался Пашка.
При том, что исключений в этом правиле не бывает! — вставил Шнырь.
Еще какие! Ну, что вы знаете про баб? Обожглись на своих и все тут! На всех женщин обозлились! Никто даже оглядеться не захотел. Вот в том ваша ошибка! — не сдавался Пашка.
Да вон, Шнырь огляделся! Только ль он? У каждого и теперь душа болит. Не то на край света, на самую свалку от них сбежали!
Но бабы и тут имеются!
Это уже бомжихи! Свои в доску! Алкашки первого сорта! Они не те…
Глянь! А какая разница? Тамарка тож в бомжихах дышала. Коль была сукой, так ею и осталась, — не согласился Финач.
Сыщу в городе, голову сорву! — скрипел зубами Чита.
А зря вы, мужики, ерепенитесь! Томка может и дрянь, но не дура! За жизнь свою зубами держится. Вон как отплатила за свое! Памятливая бабенка. Хитрая! Всех вокруг пальца обвела, сама сухой осталась.
Замочим! — пообещал Финач мрачно.
Да стоит ли? Такую беречь надо! Как гордость свалки! Думаете ей некуда приткнуться? Без крыши не останется. Небось, валяется у следователя под боком и над нами хохочет, рассказывает, как от разборки смылась! А тронете ее: всем хана! Она, конечно, предупредит о расправе, какую ей готовили. Вот и посудите. Тронь ее хоть пальцем, за нее ответ держать станем всем хором, но и от Чикина не отмажемся никогда! Всех сгребут подчистую. А то, что она говорила, к делу не пришьешь, нет у нас доказательств. Томка ни за что добровольно не расколется. Ну, а нас даже провоцировать станет. Чтоб самой очиститься. Ей и всего-то нужно было со следователем встретиться. Предупредить. Что ему вякнет из нее клещами теперь не вырвать. Доперли? Так что пальцем ее не трожьте, коль дышать охота. Ни одного волоса с ее головы не вырвать! Иначе башками ответим, — говорил Павел.
А знаете, он прав! — согласился Иван Васильевич.
Выходит, у рыть не можно? Так хоть харю ей начистить?
Нельзя! Не замечай ее!
Нет! Я так не смогу! Знать и молчать? Ни за что! Пусть не здесь, но в городе замочу! — артачился Чита.
Она одна уже нигде не появится. И пришить не успеешь, помешают. К тому же всех нас подведешь, — осек Павел.
Бомжи, поспорив еще час, все же согласились с ним, вспомнив кстати угрозу Тамары, брошенную Шнырю.
Не случайно ляпнула. Выходит, надо сдержаться. Даже если утром она появится на свалке.
Но и утром, и днем баба не пришла. Ее исчезновение восприняли бомжихи по-разному. Иные откровенно радовались, другие жалели заблудившуюся в бедах. Были и равнодушные к ее судьбе. Но большинство с настороженным любопытством ожидало возвращения: хоть какое-то событие, а может и мордобой случится. Обычно здесь били мужиков за украденное спиртное. Это считалось грехом. За такое измолачивали до полусмерти. Но баб не били никогда. Здесь же случай особый, потому ожидали развязку. Но она затягивалась.
Устав от ожиданий, бомжи стали разбредаться со свалки в поисках пропитания куда глаза глядят.
И только Иван Васильевич никуда не решился идти. Он лежал на тряпье в своей хижине, думал о своем.
Нет, не о Тамаре. О семье…
«Как поступить? Позвонить, значит, прийти. Выходит, вернуться? А готов ли он к тому? Стоит ли? Ведь
слова женщины лишь звук. Ими не склеишь сломанную жизнь, семью. Прийти, значит, признать ее правоту во всем. Хотя и просила она прощенья, но кто о том знает? Да и что оно значит? И, главное, как жить с нею, зная все? А ведь прийти можно, лишь перечеркнув, переступив и простив все прошлое! Нет! Не могу», — ворочается, не соглашаясь, а перед глазами ее лицо.
«Я буду ждать», — вспоминает слова, которые запомнились, запали в душу, но разум не соглашается.
«Она из командировок не дождалась. На тряпки и хахалей променяла семью. Теперь, когда никому не нужна стала, решила вернуть. Надолго ли? Как старую куклу из нафталина достанет. Ей-то что? Надоело всюду самой крутиться. Захотела горб оседлать. Неважно чей. Какой первый подвернется. Прикидывается одумавшейся, поумневшей. С чего бы так-то? От легкой жизни отвыкают трудно. Чуть минет лихо, на первого гостя променяет. Нет! Не буду звонить! Я еще не свихнулся!», — решает для себя Иван Васильевич.
Но откуда-то изнутри слышит другой слабый, неуверенный упрек: «А ведь к детям звала: «В них и твоя кровь». Они взрослеют. Пусть научатся от тебя самой великой мудрости: уменью прощать без упреков. Без этого как станут жить? Чужие убеждения не подействуют. И только самому можно доказать…».
«Кому нужны эти жертвы, иль не сыт ими еще? Столько пережил, чтобы снова сунуться головой в омут? Вторично уже не выберешься из него живым!» — спорит разум, заглушая сердце.
«Нет! Не буду звонить!» — упрямо твердит человек и держит себя в хижине силой, боясь выйти наружу, вдохнуть весеннего воздуха полной грудью, поверить, что жизнь не кончается.
Три дня не выходил из лачуги Шнырь. Лишь по глубоким сумеркам присаживался к мужикам у костра Слушал, как они провели эти дни, что нового увидели и услышали в городе.
Сегодня дочку встретил в трамвае, домой ехала. Аж заплакала от радости, когда увидела. Всего об- целовала. Домой звала. Я ей и сказал: «Не могу! Чужой я там». Так она обещала мать прогнать вместе с бабкой! Но я запретил. Зачем все менять? Ничейным стал я. А надевать цепь на шею снова не хочу. Так-то и расстались: она в слезах, у меня вся душа запеклась, — говорил Дмитрий.
Меня старуха на базаре тож укараулила! Хвать за шкурку и блажит: «Ты куда, старая шелупень, сбег от семьи и хаты? Мы ж тебя за упокой цельных два года пропиваем, а ты навовсе живой, чтоб твои глаза повылазили! Где лихоманка носит беспутного? Аль к какой распутнице пристал? Во, какую рожу отожрал! Куды свою чахотку дел? Дома, выходит, придурялся?». «Отваливай, старая кошелка! Я лишь здоровый нужон был! Хворого в сарай кинули, мол, сдыхай сам по себе, чтоб глаза не видели! А я отдышался середь доброго люда. И боле знать вас не желаю. Отпетого в красный угол не сажают!», — ответствовал я ей, — рассмеялся Кузьмич и добавил: — Ох, и гналась за мной! Цельных три квартала! Все бегом, юбки подобрав. Про срам запамятовала. Голосила, мол, одумайся, старый хрен! Ить хоронить станет некому! Оборотился я и ответствовал, что подыхать и не собираюсь. Живу как мужик! И человеком себя чувствую! И свою судьбину, сменю на бабу и сродственников. Оне только и горазды отпеть! Даже заживо! — вздохнул Кузьмич.
Тамарку никто не видел? — спросил Шнырь у мужиков.
Пашке встретилась! Эй, Павло! Ходи к нам. Трепни, как с фискалкой свиделся? Шнырь интересуется! — позвали бомжи мужика, присевшего к бабьему костерку. Тот неспешно подошел, сел напротив Ивана Васильевича.
Где увидел ее? — спросил Шнырь.
В пивбаре! У мужиков охлебки клянчила. Фингал под глаз ей кто-то успел нарисовать. Ну, я и спроси: «Чего смылась? Иль заклеила пархатого? По тебе кое-кто тоскует!». Она аж глаза на лоб выкатила, а я ей дальше заливаю, — оглядел Пашка изумленно молчавших бомжей и продолжил: — «Как ты ласты сделала, он с хижины не вылезает. Все вздыхает, лежит, не ест».
Срать разучился! — вставил Кузьмич.
Зачем ты ее зовешь? — не понял Шнырь.
Она не слышала нашего базара и смылась враз после разговора с тобой. Пусть не вешает следчему, что боится нас. Пусть не возникают здесь менты. И она не думает, что тут ей мстить собираются. Коли достанет за душу, все можно устроить, но не на свалке и не своими руками.
Да я смотреть на нее не хочу! — чертыхался
Шнырь.
Не в тебе дело. Пойми, если она нашего базара не слышала, обязательно придет.
Зачем? Кому она здесь сдалась?
А ты и впрямь был плохим юристом.
Почему? — удивился Иван Васильевич.
От бабы, какая в сексотах, всегда много нужного узнать можно. Нет, не перебивайте! Не только по делу Чикина. Его, кстати, закрыли. Прошли сроки. Ищут убийцу средь мужиков. Кажется, давно поняли, кто грохнул. Только признать убийцей Томку не хотят. Почему-то невыгодно. На свободе она им нужнее.
Не понял! — засомневался Шнырь.
Чего понимать? Ты б видел ее: умыта, причесана, одета сносно. Клеится не ко всяким, а с выбором, «по наколке». И не хлещет как раньше. Снова слушать научилась. Короче, вернуться решила в город, выкарабкаться, но уже насовсем. Кого она топить станет, чтоб наверху оказаться, не знаю. Лишь бы не нас. Но и нам еще нужна будет по старой памяти. Это душой чувствую. Якорь у нее здесь остался. Вот только вспомнит ли о нем? Придет ли? Во всяком случае, пусть нас не опасается.
Зачем она тут нужна? — удивился Чита.
Хотя бы затем, что твоего компаньона высветила, какой тебе кидняк устроил. Теперь он попался на липовой декларации, налоги не платил. А нынче и вовсе под молоток пошел. Все имущество фирмы с аукциона. И ты, если мозги не проссышь, свое вернешь.
Чита челюсть уронил от неожиданности.
Время не теряй: заяви о своих правах. И Томка по старой памяти поможет, если, конечно, отбашляешь, забыв все прошлое. Она сама предпожилась.
Вот так дела! — удивился Шнырь.
А чего ж ты сразу не сказал? — удивились мужики.
Шныря ждал! Для него тоже новость имеется! — улыбался Павел загадочно. — В одной фирме юрист нужен! Но очень цепкий. Хозяйственник! Чтоб гражданский кодекс знал лучше мамы родной. Коммуникабельный и подвижный. Там навар обещают путевый. И требуют мужика со стажем и опытом!
Ты че? Спятил, придурок? Сразу двоих фалу- ешь в город? Вернуться? Уйти от нас?
Он сам фискал!
Скурвился, падла! Посеял, кто мы есть?
Его Томка купила за пиво!
Кончай базар! Меня никто не купил!
Вали сам отсюда, коль у нас не по кайфу! — орали мужики.
Тихо, дружбаны! Павло не брехнул ничего плохого. Он сказал, а решение за нами. Коль верно все, это здорово, что о нас в городе помнят и не так хреново, как казалось! — усмирил бомжей Иван Васильевич.
Прохвост этот Павло! Повсюду свой навар умеет снять. Даже с Томки! Во, налим! Ежпи так и дальше, он за полгода всех в город выманит, и прости прощай вольная житуха. Из свободных мужиков опять в подневольники. Верно, не одну Томку менты к нам приклеили, — прищурил свой единственный глаз обрюзгший заросший Камбала.
Кстати, тебе первому вернуться в город надо. Бегом туда мчаться!
С хрена ли? Чего я там забыл?
Сожительницу твою машина сбила, а дом под снос списали. Новое жилье дадут. Но кому?
Как машина сбила? Когда? — растерялся Камбала.
Пьяная под колеса попала. Уже ночью. Вряд ли продохнет, а дом без присмотра уже третий день. Снесут бездарно, ни за понюшку табаку. И снова в дураках останешься. Как и тогда, когда свою квартиру за копейки спустил. Да так, что уже ничего сделать не мог, когда протрезвел. Ты у сожительницы был прописан?
Конечно! Даже в домовой
Беги, дурак! Верни свое! И не меня, а Томку благодари! — напутствовал Павел.
С чего это она так раздобрилась? — засомневался Финач.
Это как раз понятно. Мести нашей опасается. За пережитое в ментовке! И чтобы не прижучили ее за все, решила отпахать, чтобы самой дышать спокойно! — догадался Шнырь.
В самое очко! Что скажешь? Не зря о тебе и нынче помнят в городе! — улыбался Павел.
Мужики ничего не успели сообразить, а у костра уже поубавилось бомжей.
Пыхтя и чертыхаясь, торопя самого себя, подгоняя последними словами, бежал в город Камбала.
Когда-то кузнецом работал человек. Семью имел крепкую, дружную. Троих детей растил. Трое сыновей… В один день вместе с женою их не стало: грибами отравились. Сами собирали их, не знали, что пыльца поганок, осевшая на рядовках, так опасна.
Он не любил грибы. Не ел их никогда, потому остался жить… Себе на горе. Пять лет сиротствовал. Жизнь потеряла всякий смысл. Он целый год не уходил с кладбища, а потом запил по-черному. Как выгнали с работы, как пропил квартиру почти не помнил. Его лечили в больницах от запоев. Помогало ненадолго. Вот там он и познакомился с сердобольной санитаркой. Та жила в своем домишке, неподалеку от больницы. Она тем и славилась, что пережила пятерых своих мужей. Никто не оставил ей ребенка, и жила баба в старой избе одинокой кочкой. Никто из знавших ее не хотел стать шестым покойником. А потому целых десять лет маялась в одиночестве и решилась сама себе сыскать мужика. И нашла Никиту.
Ничего, нормально жили. Сожитель бил не так уж часто. Прежние куда как круче ее метелили за грязь, за пьянство, за никчемность и неразборчивость.
Этот оказался терпеливее и спокойнее других. Он не требовал стирать рубашки, гладить брюки. А когда в доме становилось очень грязно, сам подметал полы, выносил мусор и мыл стол. Он никогда не упрекал ее ни в чем. Был неприхотлив в еде и не обращал внимания, как выглядит сожительница: умыта ли, как одета и причесана. Бил, когда заставал с собутыльниками. Порой она не могла сказать, откуда они взялись и как их звать. Один из них, вот ведь незадача, вступился за бабу и выбил Никите глаз. Кузнец и не заметил его, упавшего под стол. А когда увидел, одного глаза уже не стало. Вот тогда впервые он измолотил сожительницу от души. У той от макушки до пят живого места на теле не осталось. И баба, пригрозив Никите милицией и тюрьмой, велела убраться прочь и навсегда. Он ушел послушно, не переча. И ни разу за все время не навещал ее. Уйдя в бомжи, а больше деваться стало некуда, убедил себя, что в семейной жизни ему не повезет, потому как он — самый горький неудачник на земле. Оттого за все годы не смотрел ни на одну бомжиху. И ни по какой погоде не пожелал себе бабу даже на короткий миг.
Никита бежал в город. Нет, не для того, чтобы похоронить сожительницу или помочь ей встать от болезни. Его интересовала квартира. Он устал от бродяжничества, постоянного холода и голода, от зловония свалки и грязных заросших рож. Как надоело ему всякий день вытаскивать из мусорных контейнеров остатки чужой жратвы, носить обноски с покойников и валяться ночами на голой земле, дрожа всем телом. Как хотелось согреться. Но где? Он перестал верить людям, одичал и озверел.
Может потому, увидев дом пустым, а сожительницу мертвой, забыв все прошлое, благодарил усопшую, что, умотавшись на тот свет, оставила ему тишину для души и крышу над головой.
Он стал первым, кто не захотел вернуться на свалку к бомжам.
Никто из людей не понимал, как может человек, ложась в сумерках, спать до обеда и, не выходя из дома ни на шаг, считать себя самым счастливым на земле…
Камбала первым из бомжей вспомнил свое человеческое имя и каждую ночь, ложась спать, закрывал двери на все запоры, чтобы даже случайно, мимоходом на миг не ворвалось в его жизнь прошлое…
Той же ночью исчез в темноте худой замызганный мужичонка, какого не только бомжи, а и все бродячие псы и кошки считали за всамделишную обезьянку, чудом стерпевшуюся с лютыми зимами и снегами. Кличка Чита уж очень подходила к его плюгавой внешности. К тому ж и одевался несерьезно. Даже зимой носил шортики в лупастых ромашках, схваченных подтяжками на узких плечах. Широченная, не по размеру, клетчатая рубашка, носки с рваными пятками и грубые не по размеру кеды были всем гардеробом человека, не обращавшего внимания на свой внешний вид. Он лучше всех знал, что одежда далеко не главное в этой жизни. Она ничего не скажет о хозяине и не изменит его судьбу.
Никто из бомжей даже не догадывался, как терзает мужика беда, вышвырнувшая его на улицу из роскоши.
А ведь жил! Не просто жил, но и радовался каждому наступающему утру. Считал, что счастье держит за руку, и не предполагал, как неожиданно резко все может измениться.
Он жил легко: менял девиц, не задумываясь, питался только в ресторанах, имел стильную квартиру, обставленную в европейском стиле. Он редко ночевал в ней. Чаще снимал на ночь валютную подружку и проводил время в номере гостиницы, чтоб не высвечивать свое жилье.
К девицам не привыкал и не привязывался. Ни одну не пустил в сердце. Расставаясь утром, не назначал повторной встречи. Он верил лишь друзьям, с какими дружил с самого детства, каким был обязан всем, что имел. Они стали для него надежной опорой, крепкой стеной, за какою можно было спрятаться от всех невзгод и потрясений.
Юрий считал себя равным средь них и с прочим окружением держался высокомерно. Ведь в свои двадцать девять он достиг того, о чем и не мечтал. Он был президентом крупной фирмы, чьи филиалы были рассеяны по всей России и торговали импортными товарами, удивляя люд разнообразием ассортимента и качеством самым высоким, самым лучшим, без единого замечания.
Но случился обвал рубля. Внезапный как стихия. Он мигом сказался на судьбе друзей. Какие прибыли? О них остались одни воспоминания. Цены выросли, поток товаров прекратился. Надежд на будущее не было.
Решили начать свое дело, свой бизнес вдвоем с Вадимом. Другие отказались: решили выждать время. А Юрий не хотел медлить и поторопился. Он привозил на продажу мебель. Вадим, продавая ее, должен был делить прибыль пополам. Но мебель не раскупали. Какие там транспортные и торговые накрутки? Не устраивала цена изготовителя… Вадим сменил профиль, и вскоре вместо мебели начали завозить ковры.
Уж теперь-то вылезем! Выкрутимся!
А через месяц уже выставили посуду. Спустя полгода Вадим внезапно исчез, оставив в магазине два десятка дешевых сервизов и совсем пустую кассу.
Его искали по всему городу, но партнер словно растаял. Молчал сотовый телефон. Поиски ни к чему не привели. А через неделю обнаружились громадные долги, какие тянулись хвостом еще со времени торговли мебелью. Ни пылинки не оставили на складе кредиторы. Судебный пристав описал даже телефонные аппараты, столы и стулья, само помещение и склад. Но и этого было недостаточно. Юрке стали в открытую угрожать Никто из кредиторов, а средь них были и бывшие друзья, не верили ни одному слову и требовали деньги.
Нет у меня! Доходами Вадим занимался, вся касса у него. Я лишь товары завозил. И верил ему! — оправдывался как мальчишка.
Ты верил? Ну, вот что! Не выложишь в три дня, размажем! — ткнули дулом пистолета в висок для убедительности.
Да где возьму? Вы много лет знаете меня!
Ты что? Долбанутый? Мы тоже хотим жить. И дали вам на раскрутку под проценты. Ни копейки до сих пор не получили. Какое нам дело, куда вы их дели? Работали вместе? Вот и верни! Нам неважно, он иль ты долг положишь! Ждать надоело. Искать его мы не станем. Это твоя проблема. Захочешь дышать — найдешь выход.
И нашел. Отдал квартиру и все, что в ней имелось, что копил и берег.
Отдал. А как иначе? Если смерть грозила быть мучительной, долгой, унизительной.
Друзья всю ночь подсчитывали, остался ли за Юркой долг или можно сказать, что рассчитались?
Юрка знал их с детства и только в ту ночь понял, что никогда не имел друзей.
Они ушли под утро, забрав ключи от квартиры. Вывели Юрку на лестничную площадку, разрешив взять из вещей лишь брезентовую куртку.
Ты еще должен! Пять штук баксов за тобой осталось! Но у тебя ни хрена нет, а вот Вадима попробуем достать! Остаток выдавим из него через своих в угрозыске.
Дайте хоть что-нибудь на жизнь! — попросил
Юрка.
На жизнь? Тебя придушить надо! Столько с долгом мурыжил, гад!
Ишь чего захотел?
Пошли! Всю ночь работали. Хоть пару часов отдохнем! — заторопились в лифт.
Юрка стоял как обманутый пацан в домашних тапках и в пижаме.
«Куда теперь? Ничего не осталось. Да и… не было, — полез на чердак. — Хватит с меня. Устал. Надоело все. И эта жизнь… Чего она стоит, если я в ней самый невезучий».
Снял бельевую веревку, стал делать петлю.
Ты че, блядь? Крыша поехала ненароком? — услышал за спиной и присел от внезапности, не зная, что ответить заросшему бомжу, ставшему перед ним стеной.
С чего вздернуться вздумал? На бутылку не хватает? Иль бабу застукал с хахалем?
Подставил меня друг! — искривились губы, и Юрий заплакал так горько, как никогда в жизни.
Враги мокрят враз. И только друзья вначале высасывают кровь, чтоб самим дышать было чем! Ты не первый, не последний, кому друзья перекрыли кислород. Ну и хрен и ними! Из-за них не стоит себя жмурить. Жизнь не кончилась на козлах!
А зачем она мне теперь? — хлюпал человек мокрым носом.
То не тебе решать! — подошел к веревке, перекинутой через балку. Снял ее, распустил петлю.
Ты, твою мать, кинь эти штучки! Слышь? Как тебя дразнят? — оглядел с ног до головы. Юрка еле доставал мужику до пояса.
Эдакий заморыш, жизни не видел, уже сдохнуть вздумал. Пошли перекурим! — легко повернул его вглубь чердака.
Они присели на балку, и недавний коммерсант рассказал бомжу обо всем, что с ним случилось.
Хер с ней, с твоей торговлей и деньгами! Дышал ты хреново, потому все не впрок. Поверь, есть много несчастней тебя и чище, совсем ни в чем, ни перед кем не виноваты. Их тоже выбросили. Но не так как тебя, а хуже, на самую Колыму. Ее перенесли, но и теперь не сыскали свою судьбину. Все отморожено и поморожено. А вот руки на себя не накладывали. Коль Господь дал выжить, значит, для чего-то. И ты не моги грешить. Верно, изменится в — привел на свалку и, выделив угол в своей хижине, предложил коротко: — Канай…
Шло время. Юрий давно стал Читой. Сдружился с тем, кто привел к бомжам. Он быстро освоился. Здесь все признали жалели и думал, что так и закончит свою жизнь на свалке среди бомжей.
Иногда видел в городе своих прежних друзей. Они отворачивались, морщились, делая вид, что не узнают его.
Юрия вначале обижало, а потом и смешило их отношение к нему. Они ни разу не окликнули, не позвали, не предложили поговорить или перекурить. Делали вид, что никогда не были знакомы с ним. И Чита с особой тщательностью оббирал их дачи и дачные участки, подвалы.
Ни одной картошки не оставлял, ни единого яблока не забывал на дереве. Все подчистую выносил к бомжам. Он бы и дачи спалил, но те были выложены из кирпича.
Что и говорить, обидно было, и, лишь послушав бомжей, понял, есть несчастнее его! Куда как сложнее им пришлось, но выжили.
Юрка не пользовался особым успехом у бомжих. Все бабы свалки предпочитали рослых крепких мужиков. Чите так не повезло. Уже будучи коммерсантом, носил рубашки и костюмы сорок второго размераростом походил на недокормленного подростка Оттого, если и уламывал какую-нибудь, то лишь за бутылку, да и то ночью, чтоб никто не увидел и на смех не поднял.
Мужики жалели его. Никогда не били. Делились даже последним глотком и затяжкой табака. Никогда не высмеивали.
Чита, обвыкшись, смирился с судьбой. И вдруг…
«Неужели нашли Вадима? Теперь его тряхнут! Но как мне свое получить?» — бежит человек в город, петляя между ям, кочек.
Дурак! При чем твои друзья? Они подали официальное заявление в милицию, и Вадима нашли через розыск. Теперь он в милиции. Идет следствие. Он, паскуда, открыл свою фирму в Рязани. Разжирел на твоих и их деньгах. Но дверца захлопнулась: птичка попалась в клетку. И пока с нее перышки не ощиплют во всех местах, воли не видать! Я могу помочь тебе. Но не за спасибо! — предложила Томка.
У меня ни хрена нет! Ты же знаешь. Отдам по результату! — обещал Чита.
По результату только с женой спят. А мне гони наличностью!
Да где возьму?
А у друзей! Теперь дадут. Их обязали вернуть тебе квартиру и все, что в ней имелось. Иначе сами попадут рядом с Вадимом. Уже за рэкет!
Мне они не отдадут. Вышибут! И все на том! — не поверил Юрий.
Тогда ребят угрозыска попроси помочь. Они твое дело быстро уладят, — посоветовала Томка.
В угрозыске долго не могли поверить, что стоявший перед ними бомж и есть тот самый коммерсант, какого они разыскивали не одну неделю.
Вот ключи от вашей квартиры. Приведите себя в порядок! И пока следствие по делу не закончится — ни шагу из города! Не забывайте являться по повесткам! — крикнули вслед бомжу, одуревшему от радости.
Он бежал домой, забыв, что может воспользоваться транспортом.
Мимо проезжали трамваи и автобусы, проносились такси, обдавая грязью с ног до головы. Он не видел их. Он спешил домой к себе, где так тихо и уютно, где можно сутками сидеть у телевизора, навсегда забыть свалку, куда столкнула его судьба, решившая вызволить из грязи.
«С недельку отдохну, приду в себя, а там возьмусь за дела. Когда с Вадима взыщут деньги, я сам открою свое дело. И никогда не возьму партнера! Никому не поверю. Теперь я сам знаю, что будет в ходу, на чем можно сделать деньги и никогда не разориться. Вот только бы скорее восстановиться мне, привести себя в порядок. И тогда я покажу этим козлам-друзьям, чего стоит моя закалка. Ведь не зря выжил! Теперь уж из моих рук никто не сможет вырвать ничего!» — побежал через улицу к своему дому. До него оставались считанные шаги.
Ох-х-х! — потемнело вдруг в глазах, и какая-то сила будто схватила за шиворот и швырнула человека из-под колес машины на тротуар под ноги людям.
Задавили! Сбили! Умирает! — кричала толпа, собравшаяся вокруг.
Юрка уже ничего не слышал. Он открыл глаза, увидел свой дом, окно квартиры. Оно быстро захлопнулось. В стеклах отразилось бездонное небо. Синее- синее как глаза той девчонки, какую любил еще школьником. Он не посмел ей признаться…
Чего тут кричите? Чего собрались? — подъехала патрульная машина.
Человека задавили, а водитель удрал! — сказал кто-то возмущенно.
Человека? Да это ж бомж! — брезгливо поморщился милиционер и, оглядев притихшую толпу, спросил: — Кто из вас видел водителя машины, совершившей наезд? Кто согласится стать свидетелем по делу?
Люди мигом потеряли интерес к случившемуся и поторопились разойтись.
Через секунды рядом никого не осталось. Только Чита… Маленький, окровавленный комок лежал на асфальте, раскинув ноги. Он все еще продолжал бежать к себе домой, где кто-то незамеченный безжалостно закрыл окно.
Он слишком спешил, но так и не успел убежать со свалки…
Вызывай машину! Пусть увезут труп в морг! — накрыли Юрку брезентом чужие руки.
По рации было передано сухое сообщение: «Бомжа сбили на улице Ленина. Перебегал дорогу на красный свет! Конечно, пьяный! От него вином как из бочки прет! Водитель скрылся! Никто не запомнил машину и номер. Видно, не успел затормозить…».
Ну, чего встали? Грузите и в морг. Хороните еще одного бродягу! — поторопили водителя подоспевшей спецмашины…
О смерти Юрия бомжи узнали сразу. Выпили на помин души. Скупо пожалели. Так и не поняли, куда и зачем торопился человек…
И только Павел сидел задумчивый, грустный. Ему очень хотелось увидеть Тамару. Она, словно почувствовала, появилась на свалке, когда стало темнеть. Ее увидели сразу, но никто не встал навстречу, не позвал в компанию. И баба, обойдя пару лачуг, поговорив с бомжихами, сама подошла к Ивану Васильевичу:
Ты ждал меня?
А это ты! Ну, здравствуй! — отозвался Шнырь, так и не ответив на вопрос.
Что нового в городе, кроме известного?
Тебе передали! Чего ж не пришел?
Что за место, где меня берут на работу?
Новая фирма. Частная адвокатская контора! Пока небольшая, зато название громкое — «Щит»! Как тебе? Звучит?
Меня не это интересует! Ты что ли ею заправлять будешь? — спросил напрямик.
У меня нет финансов! А потому заведующий -
другой.
Тебя берет на работу?
Да при чем тут я? Речь шла о тебе! Ты — сильный практик со стажем и опытом.
Сколько там получают?
По-разному. Сам знаешь, все зависит от категории дел и клиентов, но пока к ним обращаются лишь по гражданским делам: раздел имущества и квартир. Короче, пока ни одного уголовного дела в руки не попало, а потому и заработки — на хлеб без масла, — рассмеялась глухо.
А мне говорили «крупная фирма»!
Ну да! Перспективы там есть. С тем не поспоришь.
Почему сама не устроилась туда?
С жильем не определилась. Пока…
У мужа хочешь оттяпать?
Угадал! Свекровь сдохла! Он один в трехкомнатной. Думаю — великовата!
Смотри, чтоб тесно вам не стало!
Мне не будет! — усмехнулась в ночь.
Хотя и его потеснить можно как Чикина! — напомнил Шнырь и даже в темноте увидел, как вздрогнула Тамара.
— Я не войду к нему врагом. Только помирившись, на правах жены…
- у тебя есть шансы? — удивился Шнырь.
Но я же женщина! Зачем задаешь пустые вопросы?
Тамар! Скажи, зачем я тебе?
Про запас! Не хочу терять! Ты хоть и тяжелый человек с несносным характером, но как мужику цены нет! И равных не сыскать! Потому целиком тебя не отдам твоей жене! Понял? — обняла и прижилась к Шнырю всем телом. У того вся злоба на бабу из головы вылетела. Таких слов он от жены никогда не слышал.
Выходит, все же нужен тебе? — обнял за плечи бережно.
Конечно. Я не прощаюсь с тобой, а говорю «до встречи»! — поцеловала в щеку.
Выходит, ты настаиваешь на моем возвращении в город, в семью?
Это однозначно Ваня! И дело вовсе не в том, как тебя там примут. Куда они денутся? Обосрались со всех сторон! Сами не очистятся! И только ты сможешь очистить их.
А что случилось? — забеспокоился Шнырь.
Сам узнаешь дома. Я не полностью в курсе. Да и опережать не хочу.
Тамара! Скажи, что знаешь?
Жена теперь в челноки подалась. Дочь стала работать в школе, но зарплата — крохи. Не уложилась — стала подрабатывать в интиме. Путанкой.
Моя дочь — проститутка? — побелел Шнырь.
И это еще не все. Она больна. Заразилась от какого-то козла. И теперь ей осталось совсем недолго жить!
Врешь! Не может быть!
Вань! К чему мне трепаться?
Что у нее — сифилис?
Это было бы половиной горя. Такое лечится. У нее СПИД.
Откуда знаешь?
От врачей. Ее в больнице держат. Она многих заразила по незнанию. Хотели убить, но брат отнял. Успел.
Хоть сын остался чистым! — выдохнул Иван Васильевич.
Твой сын — рэкетир. За ним охотится уголовный розыск. Слишком много крови на его руках. Дома не живет.
Почему же Мария мне ничего не сказала? Ведь недавно виделись…
Отпугнуть боялась, не иначе. Кому охота в таком признаться, что после твоего ухода семья нараскоряку встала и развалилась в осколки. Небось, звала? Другого выхода у нее нет!
Звала, — тихо, горестно признал человек.
Вернись! Ради себя. И меня. Хватит с нас свалки! Выжили! Теперь пришло время брать реванш!
Пойми, себя не могу заставить вернуться к ней!
К себе домой вернись! Это важней всего! Стань эгоистом и больше не подставляй ей шею! Будь наездником, а не ишаком. Держись хозяином и ни в кого
не вкладывай больше душу. Никто из них того не стоит. Ты оказываешь милость им, возвращаясь в семью. Они это должны помнить всегда. И не теряй свое лицо и имя! Горько тебе! Но мне не легче. А ведь тоже придется простить. Только не сердцем — разумом. Так надо: прикажу и сделаю! Хотя глаза б его не видели!
Как жить по принужденью? Господи! Где силы взять? Лучше сдох бы, чем дожил до такого! Вся семья вразнос! — сел на землю Шнырь, обхватил руками голову: ломило виски.
Тебе сегодня плохо. А мне какого жилось? Свекровь отравить Но разве без его ведома делала? А на озере, когда в лодку меня позвал, знал, что плавать не умею. И перевернул на середине. Мое счастье, что под дном коряга оказалась. Я на ней и удержалась. Целый час не хотел обратно в лодку брать… Каково было жить после этого? А теперь наркотиками балует. Все, что нажили, на эту заразу спустил. Пустые стены остались. Я и на это согласна! Иду! Хоть и баба! Какая там любовь? Да от прошлого пепла не осталось, но надо самой хоть как- то зацепиться, встать на ноги, оглядеться, а уж потом разберусь, — призналась баба.
А может, ну их всех! Остаться здесь и забыть их разом! Ну, для чего новые муки? Сколько той жизни осталось?
Нет, Ваня! Сдохнуть в бомжах — не для меня! Так осмеют: лучшего не стоила! И прежде всего он! Я докажу, кто из нас чего стоит. И медлить нам нельзя. Мой квартиру загнать может, твои попередохнут до единого. А чтобы не так плохо было, станем с тобой встречаться иногда.
Но где? Приходить сюда, на свалку?
Зачем? У тебя еще дача уцелела. Пока не продана. Созвонимся и снова вместе.
Ну, а как? Вдруг он поднимет трубку, что скажу
ему?
— Ответь, мол, из бюро по трудоустройству. Есть
вариант работы, но хочешь переговорить лично. Когда я тебе позвоню, и жена поднимет трубку, назовусь клиенткой. Мол, хочу обратиться за защитой по делу и тоже «лично надо поговорить».
Иван Васильевич слушал женщину, но думал о своем.
Как ты близок и далек! Ты уже дома! Иди, не медли. Не раздумывай. Когда немного успокоишься, позвони мне! — встала Тамара и скрылась в темноте ночи.
Иван Васильевич не стал ждать утра. Решил уйти тихо, ни с кем не прощаясь, пока все бомжи спят. Он шел в город знакомыми тропками, ведущими к магистрали. Через полчаса он стоял у знакомой двери. За нею тихо: ни голоса, ни звука. Он позвонил, приготовившись ждать. Мария всегда крепко спала, и добудиться ее в четыре часа утра было мудрено.
Шнырь только потянулся к звонку во второй раз, как услышал шаги за дверью и голос жены:
— Кто?
Открывай! Я! — ответил удивленно и уверенно.
А я ждала звонка по телефону. Ты ж сразу навестить решился, — прижалась к стене.
Навестить? Ты что это? Все в детстве обретаешь? Я не в гости, домой пришел. Насовсем! Где дети? Буди их! Зови сюда! — приказывал жене, надеясь в глубине души, что Томка соврала.
Их нету дома, — тихо обронила жена.
А где они в такое время носятся?
Ведь взрослые уже. Разве укажу?
Ты — мать! Ведь так говорила мне?
Ох, Ваня! Легко лишь попрекать да указывать! Когда сам возьмешься, поймешь, что не так все просто.
Где дочь?
Простыла она. Теперь вот с гриппом в больнице лежит. Эпидемия полгорода свалила. Даже умирают от него…
Дай номер телефона! — потребовал жестко.
Рано еще! Глянь время: все спят, — напомнила жена, добавив: — Врачей нет покуда!
Где сын?
У друзей заночевал, а может, женщину завел, да не признается. Он уже взрослый. В таком возрасте с родителями не делятся секретами.
Чем он занимается? Дай мне его рабочий телефон!
Зачем? Сам объявится к вечеру, если девчонки к себе не утащат. Ты вот лучше сядь, поешь, помойся, переоденься, отдохни! А там и поговорим, — накрыла на стол.
Иван Васильевич пошел в ванную. Как давно он не пользовался ею, отвык, забыл. Может, потому так тщательно мылся, снимал с себя прошлую грязь, память и обиды.
Когда он вышел на кухню, Мария улыбнулась:
А ты ничуть не изменился. Все такой же, как прежде. Время тебя не тронуло.
Ошибаешься! Еще как измолотило! Внешне, может незаметно, но это для тебя. Мне лучше знать, что и как во мне менялось, — усмехнулся устало.
На столе уже все ждало хозяина. Даже запотевшие бутылки пива.
Для кого его купила? — спросил, прищурясь.
Сын покупал. Иногда пил. Это вот осталось.
Садись, давай отметим возвращение. Иль не рада? — глянул в глаза.
Жена вздрогнула: не таким знала, не тем ждала, а мягким и покладистым, уступчивым как прежде. Нынешнего словно подменили: колючий, подозрительный, напористый. Он, не спросясь, переоделся. Выкинул старье, в каком пришел. Значит, вернулся навсегда. Вот только чем обернется ей его возвращение. Чего ждать от него, от нового, неузнаваемого и неизвестного?
Дрожит баба внутренне. Не поймет, радоваться ей иль плакать? Ведь муж пришел. Но где он, тот ее Иван?
Ну, что сидишь? Со стола убери. Я отдохну с часок. Сын придет, ты разбуди меня. И к дочери сегодня съездим. Навестим ее, порадуем…
Мария открыла рот, но слова будто колом застряли в горле.
Ты что-то сказать хотела?
Иди, поспи. Потом поговорим, — поторопилась отвернуться, смахнула слезу со щеки.
Иван Васильевич приметил:
Чего ревешь? Чего не договариваешь? Что случилось?
Беда у нас, Ваня! Детки наши с тобой совсем с пути сбились! — заголосила баба, сорвавшись на вой, и рассказала: — Уж как старалась, рыбой об лед билась, чтоб продержать детей, довести их до ума. Да где там? Кое-как на еду и на одежду зарабатывала. На учебу самим пришлось… Вот и выкручивались. Поначалу дочка в притон пошла, потом сына друзья сманили в рэкет. Девка плакала, так не хотелось ей со всякими путаться, но что делать было? Другого выхода не увидела!
А ты на что? Иль кроме транды ничего не имеете? А где голова и руки? Лучше б в бомжихи свалила, чем скурвилась! — грохнул по столу кулаком так, что посуда зазвенела.
Никто иной, как ты надоумила! Сама этим пробивалась в люди и ее с пути сбила! Испортила дочь, теперь на кого пеняешь? Где она? Что с ней? Колись! — встал напротив, жена к стене попятилась.
Теперь в больнице, — ответила, заикаясь, и добавила: — Проглядели, упустили мы ее. Уже не вылечить. Она заразная. Домой не отпустят. И с нею видимся через стекло как в тюрьме.
Не мы, ты ее сгубила!
А где я взяла бы на учебу?
Кому нужна дипломированная покойница? И ей зачем такое образование? Другого выхода не нашла? Врешь! Могла продать дачу, квартиру! Перейти в меньшую!
Они не позволили, не дали. Да и надолго ли этого хватило б? На год! А дальше?
Лучше было бы оставить институты обоим, чем терять все одним махом!
До того и мы дошли, но поздно, — призналась
Мария.
Сын где теперь?
В бегах! Разыскивают его!
За что?
Говорят, будто убил он кого-то. Но это брехня! И он мне клялся, что никого не отправлял на тот свет. Не виноват!
А кто признается?
Мне б он сказал!
Он приходит? Хоть появляется здесь?
Навещал неделю назад. Теперь боится: за квартирой следят и даже разговоры по телефону подслушивают, поверяют почту. Я сама это вижу.
Дожили! Докатились! Ладно! Я сам его делом займусь. Узнаю, виноват или нет? И к дочери съездим! Надо узнать, так ли все безнадежно? — лег в постель, но сон словно посмеялся над ним.
Нет, не пустили Ивана Васильевича к дочери. Объяснили, что ей вредны всякие переживания и встряски, что она к ним не готова и не переживет…
В угрозыске ему показали дело лишь после того, как Иван Васильевич устроился работать адвокатом. Сам сын домой не появлялся.
Целую неделю до глубокой ночи тщательнейшим образом проверял все доказательства, улики. Их было слишком много.
«А вот здесь — явная ложь!» — делал выписки для предстоящей защиты.
«Уж своего я отстою в процессе! — думал человек, кропотливо собирая по крупицам доказательства в пользу защиты, но возвращаясь домой, переживал: — Пока я здесь хочу помочь ему, он там может такого наворочать».
Иван Васильевич вздрогнул от телефонного звонка, поднял трубку:
Приезжайте в морг на опознание. Кажется, вашего привезли! — узнал голос патологоанатома.
Он ничего не ответил, лишь повернувшись к Марии, сказал зло:
Одевайся! Поедем вместе!
Куда так поздно?
К сыну! Вот и свидишься! Доигралась, стерва! Всех порастеряла мать, грязная блядь! — подтолкнул в спальню переодеться.
Он в милиции? Их поймали? Но ведь теперь ты защитишь? — пропустила мимо ушей злую брань.
Мария, увидев сына на железном столе, рухнула на пол. Иван Васильевич выволок ее из морга, сунул под нос нашатырь. Когда Мария задышала ровнее, подошел к патологоанатому:
Сам видишь: пять выстрелов… Тут и одного хватило бы.
Кто ж его? Милиция?
Своя у них была разборка. Видишь, еще трое. Все из одной банды. Меж собой не поделили навар. Хотя теперь какая разница? О покойных плохо не говорят. Их просто хоронят, а помнить и поминать дело живых. Одно скажу: Вань, давно я тебя знаю, еще с молодости, упустил ты своего мальчишку. А теперь уж ничего не вернуть и не исправить…
Домой они возвращались молча. Мария шла рядом побитой собачонкой, то и дело со страхом оглядывалась на мужа. Что теперь слова оправдания или упреки, чего они стоят, запоздалые…
Трудно дышать. Болит сердце, но даже пожаловаться боится. Не то время. Уж слишком виновата перед ним. И только ли перед мужем? Едва передвигает ноги баба, подходя к подъезду. А из двери, ну как некстати, сосед по лестничной площадке, тот самый, что угостил Шныря в пивбаре пивом:
О! Кого я вижу! Мать твою! Воротился мужик в дом! Чего ж ты не хвалишься, Мария? У тебя ж радостей полные штаны! Ну, кайф! На площадке человеком прибавилось, а то одни козлы кругом! И дома мандавошка облезлая по углам бегает! Аж жить тошно, глянуть не на кого! Теперь задышим, верно, Вань? Ты знаешь, мне «торпеду» зашили! Сказали, коль выпью, сдохну враз. А я врачам знаешь, чего ответил: «Нече меня пужать вашей «торпедой», коль я с самой Бабой Ягой двадцать три года канаю. Мне после ей даже атома не страшна!». Они не верили, а когда пришли проверить, как я режим соблюдаю, увидели мою кикимору, заикаться стали. В двери не как все люди передом, задом выпихнулись. И больше алкоголиком не обзывают. Только героем кличут. Не говорят каким! Но мы живы! Правда, Вань? Вечером зайду к тебе! Оставлю свою заразу! Хоть душу согрею у соседей, — пошел человек в пивбар, разговаривая сам с собой по пути.
измолотить Марию как последнюю шлюху, обругать, высказать все наболевшее и… напиться до бессознания, заглушить боль в сердце, забыть случившееся хоть на время. Но как? Ведь вот сын все еще помнился вихрастым озорным мальчишкой. Он так любил велосипед и гонял на нем по двору, радуясь, что умеет обгонять даже ветер. Он очень любил скорость, может, потому и не дожил до старости…
«Нет его! Потеряли! Убит! Не сберег его!» — корит себя человек. И снова закуривает.
Жена сидит на кухне серой тенью. Все повалилось у нее из рук. Остались лишь слезы и чувство горькой вины перед всеми, перед целым светом. Знает, ей не простится случившееся, ее никто не станет утешать и успокаивать. Она должна молчать. Но как, если горе раздирает грудь?
Мария оглянулась на мужа. Увидела хмурое лицо, поняла: лучше не лезть на глаза, не задевать.
Телефонный звонок встряхнул обоих
Тебя просят! — передала трубку Мария.
Иван Васильевич узнал голос Тамары:
Держись, Вань! Я все знаю! Беда нас не спрашивает. За каждым углом стоит. Вот и мой… Сегодня… В семь утра… Нашли мертвым в подвале. Что он там делал? Почему в подвале оказался, кто его знает? А ведь еще вчера грозил мне. Обещал в окно выкинуть. Кое-как успокоила, уговорила. Даже прощения попросил. А в шесть утра ему позвонили. Я даже не проснулась путем. Он подошел ко мне, сказал, что через пяток минут вернется, попросил приготовить кофе. Я встала — он ушел. А через час дворничиха вызвала милицию… Увидела первой, как поспешно выскочили из подвала двое мужиков. Заподозрила неладное и не ошиблась… — умолкла Тамара, всхлипнув.
Крепись! В этой жизни мало быть мужем. Надо суметь остаться другом, но такое не каждому дано. Не всякое прощанье получает прощения. Жаль, что всю жизнь прожила одна. Он лишь играл в мужа, но так и не стал им, — сказал тихо.
Вань! Когда увидимся? Так тяжело! Боюсь свихнуться…
Оно не мудрено. Я позвоню, — пообещал в трубку.
И только отвернулся, встретился взглядом с Марией:
Уже сучки звонят? Терпенья нет? В доме беда, а тебе все по боку? Свиданки назначаешь? Сын умер, а ты с блядями тарахтишь? — упрекала баба, срываясь на крик.
Заткнись, дура! Кто виноват? Не ты сына толкнула на разбой и смерть? Не ты меня выперла из моей квартиры своим блядством? Детей растеряла! Теперь свою срань на меня повесить хочешь? Не выйдет! Я оставлял квартиру детям. Ни тебе! И если ты думаешь, что и в этот раз вытолкнешь меня, то знай: просчиталась! Я не стану щадить! И в момент выброшу отсюда навсегда!
Мария не ожидала такого отпора. Она села напротив, устало откинулась на спинку стула:
Нас больше ничто не держит вместе. Ты прав. Мы потеряли все. Детей! Разве можно сравнить это горе с квартирой? Да если б я могла исправить, вернуть все, не только квартиру, жизнь не пожалела б! А ты о чем? Эх, Иван, так-то ты дорожил семьей! Выходит, никогда мы не были нужны тебе, коль так скоро забыл главное…
Не все можно забыть. Оно и верно, ничего у нас с тобой не осталось общего, кроме горя. Оно одно на двоих. Его, коль Бог даст, переживем. Но память ни годы, ни смерть не сотрут. Впустую мы с тобой жили. Зря время потратили друг на друга. Не стоили детей, подаренных судьбой. А потому умираем заживо…
Небось, жирует теперь? Канает в теплой постели с бабой, по нужде не морозит жопу. Домашним стал. Влез в хомут и под каблук! — завидовали и жалели Шныря бомжи.
Может, так и забыли бы о нем, если б не — самый несносный из всех мужиков, промышлявший жратву на кладбищах, возле морга. Никто другой не приносил из города столько пакостных новостей как он. Баланда будто не видел в жизни ничего светлого и не верил в добро, потому что сам на него не был способен.
Баланда всегда возвращался на свалку поздним вечером. Торопился, словно там его ждала оголтелая орава кровных ребятишек.
Хромая на обе ноги, высоко вскидывал худые руки-жерди, он подергивал лохматой башкой, так похожей на воронье гнездо. И, запахиваясь в разноцветные лохмотья, спешил вприпрыжку, чтобы не забыть, не потерять ни одну из гадостливых сплетен, какие подхватил за воротами погостов, морга.
Он всегда подскакивал к кострам головной вороной, от одного к другому, и тараторил, выпучив глаза, взахлеб, даже не заботясь, слушают его или нет.
Мужики! Эй, мужики! Ну, чего вы морды в землю закопали? Гля, че в городе стряслось! Это ж надо! Раньше мужики девок силовали! Теперь все наоборот!
Нешто на тебя сыскались желающие? — криво усмехнулся Павел.
Да я — находка! Цимис высшего сорта, фрукт заморский!
Твою мать! Козел! — сплюнул Кузьмич.
Я — козел? Знал бы ты, кого нынче в упокойники отвезли! Деда! Ему за седьмой десяток!
И что? Иль мало небо коптил? Свалил во время.
Не сам! Его свалили малолетки! Своими трандами!
Чего? Чем? — не поверил в услышанное Павел.
Впятером занасиловали! Он в стремачах приморился: сторожевал магазин. А они ночью подвалили к нему оравой! Портки содрали, замок на яйца и вперед! Впятером на одного. Дед в вой! Ему пасть заткнули исподним, а когда сикухи свое справили, ушли, так и не сняв замок с яиц. Даже ключ от него выкинули. Мол, пусть подольше со стоячим подышит. Ноги, руки не развязали. Дед встать не смог, так и помер, не дотянув до утра.
Зато мужиком свалил! — хохотнул Павел.
Откуда ж знаешь, что пятеро силовали? Они что? На его яйцах расписались? — не поверил Хорек.
Улики нашли! Следователь увидел! О том весь город тарахтит. И родня на погосте всех сикух проклинала, что не дали старику своей смертью отойти! Это ж надо! Им всего-то по тринадцать лет! А уже такое отчебучили!
Ты б деда спросил: он, небось, перед всеми жмурами хвалится, как сумел откинуться! Это ж он нынче в почете середь всех канать будет! — позавидовал усопшему Кузьмич.
Но Баланда не унимался:
А знаете, кого еще видел? Шныря! И Томку! Оба хоронились.
Ты че? Звезданулся?
Сам ты псих! Шнырь своего сына, а Томка мужика хоронила.
Брешешь!
И не темню! Шнырь весь из себя! Только не в радость ему жированье. Хоть морда отмытая, и прибарахлен, с виду весь черный как тот памятник, какой сыну поставил. Зачем на него поиздержался? Мог бы сам за него сойти…
Иди, отвали отсюда!
Че? Столько с нами канал, а тут в нем отец пробудился! Херня все это! Кокнули его сына! Конечно, не за добрые дела! Небось, не в бомжах, в рэкете канал! Чего такого жалеть? Он, поди ты, ни одну душу сгубил, изверг…
Отвали, твою душу! Не нарывайся!
А че? Томка тоже слезу пустила, пожалела! Пока живой был, кляла, рога ему ставила. Теперь сопли развесила! Ей что поссать, что заплакать, — одинаково!
Брысь отсель! — запустил Кузьмич в Баланду головешкой от костра.
А я подвалил к Томке на соболезнование, она мне всего сто грамм налила. Помянуть покойника! Да разве это поминание? Я еще свой стакан подсунул, жду, когда нальет! А Томка сделала вид, что не приметила! И это меня! Ну, я и обиделся: всю ее наизнанку вывернул перед покойником. Пусть хоть на том свете правду узнает!
Сволочь ты, Баланда! Причем отпетая!
Это почему? Я ни в чем не сбрехал! Все как на духу выложил!
Сука ты вонючая! Отвали отсюда! — встал громадный мужик по кличке Горилла и только хотел схватить Баланду за грудки, отшвырнуть от костра, тот уже убежал к другой куче мужиков.
И оттуда послышалось:
А Шнырь сегодня сына урыл своего! Нет, не сам размазал, кто-то подсобил. Нынче за хозяина в доме дышит. Никто не мешает. Бабу к ногтю придавил! Ну и бабища у него! Корова просто котенок рядом с ней! Жопа ни на одну бочку не поместится! Он против нее сущий шкелет!
Ты не лучше! — оборвал кто-то хмуро.
Я ж безбабный! И в домашние ни за что не уломаюсь! Разве на время…
Кому нужен? Какая на себя обиделась?
Ой, умора! Да когда по городу иду, на меня все бабы оглядываются! Даже девки посматривают!
В ужасе… Небось, как увидят тебя, враз обделываются. Потом и ночью со страха икают, что самого лешака в мурло встретили. Потом до утра зубами стучат от страха.
Это ты про себя рассказал. Меня другими встречают: теплыми, нежными, зовущими. Их только слепой не поймет.
Чего ж не приклеился, не отозвался?
Воля дороже! Не хочу за миску супа хомут на шею надевать.
Не транди! — отворачивались бомжи, и мужик, повздыхав, плелся к хижине. Самой дряхлой и кособокой была она среди прочих. Там Баланда жил уже не первый год.
Он поднял грязную тряпку, загораживавшую вход, и, став на четвереньки, влез в хижину. Тут же повалился на кучи старых газет и опилок, натянув на себя кусок рваного одеяла — давнего трофея со свалки, завздыхал: «Нынешний день прошел сносно. Ни от кого не получил оплеуху, хотя и грозилась Томка ему морду на жопу закрутить. Но кто ж на кладбище дерется?». Да и мало ль было тех грозящих в его жизни? Теперь уж не счесть…
«Раньше Митькой звали. Теперь кто о том помнит? Сам и то не всегда! Забываю! А все от нее. Она виновата!» — ругает последними словами покойную мать, какая произвела его на свет, не выходя замуж, как все путевые девки. Так и осталась в потаскухах, хотя после рождения сына и до самой смерти не знала ни одного мужика. Но людская молва беспощадна и, приклеив однажды ярлык к подолу бабы, не простили ей греха молодости до конца жизни. А губошлепого страшненького Митьку, даже ставшего взрослым, звали выблядком.
Кто был его отцом? Какой он? Митька ни разу не видел. А мать лишь краснела, отворачивалась, стыдливо прятала глаза даже от сына. Изо всех сил старалась отвлечь ребенка от этой больной темы. Но тот с годами становился настырнее: «Почему у меня нет отчества как у всех?», «За что зовут выблядком?», «Кто такая шлюха?».
Мать вытирала слезы. Терпела молча, а один раз дала пощечину обнаглевшему мальчишке, и тот вскипел:
Зачем меня родила? На издевательства? Всем на смех? Думаешь, ничего не понимаю? Принесла меня в подоле. Не могла до свадьбы дотерпеть? И всю мою жизнь погубила! На улице и в школе каждый дразнит. Никто со мной не хочет играть и дружить. Из-за тебя!
Сынок! Я один раз оступилась. Но ты посмотри вокруг, что творят замужние, те, кто меня осуждают? Им ли наше пачкать? А ведь у них по трое, по пятеро ребятишек! Лишь то спасает, что мужиками как забором закрылись. А подними любой из них юбку, там
только наш козел не был. Остальные все отметились. Так что лучше? — спрашивала мать.
Их не обзывают. Если что случилось, наружу не вылезло как у тебя!
Его деревне было незавидным. Мало безотцовщина, так и уродливый, гнусный, подлый сплетник. От него шарахались как от прокаженного. И Митька рано стал выпивать.
Мать уговаривала, ругала, стыдила, возила по знахаркам, но ничего не помогло. Митька стал развязным грубым наглецом. Однажды напившись самогонки у себя же дома, избил мать так, что она лишь через неделю отдышалась.
Митенька, сынок родимый! Не пей! Итак голова твоя слабая. Ну, отобьешь мне все, помру, как сам жить станешь один? Ведь на ноги не встал. Трудно тебе будет. Кто накормит, постирает, приберет, хозяйство досмотрит? Дождись своего взросления! Потерпи меня. Покуда без меня не обойтись тебе! — уговаривала мать на коленях перед ним.
Чего воешь, беспутная? Сама во всем виновата! — огрызнулся зло. А через полгода его забрали в армию.
Мать заплакала на проводах. Он грубо оттолкнул ее и, не обронив ни одного доброго слова, сел в поезд, отвернулся от окна, чтобы не видеть на перроне одинокую мать, так рано поседевшую и постаревшую.
Он никогда не задумывался, с чего она увяла так рано?
Митька уже совсем было собрался написать ей письмо, когда получил весточку от тетки, жившей в деревне неподалеку. В ней она сообщила, что мать умерла: «Мы и не знали, что у нее всю жизнь сердце. говорила, никогда не жаловалась, а сами не догадывались. Теперь твой дом заколочен досками и ждет, когда воротишься. Да и то сказать, всего три месяца служить осталось. Но ты, окаянный, виноват! За все три года ни единого письма не прислал сестре! Я твой адрес нашла через военкомат. А твоя мать и вовсе неграмотной была! Ну да отольются тебе ее слезы, змей проклятый!».
Митька обложил тетку матом. Порвал письмо и в ближайшее увольнительное напился вдрызг. Попал на «губу», там подрался с сержантом. Его снова бросили на гауптвахту. Перед самой демобилизацией познакомился с Сонькой. Та оказалась покладистой, сговорчивой. И он, пообещав жениться, сдержал слово. Не потому что влюбился, просто ни одна другая не обратила на него внимания, не ответила взаимностью. А Митьке так хотелось утереть носы деревенскому люду.
Больше хвалиться было нечем. Ведь служил Митька во внутренних войсках. Его часть охраняла зоны особого режима. Митька никогда не был в карауле. Вся его служба прошла в овчарнике. Он кормил псов, чистил вольеры, но ни к тренировкам, ни к дрессировке служебных собак его не подпускали. Всех ребят уговаривали администрации зон остаться на сверхсрочную службу, поработать в зоне. Митьке никто такого не предлагал. А потому, демобилизовавшись, вернулся в деревню вместе с Софьей.
Жена, конечно, не красавица, но и не хуже других. Имела среднее образование, специальность получить не успела. Лишь год поработала почтальонкой и вышла замуж за Митьку. Свадьбу не справили. Отметили роспись в кругу немногочисленных родственников жены, а через месяц уехали в Митькину деревню.
Там их никто не ждал и не встречал. Некому было радоваться возвращению земляка. И молодая семья самостоятельно начала обживаться.
Софью взяли на почту. Она оказалась общительной, отзывчивой, душевной, и деревенский люд вскоре признал ее. Митька устроился подручным кузнеца. Поверил председатель колхоза, что армия перековала человека, сделав из него трудягу. С год он держался.
Но в день, когда Сонька родила дочь, напился до визга и не вышел на работу. Назавтра его вызвали в правление колхоза и поговорили круто. Предупредили, что в случае повтора выкинут из хозяйства вон.
Другой бы смолчал, прикинувшись раскаявшимся, но не Митька. Он не терпел моралей и угроз, а потому, едва уловив обидное, тут же понес такое, что председатель колхоза вмиг предложил выметаться навсегда
Хотя бы тут сдержался, понял, остановился, придержал язык… Нет, Митька никогда не знал тормозов и, вернувшись домой, снова напился, а вечером пошел к избе председателя колхоза поговорить с ним по- мужски, на кулаках. Но тот спустил с цепи собаку, чтобы вразумила непрошенного гостя. Той не стоило повторять дважды. Свалив Митьку у калитки, раздела догола, искусала и, обоссав с ног до головы уже протрезвевшего, вернулась во двор. Митька негодовал. И в этот же день поджег правление. Сунуться к председателю во двор побоялся: не захотел второй раз встречаться с собакой. На утро его забрала милиция, а через месяц получил пять лет по приговору суда. Так и не увидев дочь, отправился в зону под конвоем, в холодную глухую тайгу.
«Сонька! Ты ж смотри! Дождись меня! Не таскайся ни с кем! Иначе, когда вернусь, ноги из жопы повыдергиваю», — писал он жене.
Та прислала Митьке теплое белье, чтоб не замерз, домашнее сало и банку меда. Она не клялась в верности, ничего не обещала в письмах. Они становились все скупее и короче. В них она писала, что дочь уже начала ходить, учится говорить, растет смышленой, сообразительной. О себе ни слова, будто не прочла вопросов в его письмах. Изредка сообщала, что дом отремонтирован. Его даже кирпичом обложили, и теперь он хорошо смотрится. Изнутри оштукатурили. Потом сообщила, что завела корову и кур. Она ни на что не жаловалась, ни в чем не упрекала, но ни разу не написала, что скучает и ждет его.
Митьку это бесило больше всего.
«Неужели не любит? Не нужен я ей? Но ведь женился, как и обещал, хотя спокойно мог уехать. Вон другие так сделали! А эта не оценила! — злился мужик и, перечитывая письма жены, негодовал: — Будто вовсе чужая баба написала. Ну, хоть бы в самом конце рас- теплилась на «целую»…».
— Не ждет она тебя! На хрен ей такой дурак сдался? Поди, другого нашла! Их в деревне хватает! — подзуживали зэки барака, и Митька с кулаками бросался на них.
Пару раз его отшвырнули, а на третий вломили так, что на ноги встать не смог. Ноги и ребра поломали. Они хоть и срослись, но неправильно. При каждой перемене погоды давали знать о себе нестерпимой болью. Но зона — не лазарет: жалеть здесь не умели, и, скрутившегося в штопор мужика, сдергивал со шконки бугор барака, выбрасывал наружу, в строй, на работу на лесоповал.
Митька готов был зубами вцепиться в снег, чтобы остудить, успокоить боль. Но получал кулаком в ухо:
Как? Обезболил? Иль добавить? Кончай ломаться, вкалывай, падла! — подходил бригадир с пудовыми кулаками наготове.
Откуда такая срань свалилась на наши головы? Как додышала мерзость до зоны? Чего в деревне не урыли? — удивлялся бригадир и, подняв Митьку за шкурку, встряхивал, бросал к поваленному стволу дерева, приказывая: — Шкури, если не хочешь, чтоб с тебя шкуру сняли!
Митька понимал, силой не одолеет бригадира, и решил напакостить ему: засветил операм на чифире.
За это его пропустили через «конвейер», петушили всю ночь целой бригадой. Ни опера, ни охрана не отняли. Не услышали или не захотели вмешиваться. Митька орал на весь барак, а зэки хохотали. Потом его бросили возле параши, а утром погнали на работу.
Митька негодовал. Он думал, как отомстить всем одним махом.
«Поджечь? Но где взять бензин? Ведь к машинам не подступиться. Да и самому где канать? Заложить всех операм? Нет! Тогда и вовсе убьют! Но как самому дышать? Надо выждать удобный случай».
Ничего не смог придумать, а зэки не спускали с него глаз.
Его высмеивали на каждом шагу. Митька стал игрушкой в большом холодном бараке, где хмурые озлобленные зэки отрывались на том, кто хоть в чем-то провинился.
Баланда… Именно здесь дали ему презрительную кличку за то, что Митька был таким же вонючим и гнусным как то жидкое месиво, каким кормили в зоне мужиков.
Его презирали, и он ненавидел всех. Митька завидовал каждому жгуче: к ним приезжали на свиданья, к нему никогда; их ждали и любили хотя бы в письмах; им присылали фотографии, у него не было ни одной. Все скучали по своим семьям, детям, а Митька злился.
«Сонька! Почему не пишешь про себя? Иль скурвилась уже? Так знай, живой я! И срок уже за половину перевалил. Не приведись, схлестнешься с кем-нибудь, голову мигом оторву падлюке! Чего ты мне про Таньку отписываешь? Ну, растет сыкуха, куда ей деваться? А за себя зачем не сообщаешь? Иль кроме коровы, свиней и кур, никого больше нет в сердце твоем? Я ж всю насквозь тебя помню! И так порой в душе ломит, когда вижу во сне наше с тобой начало. Но ты не печалься. Вот ворочусь, враз сына заделаю! Чтоб весь в меня красавец родился! Смотри, храни имя наше! Не измарай семью! Я бедовый! Измены век не прощу!» — писал жене.
А в ответ читал: «А у нас в доме прибыль: корова Танюшки уже зубки выросли. Она уже не на горшок, за дом по нужде бегает. Задницу научилась лопушками вытирать. Уже не картавит. Ну, а колхоз добавил нам землицы. Теперь у нас огород двадцать соток. Самой повсюду не управиться. Так вот нынче мать со мной живет. Она уже на пенсию вышла. Помогает по хозяйству и с дитем. Так вот и живем в три души, не считая скотины. Да, забыла прописать. Попросила председателя колхоза крышу в доме починить. Наша прежняя вовсе прохудилась. Так он железом покрыл. Теперь аж глазам больно смотреть, как она на солнце светится! Приедешь, не узнаешь ничего…».
«Вот чертова баба!» — чуть не взвыл от письма Митька и порвал его в клочья.
В следующем не решился сказать, что мужики ока- лечили. Написал, будто деревом придавило, и теперь у него болят руки, ноги и все тело.
Но в ответ ни слова сочувствия, жалости и сострадания, лишь горькое написала: «Видать, теперь ты вовсе никудышним стал. Оно и до того работать не любил. Нынче и вовсе ждать помощи нечего. Видно, то слепое дерево совсем окалечило тебя, что даже про
кровинку свою не спросил. Запамятовал про отцовство свое. А ведь нам обидно…».
Митька чуть не плакал. Ну почему его никто вокруг не понимает?
Ведь вот три дня назад заставили его дневалить в бараке. Он так старался: полы подмел, парашу вынес, барак проветрил, — а бригадир, вернувшись с работы, сгреб в охапку, в злую горсть.
Кто тепло выпустил? Почему такой колотун? Где вода? Почему нет кипятка? Кто за тебя стол помоет?
И дождавшись, когда наполнится параша, сунул Митьку с головой. До утра не велел вылезать. Тот едва выбрался — к операм шмыгнул в приоткрытую дверь. Все, что знал, наизнанку вывернул. А вечером половину зэков барака загнали в шизо за карты, за чифир, за водку, за деньги. Митька испугался ночевать на своей шконке, и его перевели в другой барак.
Там его никто не знал. И работал он уже не на лесоповале, а на пилораме в зоне. К концу первого дня один из мужиков, словно нечаянно, так двинул бревном, что Митьке дышать нечем стало. Упал, а мужик хохочет:
Откинулся, «сука»! Туда ему дорога!
Продохнув, Баланда встал и чуть не затолкал того мужика под распил. Но его выдернули вовремя. А вот Митьку измолотили знатно. Сколько реек, досок, бруса поломали на нем зэки, счету не было.
Опера перевели его в другой барак. И там всего три дня прожил. На четвертый выбили кулаком так, что чуть не до ворот зоны летел и кувыркался. Тут уж не бригадир, бывший фронтовик поддел. А все из-за пустяка. Опять не сдержал Баланда свой язык. И когда бывший танкист стал рассказывать, как в войну форсировали Днепр, Митька встрял некстати:
Дурак ты, дядя! Не тех защищал, не в тех стрелял. Вот если б ты вместо немца нашего председателя колхоза изничтожил, я тебе сам лично бутылку самогонки поставил бы! Весь увешается побрякушками как елка игрушками и ходит, перья распустив. Ощипать его некому! Настоящие герои погибли. говно как наш живет! На хрен нам такие герои? Может я лучше б жил, если б не глупая победа, — осмелел Митька.
Он и не предполагал, что в этом бараке лишь он единственный, попавший сюда случайно, не был участником войны.
Ну и гад же ты, Баланда! Даже с этими не слышался! Куда теперь тебя денем, ума не приложу! — сокрушался начальник оперчасти.
Да! Гнусный тип! — поддержали его остальные.
Кого вы защищаете? Хлебореза! Жулика! Он пайки из столовой тыздит и за пазухой приносит. Своих харчит. Вот его и держат. Зато такие как я не доедают. Нашли героя! — выпалил Митька.
Слушай, а если ты один останешься, на кого стучать будешь? На себя? — не выдержал оперативник и добавил: — Счастье наше в том, что сидеть тебе осталось три месяца…
Эти последние недели Митька жил и работал в кочегарке. Здесь он получил документы и одежду, тут переоделся и, не читая последнее письмо, полученное из дома, сунул его в карман, бросился к машине, увозившей зэков на волю.
Вместе с Баландой вышел на свободу фронтовик, недавно выкинувший Митьку из барака.
Ну, вот и остались мы с глазу на глаз. Нет над нами начальника, оперов. Некому нас высветить! Скучно, Мить? Ох, и пропадлина ты! Редкая сволочь! Негодяй! И зачем такие рождаются? Будто всем на смех и назло! Из таких в войну предатели и полицаи получались, мародеры. Жаль, что чье-то семя уцелело! Ведь вот из-за такого гада и я в зоне оказался! Мы со своими ребятами в сквере должны были встретиться, отметить нашу Победу. Глядь, а навстречу, ни дать, ни взять, эсэсовец идет. Мы онемели! Откуда взялся? А он, падла, поднял руку и крикнул «Хайль!». Я к нему! Как врезал! Он через задницу перевернулся и на нас матом по-русски. А к нему уже четверо таких же! У них, сосунков, своя партия, где Гитлера чтут! У меня перед глазами потемнело. Сталинград вспомнил. Своих! Кто никогда не придет в сквер на нашу встречу. Все вспомнил… И дали мы им тогда за все! За свою и погибших боль. За предательство живых и мертвых! Нас не сумели растащить прохожие. Мы не в состоянии были объяснить. Вызвали милицию. Мы и ей заодно. Не увидели, не врубились. Конечно, перегнули с милицией. За то и получили. И за тех. Трое инвалидами остались. Жаль, что все же выжили, но если встречу хоть одного…
Снова в зону вернешься! Но уже без обратного адреса! — напомнил Митька, осклабившись.
Ничего! Подрастут и наши внуки! Врубят вам! Как мы! За все и всех!
А захотят они слушать зэка? — не унимался Баланда.
Его выкинули из машины на полпути до станции. Семнадцать верст он добирался пешком до железной дороги. Двое суток ехал в поезде, а когда вышел на знакомой станции, впервые почувствовал, как устал, как мало сил осталось для радости.
Он шел, не торопясь, проселочной нехитрою дорогой. Она петляла мимо садов и полей, через ручей и речку, мимо домов, спрятавшихся в сиреневых кустах.
Как горласто кричали во дворах петухи, словно здоровались по-мужичьи с заблудившимся в судьбе человеком.
Дома стояли такие похожие, что узнать среди них свой, было мудрено.
«Вот этот!» — сворачивает к ограде. Но нет, его двор был много меньше.
«Значит, тот!» — спешит к калитке и снова отступает. У него во дворе не было таких раскидистых яблонь
«Ну, конечно, вот он!» — бросился к дому со знакомым крыльцом, тихо открыл калитку.
На звук шагов из коридора выскочила девчушка рыжая, конопатая, щербатая, так похожая на подсолнух. Увидела Митьку, нахмурилась и спросила:
Ты, дядька, куда прешься? Иль не видишь, крыльцо помыто! Разуйся! Иль я бабушку позову! Скажи, чего тебе надо?
Ты — Танюха?
Татьяна Дмитриевна! — поправила строго.
Я твой папка! Вернулся я! Слышь, дура? Иль не признала? — расставил руки, чтоб обнять дочь.
Но та скользнула в коридор, захлопнула дверь перед самым носом, закинула ее на крючок и, плача, жаловалась:
Бабуль, а меня какой-то дядька во дворе дурой обозвал. Прогони его со двора!
У Митьки все внутри похолодело: «Не ждут, не рады ему…».
Входи, Митяй! Чего на крыльце стоишь? На дочку не обижайся. Не знала она тебя. А и Соня на работе, только вечером воротится. Ей уезжает в шесть утра, вертается после десяти вечера! — говорила теща, суетясь на кухне, готовя на стол.
Она поставила перед зятем миску борща, огурцы, картошку, капусту, сало и села напротив.
Это все? — удивился Митька неподдельно. — А приезд обмыть?
Это ты про самогонку?
Ну да! — оживился мужик.
Да что ты? Мы этого не имеем. Не держим даже капли. в доме! — усмехнулась, замахала руками.
Тебе она не нужна, а вот мне как? Иль мой приезд не радует, не праздник? Иль отметить его не стоит? Столько лет не виделись! — глянул на дочь, сидевшую на кухне набычившись. Она смотрела на Митьку исподлобья и ни в какую не захотела подойти к нему.
Обидела меня Софья! К приезду моему не подготовилась. Даже бутылку не припасла! — взялся за борщ неохотно.
Не гоним! Кому ею баловаться?
А и в зону писала как чужая! Ни одного «целую»! — не сдержал упрек.
Так это ж я тебе отписывала. Сонечка ни одного письма сама не писала. Ей некогда! И посылки я справляла. Она даже твои письма не читала. Недосуг.
У Митьки борщ в горле застрял комом:
Вот так? Это чем так занята, что на письмо время не сыскала? — побагровел с лица.
Она делом была занята. Не транжирила время попусту как иные. Поступила в институт. Теперь диплом защищать будет. Ветврач! Работает в колхозе на фермах. Хорошо получает. Ею все довольные. Не нахвалятся. За работу премии и подарки дают. Вон! Погляди, как дом отремонтировали! Была же развалюха! Нынче глаз не оторвать от красы! Соня даже за границей была! Посылали опыт перенять! И к ей приезжали с Германии, с Китая! Учились! Все понравилось. Культурные, обходительные люди! Даже руки ей целовали!
Чего? — подскочил Митька как ужаленный.
А у них так положено по этикету! — гордо выпятила губу теща.
Я ей по этому этикету так вломлю, мало не покажется! Ишь, лапы ей облизывают всякие кобели, пока я на зоне мучился!
Кто тебя туда впихнул? Твоя дурь! Что руки ей целовали, то не зазорно! В тюрьме сидеть срамно! Семью оставил в холоде и голоде, без гроша! Даже ребенку пеленки купить было не на что! Соня с роддома пришла, и куска хлеба нет! А ты после всего глотку дерешь? Грозить вздумал, гад шелудивый? Да я вмиг в обрат ворочу туда, откуда вышел! Говно! — встала из- за стола, вспотев.
Я тебя сюда не звал! Ты кто есть в моем доме? Тут я хозяин, не вы, вонючее племя! Вон все из избы! Чтоб духу не было! — схватил тещу за грудки и потащил к двери, отвешивая на ходу оплеухи, орал: — Суки всякие тут приморились! Меня, хозяина, лажать вздумали, мать вашу в сраку! Пшла вон, старая лярва! — вытолкал на крыльцо.
Следом за нею из дома выскочила девчонка. Обе со слезами бросились бегом в правление, а через десяток минут в дом вошел участковый:
Ты опять за свое? Или пяти лет тебе не хватило? Назад просишься? Сейчас отправлю. Только та зона покруче прежней будет!
Я здесь хозяин! И никто мне не указ! Выбросил чужую! Кто она, чтоб мозги сушила тут? Раскормилась, пригрелась на моей шее! — орал Митька.
На твоей шее? С каких пор? Она пенсию имеет! А ты что? Заткнись, хозяин! Не то укажу, где тебе мориться до гроба, коль пятака не хватило! Ты кто есть? Выблядок! Бездельник! Алкаш! Тебя на зоне запетушат до смерти! Эта бабка твою семью вытянула из погибели! Ее вся деревня уважает, хоть и приезжая. Мне бы такую тещу, а ты ее из дома! — вдавил в угол так, что Митьке дышать стало нечем.
Захлопнись, скотина! Я тебе не позволю пасть разевать ни на кого! Она твою сраную фамилию отчистила до блеска. Семья в почете живет, в уважении. Не то, что ты, подзаборный выкидыш! Рыпнешься еще — мигом в камеру влетишь! — пообещал участковый, бледнея.
В дом робко, боком вошла теща, следом Танюшка прошмыгнула:
Дядь Коля, а этот дяхон меня дурой обозвал! — пожаловалась девчонка.
Теперь затихнет! Никого не обидит, если на воле жить захочет как человек! А не допрет, найдем, куда определить его, чтоб дух избы не портил и никому не мешал бы жить! — отошел участковый от Митьки и сказал, обратившись к теще: — Если этот хмырь начнет звенеть, вы враз ко мне. Пока я его лишь предупредил. Коль не дойдет, пусть не обижается!
Митька все понял и смолчал впервые в жизни, но не смирился. И в тот же день, едва участковый вышел из его дома, написал на того пространную кляузу.
Чего уж только не насочинял. Обвинил во всех смертных грехах человека. В интимных связях с женой и то не постыдился заподозрить.
«Он грозит убить меня! А за что? Я никому вреда не причинил. Только вернулся из заключения, уже через час участковый сказал, что отправит в зону, где запетушат до смерти! С чего? Кому я перешел дорогу? Сидел тихо в своей избе! А этот ворвался и сразу с кулаками! Стал душить. Если не примете меры, не уберете с деревни преступника, обращусь за помощью в Москву», — пообещал областному правлению милиции.
Сложив кляузу, тут же пошел на почту и отправил, не дождавшись возвращения жены.
Еще до ее прихода он обдумал все, как будет держаться в семье до того момента, пока дойдет жалоба.
Митька отмерил неделю.
Софья вернулась домой раньше обычного. Она услышала от людей о возвращении мужа и приехала прямо с выгона, где делала прививки стаду.
Ну, наконец, дождался! А то тут меня уж с дому выпихивают! — встал навстречу жене, хотел обнять и обомлел, увидев руку, протянутую для приветствия. Она и не собиралась обниматься, целоваться с ним. Ты это что? — ошалел от неожиданности.
Софья смутилась на миг. Подошла к матери, дочке. Поцеловала обеих и спросила:
Ну, как вы? Устали? Что стряслось? А ничего! Мне на дверь указали, вроде я тут лишний! — встрял Митька.
Теща концами платка вытерла слезы. Улыбнулась дочке и ответила:
Все хорошо. Ничего не стряслось. Мы и не ругались. Не беспокойся…
Митька своим ушам не поверил. Этого он не ожидал.
Жена сразу повеселела, засыпала Митьку вопросами, рассказала, как жили они без него. Время незаметно подкралось к полуночи.
Софья слушала мужа, так и не заметив, что ни мать, ни дочь не подошли к ним. Не захотели слушать Митьку.
Утром она уехала на работу, когда Митька еще спал. Проснувшись, он поел то, что нашел на кухне. Ни дочь, ни теща не разговаривали с ним. Он целый день прослонялся без дела по дому. Все ждал, когда вернется с работы жена. Она приехала уже затемно. Усталая. И, отказавшись от ужина, свалилась в постель, тут же уснула.
«А как же я? Иль уже не нужен?» — растерялся мужик. Он пытался растормошить жену, но бесполезно.
Не обижайся на нее. Выматывается. Да и легко ли ей? Ведь нынче не то, что раньше! Вся ответственность на ней. Не приведись, падеж скота или болезнь какая в стаде появятся. Она за все в ответе! А скот на лугах. Время самое опасное! — нарушила молчание теща, пытаясь успокоить зятя.
Тот курил много и нервно. Женщина и приметила.
Решив саму себя пересилить, заговорила с ним: Тебе тоже скоро придется дело для себя подыскать. Без работы в деревне жить совестно.
Я столько вкалывал все эти пять лет, что вам и во сне не снилось! Нет бы посочувствовать, скорей хомут на шею! Впрягайся! Пока не сдохнешь! Без продыху! — кипел Митька.
Не говорю, что завтра! Конечно, отдохни! Но ить отдых кончится! Знамо дело, без работы сидеть не станешь! Вот я об чем!
А не вы ли Соньку надоумили в институт поступать? — спросил Баланда.
Сама она так надумала. Не хотела впустую время терять. И поступила сразу. В том году, когда тебя взяли! И меня вызвала подмочь. Так-то уж пять лет здесь живу. Танюшка с титешной на моих руках выходилась. А Соня работала и училась. Вовсе тяжко доставалось, но одюжила, не бросила учебу. Мне за нее нигде не совестно людям в глаза смотреть.
Одичала жена! От меня совсем отвыкла. Вона дрыхнет! Будто мужик ей и не нужен. Даже не глянула! Вот устроюсь я, заставлю Соньку дома сидеть! Нече ей, задрав хвост, по коровникам и выпасам носиться. Пусть второго родит! Сына! И выпестует сама!
Митя, голубчик! Не то время, чтоб детвой семью нагружать! Ты оглядись! На что тебе нищета и голь? Дай Таньку на ноги поднять! Куда еще рожать? Ты глянь на заработки и цены! Это ж жуть! Нынче игрушечная машинка стоит столько, сколько еще недавно стоила легковая машина настоящая! Все в десятки раз вздорожало, а зарплаты и пенсии — копеечные! Ты приди в себя сначала, а опосля решай.
Может оно и верно. Погляжу! — согласился Митька и завалился к жене под бок. Та и не проснулась. Отвернулась к мужу спиной. А утром, чуть свет, умчалась на работу.
Митька нашел подход к жене, не ругался с тещей. И лишь с дочерью никак не мог найти общий язык. Не признавала его Танька. Чуть он к ней, она из дома убегает. И возвращается вместе с матерью. Она ни о чем не спрашивала. Держалась всегда настороже.
Шли дни. Митька уже и сам успел забыть про отправленную кляузу. Как вдруг, внезапно, его вместе с тещей вызвали в правление.
В кабинете председателя полно людей. Тут все колхозное правление, участковый и еще трое незнакомых в милицейской форме.
Пришли! Присаживайтесь! — предложил председатель Митьке и теще.
Повернувшись к приезжим, сказал:
Софью сейчас привезут.
И верно, едва закрыл рот, в кабинет вошла Софья. Оглядела растерянно.
Садитесь! Тут ваш муж жалобу написал в область. Разобраться надо!
Жалобу? На кого? За что? — удивилась Софья.
Один из приехавших решил ознакомить всех с текстом и начал читать вслух.
С ума спятил! — ахнула теща.
Дураком как был, таким и остался! — не выдержал кто-то из членов правления.
Скулы участкового покрылись бурыми пятнами. Софья сидела белее снега.
Ну, вот и все! — прочел человек жалобу до конца.
Председатель колхоза курил, отвернувшись к окну. Сигарета в руках дрожала. Он первым нарушил молчание:
Знаете! Он только появился! Еще бездельничает! А уж людям мешает жить и работать! Гнать его отсюда нужно! Как он посмел ни за что опозорить людей?!
Нет! Просто взять и выгнать я не позволю! Пусть ответит за клевету перед законом! Я не дам марать свое имя всякому проходимцу! — кипел участковый.
Что скажете вы? — обратился к теще Митьки приехавший из области полковник милиции.
Женщина рассказала все, как было. Потом послушали Софью. Подняли и Митьку. Тот решил держаться благоразумно и добиться своего:
Вот участковый отпирается, а разве не грозил упечь в тюрьму до конца жизни? Иль не обзывал последними словами? Мы с тещей сами помирились. Без него! И живем мирно, тихо, душа в душу! Зачем было лезть?
Не уходите от темы! Вы обвиняете участкового в аморальном поведении, в интимных связях с вашей женой. У вас имеются подтверждения, свидетели, или вы сами их застали?
Я заподозрил, потому что он грозил, душил, обзывал. Что я мог подумать еще? С чего такая встреча?
Почему не с себя начали? За что опозорили свою семью, участкового? Разве ваша жена дала повод для подобных подозрений?
Я прошу вас, не называйте меня его женой. Сегодня подаю заявление на развод, — холодно сказала Софья.
Вот вам и доказательство! Ей нужна была причина. Она сыскалась! — нашелся Митька.
Пять лет назад, когда вас осудили, одно лишь заявление от нее стало бы первым и последним поводом. Без суда! Вы — мужчина! Останьтесь им хотя бы теперь! Не позорьтесь! — спокойно посоветовал Баланде полковник.
Оно и верно! Мне нечего переживать! Пусть все выметаются из моего дома! Развод нужен? Да я с радостью!
Одна поправка! Она для всех! — встал председатель колхоза и продолжил: — Дом, о котором идет речь, является собственностью колхоза, а не семьи. Потому что строился за наши средства! И не жильцы, а правление будет решать, кому в нем жить! Ни жилье, ни другие помещения мы не продавали и не давали право на приватизацию! У нашего хозяйства достаточно сил и средств, чтобы самим содержать в порядке жилой фонд! Но жить в нем будут только труженики! Наши! Кто работает, не покладая рук, а не кочует по тюрьмам, не дебоширит в семьях!
Во! Видите? И этот старый козел имеет виды на нее! Вон как заливается! Видать спелись, пока меня не было! — потерял контроль над собою Баланда.
Сами слышите! Ну, как такого терпеть? Нет! Не нужен он нам!
Пусть отваливает обратно!
Нет! Не прощу клеветы! — кипел участковый.
Успокойтесь. Эта грязь к вам не пристанет! Он наказан хуже и сильнее: его прогоняют люди, средь каких он жил с рожденья! — успокаивали участкового приехавшие из области.
Митька стоял возле своего дома, не решаясь войти. Он впервые испугался, что его и впрямь отправят обратно в зону. Этого Баланда боялся больше смерти.
Софья вскоре вынесла ему пару чемоданов, с какими сама приехала в этот дом. Они были забиты его тряпьем.
Женщина ничего не сказала. Ошпарила ненавидящим взглядом и, ни слова не обронив, ушла в дом, накрепко захлопнув за собою дверь.
И на хрен я привез тебя сюда, сучку подзаборную? Уж лучше б женился на своей колхозной бабе. Так хоть не остался бы без угла как собака, — пожалел Митька о своей женитьбе вслух.
Только склонился он к чемоданам, как услышал: Во, паразитка! Мужик ее с навозу выдернул, в люди вытащил, она его за это в благодарность из родной хаты выкинула! Ну и стерва! А еще институт заканчивает! Видать, чем грамотней, тем поганей баба! — Митька увидел одноглазую Акулину- недавнюю вдову конюха, спившуюся с горя после смерти мужа.
Ну, чего раскорячился, петушок ты наш ощипанный? Иль деваться некуда? Пошли ко мне. У тебя беда, у меня горе! Нам ли друг друга не понять? Другим, не тертым горем, чужой боли не разуметь. И только мы, несчастные, не потеряли веред людей сердца свово. Пошли, Митяй! В моей хате и тебе угол сыщется.
Баланде было не до выбора. Он не думал, что его выгонят из дома, и не подготовил пути для отступления, а потому послушным псом поплелся следом за бабой, шатавшейся из стороны в сторону, но упрямо идущей домой.
Едва вошли в избу, Акулина потребовала сипло: Ставь пузырь! Давай горе пропьем! Мое и твое одним махом!
Нету пузыря! И купить не на что! — подал голос
Митяй.
Да? А на кой хрен ты нужен здесь без пузыря? По другим делам ты не по адресу! Слышь? Вот если б с самогонкой, живи сколь хошь, а без нее не нужен! Нече околачиваться.
Может, дашь заночевать? Уже в город нынче не попасть, а завтра утром уйду на поезд. Уеду из деревни насовсем.
Куда поедешь, к кому? Горемыки нигде не нужны: хочь мужики иль бабы. Это точно знаю. Ночуй! Куда ж деваться тебе, родимый? Когда пожрать захочешь, вон там чугун с картохой стоит на печке. Нынче свиньям варила. Оттуда и возьми. Другого ничего нет! Не обессудь. Как помер мой мужик, ничего в доме не осталось. Понял иль нет?
Понял! — согласился Митька, зная по себе, что спорить с пьяной бесполезно.
Он помнил мужа Акулины, веселого, добродушного Данилу. Одна была у него беда: не было в семье детей. Но, несмотря на это с женою жили дружно, никогда не ругались. Данила не заглядывался на других баб.
«Вот же нашел человек жену по себе. Ну и что с того, что одноглазая? Зато мужика не паскудила ни перед кем!» — думал Митька, засыпая на лежанке стылой печки.
Акулина легла на койке в единственной комнатухе. Она долго ворочалась, вставала, искала бутылку самогонки, какую, ну точно помнила, спрятала еще вчера вечером. А вот куда? Наконец нашла! Приложилась, блаженно вздыхая, зачмокала прямо из горла и, казалось, уснула.
Митька долго думал, куда ему податься? И решил попроситься на работу куда-нибудь в сторожа, потому что им дают жилье. А без угла, без крыши над головой человеку жить невозможно. Засыпая, он уговаривал себя, что покуда молод, может устроить свою жизнь заново.
Он видел себя во сне в теплом тулупе, в валенках и шапке, с двустволкой на плече. Он охраняет самый большой во всем городе магазин. Рядом с ним две огромные овчарки, смотрят на Митяя, не мигая, готовые по первому слову разорвать кого угодно.
«Эх! Раньше б вы мне пригодились! В деревне! Уж там я вас науськал бы на всех: на председателя и участкового, На Соньку и тещу, и на эту дуру, что так и не признала отцом… А еще на Акулину, какая всего-то на ночь у себя оставила!» — видит, как открыла пасть овчарка и заблажила бабьим голосом: «Данила!».
Митька в ужасе подскочил, а голос не стихает:
Данила! — видит Акулину посреди комнаты. Растрепанная, в ночной рубашке, пьяная до омерзения, с безумно выпученными глазами она орала словно на погосте и звала: — Данила!
Митька попытался уложить, успокоить бабу. Стыдил, уговаривал, материл, но через несколько минут снова услышал жуткое, срывающееся на вой:
Данила-а-а!
Твою мать! — не выдержал мужик и, кляня все на свете, наскоро оделся, схватил чемоданы и выскочил из хаты под истошный вой.
Данила-а-а!
Уж лучше средь бродячих псов ночевать, чем с этой лярвой под одной крышей! Она любого в могилу загонит, — бежал человек из деревни без оглядки через ночь…
Утром, придя в город, решил поесть в столовой. И долго хвалил собственную сообразительность, что не отдал деньги, заработанные в зоне, домашним. Не истратил их попусту на подарки и гостинцы. Все до копейки сберег. «Ни на кого не потратился», — улыбался сам себе.
«Если б достал, в жопу себя расцеловал бы за смекалку!» — гладил собственную голову и грудь.
Он оставил чемоданы возле столика и пошел за чаем. Уж так захотелось ему после дурной ночи успокоить душу.
Митька взял чай, бутерброд с сыром, повернулся к столику за каким завтракал и… выронил все, что держал. Исчезли чемоданы! Их словно и не было у стола. Никто вокруг ничего не видел. Митька взвыл во весь голос, выскочил из столовой, увидел, как в конце улицы двое пацанов, согнувшись на бок от тяжести, уволакивают его чемоданы.
Баланда бросился следом за ними. Пацаны, приметив погоню, бросились наутек, ныряя в проулки, сквозные дворы. Вот нырнули в подвал — Митька кубарем за ними. Едва сунулся в дверь, получил в ухо. Он успел увидеть нахальную гнилозубую рожу подростка лет пятнадцати. Только хотел вмазать ему, получил с другой стороны.
Ворюги, туды вашу мать! На зэков наезжать? Да я вас всех загну в букву зю! — кинулся с кулаками на второго, спрятавшегося в темноте.
Тот послал его «в сраку, лидера» и, громко захохотав, побежал вглубь подвала, заманивая Митьку в ловушку. Тот не сообразил, кинулся следом и увидел кодлу пацанов. Они пили, курили. Их было много. Увидев чужого, оравой бросились на него. Смели, смяли, истерзали до бессознания.
Очнулся Митька на пустыре. Вокруг никого: ни пацанов, ни подвала. Из одежды — резинка от трусов. Больше ничего. Ни документов, ни денег, ни чемоданов. На теле ни одного живого места. Сплошной синяк.
Митька долго соображал, где он и что ему теперь делать?
«Во, влип! Уж лучше б пропил я эти деньги, чем достались они шпане», — чуть не плакал мужик от нового горя, свалившегося на него нежданно.
Кто знает, что пришло бы ему в голову, если б не услышал шаги неподалеку. Он привстал, увидел мужика, шагавшего через пустырь, окликнул. Тот подошел, все понял без слов. Его не удивили слезы и жалобы. Он слышал и покруче. Самого жизнь не пощадила. Это был Шнырь. Он и привел Баланду к бомжам.
Митька просил мужиков найти пацанов, обокравших его, чтобы вернуть хотя бы документы. Но пацаны жили сами по себе, не подчиняясь взрослым бомжам, и вернуть документы Баланде могли только за деньги.
Они «бабки» у меня сперли! Все, что на зоне получил. Пять лет пахал! Какой выкуп? Два чемодана вещей сперли!
Рассказал, как оказался на улице и услышал:
Не вернут даже за выкуп. И мы не станем требовать. Сволочь ты, Баланда! У тебя дите сиротой осталось. Как знать? Может, завтра вместе с теми, нашими пацанами, слиняет в бомжи и твоя… Пять лет ей? Ну и что? У них и меньше дышат. Вот такие ж как ты состряпали, а вырастить не смогли. Теперь стригут свой навар со всех. И ты других не лучше. Им плевать, что ты с зоны! Их родители повсюду. Где хошь, но не с ними. А потому получил, что посеял. И нас не дергай. Мы пацанве не указ. Попался, платись! Скажи повезло, что дышать оставили, и Шнырь тебя надыбал и приволок. Откинулся б без нас как падла! — вразумлял мужика Горилла, давний бомж, разучившийся жалеть и сочувствовать.
Митька, будь он посмелее, наложил бы на себя руки. Но его отчаяние еще не достигло предела, и Баланда не терял надежды, что судьба еще улыбнется ему.
Несколько раз он видел своих обидчиков в городе Они узнавали его, но ни разу не пытались сбежать. Наоборот, смотрели на него дерзко, вызывающе.
Однажды Баланда увидел, как Кольку-Чирия избивает на рынке толпа. Бабы и мужики готовы были разорвать его в клочья, втоптать в землю. Митька, стоя рядом, подбадривал:
Так его, сукиного выкидыша! Уройте живьем гада! — ликовал мужик, пока не получил по шее неведомо от кого.
Толпа пацанов врезалась в свалку. Быстро выхватила из-под ног и кулаков Чирия. Горожане теперь выясняли, кто кого за что ударил, нечаянно или нарочно. Пацаны тем временем уволокли Кольку в безопасное место и, вернувшись, хорошо почистили сумки и карманы горожан. Они даже внимания не обращали на Митьку. И лишь один, проходя мимо, сказал глухо:
Попадешься, потрох, живьем уроем за науськивания. Попомнишь этот денек, пидераст!
Митька хотел проучить, шагнул к пацану, тот, ухмыльнувшись, сунул руку в карман, достал лезвие.
Баланда вмиг остановился. Знал, молодые бомжи умеют не только грозить, а и действовать. К тому же он сам дал повод.
Сколько раз встречая Кольку-Чирия на базаре или в магазине, хотел прихватить за горло и выдавить свое, заставить вернуть. Но Чирий умел глянуть так, что руки Митьки невольно опускались в страхе. Он знал, где тусуется пацановская кодла, знал места, где она промышляла. Сколько раз возникала мысль заложить, высветить в милиции. Ведь Чирия искали. Это перестало быть секретом. А уж милиция выдавит из них все. Но… Горилла, словно считывая мысли, сказал как-то, будто ненароком, ни к кому не обращаясь, но глядя в глаза Митьке:
Пацанов менты шмонают. По всему городу дыбают. Видать, кучерявый навар сорвали. Вот и бесятся лягавые, накрыть не могут. Не приведись, кому-нибудь засветить их! Не то мальцы, это верняк, я сам тому пропадлине голову оторву голыми руками и урою на свалке как собаку. Но сначала дам пацанам поиграть с тем гадом: покажу, как надо расправляться с такими!
Я не собираюсь их закладывать. Но не допру, чего их защищаешь? Ведь вот меня они чуть в петлю не подвели. А за что? Я ничего плохого им не сделал!
Потому и дышишь средь нас! Коль обосрался б, давно бы замокрили. А колонули как любого! Ты других не лучше! Они не выбирают. Кто под руку попал, того и тряхнули! Ведь именно из-за таких как ты, все больше ребятни уходит в бомжи. А вина — на каждом! Секи про то и не прикипайся!
Но как смириться, если виновники всех несчастий живут совсем рядом, так близко и доступно…
Митька не раз караулил Кольку-Чирия возле строившегося дома, где жила его кодла. Баланда даже заходил в дом, видел забавы молодых бомжей, их разгул. И не решался довести задуманное до конца.
Чирий никогда и нигде не появлялся один. И Митька уже потерял надежду. Но однажды ему повезло. Он встретил Чирия в универмаге. Тот спер магнитолу из- под прилавка и поспешил к выходу. Но его успели поймать две продавщицы. Колька легко стряхнул их с себя, но подоспел мужик, и Чирий кинулся бежать, не глядя под ноги.
Он не заметил Баланду, поставившего подножку. Колька споткнулся, упал, выронил магнитолу. На него насела толпа. Кто-то вызвал милицию. Чирия взяли в наручники, увезли в машине. Митька стал обдумывать, как теперь ему дать знать милиции, что в задержании Чирия есть и его капля пота. Он искренне страдал оттого, что не может прийти туда открыто. А все потому, что войдя, уже не сможет жить спокойно. Да и какая жизнь? Не успеет закрыть за собою двери…
Он все же попытался подойти к милиции ночью, но приметил поблизости закадычных друзей Кольки. Они уже что-то замышляли. И Митька не без страданий, поспешил скрыться в темноте.
О том, что Чирий сбежал из милиции, Баланда услышал на другой день и заскрипел зубами от досады. А вернувшись на свалку, услышал и подробности. Бомжи хвалили Чирия. Они уважали его за дерзость, напористость и живучесть.
На всей свалке лишь Митька ненавидел Чирия… Один из всех бомжей, хотя и не он один влетел на свалку из-за Чирия. Но те смирились и простили. А он не мог…
Ни время, ни угрозы не глушили злую память. Митька никогда никому не умел прощать своих обид и жил надеждой на отмщение.
Порою, живя среди бомжей, он голодал. С ним никто не делился даже сухой коркой. Все потому, что сам Баланда никому ни разу не помог.
Он ненавидел не только Кольку-Чирия, а и Толика- Пузыря. Он был вторым и вместе с Колькой обокрал Баланду. Но Пузырь, в отличии от Чирия, вообще не замечал Митьку. И того трясло от откровенного пренебрежения к своей персоне. Он ловил все слухи и сплетни про пацанов и радовался до дрожи при каждом их проколе и провале. А тут… Надо ж. Своими глазами увидел, как Пузырь целовал Катьку. Ту самую, какую все бомжи города звали Дикой Кошкой.
Митька даже взвыл от радости. Он вмиг сообразил, что справиться с одной девчонкой, куда как проще, чем с целой кодлой пацанов. Но именно за нее он может потребовать выкуп — возврат все украденного у него почти два года назад.
…Баланда лежит в своей хижине, подтянув ноги к самому подбородку. Прочь воспоминанья. Надо заняться делом. Пора обдумать, как можно взять в клещи кодлу Чирия через Катьку? Надо выследить ее, а уж
тогда не вырваться Пузырю из его, Митькиных, рук. Он станет диктовать свои условия, и они будут жесткими.
Митька никому из бомжей не проговорился, что видел целующегося Толика и Катьку. Это никого не удивило б. Не сбило б с толку и более серьезное. Митька не подавал вида, что заинтересовался Дикой Кошкой. Эту он всегда видел на базарах и в магазине. Знал, где и с кем живет, слышал о ее отце и знал, как и все бомжи, кто убил Чикина. О том сказал Шнырь, но пацановская кодла о том не знала.
«Самому трехнуть Катьке про Томку? Дикая Кошка непременно приловит мокрушницу и размажет ее за отца! Нет, не сама, Чирий иль Пузырь устроят это! Вот тут и подловить их, предупредив Шныря! Но он скажет Томке, та — милиции. И кодлу застопорят одним махом. Всех накроют. Ну, а мне что от того выгорит? Поверят пи? Выдавят ли мое? Ведь даже если заметут шпану, на воле останется Катька. Сама угроза. Эта за своего отомстит! За отца — Томке, за Толика — мне! А может враз с нее начать? Но тогда накроет Чирий вместе с Пузырем. Как же состряпать, урыть всех разом?».
Митька никак не может уснуть. Надо что-то придумать. Но что? Ни одна светлая мысль не лезет в пустую голову. А время идет безжалостно быстро.
Утром Баланда встал раньше всех бомжей, когда плотный туман еще спал в кронах деревьев, а из хижин и лачуг доносились храп и глухое бормотание. Митька помчался в город. Он торопился осуществить задуманное. И вскоре постучал в двери Катькиного дома.
Дикая Кошка сама открыла ему и, глянув не без удивленья, спросила:
Тебе чего здесь надо?
Разговор есть. Очень серьезный. С глазу на
глаз…
Катька выглянула за калитку, позвала Баланду на скамейку перед домом.
Ты что? Здесь любой нас услышит!
Девчонка задумалась и позвала за дом, в заросли малинника, на маленькую полянку.
Слушай, Катька, я знаю, кто убил твоего отца, — сказал тихо.
Кто? — вспыхнули глаза зелеными огнями.
Скажу, если ты мне поможешь.
А в чем?
Заставь Пузыря вернуть то, что украл он у меня вместе с Чирием. И я тебе открою секрет.
Что у тебя украли?
Митька перечислил все.
Не знаю, вернут иль нет. Давно это было. Деньги, конечно, спустили. Барахло, какое сами износили, другое загнали. И только документы… Но даром они их не отдадут даже мне.
Разве даром? Я ж тебе имя назову! Но только документы — мало!
Хотя бы их взять, — задумалась Катька.
Нет! Этого мало!
Тогда иди в жопу! — вспыхнула девчонка и собралась уйти.
Дура! Ты снимешь навар с мокрушника! Еще какой жирный! И станешь дышать с кайфом! Свалишь с бомжей навсегда!
Навар с мокроты? Ты что? Крыша поехала? Ведь урыли моего пахана! Про какой навар ботаешь? — изумилась Катька.
Про обычный! Мокрушник отбашлять может. Причем кучеряво! Чтоб ты не засветила. На том разбежитесь. Кому — «бабки», другому — воля. Если Пузыря не сфалуешь, сама мне отвалишь от навара! Я не гордый! Все не прошу. Только часть от тех, какие стыздили у меня твои кенты! Только за ксивы не могу вякнуть имя. Это все равно, что на халяву.
Ну и падла! — трясло Катьку.
Не станешь же ты мокрить за пахана? Его едино не поднять этим. Да и глупо. А башли — это вещь! Сорвешь свое и просеришь память. На кой тебе мстить? Тряхни, чтоб самой тепло стало. другим грев подкинь, — предложил чистосердечно.
Завтра возникни, трехну, как с тобой поладим! — выскочила из зарослей и помчалась к дому без оглядки.
Баланда пошел в город. Он понял, Катька не постоит за ценой, чтобы узнать, кто убил отца?
«Уж я назначу цену!» — ликует Митька заранее, копаясь в мусорном контейнере. Он набил полные карманы объедками. Средь них даже куски жареной рыбы попались. Только хотел их сожрать, присел рядом, какой-то кот на голову сиганул, выхватил кусок рыбы прямо из руки и тут же убежал.
Ну, лярва! — осерчал Митька на кошачьего бомжа и увидел Шныря, выходившего из подъезда дома.
Баланда кинулся навстречу как к родному. Запричитал, загнусавил, что три дня не жравши мается. Тот, порывшись в карманах, достал червонец, отдал и попросил больше не караулить его возле дома.
Баланда пообещал ему это, но, глянув в спину уходящему, злорадно подумал: «Много б ты отдал за мое молчанье! А ить ежли назову завтра имя твоей полюбовницы, пацаны с нее не только башли, саму душу вытащат. Это как пить дать. Они ничего не оставляют. Уж коль берут, так все! Сам так говорил. Вот и отыграются… И на твоей шкуре. А то ишь! Мало ему бабы! Еще и полюбовницу имеет! Вот как тряхнут ее! Потом прижмут. И ты волком взвоешь! Допрет, каково мне пришлось. Посмотрю, кого защищать станешь?».
Баланда еле дотерпел до утра. И с рассветом помчался к Катьке. Стукнул калиткой, потом в окно. Девчонка вышла на крыльцо босиком. Видно, поторопился Митька, разбудил.
Ну, что решила? — забыл поздороваться с Дикой Кошкой.
Твои ксивы у меня! Другого нет. Только это!
Мало! — сделал вид, что обиделся, и собрался
уйти.
Сколько хочешь? — услышал в спину.
Митька подумал, потом выпалил:
Десять штук!
Не подавишься?
Добавишь еще пятак, когда уроешь!
С тебя пятака хватит! По горло! А коли жидко, отваливай!
Ладно. Тащи это! И хиляй за хазу! Вякну обещанное!
Получив документы и деньги, спрятал их за пазуху дрожащими руками: не верилось в собственное счастье. Как мучительно долго шел он к этому дню! Как
часто терял надежду вернуть свое. И все же получил, вырвал! Какое это счастье!
Он выборочно проверил купюры из пачки. Настоящие, не туфта. И, нагнувшись к самому уху девчонки, чтоб даже трава не услышала, прошептал имя. Катька побледнела. Эту бабу она знала… Митька рассказал все, что слышал о смерти Чикина.
Катька не уронила ни одной слезы. Лишь пальцы рук хрустели, да холодный пот лил по вискам.
Ну, вот и все! — поднялся Митька, давая знать, что к сказанному ничего не добавит. Катька молча ушла в дом.
«Вот дурак! А с чего это я собрался линять отсюда? Лучше подожду, чем все закончится? Коль замокрят Тамарку, сдерну с пацанов за молчанье. А коли навар снимут, стребую свою долю», — решил Митька и, вернувшись на свалку, спрятал деньги и документы в своей хижине так, что никто чужой не смог бы их найти.
Баланда твердо решил дождаться своего часа и, получив деньги дополнительно, свалить в глухую деревеньку, пригреться там под толстым боком молодящейся бездетной вдовы и жить, погоняя бабу, до ее и своей старости, не набивая мозолей на душе и на руках.
«Надо такую присмотреть, у какой и дом, и хозяйство, и сама пышным цветом цвели. Чтоб корова, свиньи и хозяйка одного размера были, а куры яйцами просирались. Чтоб дом был из кирпича с трех комнат, и колодец во дворе при палисаднике в цветах. И сад… Большой и ухоженный, как и дом, чтоб душу и сердце радовал, да и в живот с него можно было б натолкать всякого».
Митька даже обдумал, как появится в деревне.
Три дня носился Митька от кладбища к кладбищу. Ему не везло: то бабу хоронили, то старуху иль ребенка. Под конец пятого дня привезли мужика. В его костюм пятерых Митек можно было бы затолкать, и при том у каждого свое спальное место сыскалось бы.
«Тьфу, черт! Как не везет!» — досадовал человек, поминая покойника вместе с родственниками. Хотел уйти с кладбища, но во время приметил, как возле ограды остановился автобус. Всего трое родственников сопровождали гроб, а в нем ну прямо то, что надо. Митька чуть в пляс не пустился на радостях, но во время вспомнил, где находится. Ему так хотелось вытряхнуть дохлого старикана из нового темно-синего костюма и голубой рубахи, снять с него блескучие туфли и носки, надеть все это на себя, а покойнику отдать своим лохмотья. Ему, мертвому, какая разница, что на нем сгниет? Зато живому Митьке еще как бы пригодилось!
Баланда еле дождался, пока могилу забросают землей, и подошел к вдове, седенькой, подслеповатой бабке, какую держали под руки двое соседей.
Вещи мужа купить хотите? Ну что ж, забирайте! Мне они не нужны. Только вот собрать их надо все в кучу. Сколько запрошу? Договоримся, — назвала адрес.
На следующий день Митька пришел. Ему отдали все, что имел старик. Тут были плащи и пальто, куртки и костюмы, рубахи и свитеры. Одной обуви целый мешок. Митька разжалобил старуху, и та отдала ему все почти даром, за символическую сумму. Баланда не верил в собственное счастье!
«Кончилась непруха! Пришло везенье! Теперь задышу! Жаль, что раньше не додумался до такого. Давно бы все погосты и морги обшмонал. Там в натуру мог примериться, лег о бок с покойным и смотри, подойдет его одежа иль нет?» — переоделся сразу, едва затащил барахло в свою лачугу.
Принаряженного его не узнали вечером бомжи у костров. Удивились сообразительности Баланды. Хва
А от чего умер тот дед?
Хрен его знает. Я не спрашивал. Да и какое дело до того? — отмахнулся Митька.
А вдруг заразный?
Все вместе с ним откинулось! К живым умершее не прилипнет!
Во, пофартило мудаку! Нынче уж не таким заморышем смотрится! Женить его можно! — смеялся Горилла.
У него жена имеется!
Что с того? Этих баб хоть сотню имей, едино мало будет. Вон у Шныря тоже жена! И любовница имелась. Не стало — десяток новых заведет! Потому что мужик до гроба в своем звании дышать обязан! — смеялся Горилла.
А что? Томка умерла? — удивился Митька.
Помогли ей! Зажилась, видать. Кому-то это не по кайфу пришлось.
Митька поторопился покинуть мужиков и побежал в город.
К дому Катьки он домчался за десяток минут. Заколотился в окно суматошно, требовательно.
Выдь сюда! — потребовал настырно, едва завидев девчонку, выглянувшую из-за занавески.
Чего тебе? — вышла на крыльцо.
Гони положняк за Томку! Урыла! А кто навел? Не то ментам вякну…
Сколько хочешь?
Не торгуясь, десять штук!
Приди завтра. Сегодня столько нет.
Ждать не буду! Теперь выкладывай! — потребовал настойчиво.
Подожди немного! Я сейчас! — нырнула в дом. Через несколько минут вышла вместе с Толиком- Пузырем. Митька не удивился.
Похиляли со мной! Я за нее отдам. Она вернет мне долг, — повел Митьку за дома окольными тропинками, известными только шпане.
Куда ведешь? — спохватился Митька.
Здесь путь короче. Уже близко. Чего ссышь? Получишь «бабки» и отваливай! — хмуро ответил Пузырь.
И впрямь, вскоре Баланда увидел тот самый недостроенный дом, где приютилась кодла Кольки-Чирия. Пузырь легко перескочил заполненную водой траншею. За ним Митька. Сбитый на лету сильным ударом по сонной артерии, он даже не увидел руку, не почувствовал боль. Ему попросту нечем стало дышать. Его сшиб с полета пацан. А ведь до берега как до мечты было так близко…
Баланда рухнул в размытую дождями, глубоченную траншею. Сразу с головой. Негромкий всплеск не испугал даже соловьев, заливавшихся в высокой березе возле дома. Через пару минут на поверхность вместе с пузырями всплыла справка, что Митька действительно отбывал срок в зоне, а теперь вот вышел на волю… Больше ничто не выдало случившегося. У каждой ночи есть свой счет к живым…
Егор не удивился, узнав, что Баланда так и не вернулся из города.
Кто-то пошел ковыряться в Митькиной хижине, Горилла даже с места не сдвинулся.
Не трожьте! Подпалите лачугу и все на том! Иначе и этот за собой утянет кого-нибудь! — крикнул бомжам. Но те нашли деньги и, радуясь, вернулись к костру.
Пропить их! На помин души!
А может он живой? — засомневался Цыган.
Давно б нарисовался! — буркнул Горилла.
Может у бабы? Вона как прибарахлился напоследок!
Бабы нынче глядят, что под тряпьем? Барахла они всякого навиделись! Смотайтесь за водярой! Да
жратвы путевой наберите! — посоветовал Горилла, знавший, что Баланда больше никогда не вернется на свалку.
Егор уже виделся с Толиком-Пузырем. Тот рассказал Горилле все, как было:
Ментами грозил и высветил бы нас. Это верняк. Даже получи он свои башли, не успокоился бы. Решил бы тянуть и дальше. С нас и с Катьки. Не захотел остановиться, дурак. А ведь мы и не думали его мокрить. Да и Томку не размазывали. Сам знаешь. Дикое совпадение. Говорят, такое раз в сто лет случается. Упала кадушка с фикусом ей на голову. С четвертого этажа. Она там всегда стояла. С чего звезданулась, кто знает? Мы к ней не прикипались. Если бы сами размазали, то не так, а чтобы знала за что урываем! Но ментам не докажешь. Этим только подкинь повод нас за жопу взять! — вздохнул тяжко.
Все равно, не случись того, Катька пришила бы ее! — отмахнулся Горилла.
Поначалу, когда убили его! Тут же время прошло. Поостыла. Злость обида сменила, потому «бабки» хотела снять. И все на том. А нам не больше надо. Но Баланда не поверил бы, потому его убрал. Теперь уж все! Никому не вякнет про нас.
Горилла глянул на пацана пронзительно. Тот не отвел взгляд. Егор знал парнишку давно.
Он тогда только вернулся из заключения. Как жив остался, сам не раз диву давался. Ведь срок отбывал на Колыме немалый: пятнадцать лет… Каждый день на грани смерти был. И все не верил, что выйдет на волю. Но дожил, дотянул…
Горилла подвинулся ближе к костру, к теплу. Выдохнул тяжелый ком. Вот и теперь остался один. Бомжи побежали в город за жратвой и выпивоном. Хороший повод! Кто от него откажется? Теперь с полными карманами и животами вернутся. Не часто вот так обламывается нажраться на халяву, поминая чью-то душу. Они и не знают, как слинял на тот свет Митька. Да и никому это не нужно.
Егор знал, но поминать Баланду не хотел. Не уважал мужика. А желать доброе тому, кого презирал, не
умел. Но и не хаял. Нет Митьки и разговор о нем закончен.
Несколько стариков вылезли из лачуг. Им не спится. Идти в город сил нет, вот и ждут, когда принесут бомжи поминальное прямо сюда на свалку. Может и их скоро вспомнят у костра…
Егор, глядя на них, думает, что вот и он через несколько лет станет таким же бессильным и беспомощным. В каждом дне будет умолять судьбу забрать его поскорее из жизни. Впрочем, это тоже уже было. На Колыме…
Туда Егор влетел как махровый вор. Попались они на ювелирном. Вот и получили на всю катушку. Гориллу судья пощадил. Первой была судимость. Потому не приговорил «к вышке». Другие ее не минули. Их он жалел. Каждого. Поначалу. А в зоне завидовал, что отмучились легко и быстро.
К ворам Егор попал по дикому случаю. Повез продавать свиней. В три дня управился, заскочил в пивбар на радостях: хотел горло промочить. Взял пару кружек пива. К нему мужики подвалили. Угостили воблой. Он и рассказал им, зачем появился в городе. Мужики предложили обмыть удачу. Хлопали по плечу, называли своим — он и развесил уши. На третьем стакане вырубился и упал под стойку. Лишь ночью пришел в себя уже возле пивбара без денег, без куртки и шапки, без часов и ботинок.
«Что делать? — гудела голова с похмелья или от шока. — Куда деваться? Домой? Боже упаси. Со свету сживут. Засудят за свиней. Обсерут по макушку всей деревней! И первая — теща на мне оторвется. Враз назовет алкашом, живодером! И жене зудеть станет, чтобы бросала меня непутевого. Пока еще не состарилась, сумеет жизнь начать заново».
Ей, стерве, невдомек, что Егорке и так не миновать горя: не избежать тюрьмы. А станут ли его ждать? Вряд ли! Он всегда отличался несносным характером. Первым драчуном в деревне слыл. А все от того, что в семье всего два с половиной мужика имелось: он, отец и восьмидесятилетний дед, какой или кашлял, или пердел. Случалось, то и другое вместе получалось.
Тогда со всех углов смех слышался. Бабье! Их в доме аж восемь имелось — мать и сестры! Всем помоги, каждую защити! Не только глоткой, но и кулаками. Зато в праздники один за всех за столом управлялся. Чтоб унять буйную натуру, решили его женить пораньше, чтоб остепенился, серьезным стал. Ну и привели Настасью в невестки.
Любил ли он ее? Егор и сам не знал. Она боялась парня крепкого, напористого, горластого. Может потому не подарила сына, что не хотела произвести на свет его повторение, родила сразу двух дочек. Егор от злости целых пол года к ее постели не подходил. А через год стал свой дом строить. Жена уговорила пожить пока у тещи, мол, там просторней. Да и мать внучек приглядит. Согласился. Перешел в животноводы, и на тебе…
А ведь как мечтал покрыть крышу дома железом. Теперь и на солому не осталось.
«Дом, конечно, можно продать, чтобы часть денег вернуть за свиней. Но как такое сказать? Жена враз теще пожалится, а та — всему свету. Отец и копейкой не поможет: семеро девок. Скажет, мол, твою глотку не заткнуть. Как просрал, так и выкручивайся сам! Вся деревня осмеет. Помочь никого не сыщется».
Не зная как его угораздило, оказался на мосту большом и пустынном.
Глянул, а там далеко внизу — река… Никто не узнает и не сыщет. Да и кто искать будет? Кому нужен? За три года жизни ни одного доброго слова от жены не слышал. Сыщи она хоть одну теплину в сердце, может и не было б той холодной Колымы. Но не нашла. Верно, не стоил ее любви. только она, Настя! Теща еще хуже. Самое ласковое слово для Егора, какое выкопала у себя в первый же день, так это змей! И никогда не называла по имени.
Егор взялся за перила, вскочил на них.
Чего раздумывать? Уже все познал и увидел в этой жизни! Она не стоит того, чтоб за нее держаться! — отпустил руки, почувствовал непереносимую боль в виске. Увидел непроглядную ночь и провалился в бессознание как в бездонную яму.
Его во время приметили фартовые. Они шли в кабак обмыть свою удачу. А тут мужик собрался замокриться сам, добровольно, видать, достала его жизнь. Подскочили, Тот слов не слышит, не видит никого. Сшибли кулаком и унесли под мост, успев украсть у самой смерти из-под носа.
Фартовые долго смеялись, узнав о причине, из-за какой Егор вздумал расстаться с жизнью. Тот тоже не верил, что остался в живых, и пил с ворами, не понимая, что в его судьбе ничего не перепадало на халяву. Его даже не уговаривали. Сказали, что помогут вернуть украденные деньги еще и с приварком, на какой он спокойно достроит дом. И объяснили коротко, куда идут.
На стрему тебя берем! Коль кто появится, дай
знать!
Егор ждал недолго. Как только к магазину подъехала милицейская оперативка, примчавшая на сработавшую сигнализацию, и из нее выскочили трое сотрудников, мужик не стал никого предупреждать. Времени не хватило. Всех троих взял на себя и дубасил дубовыми кулачищами как в своей деревне без разбору, направо и налево, чтоб никому обидно не было.
Двоих вырубил, а один в машину сиганул, успел по рации попросить подмогу. Она прибыла мигом. Егор не успел отдышаться. Его сшибли с ног, нацепили наручники и вместе с ворами затолкали в кузов.
Козел! Тундра! Падла! — костерили его фартовые. И уже в камере объяснили, что надо было сначала их предупредить. Но не вернуть случившегося. И после суда повезли Егора в зарешеченном вагоне далеко-далеко, к самому морю, в порт Ванино, а оттуда пароходом до Магадана.
Егор в пути часто вспоминал судебный процесс. Туда приехало много людей из деревни. Была и Настя. Обеих дочек привезла. Все слушала, плакала. Себя или его жалела? Теща сидела, поджав губы. Глаза как две пули. Без приговора с ним расправилась бы, дай ей волю. Только и говорила Насте:
Не реви! Это счастье, что от него избавишься! Мало фулюган, теперь вором стал! Не нужен такой мужик тебе, ирод, супостат, сущий черт! Чтоб он сдох в энтой тюрьме, козел блохатый!
Его еще не отправили по этапу, когда узнал, что жена взяла развод и ждать его не собирается. Он и так понял. Ведь даже проститься не подошла. Вся деревня его жалела, все ему простила. Но то чужие люди. Они помнили не только злое, а в доброе Егорки, потому просили суд пощадить деревенскую темноту и наивность, дать возможность Егору вернуться в деревню живым. А уж там он выровняется и выправится…
Но это были чужие люди. Они не разучились помнить, жалеть, сочувствовать. В своей семье такое не умели никогда.
Может от того, отправляясь на Колыму, знал, что никогда не долетят к нему с теплыми ветрами письма с родной стороны. И самому писать уже некому.
Обе дочки едва на ноги стали вставать и, не успев назвать Егора отцом, расстались с ним. Покуда вырастут, нужен ли им будет?
Егор работал на растворном узле. Где-то, недалеко от зоны строили зэки поселок. Для кого — сами не знали. Но с раннего утра до ночи не разгибая спин, старались и спешили.
Егор, несмотря на то, что попал в зону по воровской статье, в фартовый барак не приняли. Выслушал его «бугор» внимательно и, презрительно оглядев, сказал:
Ты кто есть? Деревня! Здесь воры канают! А ты — шпана! Даже этого не стоишь. И те, кто в дело тебя взяли, тоже мудаки! С налету, с ходу только кур топчут петухи! От того им шустро башки рвут. Настоящие фартовые в свои «малины» не хватают не обкатанных, не берут в дела! Туфтовые они, коль пошли на такое! А ты — падла! Подставил их! Не вякнул вовремя и засыпал всех! Тебе первому надо яйца через уши вырвать! Говно — не мужик! Засыпался по дури. И к нам, к честным ворам, не клейся! Ничего общего меж нами нет. Мелкота и дешевка не дышит в фарте! Мы держим лишь проверенных огнем и стужей, делами и ходками. А ты чем? Лопух! Хиляй к работягам, там приморись! Здесь не возникай! Забудь пороги! — повернулся спиной к Егору и забыл о нем.
Работяги враз его признали, но не все. Указали на верхнюю шконку. А утром бригадир определил Егора на растворный узел. Другие там не справлялись, быстро выбивались из сил, выдыхались, не выполняли нормы. Егора впрягли сразу.
Не выполнишь норму — не получишь хавать. К тому ж от мужиков схлопочешь. Вломят за всякий простой! У нас с этим круто! — предупредил бригадир, окинув громадного Егора взглядом, и добавил: — Коль потянешь, все получишь! И главное — жратву! Тебя в свой мужичий общак примем! Не пропадешь!
Егор не боялся мужиков барака. В своей деревне и не таким вламывал по хребту так, что на ходули вскочить долго не могли. Но из упрямства хотел доказать, что не пальцем делан. И все десять часов закидывал в бетономешалку цемент и песок, не разгибая спину. Рубашка от пота насквозь промокла — человек не обращал внимания. Ладони в кровь содрал. Все лицо в цементной корке как в маске. Дышать нечем. Слезятся глаза, трескаются губы, но… Одна за другой уходят машины с раствором. На их место подходят порожние.
Давай шевелись, падла! — кричат водители нетерпеливо.
Давно потерян счет груженых машин. До того ли? Вон какой хвост из порожних вытянулся. С Егором двое мужиков. Они мешки с цементом носят. Бегом. И тоже без отдыха и перекура.
В конце дня, когда лопата стала выпадать из рук, пошел воды хлебнуть. Увидел, что последняя машина стала на погрузку. От радости чуть не заплакал. Плечи сводила боль. Эта последняя машина далась особо трудно. Едва она отошла, Егор повалился на мешки с цементом, радуясь, что на сегодня все закончено.
Он после ужина сразу забрался на шконку, пропустив мимо ушей, что нынче бригада выполнила двойную норму.
Ночью Егора стал душить кашель. Цементная пыль, осевшая в бронхах, выходила черными сгустками. Сосед на нижних нарах, потеряв терпение, заорал: Да заткнись ты, козел! Расперхался на весь свет! Никому спать не даешь, мать твою! Еще пасть отворишь — заткну тыквой в парашу!
Горилла молча слез со шконки в чем был, сгробастал мужика в горсть, понес к параше и, куная его головой в адскую вонь, приговаривал:
Говно в говне не дохнет! Хавай, паскуда, полной пастью. А еще раз отворишь ее, и вовсе утоплю в дерьме!
Никто не вступился за мужика. Увидели зэки, что не надо злить Егора. Не стоит грозить, обзывать. Этот за себя постоять сумеет.
Весь следующий день человек работал, сцепив зубы. На крики водителей не обращал внимания. Он понял из коротких разговоров, что через растворный узел прошли многие. А вот справились и выдержали далеко не все.
Через три недели Егор почувствовал, что сдают легкие. Он откашливался уже не цементными, а кровавыми сгустками. Заметно стали сдавать силы. С ночи до утра он не успевал отдохнуть, восстановиться. Но бригадир упорно не хотел этого замечать. Спохватились, лишь когда у человека пошла кровь через горло.
Шабаш! Нажрался до самой жопы! Менять надо! Не то сдохнет! — обронил кто-то из подсобников, сжалившись над Егором. И того уже на следующий день положили в больницу.
Ты не бухти, не злись на нас! Но кто-то должен и на растворе пахать. Там уже десятка три мужиков чуть не откинулись. Цемент их чуть не сожрал. Ну, да нынче с нами станешь вкалывать, на воздухе! Каменщикам будешь носить кирпичи и раствор! — утешил бригадир Егора.
Но начальство зоны распорядилось иначе: определило мужика в подсобное хозяйство. Узнали, что тот из деревни и отправили к свиньям, повесив дополнительно заботу о нескольких старых клячах, доживавших свой век не на конюшне, а в старом бараке, какой лишь из лени иль из жадности не снесли. Вместо шконок стойла смастерил Егор. Кормушки сам сделал и, распределив лошадей, подумал невесело: «Я хоть за вину свою тут мучаюсь. А эти за что тянут бессрочную ходку? Ни лугов, ни полей не видят. Где им пастись на этой вечной мерзлоте? Чем кормить их стану?».
Но овес для кляч привозили исправно. И те отрабатывали его с лихвой: возили из реки воду. Случалось, на них привозили продукты из поселков, дрова и уголь для зоны. Все на клячах доставлялось, даже почта от них зависела.
Егор теперь не задыхался от цемента, но времени вовсе перестало хватать. Едва управился со свиньями, скорее беги на конюшню. Оттуда рысью опять к свиньям. Он вставал раньше всех и ложился, когда другие давно спали.
Над его головой не стоял бригадир, но хуже десятка бугров подстегивало другое: он всегда был на виду у администрации зоны. Каждый его шаг контролировался неусыпно.
В бараке ему завидовали иные мужики, мол, всегда в тепле работаешь, при харчах и без мозолей.
Егор стискивал зубы, чтобы не сорваться на брань. Ведь у всех были выходные дни, праздники, свободное время. Он этого не знал никогда. Его могли сорвать со шконки в любую минуту, даже среди ночи.
Почему именно его взяли в подсобное хозяйство, не знал никто, даже сам Егор. Мужиков из деревень в бараке хватало. Разве только что они были помельче и постарше Гориллы. Но как бы то ни было, приходилось ему там куда как труднее, чем многим работягам.
Случилось по весне — провалилась под лед подслеповатая старая кобыла, а воду для бани нужно было навозить. Другой бы плюнул, мол, гори она — синим пламенем эта кляча! Егор так не умел и, раздевшись догола, собрав тем самым на берегу кучу любопытных поселковых бабенок, нырнул в воду под кобылу и на своей спине вытащил клячу из реки.
Вот это мужик! Мне б такого в избу! Он же, черт лохматый, за медведя работать сможет. К кобыле сердце поимел. Не дал загинуть! — восторгалась громко одна из баб.
Да он и в постели согреет! Глянь, какой сокол! Ровно с царского червонца взятый! Все при нем! — бесстыдно разглядывали одевавшегося на берегу Егорку и хвалили на все лады так, что у того дух перехватило.
за душу! Всяких навал, сам мужик! Ну этот — чисто горилла! Весь в волосьях потонул. Гля, какой шерстяной! — удивлялся сельский дедок, оглядев Егора.
Так и прозвали его с того дня Гориллой. Зацепилось в памяти охраны поганое сравнение. От них пошла кликуха в барак, загуляла по зоне. И вскоре сам Егор отзывался на нее лучше, чем на имя.
Лишь поначалу обиделся человек на злоязычного старикана, обозвавшего его. Но не успел открыть рот, чтобы сказать ему, как тот выглядит, тут же баба насмелилась, перешла реку по тонкому льду и, подойдя к Егору, сказала тихо:
Ты, родимый, не обижайся на нас, заскорузлых. Не серчай! Ить дедок с зависти тебя обгавкал. Он завсегда паскудным был. Да только куда ему до тебя? Ты ж глянь, какой из себя красавец! С тобой нигде не совестно. Хоть в работе — удалец, и в гульбе — молодец! Когда твое лихо кончится, не погребуй, заскочи ко мне на огонек. Одни мы маемся! Рады тебе будем. А мужик где? — осмелел Егор. Мужика нету. Сбег он от нас! К другой. Та помоложе и покрасивей. К тому ж богатая. Мы простые! Заходи, коль сердце ляжет! Может и нам поможешь в доме? Коли нет, и то ладно! Да храни тебя Бог! — поклонилась Егору и, указав, где живет, ушла на другой берег.
Охрана рот открыла от удивления: Надо ж, как везет Горилле!
Тот может и забыл бы о приглашении бабы, но вскоре пришлось ему ехать в село за почтой. Пока ее отсортировывали, складывали и увязывали, решил заглянуть к Любаше. Та вмиг узнала, в дом позвала: Я на минуту, — извинялся Егор. Обогрейся да поешь. Успеешь, покуда на почте управятся.
Горилла вошел в дом, огляделся. Враз приметил, что мужика в доме нет давно. А и тот, какой имелся, никчемным и безруким жил. Либо ленился, либо пил без просыпу.
Не осуди! Сиротски живем! Бабьи руки не все могут. Кое-как скрипим. Но вот коли завалится изба,
едино, дочку жаль станет. Эта хата старая, считай, ровесница Колымской трассы. Первые свободные поселенцы ее поставили. С тех пор сколько лет прошло.
Люба! Я невольник, до свободы не знаю доживу ли? Как могу обещать тебе? Ведь и теперь свободной минуты не имею. А выйду — домой ворочусь. Хоть никто там не ждет меня, никому не нужен. Но ведь две дочки растут. Им меня, пусть и непутевого, чужой не заменит, — рассказал бабе, за что попал на Колыму.
Бедолага! И как же ты стерпел? — пожалела баба Егора и добавила: — Я ж что сказать тебе хочу! Мужики из зоны выйдя на волю, частенько остаются у нас навсегда. Хотя поначалу все собираются домой вернуться. Коли вздумаешь к своим ехать — в добрый путь! А если не сладится — милости просим. Без угла не останешься…
В тот день он ехал в зону, задумавшись: «И с чего эта баба, впервые увидев, не зная меня вовсе, сама на шею норовит сигануть? Видать, крученая, озорная. Нет бы пригляделась поначалу, сразу в дом завела, совсем не зная. Нет, не стоит к ней заглядывать. Хотя, а что? Не убудет с меня! Мужик все ж. Она сама набивается! Видно, давно одна, некому стало согреть. Разбежались мужики из поселка. Вот и кукуют бабы поодиночке. А зимы тут лютые. Пока похожу, пригляжусь к ней, — думал Егор и тут же себя обрывал: — Засветись у нее, дурак, всему свету на смех. Чужую семью кормить будешь, а свои дети бедствовать станут».
Эй, Горилла! Тебя в спецчасть зовут! Пыли шустрее! — заглянул охранник в конюшню.
Егор тут же забыл о Любе, недавнем визите к ней, и помчался в спецчасть, не понимая, зачем он понадобился.
С сегодняшнего дня изменен режим вашего содержания и отныне вы расконвоированы, — объявили ему.
«С чего бы такое?» — подумал Егор.
А еще через месяц получил письмо из дома от старшей сестры. Горилла никак не ожидал его и, услышав свою фамилию, ушам не поверил: «Мне письмо? От кого? Кому я нужен?». Выхватил конверт и стал читать.
Алена сообщила, что бывшая жена Егора уже замужем за другим. Тещу новый зять уже отправил в стардом, а дочки через год пойдут в школу. О Егоре они знают все и не хотят его видеть. Жена настропалила. Потому девчонки говорят, что не хотят иметь отца- вора. Ну, да это пока она малы, ничего не понимают. А вот недавно к ним приехал какой-то человек хорошо одетый, на дорогой машине. Он все спрашивал о Егоре, узнавал адрес, говорил, будто знаком с тобой и хочет помочь тебе с твоим делом разобраться. «Говорит, что ты слишком много получил за малую вину. Я сказала ему, что платить ему мы не сможем: сами кое-как перебиваемся с хлеба на картошку. Он ничего не ответил и вскоре уехал. А по селу слух пошел, что тебя неправильно засудили. И председатель колхоза сказал, что воры, какие украли у тебя свинячьи деньги, нашлись. Их судить скоро будут, а тебе должно выйти облегченье. Уж и не знаю, как там получится, только дал бы Бог, чтоб быстрее вышел из зоны. В деревне среди своих не пропадешь…».
Кто приезжал в деревню и говорил с сестрой, Егор так и не узнал. Здесь, в зоне, он лишь поначалу считал дни, недели, месяцы, годы, а потом перестал. Махнул на все рукой, решив, что никто не продержит его здесь и одного лишнего дня. Никому он здесь не нужен, а все потому, что даже на Колыме держать зэков стало невыгодно. Каждый день их содержания обходился в круглую копейку, а платить ее никто не хотел. Да и то сказать правду, все продукты и топливо, одежду зэкам и стройматериалы завозили с материка. Почти полностью выстроили заключенные поселок, да только обживать его никто не захотел, не поехали люди в гиблое холодное место. И строительство замерло. Зэки остались без дела.
А тут еще слухи поползли всякие, что все зоны, какие рядом были, закрылись. Заключенных отправляют в другие колонии и зоны: одних — на Сахалин, других — в Заполярье. Те, кого на Чукотку перебрасывают, идут этапом, пешком тысячи километров, через снега и мари. Тех, кто идти сам не может, стреляют на месте, чтоб в пути не маяться. И вокруг этой зоны скоро ничего не останется. Лишь колымская трасса и волки…
Чем мучить нас, отпустили бы по домам. Вон уж и жратва совсем скудной стала. В баланде ни одной картохи за целый месяц не поймал. В животе как в барабане воет, — жаловались зэки.
Теперь, оставшись без работы, они подолгу лежали на шконках, зная, что все не бесконечно. И только Егор не сидел без дела. Ему некогда было размышлять, что будет завтра. А оно грянуло внезапной новостью. И за две недели, не говоря о причинах, перевезли заключенных в Якутию, ближе к городу, к нормальному снабжению, работе.
Егор, как и все, собрался в путь, но ему объявили, что он вместе с несколькими мужиками остается на демонтаж оборудования и зоны.
Вот так-то, мужики! Даже для музея мы не годимся! Все убрать, собрать и перевезти на новое место. А для кого? Кому нужны старые бараки? — недоумевал Егор.
Да не только они! Мы никому не нужны! Чудак ты, Горилла! Глянь, что нам оставили на всю зиму! Да на таких харчах мы и месяц не продержимся! — указали зэки на скудную кучку мешков и ящиков.
Горилла тогда не очень опечалился. А через месяц стал замечать, как с каждым днем уходят силы.
Не стало топлива. Кончились мука и соль. О сахаре и чае давно забыли. Не осталось даже обмылков, чтобы помыть руки. Вот тогда он вспомнил про Любашу. И пошел к ней через глубокие заносы, лютый мороз. Знал, останься он здесь хотя бы на несколько дней, также как Тарас и Сашка, замерзнет к утру насмерть. Он первым понял, что о них забыли, давно вычеркнули из списка живых. Да и кто выстоит? Без еды и тепла на Колыме не выдержит ни одна жизнь.
Только за неделю из двенадцати человек в живых остались семеро. Замерз даже охранник — молодой парнишка, не осмелившийся бросить зэков и уйти от них к людям, туда, где мог выжить. Он так и не проснулся утром. Рядом с двумя окоченевшими зэками остался навсегда на Колыме.
Егор крепился, как мог. Но когда увидел, что белый снег ему показался черным, поплелся через реку., понимая, больше ждать нечего. Его никто не окликнул, не остановил, не пригрозил и не потребовал вернуться. В голове сплошной перезвон, в глазах — рябь, только бы не упасть, только дойти. Его не заботило, откроют ему двери или нет? Примут ли? Поймут ли?
Он еле дошел до дома, постучал в двери. И на вопрос женщины «Кто там?» ответил хрипло: Открой, Люба! Это я — Егор!
Женщина, открыв ему, еле узнала:
Ты ли это? Что случилось? — ввела в дом и помогла раздеться.
Хана нам, Люба, пропадаем. Совсем бросили нас! На погибель кинули. Как собак! Не прогони. Дай душе отойти. Насмерть поморозились. Пятеро мужиков загинули. Я — на последнем вздохе. Не гони, дай хоть тут, в углу, немного согреться, — попросил Егор, кляня себя втихомолку, что не пришел сюда раньше.
Женщина молча разула его, провела в комнату, принесла чай и, уложив Егора на диван, пошла на кухню. Горилла не дождался, пока Люба накроет на стол, уснул так крепко, что не услышал, как пришла соседка, поговорив с хозяйкой, узнала о случившемся. Выскочила из дома и вскоре половина поселкового люда побежала и поехала спасать оставшихся в живых Их разобрали по домам. Никого не оставили умирать в снегу. Егор об этом не знал. Он проснулся уже затемно и, оглядевшись, долго не мог понять, где находится. Все вокруг чужое, незнакомое. Ни зона, ни дом…
«Где я есть?» — шарил вокруг себя испуганно.
То что он жив, Егор не сомневался. В могиле нет дивана. Да и слишком тепло здесь для погоста. Жратвой домашней пахнет, значит, не в зоне. «Но дома не было дивана, — вспоминает Горилла. — А откуда у меня дом? Давно его нет. Но тогда где я?».
Проснулся? Ну, вот и хорошо. Иди за стол, поешь, — позвала Люба.
Горилла ел, не жуя. В животе словно пропасть объявилась. Сколько туда ни положи, все проглатывает. Ни горячего, ни холодного не чует. Лишь бы побольше. Люба едва успевает за ним. Егор ест, боясь,
что еда лишь приснилась ему. Но нет, в животе уже места не осталось. И только тогда услышал, о чем говорит хозяйка.
— Так что вы не первые, Егорушка! Теперь никто
никому не нужен. Вас семеро из двенадцати осталось. А тех из тридцати только двое. Остальных закопали. И до сих пор никто не узнавал, куда делись люди? А средь них трое охранников. Матери, небось, и теперь домой ждут. А они у нас навечно остались. Жаль мальчат. Совсем еще жизни не видели. Зато твоих успели отнять у погибели. Скоро в своих семьях будут. Дали им телеграммы.
А как же без документов билеты им продадут?
Голубчик ты мой! Прежние двое в Магадане такого шороху наделали в управлении, что им враз документы отдали. Только бы не жаловались, не рассказывали в Москве и в газетах, как с ними обошлись. За такое, знаешь, как погоны сняли бы? Вместе со шкурой! Оставили б без зарплаты, пенсий и льгот! Вот и уговорили выживших не жаловаться, мол, случившегося все равно не исправить, а мертвых не поднять. Вот и отправили их домой. Нам даже спасибо не сказали, что жизни людям спасли. И болтали про недоразумение, какое случилось из-за халатности. Обещали наказать виноватых, но никто не пошел глянуть на могилу. Кто в ней? Видать всякой жопе жарко было за свою вину перед умершими. Оно везде так нынче. Люди озверели! Оттого и жизнь у нас такая! — говорила Люба, подливая Егору чай.
Тот пил, не веря в собственное спасение.
Хотел прийти к тебе в конец освобожденным, а судьба как норовистая кобыла на свою тропу свернула, — вздохнул Егор.
А кто нынче свободный? Таких уж в свете нет! Я вон — вольная! А забот и бед не меньше, чем у зэков. Ну, посуди сам, ведь не брешу! Дочку в школу отправить, а денег нет. Мать болеет — лечить не на что. Моей получки только на хлеб. Если б не хозяйство, с голоду сдохли б! — призналась баба.
Теперь всем тяжко. И вольному люду, и нам, — вздохнул тогда Горилла, добавив: — Ума не приложу, куда мне деваться? Что делать? Куда определят меня?
Как жить дальше? Ведь без работы не продышать, а кто меня возьмет?
Ой, милый! Были б руки! Без дела даже тут не останешься! — вскинулась баба радостно.
Коли здесь работа имеется, отчего свои мужики разбежались? — не поверил Егор.
Вольной жизни захотели, больших заработков. Оно ведь что наших сорвало с мест? Сколько ни заработай, все на харчи уйдет. Цены на них здесь северные, а зарплаты крохотные. Глянь, как люд обнищал, обносился, изголодал! До срамного! И впереди никакого просвета и надежды. Чтоб прокормиться, надо воровать иль жульничать. Иначе сдохнешь! Так и живут, все доброе растеряв. Никто никому не нужным стал, — подытожила баба.
Никому не нужным… Егор умолк. Поневоле вспомнилось недавнее…
Ведь вот не поверил тогда охране, а те враз смекнули, что бросают тут оставшихся на погибель. Харчей отделили так мало и скудно, даже горько вспоминать теперь. Егор все надеялся, что подбросят жратвы. Не может быть иного. Но мужики мрачнели: «Кто подкинет? Завоз кончился. Нет тут железной дороги. А машинами — кому надо, если бензин втрое вздорожал, и всякий рейс в золото обходится. Вот и обсчитали, что нас дешевле урыть, чем накормить. Но и на похороны не потратятся. Дешевле забыть. Мол, сами передохнут. А жмуров волки разнесут по клочьям». Злились мужики, уже не ожидавшие машин из Магадана.
Егору от их слов не по себе становилось и, даже потеряв надежду окончательно, он все еще пытался сохранить жизни двум свиньям и старой кляче. Но когда им нечего стало жрать, мужики разъярились:
Какого черта! Ты им болтанку из комбикорма делаешь и в нее муку добавляешь! Скоро самим тот комбикорм подарком станет! Давай их заколем и баста!
Я и так за свиней в зону влип! Не хочу дополнительный срок схлопотать за этих! Не дам колоть! — загораживал собою свиней и клячу.
И продолжал ждать чуда. Но и оно, наверное, изголодавшись, замерзло в снегах.
Когда кончилась мука, мужики уже исподлобья смотрели на Егора. И на его глазах, уже не спрашивая согласья, подошли с ножами к свиньям. Горилла ничего не мог сказать, слова стали поперек горла. Сам видел, как измучила людей голодуха. Руки и ноги отекли у всех. Мужиков шатало из стороны в сторону, а тут еще холод одолевал.
Нет, мясо он не ел. Не мог себя заставить, уговорить. Когда разделались с кониной, вовсе не на что стало надеяться. В поселок никто не решался пойти. Знали, там всем тяжко. Самим есть нечего. Ни у кого не имелось родни и знакомых, кто б мог принять и накормить. Да и совесть не потеряли, чтобы просить у чужих из последнего. Молча ждали своей участи. Ни на что не надеялись. Постепенно разучились ходить, вставать. У людей уже не было никаких желаний. Это состояние часто комментировали зэки, называя его белой смертью.
«Хоть бы каплю тепла!» — думалось тогда Егору. Но где его взять? Ведь бараки в зоне были из кирпича. Даже полы в них бетонные, а потолков и стропил хватило ненадолго.
Пить! Воды! — проснулся однажды Егор среди ночи, узнал голос охранника. Тот уже который день задыхался от кашля. Но где взять воду? Вокруг только снег… Его не могло растопить даже солнце.
Надо б в Магадан! Достать бы гадов из управления! — сказал как-то один из охранников.
Вместе с зэками? Ты знаешь, что будет за это? От трибунала не отвертишься! А и оставишь их — получишь не меньше, — напомнил второй.
Выходит, сдохнуть нам всем!
Тут хоть сами! Если в Магадане появимся — там помогут сдохнуть. Так что лучше не рыпаться, — посоветовал охранник.
Ни хрена им не докажете, этимТолько себе горе сыщете! Нет правды на земле! — сказал кто-то из зэков.
Нет! Надоело вот так подыхать! — не выдержал один из мужиков и предложил пойти всем в соседнюю зону.
Опоздал! Вокруг нас ни единой не осталось. Отовсюду увезли зэков. Нет никого. Даже сторожей не оставили. Да и кто согласится? Некого охранять.
Во, мужики! Лафа настала! Зоны закрываются! Да я и не мечтал, что доживу до такого, когда на Колыме ни одной тюряги не будет! Теперь зэки станут в Москве отбывать ходки, а на Колыму будут возникать на отдых как на Канары! А что? Воздух свежий! Экзотику хоть жопой хавай! Сколько пустых зон? Каждая — могильник! И в любой столько захоронений, что ни на одно волчье поколение хватит! Это вам не усыпальница фараона в Египте! Там его в золото одели, всякими украшеньями обделали! Наши зэки с этого света бегом слиняли. Без гробов! Пачками в одну яму. Какая там могила? Над ней хоть крест ставят. Наши и такое не получили. Зато здесь они спят спокойно под волчий вой. И никто с них, даже по бухой, никогда не захочет снова родиться на земле человеком. А у них мумии через тыщи лет баб насилуют. Вот так упокойники! Их бы сюда на годок! Небось вмиг посеяли б память, зачем у них яйцы промеж ног растут! — смеялись зэки, с грустью оглядевшись вокруг.
Не до смеха стало, когда начали умирать люди. Их обмороженные черные лица навсегда застряли в человеческой памяти.
Егор! Что с тобой? Чего плачешь? — заметила Люба слезу на лице. Горилла торопливо смахнул ее. Что ответишь? Пережитое не проходит бесследно.
Уже через неделю Егор стал подыскивать себе работу. Выбор был небольшой. Его звали охотником- промысловиком в госпромхоз на отстрел песцов и лис, волков и зайцев, либо в старательскую артель золотодобытчиков. Егор выбрал последнее. Тут хоть что-то зависело не только от удачи, а главное, здесь не требовали документы на оформление оружия как в первом случае.
Горилла ушел вместе с бригадой мужиков и мыл золотую породу с отвалов на старых выработках в полусотне километров от жилья.
Люба, провожая его, ни о чем не просила, не настаивала на возвращении. Да и как просить о таком, если Егор даже спал отдельно на диване. И вместо какой-нибудь надежды сказал, уходя:
Может повезет, тогда первым делом с тобой рассчитаюсь…
Не того но ничего не сказала, Промолчала, закусив губу. Сдержала, спрятала обиду поглубже за пазуху. А Егор сделал вид, что ничего не заметил В бригаде подобрались один к одному: все старше Гориллы вдвое, а то и втрое, все с золотом имели дело не по первому году. Новичком средь них был Егор.
Не везло ему в первые дни. Намывал меньше всех золотого песка. И уже начал подумывать о возвращении в поселок, когда наткнулся на самородок, привязавший, заставивший человека остаться. К весне намыл не меньше других. Когда бригада решила вернуться в дома на пару недель, чтобы переждать распутицу, Егор тоже пошел к Любе отдохнуть, помыться, перевести дух.
Два с половиной месяца работал он с поселковыми мужиками. Много узнал от них и о Любаше…
Ты, Егор, прикипайся к ней. Баба она путевая, хваткая, но невезучая. Замуж хреново вышла. За грамотея. А мужику, я так смыслю, диплом лишь помеха! Руки нужны умелые, чтоб никакой работы не гнушался. Вот такой нигде не пропадет. А этот хмырь ее библиотечный институт закончил. Смехотища! Разве мужицкое дело штаны на стуле протирать всю жизнь? Да еще у нас? Ну, скажи, кому нынче до книг? Кто их читает? Оно и раньше мало книгочеев имелось. Нынче и вовсе поизвелись. Книжки на сытое пузо хороши. Вот и перестали в библиотеку ходить. Он один там торчал как сушеный таракан. И все обзывал нас культурным матом. А потом приехала к нам из Москвы фифа: интересовалась прошлым Колымы, историей этих мест. В библиотеке с Любашкиным мужиком до ночи сидела А потом вместе с историей того козла прихватила и увезла как археологическую находку!
Еще бы! Где нынче сыщешь мужика без мозолей на руках? Теперь даже инженеры вкалывать приловчились. И только этот умудрялся как баба с холеными руками дышать. Он, вот срам, даже маникюр себе делал как пидер. В доме от него никакой подмоги, едины убытки терпели. Я б такого гада придавил. А Любка все ждала, что одумается, — говорили мужики.
В доме крыша покосилась, а он, паскудник, сидит на крыльце и книжки читает. Как бы вот врезал такому барбосу промеж бельмов, чтоб званье мужичье не срамил.
И Любка его не ругала. Любая другая выперла б! Она молчала. Мне б моя давно рога свернула и по харе натыкала. Этому повезло! Всегда в белой рубашке, наглаженных портках и при галстуке ходил. Как павлин середь кур. На всех свысока и обзывал темнотой дремучей, тундрой. Ну да хрен с им. Об нем чего тарахтеть? А вот бабу жалко. Ты, коль и впрямь никто не ждет, прирастай к Любке всеми корнями. Не пожалеешь…
Егор, слушая их, и впрямь задумался.
Люба, увидев его, тепло поздоровалась, но не бросилась к мужику. Эта сдержанность насторожила: «Может приглядела кого? Ну, уж хрен, не отдам никому!». Подошел к бабе и, повернув к себе по-хозяйски, спросил:
Ждала меня? Иль остыла память?
Люба ничего не ответила, молча прильнула головой к широченной груди мужика. К чему слова? Они лишь звук. Его попробуй поймать? Может потому не верят на Севере в клятвы. Настоящее доказывают жизнями, долгими годами. О чувствах не говорят. Они в каждом дне проверяются…
Ох, и закрутило Егора с того дня. Еле уложился в две недели, чтоб хоть немного дом выправить. Хорошо мужики помогли приисковики, своя бригада. С зари до темна работали. А к началу третьей недели засобирались на отвалы. Егор перед уходом послал письмо сестре. «Выправил свою судьбу, семьей обзавелся. Работаю с бригадой, золото мою», — написал Аленке. И ушел с мужиками, зная, что ответ придет не скоро.
Узнал Егор, что все мужики, каких спасли от неминучей смерти поселковые, уже получили документы об освобождении. Им даже компенсацию выплатили на лечение. Пусть небольшая, но все ж помощь. Пятерым оплатили проезд домой, а его, Егора, оставили в поселенцах. Не решились с его статьей отпускать с Колымы живьем враз на волю. Три года проверки Севером определили ему в Магадане. Егор не стал оспаривать это решение, порадовавшись тому, что получил.
Как незаметно, вприскочку побежало время. Горилла не замечал не только дни, а даже месяцы. В поселке он стал своим. Его признали люди. Никто никогда не напоминал и не упрекал прошлым. Да и было ли оно? Любанька с дочкой, старая мать стали самыми дорогими на свете. Ради них жил человек, слившись в одну семью, вычеркнув из памяти пережитое. Изредка ему писали с материка. Рассказывали о новостях села, какие Егор забывал тут же. Вот только за дочек переживал. Они, как говорили, стали убегать из дома, не слушались мать, грубили ей, упрекали за отца. С отчимом вовсе ни о чем не разговаривали, перестали навещать бабку и, того гляди, вовсе от рук отобьются.
Давай заберем их к себе! Пусть с нами живут. Вырастим! — предложила Люба Егору и стала копить на дорогу, зная, что билеты на самолет нынче стоят дорого.
Горилле оставалось всего пол года до полного освобождения, когда Алена написала, что его дочери ушли из дома насовсем. Куда и к кому никто не знает. Их искали с милицией, но бесполезно. «Теперь много девок сбегают в бомжи, особо те, у кого нет отцов. Отчим, какой ни на есть, — чужой человек. Они его не признали. А мать тебя не заменила. Только ты сумел бы вернуть их в семью. Не то пропадут ни за что, собьются с пути. Ведь в этих бомжах девки быстро начинают курить и распутничать, даже пьянствовать. Выдернуть их из разврата тяжело будет, а теперь бы в самый раз, покуда вовремя спохватишься. Ведь нынешние — не мы, в десять лет рожают и болеют заразой».
Да пусть она не трандит! При чем здесь ты? Они без тебя росли, не видя и не зная, какой ты есть! Все хреновое, что в них завелось, взято от матери. Эту гниль ничем не вырвешь. Коль суждено им стать блядями, хоть за подолы к себе привяжи, едино, ссучатся. Уж как на роду им написано. Ежли путними быть, так и в бардаке нецелованными останутся. И не морочь голову! Твоей вины в их проколе нет. Баба от тебя сама отворотилась. Не головой — хварьей жила, тещиными мозгами. Зачем их срань выправлять? Пусть мучаются, коль что стрясется! — говорили приисковики.
Они — мои дети! В них моя кровь! С бабы какой спрос? У них мозгов отродясь не водилось. Только рожают, а растят детву мужики! — не соглашался Егор и мучительно ждал, когда пройдет полгода, чтобы поехать на материк, забрать дочек и привезти их сюда на Колыму.
Письма от сестры приходили каждый месяц. Они становились все отчаяннее: «Егорка! Нешто тепла в душе не осталось к своим дочкам? Неужели их не жаль? Чужую пригрел, а свои пропадают. Видели их в городе наши сельчане. Со шпаной связались дочки твои. Неровен час под суд загремят, попадут в тюрьму и пропали их бедные головушки! Неужели тебе чужие дороже своих? Спаси своих детей! Удержи их в жизни! Ведь кроме тебя никого не послушают! Коль забудешь их, не простится тот грех перед Богом даже мертвому!».
Пошли ее в сраку! С чего она высрала, ровно девки тебя послушают, коль они на всех забили? Им нынче никто не указ, и ты тоже. Все, что заработал вытряхнешь! А на кого? Одумайся! Сами дочки тебе не пишут, не просятся сюда. Им по кайфу жить в шпане! Зачем влезть хочешь? Пошлют они тебя, знаешь куда? Дальше нашей Колымы! И воротишься как обосранный! — отговаривали мужики бригады. Но… не убедили. И Егор, едва получив паспорт, поговорил с Любой, пообещав ей вскоре вернуться вместе с дочками, уехал с Колымы, не простившись ни с кем, надеясь на скорое возвращение.
В жизни все повернулось иначе.
Да, он нашел своих девок в пацановской кодле Кольки-Чирия. Они, увидев Гориллу, не обрадовались и не испугались. Даже не подошли, чтоб поздороваться. Окинув Егора оценивающим взглядом, Динка толкнула локтем Ксюшку и сказала ей вполголоса:
Глянь, этот чувак вякает, что он наш родитель! Ты его помнишь?
— Не…
Я тоже! — повернулась к Егору и сказала, насупившись: — Коль впрямь — родитель, гони пузырь! Давай знакомиться! Угости детей! — указала на кодлу.
Может, поговорим для начала? — предложил
дочкам.
О чем? — прищурилась Динка.
Обо всем! О вас, обо мне, о будущем.
Ну и прикольный чувак! Мы ж тебе трехнули: ставь выпивон, мечи жратву! Кто ж в сухую подваливает? Тоже мне — папаша! Никакого подхода к детям! — фыркнула Ксенья и попросила закурить.
У Егора в глазах потемнело. Он еле сдержал свой язык, но, подойдя к дочери, вырвал сигарету из зубов.
Спешишь, пахан! За это по наличности схлопочешь! — сцепила кулаки Ксюшка, смерив Егора недобрым взглядом.
Слушай, козел, тебя кто звал сюда? Ты, в натуре, зачем возник? Откуда свалился? — подскочила Динка и оттолкнула его от Ксеньи резко, грубо. — Чего прикипаешься к метелке? Если хочешь заклеить, темнить не стоит. И не распускай руки, покуда не отбашлял! На халяву ничего не обломится, секи это!
Егор не мог продохнуть, смотрел на дочерей, не веря своим глазам:
А ведь я с самой Колымы за вами приехал! В свою семью хотел вас взять, вырвать из грязи!
Чего? На Колыму нас увезти? Дядя! Да у тебя поехала крыша! Ты что? С луны упал? Мы на Колыму! Эй, пацаны! До вас доперло, что этот чувак несет?
У него головка поехала! — рассмеялась Динка.
Ты нас спросил? Иль спишь еще? Мы не зэки, мы — бомжи! Нас не за что на Колыму! Ничего там не посеяли! И ты пыли отсюда, козел! На самую Колыму! А может и дальше! Мы тебе не подружки.
Ладно! Не зову! Сам передумал, но поговорить
можем?
Сколько хочешь, если горло смочишь! — живо откликнулась кодла.
Егор притащил еду и выпивку, решив все ж вырвать дочек из бомжей, уговорить их, убедить. Но те, хлобыстнув по паре стаканов водки, уснули прямо на чердаке, не стали слушать Егора. Он почти до рассвета говорил с чужими пацанами. Особо внимательно слушал его Толик-Пузырь. Он даже уснул рядом с Егором, забившись к нему подмышку, тихо посапывая. Егор долго ворочался. Уснул уже утром, когда вся кодла безмятежно спала.
Проснулся Горилла уже в полдень. Рядом никого, в карманах пусто. Кроме документов ничего не оставила шпана. Ни копейки денег, чтобы послать домой телеграмму.
Он был один на чердаке, один перед новым горем. Егор не понимал, что навсегда потерял своих детей. Это они его наказали. Кто же кроме самых родных может без жалости столкнуть в могилу. Он снова попался на доверчивости, какую не сумела из него выстудить даже Колыма.
Конечно, будь Егор обычным человеком, обратился бы в милицию за помощью. Но в том то и дело, что Горилла презирал и не верил ментам. Не считал их за людей. И как истинный колымчанин даже не подумал о самоубийстве, решил сам найти, разобраться с пацановской кодлой.
Недавний зэк много слышал о шпане и не очень удивился случившемуся, поняв, что, оставив ему документы, кто-то из пацанов пощадил, пожалел его. У него не стащили одежду. Выходит, в пацанах у Егора завелся свой дружок, и Горилла, не питая розовых надежд на дочек, вмиг вспомнил пузатенького, круглого мальчишку, какой не отходил от него, внимательно ловил всякое слово.
«Толик!» — вспомнил имя и, оглядевшись, смекнул, что на этот чердак бомжата могут вернуться уже сегодня ночью. Но, возможно таких пристанищ у ребятни десятки по городу. «Сколько их здесь ждать? Да и стоит ли?» — думает Егор, спускаясь с чердака во двор.
«Где их найти?» — огляделся вокруг. Дом стоял на окраине города неприметно, на отшибе.
«Долго ждать не придется. Заявятся к ночи», — усмехнулся Горилла.
Когда совсем стемнело, он увидел как к дому проскочили несколько теней. Вот и тихий свист с чердака услышал — сигнал остальным.
Горилла ждал терпеливо и завалился на чердак неожиданно, когда вся кодла была в сборе и каждый верил, что вчерашний мужик ушел навсегда.
Ох и навалилась на него свора! Егор отбивался от пацанов, как когда-то в зоне от зэков. Никого не щадил,
вломил даже дочкам. Эти оказались свирепей остальных.
Вали отсюда, папаша!
Линяй, козел! Делай ласты, пока не урыли!
Егор отбросил Ксенью так, что она взвыла не своим голосом. Куда делась жалость? Динку за голову прихватил, крутнув в руке так, что той дышать стало нечем, бросил под ноги. И тут же поймал Чирия, прихватил за горло.
Верни бабки, падла! — взревел так, что у Кольки волосы на голове встали дыбом.
Просрал ты их, дядя! Нету у пизды сдачи! — влепила в пах коленом Динка и, визжа от восторга, вопила: — Отбашлял за все разом! Думал, на халяву прокатишься, благодетель. Получи по самые уши! — вломила ногой в бок. У Егора в глазах заискрило.
Его вышвырнули с чердака как тряпку под свист и вой, под мат и угрозы, но, отлежавшись с час, он вошел на чердак снова и опять метелил кодлу, требуя свое.
Он втоптал в пыль Кольку-Чирия. Пригрозил угробить, если тот не вернет деньги. Он расквасил Червонцу всю наличность, а свору девок загнал в дальний угол, где они, дрожа от страха, уже не смели влезть в жуткую драку, какой им еще не приходилось видеть никогда.
Полтора десятка пацанов вырубил мужик, но оставшиеся наседали. Чего только не было в их руках: ножи и свинчатки, кастеты и колючая проволока, спицы и колья. Егор месил их голыми руками.
Кончай махаться, пацаны! Завязывайте! Хмыря не урывайте! Пусть дышит! — услышал Горилла голос Кольки-Чирия. И тут же кодла успокоилась, расползлась по чердаку.
Одежда на Егоре висела лохмотьями. Весь в синяках и шишках, порезах и ссадинах он вышел из этой драки непобежденным, но и не победителем. Ему уступили, но деньги не вернули.
Ты не лучше других! Твои девки не с добра к нам приклеились! Достала их житуха! Отчим с мамаш- кой все уши просрали попреками. «Лентяйки да неучи, безотцовщина», — слышали каждый день. На жратве их обжимали. Погоди! Мы до них еще доберемся! Тряхнем деревню! За своих! Мы им все вспомним! Тебе слегка вкинули, потому что нет твоей вины в их бедах! Но башлять и впредь будешь! Покуда они дышат в кодле, держать станешь. За все, что они стерпели из-за тебя, мы сняли навар! Жидкий он! Мог бы и пожирней отвалить!
Офонарел что ли? Я сам из ходки! Даже на жратву не оставили ни хрена! — вскипел Горилла.
Это нас не чешет! — оборвал Чирий.
«Думал дочек в семью привезти. Теперь вспоминать тошно», — подумал Егор и услышал:
Дядь! Твои девки как все! Ты за них теперь не думай. В кодле легше, чем поодиночке. Выживут и твои! — увидел Толика. Тот снова сидел рядом.
О скором возвращении домой Егор уже не мечтал. Он оказался среди бомжей на свалке. И единственное, сто берег, так это свои документы. Он много дней искал работу. Но не повезло. Случалось, иногда сбрасывал снег с крыш, помогал горожанам убирать картошку на участках, ремонтировал дачи, заборы, получал гроши. И даже с них умудрялся откладывать в подклад пиджака пятерку иль десятку.
Как тосковал он по своей семье, знал только сам Горилла. Он видел ее во сне. Знал, что ждут его. Но никак не мог заставить себя написать Любе правду. Ведь это все равно, что попросить денег на обратную дорогу. А где она их возьмет?
Дочери… Их Егор видел иногда в городе, но говорить с ними уже не хотел. Да и они, смерив его презрительными, насмешливыми взглядами, проходили мимо, случалось, молча, бывало, обзывали грязно. Он понял, им не вернуться в семью. Одичали, озверели, разуверились во всех, озлобились на весь свет.
Кто виноват в случившемся? Егор не хотел ни думать, ни слушать о том.
Единственный из пацановской кодлы — Толик, встречаясь с Гориллой, всегда рассказывал ему о Динке и Ксюшке. Мальчишка невольно тянулся к Егору и уважал его.
В одну из встреч он проговорился:
Мы ждали, что ты засветишь нас в ментовке. Тогда еще, в начале. Но ты не настучал, и все поверили, что и вправду отец им. Только настоящие отцы умеют прощать все, но таких уже мало осталось. Немногим везет. Не все это понимают. И до твоих телок еще не доперло истинное. Когда поймут — кто знает? Может, на погосте. В любом случае опоздают. Но ты ничего от их пониманья не получишь и не потеряешь. Так всегда бывает с теми, кто влетел в бомжи. Скоро сам в том убедишься…
Егор со временем даже не мог вспомнить, почему и зачем оказался он на свалке? О дочках вспоминал крайне редко. Знал, что Динка была подружкой Кольки- Чирия, а Ксюшка — Червонца. Но эта любовь была недолгой. Ее не хватило даже на одну весну. Потом обе пошли по рукам, путались со всеми пацанами подряд. Остановить, удержать, вырвать их из этой грязи он не мог, потому что сам увяз в том же болоте по самые плечи.
Через три зимы он сам себя перестал узнавать. Опустился вконец.
Эй, Горилла! Иди, бухнем на помин души! — слышит голоса бомжей, вернувшихся из города. Ох, как звенят бутылки, как загоношились мужики. Не только бабы, даже старики вылезли из лачуг, чтоб выпить и пожрать на халяву. Не часто такое перепадает.
На согрей душу, Егор! — подсел Толик, приходивший к Горилле иногда просто посумерничать.
А знаешь, рядом с нами, где я раньше жил, бабка одна канала. Ох и жадная была. Будто во второй раз на свет появиться собиралась. Сегодня умерла. Завтра ее хоронить будут. Сегодня все дети и внуки той старухи искали сберкнижку иль деньги, куда она спрятала их? Но не нашли ни хрена. Хотя уверены, ведь копила. Весь дом на уши поставили. Но, видать, покойная умней всех оказалась, притырила надежно: уж коль с собой не взять, так и им никому не достанется. Завтра весь ее хлам сюда на свалку свезут. Сожгут и все на том. А в доме ее внук жить будет. Редкий гад!
А мне зачем про них знать? — удивился Егор.
Сам не знаю. Просто поделился, что жлобы нищими на тот свет линяют. Эту бабку даже хоронить будут в калошах. Другого у нее не было, а покупать не стали.
Как там Динка с Ксюшкой? — перебил Егор.
А что им сделается? Сучкуют. Клеют у кабаков всяких козлов! За бутылку и хамовку. Динка уже нацепляла на себя. Поползли по ней так, что пацаны с чердака выпинали. Ну, купили ей политань — мазь двух сестер. Теперь все, перестала чесаться, а то жрать спокойно не могла. Да и морду ей за это расквасил какой-то черножопый. Подцепил мандавошек и жене приволок вместо ландышей. Та его из дома взашей. Он на Динке оторвался со злости, — рассмеялся Толик.
Как ни старался Горилла скопить на билет, ничего у него не получалось. То ботинки вконец изорвутся, то рубаха с плеч полезет. А тут еще Ксюшка заявилась на свалку. Нашла Гориллу, горькими залилась, попросила денег на аборт…
Ну не рожать же мне теперь неведомо от кого. Да и знай чей он, не докажешь и не сыщешь. Их за ночь через меня косой десяток проходит…
Чего ж не заработала на этот случай? — не выдержал Егор.
Так все в кодлу идет. А на аборт у Чирия не выпросишь. Пошлет подальше и шуганет с чердака. Ему брюхатые не нужны, а малышня и подавно. Надо было резинку заставить надеть, но бухая была, забыла. Вот и подзалетела.
А у меня откуда «бабки»? Сама знаешь, куда делись. Все забрали. Где возьму нынче?
Все знаю! Но что мне делать? Не просить же у отчима! Ведь из-за него мы из дома ушли, заголосила девка.
Успокойся, Ксенья! Расскажи, что у вас с ним стряслось? А то ведь так и не знаю правду. Все по слухам, с чьих-то слов, — подвинулся к дочери.
А денег дашь? — шмыгнула носом.
Попробую настрелять у мужиков, — ответил уклончиво и пощупал подклад пиджака.
От Ксеньи это не ускользнула. Довольно улыбнулась, заговорила:
Ну, что? До пятого класса кое-как дотерпели. Все молчали. А он чуть с матерью погрызется, враз попрекает: «С уголовщиной жила! От вора нарожала ублюдков! Такие телки, их запрягать надо, они работать не хотят. Все из-под кнута! Наплодила! Враз двоих! Не могла одну высрать и завязать на том! Вовсе разорили меня эти кобылы!». Ну, а мы все слышали. Мать плачет, уговаривает, чтоб не кричал, чтоб чужие не слышали. Потом и сама на нас наезжать стала. Обзывала его словами. Мы и не выдержали. Удрали от них насовсем. Забрали все деньги, какие нашли. Немного тряпок своих прихватили и ходу… С тех пор не виделись.
Слушай, Ксюшка, давай накопим на дорогу и уедем на Колыму! Ко мне! Насовсем! Там здорово! Будем всегда вместе, все заново начнем!
Ксенья воздухом подавилась. Подскочила на ноги пружинисто. Глаза как у кошки загорелись яростью:
Спятил, дурак! С чего это я слиняю на Колыму? Что там забыла? Мне и тут неплохо! Смеешься надо мной, козел? Думаешь, если я возникла, можно всякую тупость городить? Да я лучше в петлю головой, чем к тебе на Колыму слиняю! И обойдусь сама! — собралась уйти.
Но Егор успел ухватить за плечо, притормозил: Возьми деньги! Иначе и впрямь не миновать петли ночной бабочке! Вот уж не думал, что такою будет ваша доля! — отсчитал, сколько просила. Отдал Ксенье. Та, мигом забыв обиду, спрятала деньги, чмокнула отца в щеку и, помахав рукой, тут же убежала.
Горилла, пересчитав оставшиеся, вздохнул горько. Положил в подклад пиджака, выругав себя последними словами за то, что снова не устоял и пожалел…
«Когда же я вернусь к своим? Наверное, теперь уж никогда! Так и сдохну тут, на свалке», — подумалось невесело. И только хотел лечь спать, услышал шум машины. Из города привезли мусор.
Бомжи как саранча со всех сторон облепили машину. Заглядывают, чем можно поживиться.
Налетай, воронье! Бабка приказала долго жить! Внук все под лопату из дома выгреб! Может, что сыщите! Эй, Кузьмич! Гля, какие галифе тебе дарю, безразмерные! — подцепил водитель на вилы линялые штопаные старушечьи рейтузы и размахивал ими как флагом. — А тебе, Подсолнух, сбрую! — вытащил застиранный бюстгальтер.
Иди в жопу! — ругались бомжи, уходя от машины.
Эй, Горилла! Куда ласты востришь? Возьми матрац! На нем старая еще в девках кувыркалась! Ну и хрен с ней! Все ж не на картоне, не на земле. Теплее спать будет! И одеяло прихвати. Для полного комплекта! Теперь можешь бабу к себе клеить. Постель готова! — хохотал водитель вслед Егору.
Тот выкинул прелые лохмотья, заменявшие матрац, подмел в лачуге и, положив старушечьи вещи, проветривал хижину. И вдруг, словно воочию, увидел лицо Любы. Она улыбалась, что-то говорила ему. Горилле вовсе не по себе стало. Решил прилечь, но не спалось. Все что-то мешало, будто костлявая старушечья фига впилась в бок и крутила в нем дыру.
«Тьфу черт! Да что такое?» — попытался выровнять шиш и наткнулся рукой на вшитый мешок. Решил глянуть, что там внутри?
«Небось старье какое-нибудь, либо письма спрятала, чтоб внуки не наткнулись», — выпорол бок и нащупал холщовый плотный мешок. Вспорол его и обалдел. Деньги! Целая куча! Гора! Тут не на один билет, на десятки хватило б!
Егор спешно отсчитал нужное, Руки, ноги тряслись. Не верилось. Он благодарил Бога и старуху за помощь и избавление.
Через два часа с билетом в кармане он уже примерял обновки в гостиничном номере. Побритый, постриженный, отмытый, во всем новом Егор самого себя не узнавал в зеркале.
«Нет! Все такой же. Вот только морда слегка помятая! Ну да ништяк, все пройдет! Стоит попасть домой! К себе на Колыму! Все заживет как на собаке!» — вспомнил, что ведь в этом месте он родился, здесь его родина, так и не ставшая домом.
и кого здесь любил? Дочки? Пустое семя! Вовсе с пути сбились! Алену не навестил? Да и ей я не нужен!» — взялся за пузатый чемодан, накрепко перевязанный ремнями.
Через три часа самолет взял курс на Магадан…
Егор! Ты ли это? — не верила Люба, открыв двери. — Где так долго был и не писал? Где дочки? — засыпала вопросами баба.
С того света вернулся! Не веришь? Глянь! — открыл чемодан, полный денег.
Украл? — ахнула баба.
Ага! У самой смерти на жизнь одолжил. И слинял к тебе! А о дочках давай не будем. Пустое семя к земле не прирастает. Нигде не пустит корни. Пропащее оно. Никуда и нигде не годится. А ты ждала меня? — глянул в глаза и понял все без слов.
Ой! Папка приехал! Я же говорила, что он весной вернется! — влетела в дом белокурая дочь Любы и, обняв как родного, долго не отпускала от себя…
Глава 9.
Антон был редким негодяем с самого детства. Его визгливый крик не изменился с тех самых пор, когда он носил штаны на лямках. Он умудрялся и в шесть лет насрать в них, не скинув лямки. Не успевал или пенился, кто его знал? Только вонючим и скандальным он появился на свет в хорошей обеспеченной семье, не знавшей никогда ни нужды, ни голода.
Из троих детей Антошка был самый младший, самый визгливый и завистливый. В его несоразмерно большой голове не усваивались и не запоминались хорошие манеры и слова. В ней как в отхожке оседала лишь грязь и гадость. Он с детства был паскудным. А потому, когда вся семья садилась за стол, Антошка обязательно, как по свистку, наваливал полные шта
Когда его выносили во двор, а ходить своими ногами не хотел до трех лет, он запоминал, как ругаются дворники, соседи, прохожие алкаши. И все услышанное повторял дома. Он был ленивым хитрым увальнем, но отец все надеялся, что со временем сын вырастет и изменится.
Когда ему исполнилось три с половиной года, он вышел во двор своими ногами и, увидев котенка, запустил в него камнем. Попал. Заорал от восторга. И, схватив за хвост, побежал топить в луже. Подоспевшую няньку обложил матом за то, что помешала и пригрозил разделаться с нею. И не забыл. Вернувшись домой, подставил вилку, когда нянька собралась сесть на стул. Та подскочила от боли, Антон залился смехом.
Чем старше, тем невыносимее становился мальчишка. И отец, не выдержав, применил ремень, выпоров сына впервые, но до черна. Опозорил он его при гостях. Обозвал всех матом и отца заодно. Все потому, что не дали ему вина. Отец тогда впервые закрыл Антошку в своей комнате. Ох и пожалел о том. Сын все бумаги его изодрал в клочья, перебил кофейный и чайный сервизы, настольную лампу.
Отец долго не мог прийти в себя и бил сына нещадно. Тот вопил на весь дом, но не просил прощенья. Наоборот, грозил дом развалить. И тогда было решено увезти его в деревню к родственникам в многодетную работящую семью, где каждый кусок хлеба давался потом и мозолями, а дети начинали работать едва встав на ноги.
Решили и сделали. Запихнули Антона в машину, тот наложил в штаны, чтобы оттянуть отъезд. Но не удалось. Наскоро вытряхнув из вонючих, сунули в сухие, и машина мигом рванула из города. Надежд не осталось.
В деревне отец рассказал сестре о сыне и, дав ей денег, попросил быть строгой, сделать из Антона человека. Та слушала внимательно и, оглядев притихшего племянника, отвела к своим детям. Поговорив с сыном, попросила не баловать и не жалеть.
Десять детей… Им было некогда возиться с Антоном. Когда тот навалил в штаны, никто не поспешил сменить их как дома. Его не заметили. Антон негодовал. Он кричал, требовал внимания, но бесполезно: в вонючих портках проходил до вечера. А в наказание — не дали есть. Спать уложили на полу на дерюге. Мальчишка до полуночи орал, но его не захотели услышать. И тогда он полез в чугун сам, без спросу. Его оттащили, отшвырнули пинком. Он укусил тетку за ногу. Та отвесила по заднице, и Антон решил сбежать от нее, пока не поздно. Но не смог снять крючок, силы не хватило. Так и уснул у двери на голом полу.
Целый месяц воевала с ним вся семья. Пытались с ним подружиться дети. Не получалось. Били его — он мстил. А потом чуть не спалил дом. Вот тогда лопнуло терпение: избили Антошку дети так, что встать не мог, и пригрозили, если еще нашкодит, живым закопают на огороде. Это испугало. Поверил. Целую неделю сидел тихо. От всякого шороха вздрагивал, но потом успокоился, понял, что над ним пошутили, и снова взялся за свое. Нацепил корове на голову ведро без дна. Собаке к хвосту привязал банку, а кошке — пузырь с горохом. Маленькой сестренке, едва научившейся ходить, сунул за пазуху лягушку. Та от страха зашлась, заикой осталась.
Ах ты, мерзавец! — ухватила тетка за ухо и закрыла Антошку в темном холодном чулане, не велев детям выпускать его до самой ночи.
Антон с час просидел тихо, а потом, оглядевшись, перевернул все крынки со сметаной и молоком. Вылил все, перебил. Тетка услышала. Не вошла. И ночью не выпустила мальчишку. Тот блажил не своим голосом. И накричал. В дверях появился хозяин дома — рослый бородатый мужик с вожжами, намотанными на руку. Он бил так, что шкура трещала, а боль от макушки до пяток свела все тело. Антон дергался, пытаясь вырваться, но из рук мужика трехлетнему жеребцу ни разу не повезло сорваться.
Я тебя, гниду, тут на лавке и раздавлю! — рычал мужик, не прекращая пороть Антошку, и тот впервые почувствовал, что недалек от смерти.
Дяденька! Отпусти домой! — заорал, задыхаясь. Отпущу! Вот выпущу дух из козла, и гуляй на все четыре! — обтер кровь с вожжей и замахнулся снова.
Но Антон взвыл дико:
Сам утоплюсь, удавлюсь, только отпусти! Не стану тебе вредить!
Ну, гляди ж, змееныш! Вдругоряд живым из рук не выпущу. Только на погост, — пообещал гулко и ушел в дом, не оглянувшись.
Антон не мог слезть с лавки и плакал навзрыд. Он решил, как только все заживет, сбежать в город к своим, покуда жив и рассказать, как издевались над ним в деревне.
Он еще надеялся, что его пожалеют. Но напрасно. К нему никто не вышел, не дал воды и не помог встать. Уже к полудню тетка крикнула с порога:
Чего развалился? А ну иди в огород, помоги детям! Чего жопу балуешь? — Антон заскулил от обиды.
Вместо жареной курицы со свежими помидорами и черносливом, ему дали кусок черного хлеба с луком и солью да кружку молока. Это и весь ужин. А ведь целый день полол картошку. Даже в глазах от нее зеленые искры мельтешили. Никто не похвалил, не пожалел. А ведь как все тело болело!
«Нет! Не хочу! Не могу больше тут жить! К своим вернусь», — встал тихо среди ночи и, не подходя к двери — знал, крючок не одолеть — вылез в распахнутое окно, в кромешную ночь и, выскочив за калитку, побежал по дороге испуганным зайцем. Только б не хватились его и не догнали б, тогда конец…
Родственники и впрямь слишком крепко спали и не проснулись. Не хватились. Антошка к полудню пришел в город и растерялся.
Где его дом? Как фамилия, номер телефона? Как зовут отца и мать? Где они работают? Он ничего не знал. Он оказался беспомощной пылинкой, затерявшейся среди чужих людей и домов. Он понял, что никому здесь не нужен. Люди равнодушно проходили мимо, даже не оглядываясь на Антона,
Мой папка — самый главный! — говорилционеру, остановившему его.
Над кем? — рассмеялся тот откровенно.
Над всем!
Ладно! Валяй к своему бугру и не путайся под ногами! А то вместе с бродячими собаками отловят тебя и на мыло сварят! Понял? Брысь отсюда, шкет! — цыкнул на мальчишку.
Антон побежал, боясь, что этот тоже вломит по шее. Ему хотелось есть и спать. Он очень соскучился по вниманию и добрым словам, но получить их было неоткуда. Он ходил по улицам, разыскивая свой дом, и не находил. В одном дворе к нему бросилась громадная собака. Зарычала, грозя разнести в клочья. Мальчишка с криком убежал от нее. Из другого двора его выгнал дворник и, обозвав бомжем, пообещал выдернуть ноги, если мальчишка появится здесь еще раз.
Антошка показал ему язык и получил метлой под задницу. Стало обидно, но задираться дальше не решился.
«Все грозятся как собаки! Где людей найти?» — спросил самого себя и пустоту вокруг. И… был услышан.
Его схватили за плечо:
Ты чего тут мотаешься как катях в луже? Промышляешь? — увидел Антон пацана, худющего, большеглазого, с синяком на лбу.
Свой дом ищу! Потерялся!
Как это потерялся? — усмехнулся пацан недоверчиво и, услышав от Антона, как его вывезли из дома, сказал: — Не возьмут тебя! Ни за что! Да еще в деревне не ужился. Вобщем, труба тебе, мужик! Вернуться в деревню нельзя, и дома никто не ждет. Короче, сдохнешь! Допер иль нет?
Антон захныкал, жалея самого себя. И пацан, взяв его за руку, привел в кодлу Кольки-Чирия.
Ты что? Офонарел? На хрена мне эта гнида? Жрать станет за троих, а толку никакого. Что он умеет?
А ни хрена! Зато голосит так жалостливо, как баба. Если его на паперть иль к торговкам, он всех в соплях утопит. Даже меня пробрало от его воя! Подавать станут кучеряво. Давай приморим, посмотрим. Если не склеимся с ним, дадим пинка под жопу и забудем, как его дразнили.
Наутро невыспавшегося Антошку поволокли на базар, испытать его пригодность в кодле.
Вот теперь вопи на весь свет! Блажи во всю глотку! Кривляйся! Дави «бабки» из быдла! — оставил Антона посреди базара Колька-Чирий, бросив перед ним потертую шапку, а сам, отойдя в сторону, наблюдал за мальчишкой.
Тот долго сидел нахохлившись, молча. Но потом ему захотелось есть. Он стал хныкать, но никто не обращал внимания. И Антон, разозлившись, заорал во весь голос да так, что торговки деньги из рук стали ронять. Оглядывались, кого это средь бела дня режут? Антон только входил во вкус. Он перекрыл своим воем все голоса, музыку, шум и гул толпы. Он навалил полные портки, из-за чего дежурный милиционер не решился подойти близко. Сопли, слезы, слюни — все размазалось всплошную на лице. Да и что можно было увидеть в нем, кроме широкого рта, орущего оглушительно то сворой собак, то толпой дерущихся алкашей.
Ну, силен прохвост! У него в глотке сотня «матюкальников», откуда столько силы взял? — удивлялась толпа, окружив пацаненка плотным кольцом.
Деньги уже посыпались через верх шапки, но Антон, будто не видя, все просил на кусочек хлеба ему, брошенному ребенку, забытому родителями и всеми родственниками.
Бедный малец усрался, кричавши! Да кто нынче чужое горе чует? Поизвелись сердобольные, — отстегнула десятку от пенсии бабка, поверив в детские слезы. Ее примеру следовали другие.
Во, гнида! У него уже не только на кусок хлеба, на целый кабак набралось, с бабьем и выпивоном до усеру! А он, падла, все надрывается! — потянул руку к шапке какой-то алкаш. Но тут же был сбит на землю Дикой Кошкой.
Катька внимательно следила за конкурентом. Она мигом сообразила, что не сам по себе решил побираться пацан: его привели и заставили. «Колька-Чирий.
Кто ж еще?» — приметила того неподалеку и решила перехватить Антошку, забрать к себе.
«Да, паскудный пацан! Но «бабки» гребет классно. Зинке за месяц столько не собрать. Но что потребует за него Чирий? Где он взял пацана? Может, спер из какой- нибудь деревни? А может из пригорода? Хотя такого засранца и выкинуть могли. Хороших не вышибают, а этого — запросто!» — восторгалась могучей глоткой Антона
Внезапно увидела, как к его шапке потянулся алкаш. Чирий стоял, не шевелясь. Стоило ему влезть, вступиться, он выдал бы с головой и себя, и Антона.
Пацаненок слишком мал и не умел постоять за себя. Катька мигом сшибла пьянчугу и, отняв у него шапку с деньгами, рассовала их по карманам Антона мигом. Вытерла мокроту с лица и, сунув в руки кусок булки, сказала:
Ешь, бедолага! А то уже через уши говно попрет, никто не даст пожрать! Даже у тебя отнять решились! — хотела уйти, но не тут-то было. Антон намертво вцепился в руку девчонки.
Возьми к себе! Хочу с тобой!
Куда заберу? У самой никого нет! Не могу! — вырывала руку Катька, но Антон вцепился намертво.
Не пущу! Возьми к себе! Девчонка не ожидала такого поворота, стояла растерянная.
Забери, накорми, отмой его! Может, сыщешь его родителей!
Не бросай мальца! Не дай сдохнуть! — уговаривала толпа.
Вы рожаете, а я — расти его? — оглядела Катька собравшихся недобрым взглядом.
Да она и есть его сеструха! Гля, как он впился в нее! Просто башлять заставила! — вывернулся из-за спин все тот же алкаш.
А может, твой? С чего ж к шапке полез как в свой карман? Почему другие не посмели? На выпивон сшибал под мальца? — рявкнула Катька. Толпа загудела, взяла пьянчугу в кольцо.
Бог с вами! У меня и бабы отродясь не имелось. А уж гнидов и подавно, — пятился мужик от свирепеющей толпы.
Кто-то уже успел схватить его за душу, другой, не мешкая, подсадил фингал на глаз.
Расплодились, козлы вонючие! Напустили нищету на свет! А мы корми! — ревела толпа, требуя сдачи за свою доброту с пьянчуги.
Пацановская кодла тем временем чистила карманы, сумки, сумочки, мигом подхватывая все упавшее, слетевшее, отобранное.
Антошку выволокли из этой свалки, чтоб не затоптали ненароком в пыль. У драки нет зрения и добра, а в злобе случалось всякое.
Антон сидел на ступенях, ел булку. Не сводил глаз с Катьки. Та пообещала забрать его к себе, но велела собрать еще денег на жратву.
Я не уйду, но ты ори как раньше! Чем больше дадут, тем лучше, — сказала пацану. Но тот, потеряв ее из виду, закричал еще громче. Ведь Катька взяла у него все деньги. Антон подумал, что девчонка обманула, взвыл громче прежнего.
Антону в шапку летели деньги, пряники, конфеты. Один мужик, сжалившись, уронил палку колбасы. Поднять, забрать ее стало стыдно. Яблоки, апельсины и бананы уже лежали горкой. Мальчишка не успевал съедать, но, даже жуя, он орал без остановки. А потому подаяния сыпались щедро.
Тем временем Катька с Колькой выясняли свои права на Антона.
Отдай «бабки», Кошка! Это мой малец! — нагнал Чирий Катьку уже в мясном ряду.
Отвали! Те «бабки» алкаш спокойно бы увел, и ты не дернулся б! А мальца бери. Мне он без нужды! Своих сопляков полно, харчить не успеваю! А этот навар не получишь! Я его вырвала. Мой он!
У алкаша свое зубами вырвал бы! Вся кодла здесь пасется! Не слинял бы! Свое положил бы! Секешь, стерва, что с ним изобразили б! И ты не возникай. Вытряхивай навар шустрее!
Пошел в с раку! — рассвирепела Катька.
Только хотела уйти, Колька схватил за плечо:
Стой, стерва!
Что за базар? — услышали оба и, оглянувшись, увидели Пузыря. — Чего прикипелся к ней? — подошел Толик к Чирию.
Тот поспешно сдернул руку с Катькиного плеча и рассказал все.
Не возникай, Чирий! Тот алкаш из городских бомжей. Тряхни его, враз станешь западло всюду. Нас засветит любой, и навешают всех чертей! Дышать не дадут. Да и Антона у себя уже не приморим. Его деревенщина шмонает по городу. Сунутся к ментам, те враз его надыбают. К нам возникнут. Докажи потом, что он сам нарисовался. Скажут — сперли пацана, выкуп вымогали. Знаешь, что за это светит? Я не хочу в зону влипать. Отдай им Антошку скорее! И кайфово, если Катька это справит. Вякнет, будто на базаре нашла его!
Ну, уж хрен! Затырить надо! Он, гад, хоть и вонючий хорек, а набашлял кучеряво. Полную шапку! Вся кодла за день столько не насшибает! К тому ж, дарма не отдам. Приморю на недельку и «бабки» сниму за засранца! — не соглашался Колька.
Его на базаре застукать могут. И отнимут в наглую! Да еще вломят за говно! — уговаривал Пузырь.
Пусть Кошка у себя притырит. Слышь ты, падла, бери засранца! Таскай по разным местам. Пусть пашет этот хмырь на нас, но на навар доиться станешь! Пополам! Доперла? Пока его не надыбают! — предложил Чирий и добавил: — Пока мальца найдут, время пройдет. А нам — подсос…
Антошка бежал за Катькой, пыхтя. В одной руке кусок колбасы, в другой — половина батона. Свора голодных бездомных собак скакала за ним по пятам, скуля и лая, выпрашивали жратву, но Антошка никогда не отличался щедростью. Он чувствовал лишь собственное пузо и любил лишь себя.
Катька еле волокла тяжеленные сумки, свой и Антошкин навары, и даже не предполагала, что мальчишка уже определил, сколько он сожрет по приходу домой и сколько на ночь. О Катьке не думал, не взял в расчет. А потому, едва переступив порог дома, тут же сел возле сумки и стал грызть все подряд. заедал колбасой, бананы — пирожками, помидоры ел с печеньем, а колючий ананас — с хлебом. Он даже не почистил его. Не знал и не умел это делать. Антон ел торопливо, не глядя по сторонам, не познакомившись ни с кем.
От него, едва подступив к пацану, отскочил Голдберг, отчаянно чихая. Зинка смотрела во все глаза, как быстро худеет сумка. Но вот Антон доел конфеты и закрыл сумку. Теперь решил оглядеться. Увидел Зинку и запустил в нее огрызком яблока.
Ну, держись, засранец! — кинулась к пацану. Тот нырнул под стол и заорал так, что стекла в окнах зазвенели, а громадный Голдберг вылетел во двор с воем.
Ты откуда его взяла?
На базаре! Сам нашелся! — заткнула уши Катька. Зинка выволакивала Антошку из-под стола. Тот упирался, изворачивался, кусался.
Погоди! Дай я его вытащу! — стукнула Катька по столу. Мальчишка на минуту затих. — Еще раз пикнешь, выкину из дома насовсем! Там за домом собаки! Один звук, и ты вылетишь к ним! — предупредила Дикая Кошка.
Антон, испугавшись, взвыл в полную глотку.
Он орал от страха перед улицей, где у него никого не осталось. А собак боялся всегда, поэтому кидал в них чем попало, едва завидев псину. Он потому и бежал бегом следом за Катькой, боясь, что какая-нибудь из своры нагонит и укусит, отнимет жратву. Он боялся голода и боли, но как от этого защититься не знал и пускал в ход первое, самое безотказное и надежное. Но… он не знал Катьку. Та всегда держала свое слово и, услышав визг, ухватила стол, сдвинула его, поймала за лямки Антошку, поволокла к двери. Но не тут то было. Пацан зацепился за ножку стола и потянул. С него полетело все, что принесла девчонка из города. Банки со сметаной разбились вдрызг. Лопнула бутылка молока, разлившись на полу, в него упали яйца и колбаса.
Падла! Зараза! Свинья! — схватила мальчишку за ухо. Тот вцепился зубами в ногу и не отпускал.
Катька вскрикнула и ударила пацана по голове. Тот разжал зубы и потерял сознанье.
Давай вышвырнем во двор! Зверюга какой-то! —
Мне его Чирий дал. Ему вернуть надо. Завтра утром отведу. Пусть сам с ним кувыркается, с этим психом! — останавливала Катька кровь на ноге.
Слушай, с ним в одном доме невозможно дышать. Он все провоняет. Куда хочешь его день! — взмолилась Зинка.
Ну, помой, пока он в отрубе.
Зинка сняла портки с мальчишки, вынесла их во двор. Едва взялась помыть задницу, Антон тут же пришел в себя.
Ну, падлюка! Я думала, у него голова на плечах растет как у всех, а у него все местами поменялось! Чуть попала вода на жопу, он очухался, — зажимала Зинка нос. Все руки — в дерьме. Антон постарался…
Это не беда, что Зинка колотила его по заднице. Антон знавал кое-что покруче.
Да выведи его во двор! — задыхалась Катька. Зинка попыталась, но тут же таз, где хотела помыть мальчишку, перевернулся на пол.
Катька еще не успела на стол все продукты — их мигом залило зловонным месивом.
Ну, пидер, погоди! — ухватила Кошка Антона и тут же отскочила от него с воплем. Тот успел укусить за руку и теперь довольно улыбался, победно оглядывал девчонок. Выхватил из-под Зинкиной ноги палку колбасы, решив отмахнуться ею, если его вздумают все же выкинуть во двор. Ему никак не хотелось покидать дом.
Ты — свинья! Я тебя все равно выброшу! — пообещала Катька.
Антон, поваляв колбасу в дерьме, запустил ее в девчонку. Та не успела увернуться. Антошка радостно хохотал. Он забавлялся.
Ни метлой, ни кочергой, ни даже засовом не смогли выковырнуть из дома пацана. Он забился под печку и сидел там как таракан, наблюдая за девчонками, убиравшими в доме.
Он и не знал, что помимо них тут живут двое мальчишек, какие вернулись затемно и, узнав о случившемся, ничуть не смутились. Выйдя во двор, вскоре приволокли ужа и запустили под печку. Антон вылетел оттуда пулей, сшиб с ног Женьку, но Димка успел поймать голозадого пацана за ногу и выволок в коридор.
Ох и пожалел он о том. Антон вывернулся спиралью, схватил засов, выставил его вперед. Димка в потемках не разглядел и наткнулся всем лицом в толстенную доску, взвыл от боли и, ничего не видя, попросил: Катька, открой!
Антон раньше его залетел в дом и мигом нырнул под Катькину койку. Вытаскивать его оттуда никто не отважился. Мальчишка уже совсем успокоился. Он обзывал обитателей дома так, что будь в пределах досягаемости, ему свернули б шею.
Антон хохотал от восторга. Но совсем внезапно для него в дом пришел Пузырь.
Послушав Катьку, Зинку и ребят, Толян нахмурился и, не подходя к койке, сказал строго: Выходи сюда!
Антон, пыхтя, подполз, высунулся по пояс и, отмерив Толику по плечо, укатился поспешно обратно.
Я тебя вытаскивать не стану. Сделаем проще: сейчас позову твою родню из деревни. Они тут неподалеку остановились. Приведу мужика, он тебя по кускам из-под койки вытащит! — сделал вид, что собирается пойти. Антон мигом из-под койки вылетел. Ему живо вспомнились широченная лавка за домом, громадные безжалостные руки мужика и хлесткие вожжи. Испытать их на себе еще раз Антону не хотелось.
Не надо! Не зови! Я не буду! Я всех стану слушать, только не приводи его! — плакал мальчишка, дрожа непритворно.
Ну, что? Оставим до утра? Иль все ж отдадим его? — спросила Катька детвору.
Антон смотрел на всех заискивающе, как виноватый нашкодивший щенок, готовый вылизать всех, лишь бы его не прогнали.
Не верю я ему! — буркнул Димка. Ну, куда его на ночь? Пусть спит, а там посмотрим, — сказала Зинка тихо и добавила: — Я сегодня зашла в телевизорный магазин, а там Шурочку показывают. Она такая нарядная, веселая, так красиво пела! Я даже заплакала. Жаль, что ее насовсем отдали, но теперь не вернем. Может, из этого гада что-нибудь путящее получится? Помните, Шурка поначалу тоже озоровала, зато потом какой хорошей стала!
Так то Шурка! И Дашка не хуже ее!
Антон слушал всех молча, глазами просил поддержки у Толика. Тот понял, перевел разговор на другую тему, и ребята вскоре забыли об Антоне. Тот, поняв, что опасность миновала, ушел незаметно в другую комнату и, забравшись на Катькину кровать, заснул, забыв об ужине.
Весь следующий день он кривлялся и выпрашивал милостыню по магазинам под контролем Зинки. Толик не посоветовал Катьке брать Антошку с собой.
На базаре пацана быстро приметят. Не родня, так менты помогут его сыскать. Неспроста боится. Да и впрямь, шкура на нем не зажила. Видать, выдрали круто. Достал! Но все ж не стоило вот так! Потому возвращаться не хочет. Пусть у вас дышит пока. С Зинкой посшибает навар! Если на них деревня нарвется — слиняют, а коли нет — заберут его. Зинка неприметная. Ее не запомнят, а ты — красивая! Тебя вмиг приметят! Не рискуй собою! — попросил Катьку, сжав в своих ладонях руки девчонки. Та согласилась.
Весь день Зинка с Антоном ходили по городу: от одного магазина к другому. Им подавали, но скудно. За полдня всего то и набралось на две буханки хлеба Девчонка совсем приуныла. Антошка проголодался, просил есть. Она купила хлеба, села рядом с ним, разделив буханку пополам, и только потянула в рот горбушку, увидела, как перед ними остановился человек и смотрел на Антошку во все глаза.
Девчонка толкнула его локтем в бок, спросила тихо:
Ты его знаешь? Это твоя деревня?
Не, — глянул пацан и спокойно стал есть свой хлеб, даже не глядя на мужика. А тот не сводил глаз с Антона.
Чего вылупился? Чего надо? — чуть не подавилась девчонка, не выдержав пронизывающего, жгучего взгляда.
Этот малый — твой брат? — спросил тот.
Тебе что до того?
Как жаль, что это нежное созданье живет с такой грубой неопрятной девчонкой! И самое досадное — вынужден голодать.
Если так жалко, накорми его!
С радостью! Пошли со мной, малыш! — подошел к Антону торопливо.
Иди в жопу! — ответил тот.
Я тебе куплю мороженое и пирожное, конфет и шоколада! Ты такой пухленький и розовый как цветок. Негоже тебе есть сухой хлеб! — настойчиво потянул за руку. Пацан, поддавшись на уговоры, встал.
Куда собрался? Не пущу одного! — удержала Зинка мальчугана.
Почему не отпускаешь? Накормлю и верну тебе.
Я никуда его не отпущу. Мы вместе!
Ты тоже хочешь сладкого! Но мне не по душе твоя грубость! Я не хочу приводить к себе злую, грязную девчонку.
Сам говно! Линяй от нас! Чего пристал как банный лист?
Мальчонку жаль! Хотел его хоть на время вернуть в сказку!
Своих заимей!
Собака, не девчонка! — разозлился человек и, отойдя к магазинчику, купил маленькую шоколадку, отдал Антону и попросил: — Сам съешь! Ни с кем не делись.
А такой маленькой самому не хватит! — простодушно заметил пацан.
У меня дома много всего! Но твоя сестра не отпускает. Попросись и ты станешь приходить ко мне каждый день.
Зачем тебе он нужен? — ядовито спросила Зинка.
Детей люблю. Со многими дружу. И этот понравился. Впервые ко мне не отпустили малыша! Даже обидно!
А ты в задницу заткни обиду! Теперь всяких развелось. Все такие добрые, хорошие! Чужих детей шоколадом кормят! Зато своих на улицу выбрасывают. И даже не вспоминают, живы или нет?
Ну, я за твоих родителей не хочу отвечать, но мальчонку жаль. Дай его мне до вечера. Я верну, приведу к тебе! — потянулся к Антону. Но Зинка загородила мальчишку собою. Не согласилась отпустить.
Мужик ушел, а Зинка еще долго не могла отделаться от страха, охватившего всю ее душу. С чего, почему так испугалась, сама не могла понять. Ведь человек был прилично одет, уже в возрасте. Он не отнимал Антошку силой, лишь предложил… У Зинки все заледенело от ужаса. Она готова была проглотить Антошку, чтоб спрятать егосвоем животе от сверлящего взгляда мужика
Пошли домой! — взяла Антона за руку девчонка. У нее пропало настроение побираться. Зинке захотелось поскорее спрятаться от всех чужих глаз, от лиц, от любопытства незнакомых людей.
Они уже сворачивали к своей окраине, когда Антошка, устав, попросился немножко отдохнуть, посидеть на траве, и Зинка уступила.
Под кустом сирени было прохладно и тихо. Зинка хотела прилечь рядом с Антошкой, но вдруг услышала шаги — осторожные неспешные, крадущиеся.
«Кого это черти несут? Наверное воры к кому-то намылились? Хотя здесь одна голь живет, вроде нас! Может, Колька-Чирий за положняком возник? И чтоб Голдберг не хватил, вот так крадется? Ох и напугаю гада!» — выглянула из-за куста и увидела мужика того самого, угостившего шоколадом Антошку.
«Ну, это уже совсем не с добра! По следам, «на хвосте» приволокся. Что ему надо?» — наблюдала за человеком, оглядывающимся по сторонам.
Девчонка влезла в куст поглубже, но Антошка как назло загнусавил:
Не толкайся, дай спать, ноги болят…
Зинка успокоила его. Когда выглянула во второй раз, на дороге никого не было. Словно приснился тот мужик. Девчонка, прежде чем выйти из кустов, еще долго сидела рядом с мальчишкой. Лишь убедившись, что вокруг ни единой живой души нет, заторопилась к дому.
Вечером она рассказала Катьке и мальчишкам о мужике, пристававшем к Антону.
А может, впрямь, Антошка ему по кайфу пришелся? Может он художник иль музыкант? Ну, помнишь, как с Шуркой стряслось? Тоже прилип к вам! Ты на это везучая! Вот и в Антошке свое приметил, — не хотелось Катьке верить в плохое, подозревать всех в мерзостях.
У того глаза были добрые. Как у нашего Димки. Чистые-чистые. А у этого — злые! Как с могильной плиты их украл у портрета! И когда мы шли домой…, - осеклась Зинка, увидев тень, мелькнувшую за забором, и сказала: — Ну, если там мне могло показаться, здесь проверим! — позвала Голдберга и, выпустив во двор, крикнула: — Чужой! Фас его!
Пес, сделав круг по двору, перепрыгнул штакетник и, зарычав глухо, понесся к пустырю. Оттуда вскоре донесся чей-то протяжный крик, брань, угрозы. Вскоре все стихло. Пес вернулся домой и, забравшись под стол, уснул, поворчав немного.
Завтра я его с собой возьму. Пусть отпугивает всяких гадов от нас! — сказала Зинка.
Во, дура! Тогда и на буханку хлеба не дадут тебе. Кто подойти насмелится, увидев Голдберга? Да и не поверят, что голодаешь, коль такую псину держишь, — подал голос Димка.
А и дом сторожить надо! От ворюг! Раньше у нас украсть было нечего! Теперь смотри: и телек, и магнитола, на койках дорогие одеялки! И покрывала, и полотенца! Да и барахла много всякого. Разве не жаль? Нельзя дом без сторожа оставлять! — не согласилась Катька.
Боюсь я этого мужика! — созналась Зинка, дрогнув голосом.
Не дергайся! Вот придет Толик, я ему расскажу. Он выследит того хмыря и даст ему чертей. Вмиг отвадит от вас, — пообещала Катька и тут же подскочила, увидев знакомую фигуру в калитке.
Катька забыла о своем обещании Зинке. Вместе с Толиком она ушла далеко от дома. Так надежнее, не подслушает детвора, что нашептали весенние ветры. Как кружили они головы тем, кто поверил в слова — тихие как шелест листвы, щемящие как запахи ночных цветов, ласковые как теплые ветры.
Я люблю тебя! — целовал Толик девчонку, уже не отворачивающуюся, не прячущую свои губы от его. — Единственная моя, самая лучшая и красивая! Нет второй такой девчонки во всем свете!
И Катька поверила…
Что ей хнычущий Антон, серая как мышь Зинка? Что ей до забот Женьки с Димкой? Они все так малы, им еще долго ждать свою весну. Они пока дети. Им недоступна щемящая тоска ожиданий и трепетная радость от
встреч. Как кружат голову слова… Самые сокровенные, от сердца. Их повторяла целый день, до самой встречи вечером и ждала его как нового чуда. Только бы скорее он наступил — этот долгожданный вечер. Обо всем другом не хотелось ни вспоминать, ни думать.
Сколько насшибали за день Женька с Димкой? Сколько принесли Зинка с Антошкой? Их заботы перестали интересовать девчонку. Она, слушая, не слышала, не воспринимала всерьез. Но увидела зареванное лицо Зинки.
Ты чего сопли распустила? — спросила удивленно.
Кать! Да что с тобой? Неужели забыла иль не слышала? Антошка пропал. Его уже третий день нет! Мы его всюду искали. И мальчишки, и я!
Зачем? Наверное, его нашли родственники! Где он исчез? — будто проснулась девчонка.
Мы с ним на базаре были. Он пошел попить квасу. Ну, очень просил пить. Я дала ему на стакан. Подвела к очереди. Людей немного было. Ну и сама рядом. Куда делся, как исчез — не знаю. Ведь на секунду руку выпустила. Словно сквозь землю провалился!
Убежал! Не иначе! А может, свои позвали, да ты не заметила.
Нет! Его родители ищут. По телеку фотографию Антона показывают и телефон дают. Просят, кто что-нибудь знает о пацане, сообщить срочно за хорошее вознаграждение! И мы на нем могли бы получить, — хныкала Зинка.
Значит, кто-то нас опередил…
Час назад по телеку отец Антошку просил людей помочь найти сына. А пропал три дня назад, — хмурился Женька.
У меня внутри все болит. Как бы не стряслось с ним чего плохого, — обронили Зинка.
То все искали от него пятый угол, не знали, как избавиться, теперь воете! Пойми вас! Чего ваши мозги ломит? Он, что, родной нам? Одни неприятности хлебали! Исчез и ладно! Не жаль! Он мне всю койку проссал!
Койку можно просушить. А вот где искать Антошку? Хороший иль хреновый, родителям воротить надо! Раз ищут, значит, любят! Пусть бы с ними жил. Небось, нас никто не вспомнит и по телеку не скажет
«воротись»… А уж про вознаграждение и не подумают. Кому мы нужны? А вот его любят! — заплакала Зинка, пожалев саму себя. Конечно, за нее не дадут денег. Даже если б она предложила б, все равно не пустили б в дом, не простив котлет, какие скормила псу.
Надо найти его, — слабым эхом повис голос
Женьки.
Куда он мог деться? Тот мужик не подходил больше к вам? — вспомнила Катька.
Нет. За все дни его ни разу не приметила. Нигде. И в тот день не появлялся. И до того тоже. А ведь три дня прошло, как к нам привязался. Нет, это не то. Но я не знаю, куда делся? Под машину? Не мог! До дороги далеко. Да и отец его — начальник ГАИ, небось все морги обшмонал уже давно. Коль еще к людям обращается, значит, в покойниках Антошки нет!
Раз он живой, сыщут его родные! — пыталась успокоить ребятню Катька с Дашкой. Но на душе скверно стало.
Знаешь, он в тот день так слушался меня: ни разу не укусил, не обозвал, не дразнился. И все говорил, что больше не пойдет в тетошный сортир на базаре, только к мужикам, чтоб не смеялись над ним девки и бабы. Он даже конфету мне отдал, какую ему положили. И все просил съесть, жалел, что худая. Мол, Голдберг толще, чем я! Он становился семейным, совсем своим, — вздыхала Зинка. Приуныла и Дашка.
Мы на базаре все обшарили вместе с Зинкой. И под прилавками проверили, и за дверями. Даже в люки лазили. Нигде его нет, — вздохнул Женька тихо.
Осталось только в сортире проверить. Может, упал и задохнулся? — предположил Димка.
Во, дурак! Его б враз приметили! Да и не провалится Антошкина жопа ни в одну дыру. Она ж у него толще Катькиной! — получил пацан спешную оплеуху и тут же умолк.
Надо Кольке-Чирию сказать. Этот разыщет! — сказала Катька.
Тогда он, а не мы вознаграждение получит! — выпалила Зинка и сказала: — Хотя искать Антошку больше негде.
Катьке не хотелось думать о мальчишке, к которому не привыкла. Да и не пришелся он по душе девчонке. Злую память оставил о себе. Но Зинка не хотела упускать выгоду, обещанную отцом пацана.
Как хотите, только мне кажется, всем нам стоит поскорее забыть о нем, — предложила Катька.
Но едва пришел Толик, Зинка ему все рассказала, не стала ожидать Катьку. И Пузырь пообещал на следующий день включить в поиск Антона всю пацанов- скую кодлу.
Зинка мигом успокоилась. Она знала, Пузырь всегда выполняет свои обещания.
Если он живой, надыбаем! От нас он никуда не смоется! — сказал Толик.
Уже на следующий день весь город поставили на уши пацаны. Побывали в моргах и в неотложках, навестили все больницы, обшарили все дворы, подвалы, чердаки, мусорные контейнеры и клетки лифтов. Они навестили магазины, столовые, закусочные и пивбары. Обошли вокруг ларьков и киосков. Опросили дворников. Заглянули на каждую детскую площадку. Спрашивали об Антошке во дворах у детей и старух. Но тщетно… Никто его не видел и не встречал даже случайно.
Мрачнел Толик. Он не терпел неудач и вздумал найти Антошку уже из принципа.
А может деревенские родственники нашли и убили, чтоб Антошка не сказал отцу, как его били? — додумалась Зинка.
Глупо это, но тоже проверим, — пообещал Толик.
Но нет, деревенская родня искренне расстроилась и тоже искала мальчишку.
Мы говорили со всеми сторожами погостов! Нигде уже две недели не хоронили детей! — сказал Женька.
Ну, насмешил! Кто ж, замокрив мальца, понесет его на кладбище? Там официально хоронят. Этого, если убили, на погост не понесут! — отмахнулся Толик и решил навестить свалку.
«Эх, жаль Гориллы нет! Этот бы теперь помог! Он не только всех бомжей знал, а и городской сброд! Кто чем дышит, кто что отмочил? От него никто не мог скрыться. Мне бы Егор помог!» — думал Пузырь, перебирая в памяти всех бомжей, к кому он мог бы обратиться.
Толик поддерживал нормальные отношения со многими. Но были и те, кого презирая, откровенно ненавидел, и те, кого не замечал. Но теперь его интересовал только Антон. Чтобы разыскать мальчишку, Пузырь готов был говорить с кем угодно. Он знал, бомжи могут дать совет и помочь. Главное, на кого нарвешься? И согласятся ли они? Хотя… если выставить им несколько пузырей, не откажутся. Всех и все тряхнут.
«Попробую подвалить к Кузьмичу! Этот мужик не только свалку держит! Он должен знать!» — подсел мальчишка к бомжу, сидевшему возле лачуги. Наскоро поговорив о всяких новостях, выложил свое.
Мальца ищешь? А на кой он тебе сдался совсем зеленый? Говоришь, ему от силы пять зим? Пухлый, розовый? Такого могли в семью взять! За своего! Бездетные! Какой-нибудь коммерсант. А может рекетиры увели его у вас. Теперь с отца потребуют кучерявый навар. Этим тебе лучше не становиться поперек дороги. И я не ввяжусь. Тогда не только люди, собаки не сыщут, где урыли. Тут же крупным наваром пахнет. Выходит, коль он не у них, значит, вот-вот включатся. Эти из-под земли жмура достанут и заставят дышать. Отвяжись от мальца. С бандитами лучше не связывайся. У них сил много больше!
Уже четыре дня прошли. И ничего! Вот и надо самим…
Тебе рэкет не доложится. И мне тоже! Откуда знаешь? Может уже нашли и торгуются с родителем?
Тот вчера по телеку выступал. Этот на «башли» не зажмется! Шмонать надо! — настаивал Пузырь.
Говоришь, весь город тряхнули? — прищурился Кузьмич. — А ну, вякни, где возникали? — Кузьмич внимательно слушал Толяна.
Тот все перечислил и добавил неуверенно о мужике, пристававшем к Антону за несколько дней до исчезновения.
Кузьмич насторожился.
Опиши его подробно! — потребовал сразу.
Зинка говорила о нем. С ее скажу…
Надо подумать, кто он? Если обычный фрайер, на хрен ему сопляк, какого до человека много лет рас надо? Но и подростка брать в дети невыгодно.
Своих будет помнить. Чужого не признает родным. Мог спереть и увезти в другой город, где живет. Но в лес дрова никто не возит. Нынче бездомной детворы больше, чем бродячих собак.
А если это пидер? — перебил Пузырь.
Вряд ли! Они нынче открыто кучкуются! Даже через газеты! Друг дружку ищут, стрелки забивают. Их теперь как блох развелось. На что им уголовщина?
Послушай, Кузьмич! Ведь есть паскуды, каким нужны только малыши! Им не по кайфу пробитые задницы! Дай пацанят! Это верняк! Даже к нашим мальцам прикипались, уламывали в голубые! Мы им рыла квасили. Они отставали, но ненадолго. Вскоре снова прикипались. Выходит, не перевелись любители соплячьих задниц.
Хороши сопляки у вас! Самому меньшему лет тринадцать! Да такой любому лидеру все на свете оторвет! Особо ваши!
Научили мы их! Куда деваться? Но Антону немного до пяти не хватало. Злой пацан. Умел за себя постоять, но с мужиком не сладить ему. Слабак покуда, — вздохнул Пузырь.
Есть и у нас, кто за такие дела ходки гремел. Раньше, говорят, их на зоне петушили. До ожмуренья. Теперь не то. Развелось паскудство на земле. Вон я недавно в городе встретился с одним. Он — педрило известный! Своего пасынка натянул. В ходке пяток лет морился, а нынче на воле кайфует. В городе приклеился.
Может он? — насторожился Толик.
Нет! Нынче бабу имеет! Хотя… Таких ничто не остановит! — задумался Кузьмич и подозвал Павла, рассказал об Антоне и спросил: — Ты Мокрицу помнишь?
Лидера?
Ну да! Ни его ли шкода?
Хрен его знает! Я не общаюсь с ним! Лишь слухи доходят до наших! Вроде завязал с голубыми. Заразы ссыт! А может отгорела прыть? Все время дома. Никуда не рисуется. Лишь изредка его видят, когда с «пахоты» хиляет.
А где он живет?
В частном доме.
Пузырь запомнил адрес.
На следующий день, прихватив Зинку, Толик пошел к дому, названному бомжами.
Боюсь я его, — тряслась Зинка.
Дура! Чего ссышь? Ты вовсе не нужна ему. Ты просто посмотри, этот приставал к Антону или нет? — подвел девчонку к окну.
Ну! Видишь кого-нибудь? — дергал нетерпеливо.
Вижу бабу! Мужика там нет! — ответила, клацая
зубами.
Давай подождем немного, — предложил Толян.
Время шло, а к дому никто не подходил. Зинка понемногу успокоилась и заглянула в другие окна.
Нет! Там молодой мужик сидит, а тот был престарелый. Этот рыжий. Тот седой!
Значит, мимо! Прокол. Надо другого искать, — потащил домой Зинку. Проходя мимо вокзала, попросил подождать, пока купит сигарет.
Толик едва протискивался в толпе пассажиров и не сразу почувствовал, как его локоть сдавили. Оглянулся, увидел Зинку, побледневшую, испуганную. Она указывала на выход.
Здесь он! Я с ним столкнулась нос к носу. Скорей! — торопила пацана. Толик бежал за девчонкой. Они выскочили на перрон. Возле телефонной будки спокойно курил человек.
Вот он! Тот самый! — невольно спряталась Зинку за спину Толика. Пацан, велев ей уйти в сторону, пошел к мужику неторопливо.
Закурить не найдется? — долетело до Зинкино- го слуха.
Не курю! Давно бросил, — отвернулся человек. Толик стал шарить у себя в карманах, словно искал деньги или сигарету. Человек отошел в сторону.
А огонек найдется? — снова подошел к нему
Пузырь.
Возьми спички! — подал коробок. Пузырь прикурил, осветил лицо человека.
Что надо?! — спросил тот раздраженно.
Знакомого ищу.
Со спичками? — хмыкнул мужик.
Приходится. Кое-что сказать хочу.
Кому? Мне? Но я тебя не знаю. Ищи своего знакомого в другом месте.
Зачем? Я уже нашел!
Меня? Ты ошибся!
Нет! На этот раз — в точку! — рассмеялся Толик и сказал тихо: — Давай отойдем немного, без шороха. Слышь, дядя! Трепыхаться не стоит.
Ты что, пацан, офонарел? Ты меня явно с кем- то спутал!
Вот и выясним!
Человек отшатнулся, сделал шаг в сторону. Толик преградил путь.
У меня нет денег. Зря стараешься!
Я не налетчик! Трясти на башли не собираюсь. У меня к тебе разговор есть. Ты понял?
Человек терял терпение. Вот он вырвал руку из кармана, резко взмахнул. Пузырь успел перехватить, закрутил руку за спину.
Зинка! Сюда пыли! — повернул мужика лицом к
свету.
Он к вам приставал? — спросил девчонку.
Он! Я его запомнила.
Что надо вам, гадье? — пытался вырваться мужик.
А ты ее не узнаешь?
Впервые вижу…
А возле магазина приставал к Антошке! Забыл уже? — потеряла Зинка страх.
Иди ты…
К человеку шпана пристала! Гляньте! Двое к одному прицепились! — остановилась баба в двух шагах от Толика. Она хотела позвонить и не решалась подойти к будке.
Мы не грабим и не убиваем! Идите куда надо! — успокоила бабу Зинка.
Привязались сопляки! — повысил голос мужик.
А ну, ответь, падла, куда дел нашего Антона?! — закрутил руку повыше Толик.
Отпустите человека! Не то вызову милицию! — пригрозила баба.
Пузырь чуть ослабил руку. Человек мигом вырвался и бросился бежать. Толик за ним. Эти места он знал хорошо. И бежал, не глядя под ноги. Нагнав, сбил с ног. Тут, на выезде из города, никто не мог помешать разборке. Пузырь уже не сомневался. Именно голубые носили в мочке уха маленькую, похожую на пуговку, металлическую сережку. Она была особой меткой, по какой голубые легко, издалека и повсюду узнавали друг друга
Где Антон? Колись, падла, пока не расписал! — приставил к горлу перочинный нож.
Не знаю никакого Антона…
Ты, сука, приставал к нему! Ты шел следом, чтоб узнать, где живет! Ты его увел с базара! — ударил под дых.
Не знаю никого! — прохрипел мужик.
Я предупредил тебя! — взмахнул коротко. Ударил свинчаткой в висок.
Бандиты! — пытался кричать мужик, но сознанье отказало.
А может он не виноват? А вдруг кто другой увел Антошку? — подала голос Зинка.
Молчи, слепая дура! Смотри сюда! Иль не узнаешь? — указал на шею мужика.
Зинка вскрикнула, увидев на чужом человеке крест, какой был у Антона. В нем не было ничего особого, но маленькие бриллианты, вкрапленные в него, светились даже в темноте. Ни у кого другого не видел Толик ничего подобного. Заметил тот крест и Чирий, но не снял с пацана. Не осмелился, не решился. В доме Дикой Кошки даже в голову такое не пришло никому.
Выходит, он убил Антона? Ведь пацан не мог снять крест через голову. Башка была слишком большой, а цепочка без замка. Он даже мылся с ним! — вспомнила Зинка и заплакала.
Заткнись! Я этого хмыря придержу. А ты сбегай вон в тот дом, в подвал! Крикни Банана. И сюда ко мне пришли! Да живей! — прикрикнул на девчонку.
Через пяток минут орава парней выскочила из подвала, помчалась на помощь к Пузырю.
Костю надо! Пусть лягавый колет падлу! — предложил кто-то из парней.
Я не колоть его, размажу гада! Сам! Своими руками! — бил мужика по щекам, приводя в сознание. Тот, открыв глаза, увидел парней, наблюдавших за каждым движением. Понял, вырваться, сбежать не сможет.
Задавлю падлу на Антошкином кресте! — пообещал Толик глухо, и мужик понял, чем он выдал самого себя.
Уходи, Зинка! Теперь ты не нужна! Беги домой без оглядки. Шустрей! Никто тебя не тронет! — поторопил девчонку Пузырь. Той не стоило повторять.
Где Антон? — тряхнули мужика жесткие руки.
Теперь уж все! Опоздали бандюги! Песня спета! — ответил, понимая, что живым ему не уйти.
Колись, пидер! — не выдержал кто-то из ребят, ткнул кулаком в бок так, что искры из глаз посыпались.
Где Антон?
Вон там! — указал глазами в черное небо.
Где урыл?
Тебе не надыбать. И никому! Ему там спокойнее…
Он еще изголяется, козел! Дай я его достану! — протискивался плечистый, рослый парень, сжимая в громадные кулаки волосатые руки. Вот он схватил в горсть все лицо мужика. Сдавил его. Адская боль сковала панцирем.
Колись! Где Антон? На куски пустим! — услышал в самое ухо.
На пустыре он. Там теперь засранец!
Зачем убил его?
Орал много и кусался как собака!
Чего ж не отпустил его?
Человек молчал, но когда ему двинули в пах коленом, взмолился:
Не мог иначе. Он все равно откинулся б! Слабак оказался. Не выдержал меня.
Когда убил?
Давно. Позавчера. Он долго ныл. Все звал кого-то по именам. И я не выдержал. Он жаловался им на меня, просил отплатить, а я не верил, что у него есть кто-то, кроме той паршивой девчонки, с какою побирался. Я смеялся, а он грозил мне. Он — сопляк, обзывал. Теперь уж все! Когда змееныш замолчал, я кайфовал. Меня никто не обзывал так грязно и обидно! А ведь я его не собирался убивать. Хотел по-хорошему с ним обойтись. Да только он был шпаной как вы! — затих,
Вам его не поднять. А и выкопаете — не узнаете! Уделал как маму родную. И на куски порвал! Собаки не опознают. А вам и вовсе не узнать! — захлебнулся кровью, хлынувшей изо рта. Перестарались парни, сдавив его.
А через день нашла милиция на пустыре Антона Убийца не соврал. Он перед смертью сказал правду. И все ж… родные опознали своего по приметам.
Зинка, узнав подробности, перестала ходить в город через пустырь. Ей все мерещился крик Антошки, зовущего ее на помощь.
Катька быстро выкинула из памяти случившееся. С бомжами, особо с детьми, случались в городе трагедии куда как страшнее. И малолетних бомжей уже невозможно было удивить человеческой жестокостью. Поражало, когда видели доброе. Вот от него впрямь отвыкли люди. Может поэтому, ощутив каплю тепла по отношению к себе, искренне удивлялись и, подняв к небу головы, истово перекрестившись, шептали тихо: Господи! Ты еще видишь нас…
Глава 10.
Прошку знала не только свалка, а и весь город. Еще бы! Второго такого матерщинника, выпивохи и бабника не было на земле. Даже падальные вороны опасались садиться или пролетать поблизости от него. Прошка враз раскрашивал их биографию, вспоминая им все с самого нежного возраста. И обещал такое, от чего они на лету гадили со страха. А вдруг не шутит этот мужик?
Прошка никогда не жил в одиночестве и не терпел скуки. Вокруг него, несмотря на мат, роились всякие мужики бабы, бездомные собаки и кошки, свыкшиеся с громоздким человеком, какого знали по кличке Дылда. Звали его Сундуком и Шкафом, вобщем, всем большим и безобидным. Прошку это не задевало.
С утра, как только солнце заглядывало в его самую большую и несуразную лачугу, Дылда просыпался, стряхивал с себя пяток полупьяных баб, прилипших к нему еще с вечера, и вылезал наружу. Там выпрямлялся, потягивался под собственные зловонные напевы и, убедившись, что все в порядке, будил спящих в лачуге громовым голосом:
Эй! Вошки — мандавошки! Вскакивайте на ножки! Не заблудитесь в своих грудях и мудях! Вытряхивайтесь вон из моей фатеры! Живее ищите выпивон и закусон! Мечите все, что сыщете, пока я добрый!
Бабы и мужики вылетали из лачуги, шарили все съестное и несли Прошке.
Да и то сказать надо правду, Дылда никогда не возвращался из города с пустыми руками.
Даже в самые несносные, тяжелые времена он приносил бомжам свалки полный рюкзак жратвы. Иногда это был только хлеб, но и его не воровал. Он всегда находил для себя работу в городе. Уж что только не приходилось делать человеку. Он все умел. Никогда не унывал. Где был Прошка, там всегда гремел смех.
В городе Дылду охотно нанимали. Он умел все: строил гаражи, ставил срубы, заливал бетоном фундаменты, вел проводку, стелил полы, ремонтировал сантехнику, перетягивал кресла и диваны, подгонял оконные и дверные коробки. А уж белить и красить лучше него никто не умел.
Горожане спокойно впускали его в дома и квартиры, зная, Прошка ничего не украдет. Это было проверено годами.
Дылда жил своим трудом. И бомжи нередко завидовали мужику, сумевшему даже средь них остаться самим собой.
Другие делали набеги на сады и огороды горожан. Дылда, помогая людям убирать урожай, получал свою долю, приносил и ел спокойно, не оглядываясь, ни разу не подавившись.
Воровать Прошка боялся с самого детства Всему причиной был его большой рост, а потому сам рассказал:
Полезли мы к одному козлу в огород за клубникой. Она у него раньше всех поспевала. Впятером через забор перемахнули. А тут окно открылось. Пацаны-засранцы приметили и попрятались в смородине. Я ж куда? Ткнулся под куст, голову спрятал, а жопа и все прочее наруже осталось. Ну, а хозяин и вмазал мне заряд крупной соли. Везде достал! Во все прочее и в сраку! Да так лихо, что всю ночь в тазу отмокал и дал себе зарок не воровать никогда! Невезучим оказался. За сраную клубнику чуть яйцами не поплатился! А ведь уже к девкам бегал в ту пору! И надо ж такая оказия! Две недели из жизни как украл у меня тот мужик- барбос! Ну, я когда в себя пришел, отплатил! У этого гада дочка была! На год моложе. Но телка! Сиськи — по кочану! Жопа — в два арбуза! Мимо нее не то ровесники, мужики в страхе проскакивали! Полная русская печь! А тот козлище еще и бахвалился на всю улицу, что к его девке никто не посмеет подойти, мол, любого на лопатки уложит. Я ж к тому времени всех девок в своем околотке перетискал. Уже по второму кругу пошел. На его девку и не смотрел.
Боялся, что задавит? — хмыкнул Пашка.
Нет. Влезть на нее едино, что на кобылу. Ну, ей-ей, уж слишком толстая. У коровы вымя меньше… А тут зло взяло. Вздумал досадить ему. Подкараулил, когда эта телка пошла сено на покосе ворошить Легла отдохнуть. Я мигом к ней. Она от счастья обалдела. К ней с самого детсада никто не приставал. А тут я подарком новогодним на нее свалился! Хвать за сиськи! Она аж зашлась вся!
То-то и видно: с детства шибанутый! Не додавила тебя она!
Это точно! Думал, задушит, так прижала, что дух еле удержал, но не осрамился. Свое справил! Ох и резвый оказалась кобыла! Не гляди, что толстая! Все вырваться норовила. Но куда от меня? Ни одной такое не удалось. А этой подавно! Опыт имел и стаж!
Кобылиные! — рассмеялись бабы.
Она через неделю сама меня повсюду ловить стала! Понравилось видать!
А ее отец? Он тебе не грозил?
Сватать меня пришел вскоре! С ружьем! Во, хмырь! И блажил, что я у него в доме всю клубнику сожрал. И если не женюсь, он меня пристрелит. Но
спасло, что в пятнадцать лет меня даже в сельсовете расписать отказались. Ответили, мол, мал покуда.
В сельсовет тоже под берданкой приволок тебя?
На вожжах вел, чтоб не сбежал. И всю дорогу кнутом порол, — вздыхал Дылда.
Ну и тесть! Как же ты слинял от него?
Его девка помогла! С другим вскоре спуталась. Развязал я ей поясок, она и пошла по рукам.
Чего ж не удержал?
Зачем? Баба цветет, когда ее многие хотят! Да и я не мог на одной остановиться.
Прошка! Сколько баб у тебя было?
указал на звездное небо, спросил рассмеявшись:
Пересчитать можешь?
— Нет!
Вот и я запомнить не сумел!
А жену имел?
Конечно. Целых семь штук!
Ого! А говоришь, не помнишь!
Дак это те, с кем записывался!
Ну и кобель! У тебя еще любовницы были?
То как же? Все любимые! Без того как к ней в постель ляжешь?
А какую больше всех любил?
Всех до единой! Каждая как цветок! Радовали и тешили. Любили меня, дурака.
Какую чаще других вспоминаешь? — полюбопытствовала опухшая лохматая бомжиха, какую даже по пьянке никогда не позвал к себе на ночь.
Первую!
Сколько ж ей лет было?
Шесть, не больше. И мне лет пять. Мы с ней в одном детсаде росли. Одна беда: она в инженерши проросла, а я в обратную сторону корни дал.
Ты хоть иногда с ними видишься? — спросил Павел.
То как же? Частенько случается! Куда от них
денусь?
Все озоруете?
Дурной! Ты свой хрен спроси! Озоруют по молодости. Нынче лишь утешаемся.
Леденцами? — хохотнул Павел.
Это у тебя сосулька меж ног растет. У меня — только перец! Дошло?
То-то Нюська вчера выползла от тебя и всю ночь блевала! Небось, перцу перебрала, — заметил Плешивый, хохотнув тихо.
Это ты у ней узнай. А вот к тебе в халупу не то бабы, даже крысы не заскакивают. Даже званье свое мужичье пропил. Ни одну не согрел. Вот и приходится мне за себя и таких как ты стараться, доказывать бабам, что не все потеряно, не извелся род мужичий!
Прошка! Сознайся! А за утехи чем платишь? Дурень! Такого в моей жизни не было, чтоб я бабу за деньги клеил! Утеха — дело обоюдное. Тут никто никому не должен.
Бомжи, услышав это, громко рассмеялись. Всем вспомнился недавний случай, когда городская бабенка средь бела дня прибежала на свалку и стала разыскивать Прошку по всем лачугам, зовя его, словно мартовская кошка:
Прошенька! Котик, лапушка мой! Ну, не серчай! Выйди ко мне! Прости свою глупышку! Давай помиримся…
Дылды не оказалось на свалке. Он ушел в город с самого утра. И баба, порыскав по лачугам, побежала в город. Когда Прохор вернулся, мужики животы надорвали, хохоча над Любкой, изобразившей городскую бабу: Прошенька, котик, сохнет мой ротик, душу свело, хварью припекло! — гнусавила бомжиха.
Любка! Кончай заводить! Не то и ты блевать станешь, коль припутаю! — пригрозил Дылда и, сунув бабе бутылку вина за пазуху, указал глазами на лачугу. Бомжиха послушно юркнула в хижину, ждала затаившись. Ей очень хотелось выпить, но не решалась открыть бутылку без хозяина. Ждала, глотая слюни.
О Прошке по свалке ходили разные слухи среди бомжей. Одни откровенно ему завидовали, что сумел, несмотря ни на что, сберечь в себе мужичье и умел за ночь порадовать не одну как другие, а две-три бабенки. Да еще в городе имел любовниц, пожалуй, больше десятка. Ни одну не забывал, не оставляя надолго без внимания.
Вот, мать твою, везет же козлу! Уже Любку заклеил! Я только к ней хотел примериться, этот увел. Меня баба с дома вышибла за то, что я слабоват по мужичьей части. Вот и говорил ей, мол, сколько ж надо тебе в твои годы? А она в ответ: «Чем чаще, тем лучше! А ты вовсе импотентом стал! Ну, кой прок от тебя? Не зарабатываешь и как мужик говно. Если б ты хоть в постели был человеком, все остальное простила б и жила с тобой».
Выходит, нынче только Прошки нужны бабью! Что им ум, интеллигентность, образование! Даже на внешность уже не смотрят. Вот и наши бомжихи такие же! — скрипели завистники.
Тебя просто выставила, а я свою на горячем застал. С хахалем! Сам ушел, понял: чужою стала. И тоже такой как Прошка к моей подвалил. Не мужик, а трехстворчатый шкаф с антресолями. Я как увидел, добровольно с дома слинял.
Везет Прошкам! — завидовали мужики и оглядывались на бомжих, роящихся вокруг Дылды.
Своей очереди ждать станут, — хмыкнул кто-то.
Как мухи к говну липнут!
Да будет вам зудеть! Бабы истинных мужиков нутром чуют! — обрывал их Павел, посмеиваясь.
Прошка уходил в свою фатеру. Оттуда до полуночи слышался смех, тихие восторги, ласковый шепот. К утру все стихало. А с первыми лучами солнца хозяин лачуги уходил в город, забывая гостей в хижине.
Вот и сегодня Прошка пришел на биржу. Раньше него лишь двое мужиков здесь появились. Да и то потому, что живут в городе с семьями. Им до биржи рукой подать, лишь улицу перейти. Дылде сюда со свалки почти час добираться. Вот и опередили. С ними уже торгуются бабы:
Да побойся ты Бога! У меня в ванной всего восемь квадратов плиткой выложить надо, а ты столько заломил!
Дешевле только бомжи сделают! Но как? Это уж твое дело! Я — мастер! Халтурить не умею. Цену своей работе знаю!
Нет! Ну это уж слишком! — отходит баба к Прошке и спрашивает робко: — Плитку в ванной положить сумеете?
Конечно!
А сколько возьмете?
Договоримся! Шкуру снимать не стану, — пообещал тихо и пошел следом.
В эту ночь Прошка не вернулся на свалку. Работал допоздна. На время не оглядывался. Лишь в третьем часу ночи сел перекурить. Хозяйка вошла в ванную и ахнула. Как красиво и чисто работал человек. Ванную комнату не узнать. В ней всего половину стены выложить осталось. Как быстро! Думала, на неделю в грязи застрянет, а тут того и гляди закончит работу.
Поели б! Ведь трудно без отдыха! — позвала на
кухню.
Прошка быстро справился с запоздалым ужином и к утру закончил работу.
Хозяйка! Все готово! — разбудил бабу. Та, отсчитав деньги, поблагодарила мужика.
Дылда не пошел сегодня на биржу. Устал за ночь. Пройдя три квартала, свернул в знакомый двор, увитый плющом. Здесь даже стены дома не просматривались из-за густых зарослей сирени. И только Прошка мог пройти с закрытыми глазами в старую скрипучую дверь.
Он никогда не стучал в нее. Здесь его всегда ждала мать.
Сынок! Как хорошо, что пришел! — отложила вязание, подошла к Прошке.
Возьми деньги! — отдал весь заработок.
А себе оставил? — глянула поверх очков.
Конечно, — кивнул головой и, оглядев крохотную комнатушку, так и не приглядел, где сможет отдохнуть.
Мать для Прошки была единственным, самым родным человеком на земле. Он очень боялся ненароком огорчить ее, а потому ничего о себе не рассказывал. Зачем ей знать, что он уже не первый год живет среди бомжей, а с семьей не поладил, не ужился и ушел. Впрочем, она была не первой.
Женился он впервые в восемнадцать лет. Отец заставил под кнутом. Решил остепенить парня, чтоб не жил как жеребец в табуне, вздумал стреножить. Да только просчитался родитель. И уже в первую ночь выскочил Прошка от молодой жены в окно и затащил на сеновал хохотушку-соседку. Там их и поймали. Жена тут же ушла. Прошка о ней не горевал. Он не любил ее, а родитель поздно понял свою ошибку.
Во второй раз его заставили жениться всем колхозом на Ульяне. Она была на два года старше Прошки и работала пчеловодом. Сама не знала, как сумела забеременеть. Сказала Прошке, тот рассмеялся: Беременна? А от кого?
Улька в петлю полезла с запиской в рейтузах. Ее сняли, откачали, записку вытащили и прочли. Вскоре им свадьбу справили. Дочь родилась — копия председателя колхоза. Вся деревня Прошку жалела. Да и он с каждой девкой отметился на сеновалах. Дома не ночевал. Улька его все лето прождала и не выдержала, ушла молча к своим родителям. И больше никогда не подходила к Прошке.
В третий раз Дылда женился после службы в армии через три месяца, оббежав всех прежних подружек. Дуняшку заметил позже всех. Пока он служил, выросла девчонка в девку. Прошка и подвалил к ней на танцах. Петухом вокруг ходил, грудь колесом держал, подмигивал, руку пожимал. Но напрасно, не уступала. Разрешила проводить до калитки, но даже обнять не позволила. Никаких вольностей не разрешила. Чуть к калитке, девка шмыг в нее и кричите крыльца: Спокойной ночи!
Какой уж там покой? Прошка злился на себя. Но выманить Дуняшку за село никак не удавалось. Видно, была наслышана о его кобелиной прыти. Он же ровно кот вокруг сметаны крутился, а девка марку держит. Не дает даже под руку взять. Извела Прошку вконец. Он о ней матери сказал. Та посоветовала сделать предложение, и Дылда, повздыхав, решился.
Дуняшка не поторопилась с согласием. Целый месяц думала, а потом уступила.
Прошка попытался добиться своего до свадьбы, но получил по зубам. Девка едва не отказалась от него, Пришлось смириться и ждать.
А на третий день после свадьбы приехала подружка из города. Веселая, бойкая, смелая. Все шутила с Дунькой и Прошкой. Растормошила парня. Тот с ней перемигнулся, позвал на чердак. Оттуда их средь ночи Дуняшка выкинула с позором и с криком. Свою подружку — за волосы, Прошке по морде надавала. Сколько ни просил, не простила. Собрала свое барахлишко и ушла к своим. Он за нею едва стемнело, но никто ему двери не открыл. Отец жены из-за двери посоветовал убираться вон, покуда вилами яйца не проткнул.
Прошка ждал, когда остынет обида. Но зря. Осенью вернулся из армии парень, с каким Дунька встречалась до службы. Через месяц они поженились.
А на Новый год поехал Дылда в соседнее село смолоть зерно на мельнице. Вот тут-то он и повстречал щекастую дочь мельника. Слово за слово, понравились румяные щеки девки. Ущипнул ее за круглый зад. Майка — ни слова, а отец, приметив, пригрозил. Помирились, когда Прошка пообещал послать сватов. И сдержал слово…
Майка была на редкость работящей. Весь дом в порядок привела за неделю. Прошка не мог нарадоваться: «Вот это повезло! Не жена — клад!». Всюду сама управлялась, ни в чем не просила помощи. Закололи бычка — сама поехала в город продавать мясо. Прошка лишь на третий день за нею отправился, что-то задержалась баба. Может, мясо плохо пошло?
Всюду искал Майку. У знакомых, где остановилась, на рынке, — нигде жены нет. Сыскал лишь на пятый день в морге. Убили бабу бандюги. За базаром. Та еще мясо не продала, они деньги потребовали.
Смотри, сынок! Год носи траур! Не вздумай жениться раньше. Грех это! Его тебе покойная не простит! — предупредила мать.
Прошка, слушая, не услышал. Правду сказать, сорок дней выдержал, не бегал по бабам. Но дальше терпеть не смог.
Угомонись, Прошка! Тебе уже все кобели завидуют. Ну, что ты такой прыгучий? Глянь, весь в трухе
утром вертаешься. В волосах — солома, одежа — в сене, на портках — опилки. Где тебя черти носят по ночам? Нетто стыда нет? — урезонивала мать.
А я что? Мы только поболтали малость, — прятал блудливый взгляд.
Ну да! От разговоров вся твоя шея в засосах! — указала на зеркало.
Прошка умолк. А через неделю повадился к соседке, молодой вдове. Поначалу помогал дрова напилить, наколоть, сложить поленницу, потом на ночь остался.
Кобель крученый! В кого такой уродился? Все мужики в семье путними были, ты один шалопутный, — ворчала мать.
Прошка через месяц объявил, что женится на соседке. Мать руками замахала:
Не допущу срама! Ожди год по покойной жене! Не накличь беду на семью и дом!
Прошка нахмурился и в чем был, выскочил из дома прямо к ней через забор…
Пришлось смириться и матери.
Оксана была тихой и послушной. Слова поперек не сказала никому. Со всеми соглашалась и ладила С Прош- кой была покорно ласковой. И Дылда решил, что она поставит последнюю точку на его холостяцкой жизни.
Он расписался с нею все в том же сельсовете, но уже свадьбу не справлял. Денег не нашлось. Решили отметить вечеринкой, на какую позвал троих друзей и гармониста.
Все шло нормально. А на шестом стакане перед глазами все поплыло. Прошка пошел в комнату отдохнуть немного. Глядь, что такое?
«Нет, показалось! Не может быть! Перебрал!» — протер глаза. Но нет! Не померещилось. Его закадычный друг утешал жену. Повернувшись к Прошке, сказал, осклабясь:
С друзьями всем делиться надо! Иди за стол! Здесь без тебя не скучают…
Дылда мигом отрезвел. Бросился к другу с кулаками, но их вскоре разняли, развели по домам. Уходя, бросил через плечо:
Сука ты, Ксюшка! Подзаборная блядешка! А ведь я любил тебя!
Сам кобель! Всех баб в селе перетискал, а теперь верность подавай! Не много ли захотел, козел шелудивый? Иди вон! Такие как ты за забором пачками валяются!
Прошка после Ксюшки с месяц по бабам не ходил. Злился на всех разом. Он сам изменял, считая, что мужик имеет на это право. Ему в подоле не приносить, а вот бабе этакое утворить — грех и срам. И все же по селу его стали звать рогоносцем. Не только мужики, даже пацанва.
Сынок! Осрамились мы с тобой на весь свет. В своей деревне не сосватаешь больше ни одну путевую девку. В соседнем тоже никто за тебя не пойдет. Людская молва все тропки перекроет. Сплетни да пересуды любую оттолкнут. Поезжай в город. Может, сыщешь там свою судьбу, а потом, коли Бог даст, и меня перевезешь. Продадим свой дом, купим в городе меньший. Зато никто не будет в лицо нам смеяться. Станем жить тихо. Авось и ты остепенишься, будешь смирным мужиком.
Прошке понравилась материнская задумка и через неделю поехал в город, решив вначале сам обустроиться, а потом перевезти мать.
С работой проблем не было. Прошка многому научился в деревне и в армии, не гнушался никакой работы и помимо всего еще ходил вечерами на «шабашку». Сам определился в общежитие. Слесари-сантехники всегда были нужны городу, и Дылда не сидел без дела. Но заработка никак не хватало на жизнь, а тут еще с зарплатой пошла чехарда. Ее перестали выдавать вовремя.
Сменить работу значило уйти из общежития. Если снять комнату, за нее всякий месяц платить придется. И немало. Прошка долго искал выход. Ломал голову, как жить дальше? Ведь в селе были свои харчи. Здесь их приходилось покупать. В селе, конечно, и работа от зари до зари. К тому ж нынче из деревни весь люд уезжает. Только за два месяца улица почти пустой осталась. Окна стоят заколоченные досками крест на крест.
Может и не согласился бы Прошка так спешно уехать в город, если б не столь быстро пустела деревня. И не только девок, баб в ней почти не осталось. Лишь старухи-пересудницы да детвора сидят возле домов на скамейках.
А тут еще и письмо от матери пришло. На душе совсем тоскливо стало: «Милый мой Прошенька, что ж это в свете творится? Бегут люди с деревни как зайцы с пожара. Хотели мы с тобой дом продать, да кто его теперь купит? Вся деревня разбежалась по земле. Даже Оксанка, жена твоя бывшая, и та умоталась. Устроилась работать в поезд проводником. Сама сказала. Приходила ко мне попросить прощения и попрощаться. Нет у нас нынче соседей. Ночью во двор жутко выйти. Оглянешься, нигде ни огонька, ни голоса. Как в могиле. Бегит люд с деревни как от погибели. Ну, а я, верно, тут и помру. В городе оно не легше. Здесь у нас тебе вовсе скучно станет. Самой молодой из баб в нынешнем лете семьдесят годков исполнилось. А с мужиков — Тарас. Он на гармошке еще в первую мировую войну играть учился, нынче нас веселит. Когда тверезый, играет про «Варяга», как наклюкается самогону, то тогда — «Хороши весной в саду цветочки…». А знаешь, для чего? Чтоб мы вовсе не разучились смеяться! Он нас девками, барышнями кличет и все к себе на лавку приглашает присесть. Садимся. Кто с клюкой, иная вставные челюсти роняет на ходу, другая без очков Тараса от скамейки отличить не может. Не то ведро воды, себя в дом еле затаскиваем. А и помочь уж некому. Ты помнишь наш колхоз назывался «Комсомолец»? Вот теперь одни комсомольцы в нем и остались. Только двадцатого года… Не знаю, если кто помрет, как хоронить будем? Ить могилу некому выкопать стало…».
Прошка все понял и вместо ответа взялся за шабаш. Нанимался вечерами на любую работу. И копил так, что на каждом куске хлеба себя урезал. Не до баб, мать стало жаль. За пол года скопил на маленький домик без удобств и через неделю перевез в него мать,
Конечно, жить с нею даже не думал. В маленькой комнатушке поместилась одна постель да столик. Если кто-то сел на стул, второй уже должен был стоять. На кухне даже матери тесновато было. Зато она жила в городе, и он всегда мог ее навестить, подкинуть деньжат, помочь в доме, но ночевать не оставался. Даже на полу не было места.
Едва мать обустроилась, выхлопотала пенсию. А Прошка напился на радости, решил себе выходной
устроить. Ведь за все время жизни в городе ни разу не расслабился. Вот и выпил один целую бутылку водки, а утром на работу проспал. Его, когда пришел, враз к начальнику. Тот с лица посинел, кричавши. И Прошка не выдержал, послал его на хер и, выйдя из кабинета, написал заявление об увольнении.
Зачем спешите? Найдите работу, жилье, потом уволитесь! — тихо посоветовала секретарша, сероглазая белокурая Маринка.
Он глянул на нее, при щурясь. «Приглянулся или пожалела?» — подумал молча.
Эй, если б у меня была вот такая же красивая и умная подруга! Тогда и жизнь имела бы смысл, — ответил тихо.
А кто мешает? — удивилась Маринка.
Вы — городская, а я — деревенский. Кому нужен? — глянул украдкой на грудь.
Какое это имеет значение? Я слышала, как по доброму отзываются о вас.
Кто? — испугался Прошка.
Хвалят вас наши работяги!
А ты? — глянул в упор, решив не медлить.
Я вас не знаю…
А кто мешает? Давайте погуляем вечерком по городу, — предложил, не веря, что девчонка согласится.
Погодите! Давайте сначала ваш вопрос уладим. С работой. А уж потом о прогулках поговорим.
Маринка предложила Прошке подождать ее, сама зашла в кабинет к начальнику. Вышла оттуда минут через десять. Глянув на Дылду, головой закачала:
А вы — грубиян! Вас простили сегодня, но впредь не распускайтесь! Я не всегда смогу защитить. Идите! Завтра не проспите на работу.
А как прогулка? Ведь обещала!
Я ничего не обещала. Да и завтра рабочий день. Надо успеть отдохнуть. Когда будет выходной — другое дело! — улыбнулась озорно, обещающе.
В пятницу он напомнил ей о прогулке, но Маринка отказалась, сославшись на домашние заботы. И лишь через неделю согласилась встретиться, но попросила, чтобы он о том никому не говорил.
Они гуляли по темной аллее парка, пока не только людей, скамеек не стало видно. И Прошка осмелел, обнял Марину. Та прижалась к нему. Он поцеловал — она ответила. И тогда Прошка совсем осмелел. Подхватил Маринку на руки, понес в кусты. Она не вырывалась, обвила его шею руками. И только тутпонял, как соскучился он по женщине, как истосковался за время жизни в городе по теплу и ласке:
Маринка! Давай завтра встретимся. Скажи, где живешь? Я приду!
Нельзя. Я замужем, — словно ушат холодной воды вылила на голову. — Муж старше меня на десять лет и, конечно, не устраивает меня. Он догадывается, но молчит. Не надо, чтобы увидел. Я не хочу уходить от него. Мне это не выгодно. Ты понял? У нас с ним все хорошо, кроме этого, но и здесь есть ты. Значит, все в порядке.
Когда же увидимся в следующий раз? — пришел в себя Прошка.
Я скажу тебе сама. Я найду тебя!
Не обманешь?
Нет! С тобой так здорово! Ты — опытный, не смотри, что из деревни! В этом толк знаешь! — поцеловала так, что дух захватило. И вместо прощанья устроил продолжение.
Маринка была в восторге:
Прошка! Ты — чудо! Ну, почему мы не встретились с тобой пять лет назад?
А что теперь мешает? Разведись…
Ты с ума сошел! Никогда не говори глупостей. Я умею взять себя в руки. Встречаться можем, а о большем — ни слова…
Она позвала его через неделю. Потом их встречи стали чаще. Прошка на людях вида не подавал, что близко знаком с Маринкой. Зато, оставшись наедине, они теряли контроль над собой. Ни с одной из женщин ему не было так здорово, как с нею. Может потому, что перестал замечать других. Он ждал когда она позовет, он жил ее желанием, ее игрушкой, послушным слугой, нетерпеливым любовником. Для Прохора все бабы земли слились в ней одной. Ему казалось, что так будет всегда, что Маринка когда-нибудь станет только его женщиной и ничьей больше, что только он умеет любить по-настоящему.
Как быстро пролетало время встреч, и как долго тянулись дни разлуки. А тут еще праздник на целую неделю. Маринка сказала, что проведет его с семьей и встретиться с ним не сможет. Но прошла неделя, за нею вторая. От Маринки ни звука, и он решил позвонить ей сам на работу.
Марина узнала его голос, поздоровалась и сказала сухо:
Я не велела вам объявляться самому. Ну, если нарушили условие, между нами все кончено, — торопливо положила трубку.
Марина! — но она уже не услышала.
«Что это?» — недоумевал Прошка, глядя на трубку, захлебывающуюся сигналом отбоя.
Через неделю он увидел Маринку с другим и понял причину своей отставки, вспомнив слова одной из прежних подружек: «Самый надоедливый для бабы — это послушный любовник. Дорожат лишь теми, кто нами не дорожит, не клянется в любви, не становится игрушкой. Будь таким, какой ты есть, и бабы всегда станут виснуть к тебе на шею. Не будь послушным. Преданность — это не сила, а слабость мужчин. На том сгорели многие. Бабы ценят тех, за кого держаться надо, а не тех, кто держится за нас…».
Лишь раз в жизни отступил он от этого правила и сразу был наказан.
Обидный урок запомнился, и Прохор решил раз и Навсегда: не впускать баб в сердце и менять их при первой возможности. А она представилась вскоре, едва увидел он диспетчера Аньку.
Худая, бледнолицая, она была похожа на забытую поганку. Может, потому никто не обращал на нее внимания. Да и как приметишь, копь ни сзади, ни спереди ничего не выпирало, и было непонятно, кто ж перед тобой?
Но, несмотря на внешность, у нее был грудной красивый голос, глаза цвета неба и стройные, будто выточенные, ноги. Над Анькой либо смеялись, либо не замечали. Вот так в столовой назвал ее один из слесарей стиральной доской, ни с чего, из куража обозвал.
Его все мужики поддержали ядовитым смехом. Прохор оглянулся, приметил слезы в глазах и вступился:
Чего наезжаешь на нее, козел? Иль тебе в бабе одно лишь приметно — жопа да сиськи? Ты гляньглаза! В них душа светится чистая как небушко! А ноги! У сракатых таких не бывает. А то, чего нынче нет, появится, когда замуж выйдет. Первой красавицей станет! И ты не только в задницу, следы ее целовать будешь! И себя за все письки и сиськи кусать, что просмотрел и упустил! Давай, Аннушка! Садись ко мне за стол, милая! И плюй на всех! — предложил ей и помог принести поднос с тарелками.
Мужики хихикали, а Прошка в открытую стал ухаживать. И вечером после работы пошел проводить домой. Анька робела, заикалась от счастья, а он вел ее под руку на виду у всех.
Когда остановились перед большим двухэтажным домом, Аня сказала:
Здесь я живу.
Большая семья у тебя? — спросил Дылда.
Нет. Нас немного. Пятеро. Мать с отцом, бабушка и собака.
А я думал, весь дом твой…
Да! Весь наш. Места всем хватает.
Счастливые! А у меня мать в тесном маленьком домишке живет. Поэтому я в общежитии приютился, — вздохнул тихо.
А разве у вас нет семьи?
Нет. Не имею. Свободный как ветер!
Ну, тогда может зайдете к нам?
Это можно! — смело шагнул через порог и онемел…
Паркетный пол весь в паласах, на стенах ковры и картины. На потолках хрустальные люстры. Все в доме дышит достатком. Прошка вмиг догадался, что живет здесь не простой люд.
Когда Анна провела в гостиную, Дылда и вовсе растерялся. Громадный камин обдавал теплом. Напротив — зеркальный стол, большие мягкие кресла, диван накрыт белой медвежьей шкурой, еще одна большая на стене ножами и кинжалами увешана. Рядом — оленьи рога, в них вмонтирована лампочка, дающая неназойливый мягкий свет.
Как здорово у вас! — похвалил Прошка.
У меня дед и отец — полярные исследователи в прошлом. Мама — археолог, и я учусь заочно в финансово-экономическом, но не захотела по их стопам. Работать пошла не от нужды, чтоб не бездельничать. Не захотела на шее у родителей сидеть. Конечно, зарплата небольшая, но все же не так стыдно, если б только на их пенсии надеялась.
Как успеваете управляться с домом? — оглядывался, не мог в себя прийти Прохор.
Домработница приходит, но и мы тоже…
Дылда так и не понял, для чего нужна домработница, если в доме три бабы? Ведь ей платить надо? Вряд ли хватает той Анькиной получки. А для чего тогда эта работает? Сама бы и следила за домом. Себе спокойнее жила б…
Мне хотелось самой испытать на себе, как работают обычные люди? Ведь после института я стану работать в их окружении. Понадобилась подготовка к будущему, — включила тихую музыку, накрыла на стол.
Вы не спешите? Я не задерживаю? — спросила неуверенно.
Уходить не хочется! — признался честно.
На второй день он познакомился с родителями Анны. Она понравились Прошке. Радушные приветливые люди, и через неделю пропала скованность. Держался свободно, спокойно, открыто ухаживал за Аней. А через месяц, добившись близости, сделал предложение. Ему не отказали, и Прошка вскоре перешел жить к Анне.
Прохор! Я прошу как мужчину, не спешите с детьми! Дайте возможность дочери закончить институт. Ведь должна она получить высшее образование. Детей вы не опоздаете заиметь! — попросил тесть, и Прошка согласился.
Поживите для себя! Получше узнаете друг друга. Это лучше делать, когда руки развязаны, и люди свободны от обязательств перед детьми! — дополнила теща. Прошку та добавка насторожила, но не оттолкнула.
Он вместе с Анной уходил и возвращался с работы. А как-то, навестив мать вместе с новой женой, отпросился на халтуру, сказав, что брать из зарплаты не хочется. Анна согласилась, ей надо было полистать учебники. Прошка все вечера был предоставлен самому себе. Вот так однажды позвала его Юлька: протекала ванна. Пока ремонтировал, баба на стол сообразила. Бутылку вытащила. Платье надела, декольте до самого пупка. Он как глянул, об оплате говорить язык не повернулся. Уволок спальню после первой рюмки. Домой вернулся к полуночи и сказал, что помог старухе, не взял с нее денег. Да и с кого брать, коли сама еле сводит концы?
Его благородство расхваливали весь день. И Прошке понравилось. Правда, не всякий раз получал натурой. Случались в клиентах мужики и серьезные семейные люди. Эти платили как положено.
Но нередкими были и развлечения. За пару месяцев с десяток любовниц заимел. Анна и не подозревала.
За время замужества, сама того не замечая, она постепенно изменилась. Появилась грудь небольшая, но упругая. Округлился зад. Лицо стало розовым, и Анна перестала походить на заморыша, расцветала неспешно.
Прохор не замечал этих перемен. Ведь и женился не из любви. Не она приглянулась, а дом. Но о том молчал.
Знаешь, я решила перевестись на очное обучение. Устала я и работать, и учиться. Тем более специализация началась. Для будущего лучше, если я — займусь учебой вплотную! — сказала как-то Анна и добавила: — Тебе скучновато будет. Но потерпи. Закончу институт, больше будет времени друг для друга!
Он с готовностью согласился принести себя в жертву науке, за что снова хвалили всей семьей, а теща даже подарила дубленку.
Прохор, уходя из дома утром, возвращался поздним вечером, и такое положение устраивало всех.
Анна лишь поначалу возвращалась с занятий вовремя. Потом отпросилась на семинар, потом на важную лекцию зарубежного специалиста, на встречу со студентами из-за границы. Затем пошли походы, тренировки, и возвращалась она домой почти вровень с Прошкой. Тот стал замечать, что все чаще привозят ее на своих машинах однокурсники. Но ничего более
серьезного не приметил, да и сказать опасался, а что, если за ним решат проследить? Этого ему никак не хотелось, и Прошка все пустил на самотек, принычивая на всякий поганый случай из зарплат и шабашки «подкожные» башли. Мало ль как сложится будущее? Без копейки оставаться не хотелось. А время шло.
Он и не ждал ничего плохого для себя в тот день. Знал, жена скоро закончит институт, и они вместе с нею поедут в отпуск на море. Давно о том мечтали. До осуществления оставалось совсем немного.
В этот выходной, так уж было заведено, он решил отдохнуть дома, не искать приработка на левых заявках. Можно позднее лечь спать. Ведь утром не надо спешить на работу, отдыхай сколько хочешь, можно и посумерничать у камина. Выпить с тестем по сто грамм, послушать его воспоминания о Заполярье. Так длилось четвертый год, и Прошка привык. Потому очень удивился, увидев, что никто не собирается накрывать на стол, а перед камином сидит лишь тесть хмурый, холодный как айсберг. Рядом с ним только собака и ни одной из женщин.
Куда все подевались? Где наши цветы?
Куда исчезли женщины? — изумился Прошка искренне.
Присядь, Прохор! Поговорить хочу с тобою с глазу на глаз! Этот разговор не для женщин, — повернулся лицом к Дылде: — Затянулось наше знакомство, Прохор. Я думал, ты сам поймешь все без объяснений. Слишком разные мы люди. Потому не сможем жить вместе. Разница слишком очевидна. Она во всем: в воспитании, образовании, в окружении, манере общения. И тут нет иного выхода, как только расстаться. Не сможешь ты в своем возрасте подняться до нашего уровня. А нам пасть до твоего — совестно и негоже. Это однозначно. Мы пытались ломать себя, стерпеться, старались тебя подшлифовать, но не удалось. Постоянный дискомфорт измотал всех. Пора покончить с этим. Не могут тащить семейный возок такие разные люди! К тому же у Анны имеется теперь человек нашего круга, достойный того, чтобы мы признали его своим, родным человеком. Он соответствует нашим представлениям. Ты оказался среди нас случайно. А потому не обессудь. Всему приходит конец. Надеюсь, поймешь меня правильно и не станешь таить обиду. Более не можем жить вместе под одной крышей.
Прохор молча встал, огляделся.
Я понял все. Пойду, соберу вещи, сказал тихо.
Не стоит себя утруждать, они уже собраны. Вот деньги тебе на первое время. Других претензий нет. Ты — хороший человек, но в своей стае. Помнишь, я не случайно рассказывал, как белые медведи прогнали бурого? Это о нас… В природе такого не случается Она мудрее. Ей чужды эксперименты.
Зачем так долго? Я все понял и ухожу! — осмотрелся Прошка и спросил: — По вашему этикету с моим суконным рылом дозволите проститься? Иль сочтете неуместным? — усмехнулся криво.
Не стоит! Расстанемся по-английски, без слов! Так лучше для всех…
Что ж! Воля ваша! — оглянулся, увидел за спиною чемоданы, взявшиеся неведомо откуда, и вышел в дверь, не оглянувшись на окна. Поймал такси и поехал в общежитие.
Его никто ни о чем не спросил. Смеяться над Прошкой попросту не рисковали. Ему указали на свободную койку. Дылда затолкал под нее чемоданы, даже не заглянув в них, и тут же отправился к Верке — недавней клиентке, молодой разбитной бабе, умевшей держать верх над всеми.
Прошке она понравилась тем, что даже его, бывалого кобеля, обескуражила. И не он ее, а сама вытащила его с хохотом из-за стола и затолкала в спальню.
Ну, чего рот разинул? Не надо меня уговаривать. Я сама уломалась! — сорвала с себя халат.
А если откажусь? — прищурился Дылда.
Только попробуй! Яйцы вырву! — прыгнула в постель, схватила Прошку в охапку, смяла, налетела вихрем.
Ну, ты и баба! В первой такая крутая попалась!
Цени! В другой раз не обломится! Ты мне по кайфу. А раз так, зачем ломаться? Себя и тебя мучить?
Она сбила с толку натиском и предложила навещать ее. Он не часто, но заглядывал к ней. Боялся бабы. «Такая любого подомнет и в бараний рог свернет, а мне только того и не хватает для полной остроты ощущений», — думал Прошка и не хотел привыкать.
Верка встретила его привычно, будто только вчера расстались и спросила по-домашнему просто:
Жрать хочешь? Иль сразу в постель?
Давай сначала перекурим, — предложил бабе.
Вот так? Какая сука посмела тебя раньше меня оттрахать?
Ох, Верка! Не баба! Старый козел достал! И представь, даже в морду дать не смел! В заслуженную! От того на душе тошно как в отхожке!
Плюнь! Ну что ты потерял? Дай ты бабе хоть десять дипломов, клянусь, она в постели все равно говно против меня. Тебе нужны ее знанья? Куда их денешь иль повесишь? Вот и я говорю, вся бабья наука ниже пояса. Коль нет в ней огня, дипломом не заменишь. Никому не нужна! На такую по приговору трибунала влезть не заставишь. Это все равно, что членом лунку во льду долбить. На такое лишь псих уломается. Ты ж — нормальный хахаль. Пока ничего не потеряно, жизни радуйся. Она у нас коротка и обосрана. Вали в постель! Я тебе покажу, чем мы простецкие вашему брату дороже и милей, чем образованные жеманницы- онанистки! — вытряхнула из одежды мигом и, словно куклу сунула в постель.
Верка! Стерва! Что ты делаешь?
Мозги тебе вправляю! Бабы все из одного круга! Верь искренним! Не выбирай с дипломом! С ними и в Африке хер отморозишь, — хохотала громко.
К полуночи Прошка и вовсе забыл о том, что случилось этим вечером. Верка измотала, укатала до одури, опьянив без хмельного. Она взяла его в плен, выбив из памяти совсем недавнее.
Ну и что с того, если нет у меня диплома и на двоих с братом семилетку не имею. Зато вкалываю штукатуром-маляром! Всегда заработаю на кусок хлеба с маслом. И несчастной себя не считаю! Мозги и все прочее не отсушила. Здорова как кобыла! Жизни радуюсь и другим унывать не даю! Чего сетовать? Нас работяг любить надо такими, какие мы есть, а не рассматривать ровно в зверинце: похожи на людей иль нет! Давай! Вали за стол! Пожрем и бухнем за любовь!
Хорошо, что это у нас отнять нельзя! — лукаво покосилась баба.
Прошке с Веркой было легко и просто во всем. Она не врала, не притворялась, не умела кривляться и кокетничать. Она всегда говорила то, что думала, не умела льстить.
Верка! Ты хоть любишь меня? — спросил как-то Прошка.
Во, дурак! Нашел о чем трепаться? Ты мне подходишь! Пока! А дальше хрен меня знает? Я тебя устраиваю?
Иначе не возник бы!
Так и дыши! На том успокойся! Про любовь болтают дети, либо психи! Мы с тобой ни то, ни другое! Кончай пустое травить! Давай бухнем!
Через пару месяцев, просидев без зарплаты, Прошка решил подыскать другую работу, и Верка предложила ему перейти к ней в бригаду.
А жить где стану? У вас общаги нет!
Живи у меня! Угол не откусишь! — предложила бесхитростно, добавив: — За жилье натурой платить станешь! Коль устраивает, переходи хоть нынче!
Прошка пошел к начальнику узнать, когда ожидается зарплата? Но Маринка, смерив холодным взглядом, ответила, что надежд нет, а начальник занят, у него совещание.
Тогда я увольняюсь! Пусть позаботится о расчете! Иначе вытащу в суд! Хватит измываться! Пусть сам дышит без получки! — вытащил заявление, написанное загодя и положил на стол.
Отметьте в журнале число! — глянул на бабу холодно. Та поежилась и, взяв заявление, пошла в кабинет. Вернулась уже с резолюцией «Бухгалтерии произвести расчет. Выписать из общежития».
Когда деньги получу? — спросил жестко.
В течение трех дней. Так и по закону предусмотрено.
Хорошо! Пусть попробуют затянуть!
Не беспокойтесь! Ваше вам отдадут!
Через три дня ему и впрямь выдали расчет, отдали трудовую книжку. Потребовали, чтобы освободил место в общежитии.
А я уже там не живу! — усмехнулся Прошка, добавив: — У жены прекрасная квартира! Да и работать будем вместе! — взглянул искоса на бывшую любовницу.
Та выронила журнал из рук. Чтобы скрыть досаду, нагнулась поднять. Выпрямилась уже спокойной.
Поздравляю вас! — натянула на лицо улыбку, но уголки губ ползли вниз. Им хотелось разреветься.
Спасибо! Мне действительно очень повезло! — хвалился Прошка перед бухгалтером и кассиром, игнорируя секретаршу. — Подарок от судьбы получил! Трудяга! Красавица! Огонь — ни женщина! И человечище! Со взгляда все понимает! — победно посмотрел на Маринку, та сидела, уткнувшись в бумаги, делая вид, что не слушает. И только руки выдали. Они дрожали неуемно. Прошка вышел из двери с гордо поднятой головой.
Он быстро научился штукатурить, белить и красить, класть плитку, клеить обои. Верка восторгалась, хвалила Дылду. Тот цвел. Еще бы, в бригаде десяток баб. За день всех успевал ущипнуть за задницы и грудь, поприжать в углу, пообещать на будущее поймать на ночь. Верка не ревновала ни к одной. Знала, впереди ночь, и Прошке от нее никуда не деться. Она выматывала одна за всех, и Дылда лишь к обеду вспоминал, что вокруг него бабы.
Прошка! Хорек немытый! Я тебе стираю, жрать готовлю, а ты на кого силы изводишь? Брысь от Тоньки! Она старая! Ей мужик уже не нужен! Сгнила на корню! Подумай, что впереди ночь! — хохотала Верка.
Прошка, работая в ее бригаде, получал куда как больше, чем в сантехниках. А главное, тут не задерживали получку. Неплохой приработок имел и на халтуре. Здесь он приоделся и выглядел неплохо. Верка всегда следила, чтобы Прошка был сыт и чист. Она никогда не называла его мужем. Даже ради шутки не связывала обязательствами. И говорила о нем как о своем хахале… Она всегда оставалась верной своему слову.
«Хахаль… А ведь я привык к ней. И теперь люблю эту взбалмошную чертовку. Она оказалась куда лучше всех прежних, кого считал женами, расписывался, верил им. Ни одна ее не стоит. Она понятна и проста. С нею легко. Выходит, надо бросать якорь насовсем», — решил Прохор. Но… через неделю упала Верка с лесов. Перелом позвоночника. К ночи умерла у него на руках.
Она не плакала. Смотрела на него вмиг запавшими глазами. Прошке не верилось, что теряет ее. Плакали бабы из бригады. А Верка все пыталась удержать в руках жизнь, но не удавалось.
Чего воете? Жива я! Не ушла, не накрылась покуда! Хотя, все не вечные. И встретимся там, на верху! Я упала, чтоб взлететь! Когда-то конец каждому будет. Жизнь не хер — в руках не удержать! Я люблю тебя, Прошка! Милый мой дуралей! Ты о том не знал. Хоть иногда вспоминай меня…
Он помнил ее всегда. Он продолжал любить и мертвую. Ни с кем не мог сравнить Верку и ей единственной носил цветы…
Прошка после смерти Верки резко изменился. Стал хмурым, неразговорчивым, раздражительным.
Эх, дурачок ты, Прохор! Был бы ты расписан с Веркой, никто б не выселил тебя из квартиры! Все твоим осталось бы! А теперь бездомным стал! — жалели Прошку бабы. И чтоб не слышать их и не видеть, ушел от них, боясь свихнуться. И в этот же день оказался среди городских бомжей, а через пол года пришел на свалку.
Нет, он не спятил. Среди бомжей не было счастливых, не приживались слабые. И, пообщавшись, понял, что его судьба хоть и суровая, но не жестокая. Она всегда давала ему шанс на жизнь и не брала за горло, оставляла глоток кислорода. И Прошка еще ни раз не жалел о своем рождении. Эти у бомжей считалось пределом.
Шли годы. Дылда уже не думал о своем жилье в городе. Оно стало вовсе недоступным. Деньги, какие зарабатывал, тратил на жратву, а она дорожала с каждым днем.
Он не снимал тряпье с огородных пугал, не выковыривал обноски из мусорных контейнеров как другие бомжи. Прохор каждой копейкой делился с матерью и никогда не ругал, не проклинал ни одну из женщин, встретившихся на пути.
Не скоро у него появились увлечения. Вера стояла перед глазами преградой. Ее долгое время не могла затмить ни одна. И лишь Ирке удалось расшевелить в нем мужика. Взялся он оштукатурить дачу. Женщина поесть приготовила. Указала на постель, где мог отдохнуть. Прошка даже не оглянулся. Разделся до пояса, стал раствор замешивать. Баба взглянула ненароком на свою беду и не смогла взгляд оторвать, как здорово сложен этот человек!
Прошка увидел, но не дрогнул. Ирка молча выстирала его рубашку, майку. По ним поняла: нет семьи у человека. Прошка кивнул благодарно. С утра до вечера оштукатурил комнату. Когда сел отдохнуть, поставила перед ним еду, а уже ночью и бутылку достала из холодильника.
Прошка лег в постель, Ирина — на полу. Вот тут и стало неудобно мужику. Решил поменяться местами. Ни просьбы, ни убежденья не помогли. Взял на руки, чтоб силой перенести на кровать. Ирина шею обхватила, не отпустила…
Когда закончил штукатурить, сам, без просьб, зашпаклевал, побелил, поклеил и покрасил. За работу не хотел брать, но Ирина положила в карман рубашки молча, набрала в его рюкзак картошку, положила капусту, морковку, яблоки, даже кусок сала и бутылку. Деньги он нашел, когда сел у костра на свалке. Хотел их вернуть бабе. Три раза на дачу приходил, хозяйку не застал. А тут и в городе появилась зазноба — Зойка. Ремонт в квартире попросила сделать. Рассказала, что всю жизнь с пьяницей-мужиком промучилась. Наконец-то выгнала. Теперь вот порядок хочет навести во всем. Он и помог. Да так, что Зойка бегать за ним повсюду стала. Даже на свалку появлялась., а ведь сама была виновата, что ушел скоро. Слишком жадной оказалась…
Бомжи всегда подтрунивали над Дылдой, приписывая ему не десятки — сотни баб. О его похождениях складывали легенды, рассказывали анекдоты и небылицы. Прошка их не слушал. Зачем трепать имена тех, кто был близок и дорог? К чему слюнявить, оплевывать и паскудить то, что дарила сама судьба? Прохор теперь любил тихо посидеть у костра, зарывшись в воспоминания. Они были такими яркими, разноцветными как огни на елке. Вот так и в этот вечер он подвинулся поближе к теплу. И снова закопался в память. А перед глазами — Анька. Та самая, с какою даже проститься не разрешили. Зачем она встала в памяти и торчит перед глазами как тогда, тогда работала диспетчером? Плечи поникли, голова вниз опущена…
«Небось жирует теперь со своим новым русским? Он культурный. Кто я против него?» — поднял голову и не поверил своим глазам. Анька вовсе не привиделась. Она шла к нему, осторожно обходя бомжей.
Прохор, мне надо с тобой поговорить, — пошла в темноту от костра и бомжей, смеявшихся открыто, мол, еще одна нарисовалась.
Прошка! Выдели хоть одну из обоймы на ночь!
Не даст ему десятка на ночь мало!
Эй, бабонька! Меняй одного Прошку на меня с
братом!
Дылда шел за Анной, но, спохватившись, остановился как вкопанный:
Куда волокешь? Что надо от меня?
Здесь неподалеку машина. В ней поговорим, — позвала женщина.
На хрен мне она! Говори, что хочешь, и завязываем базар, — не двинулся с места.
В двух словах не объяснить…
А че нам базлать? Все за всех твой отец…
Нет его больше. Умер. Перед смертью все хотел тебя и попросить прощения, но мы не разыскали. И он умер, не свидевшись.
На кой черт я ему сдался? Еще раз душу обо- срать? Мне прежнего по горло.
С кем споришь? Его нет!
К кому ведешь, если прощенье опоздало? О чем говорить? Ну, прощаю его! Давно забыл, как всех вас звали!
Забыл? — остановилась, дернувшись так, словно кто-то невидимый ударил по спине плетью.
После сказанного мне, только и оставалось, презирать вас всех! Но я выбрал простое и выкинул полным сбродом из сердца и памяти. Поверь, на другой день как заново родился!
Вот так? Значит, не любил. Ты даже не попытался встретиться, спросить, согласна ли я с мнением отца?
У тебя уже был другой, предназначенный в мужья! Зачем и о чем стал бы спрашивать?
Это ложь! У меня никого не было!
Не свисти! Столько лет прошло, и ты только теперь поняла, что любила меня? Кому-нибудь другому заливай. Бросил тебя твой дипломированный! Может и не один. Поняла, что никому не нужна. Шансы потеряны, решила меня вспомнить! Но, шалишь! Я не кукла из нафталина. Просчиталась, бабонька!
Прошка! Не сочиняй! Не ищу и не жду тебя как мужика! Не нужно мне это! Хотя жалею, что не заимела ребенка от тебя! Но к чему бередить себя напрасно. Не для того звала. Я очень тебя прошу прийти к нам.
Ни за что! Идите вы все!
На похороны отца, — закончила Анна и тихо, не оглядываясь, пошла к машине, мигавшей фарами в темноте.
Нюрка! Слышь, Нюрка! Анька, твою мать! Ты что? Оглохла? — остановил бабу. — Когда хороните старика?
Завтра. После трех.
Хорошо. Буду. Ты хоть мать с бабкой береги, — подошел совсем вплотную.
Прохор, как много времени прошло. Ты ничего не знал. Бабуля умерла вскоре после того, как ты ушел.
Не ушел! Прогнали! — уточнил Дылда.
Не прогнали, а прогнал! Он меня закрыл на ключ в своей библиотеке. Я стучала, но никто не открыл. Только потом, когда ты ушел.
А я-то думал, у вас все обговорено…
С того дня все кувырком пошло. Мать поддерживала отца, а у меня была бабуля! Она переживала за меня, но переубедить отца не смогла. Мне приводили в женихи каких-то кретинов. Я отказывала им. Отец с матерью злились, бывало, подолгу не разговаривали со мной. Но я уперлась: либо ты, либо никто! Потом был нервный срыв. Я долго пролежала в больнице. Ко мне стали приводить сынков начальства. Я озверела от обиды за то, что так бессердечно обошлись с моей судьбой, и нагрубила по грязному. С тех пор они перестали приводить всяких. Ну, а бабуля умерла, когда я была в больнице. Через год после нее мать умерла. Мы остались с отцом вдвоем. Мы долго не говорили о тебе, хотя именно ты стал причиной недомолвок и ссор, непонимания и раздражения. Отец подолгу оставался один, и у него было время все обдумать и осмыслить по-новому, применительно к нынешнему времени. И он для себя успел сделать вывод.
Поздно, — выдохнул Прохор.
Нет! Он понял при жизни, а значит, успел.
Какая разница, если ничего не изменить и не исправить!
Ты уверен? — дрогнул голос Анны.
Конечно. И не стоит кривить душой. Сама знаешь, не возродить из пепелища цветы! Не вдохнуть жизнь в замерзшую душу. Простив разумом, не повернешься сердцем к обидчику. А потому говорю заранее: не строй планы на меня. Считай, что навсегда ушел из твоей жизни. Только раньше всех…
Не спеши, Прохор! Подумай. У нас есть еще немного времени. Не стоит с плеча, с размаху рубить по живому. Я однажды такое пережила. От отца… От тебя подобное получить не ожидала…
Прохор недоумевающе пожал плечами. Глянул вслед Анне и вернулся к костру.
Странные люди: сами обсерутся, а других в вони обвиняют. Еще я и виноват в том, что меня выгнали. Ах, я не ломился к ней в двери. А спроси — зачем? Если б любила, давно нашла! Ушла бы от своих, и тогда я поверил бы! Но ведь жила с ними, через все дрязги прошла, всех урыла. Теперь и меня сыскала. Я — последний на очереди? Хрен тебе! — решил не ходить на похороны.
Уже утром забыл о визите Анны и нанялся собирать яблоки в саду старика, жившего на окраине города В глухом запущенном саду было тихо. Пели птицы в ветвях. Прохор решил взяться за дело сразу. И вдруг услышал, как кто-то зовет его по имени. Оглянулся — никого вокруг. Только тряхнул яблоньку, снова кто-то окликает, а вокруг ни души.
Прохор выругался и к дереву. Опять голос. Бабий. Такой томный, зовущий. Дылда за яблоню обеими руками вцепился. Тряхнул одну за всех обидчиц. Яблоки по спине, по голове, по плечам наколотили. Лишь на двух ветках по яблоку осталось. Хотел за ними полезть и слышит:
Оставь их! Не тронь!
У Прошки волосы дыбом встали. Оглянулся, старик-хозяин стоит, улыбается:
Оставь для птиц эти яблоки! Не собирай дочиста. Не по Божьи такое…
Дедунь! У тебя в доме бабы водятся? Кто меня все время окликает? — не выдержал Прошка.
Кто-то очень ждет тебя, сынок. Зовет сердцем! От того покою нет. Вслушайся, спознаешь, кто заждался. Только ту услышишь, кому очень мил…
Сколько ж времени теперь? — глянул на часы и мигом вспомнил, где его просили быть в три часа.
Прохор не пошел в дом. И лишь на кладбище подошел к могиле бывшего тестя. Встал рядом с Анной. Она, увидев его, благодарно кивнула головой.
Горсть земли на гроб… Как мало и как много, но именно это и есть символ прощенья, капля тепла и памяти, оставшихся на земле.
Спасибо, Прохор! Отец просил передать тебе кое-что, — шепнула Анна.
Мне ничего не надо.
Это не моя, его воля. Пошли, — позвала за собой в машину.
Вокруг Анны и Прошки толпились незнакомые люди. Одни называли себя сослуживцами, другие — друзьями отца. Они наперебой расхваливали покойного, обещали навещать Анну, не забывать ее. Когда ушел последний гость, Анна расплакалась. Она устала до изнеможения и обессилела окончательно:
Прош, не осуди, больше не могу. Еле выдержала все. Лицемеры! Они всякую совесть потеряли!
Что случилось, Анка! — увидел, что с женщиной началась истерика. — Чего воешь? Ведь ты — одна из них!
Когда твой отец вышвырнул меня на улицу, никто из вас не поинтересовался, есть ли крыша над головой?
Но ты мог пойти к матери…
А не рассказываю ей о своих бедах. Не хочу сокращать ее жизнь, а потому не делюсь личным. Она — женщина. Нельзя на плечи взваливать непосильное. Это единственный человек на свете, какой всегда любил и любит меня, — почему-то совсем некстати вспомнилась и другая — Райка, бомжиха со свалки.
Громоздкая, с большими мозолистыми руками, терпеливая и выносливая. Она ушла из деревни от мужа-алкаша. Несколько лет ухаживала за стариками в городе. Те обещали ей отписать дом, но когда умерли, объявились внуки и выгнали Райку из дома
Из всех бомжих свалки она единственная не брала в рот спиртного и не путалась ни с кем.
Лишь недавно увидел ее Прохор помывшуюся с распущенной темно-русой косой в линялой ночной сорочке, она выскочила из своей лачуги на секунду выплеснуть воду из таза. Увидела Прошку. Их взгляды встретились на миг. Райка покраснела до макушки под пытливым взглядом мужика. Нет, ни слова не проронили. Все стало понятным. И у Прошки с Райкой наметился роман. Простой и понятный, на равных, без прошлого. И Прохору так захотелось поскорее вернуться к себе, к ней, какая, конечно, ждет, никому не признавшись в этом.
Пойду я, Анна. Темнеет уже. Пока доберусь, совсем поздно будет, — направился к двери.
Выходит, ты даже не слушал меня? Иль все ж решил по-своему?
Я больше ничего не хочу менять в своей жизни. Зачем вторично прыгать в пропасть? В другой раз можно и не выбраться. Я простил вас…
Возьми на память от отца. Он просил передать это тебе! Здесь Библия. Отец в ней сделал закладки специально для тебя. В них о прошении…
«Это я исполнил. Дай Бог никому больше не слышать того, что мне довелось. Я сумел перешагнуть и выжил. Но не хочу больше оставаться здесь. Мы и впрямь слишком разные», — Прошка шел темными улицами поскорее от дома, где когда-то его унизили, а теперь уговаривали остаться.
«Нет, бабонька! Ничем не привяжешь мужика, какому однажды изгадили душу. Человек должен жить просто, а не биться в вашей паутине условностей. На кой они мне? Вот нынче отнесу Раиске рюкзак яблок, тех, какие дал старик за работу. И завтра столько же получу. Эта баба и тому будет рада. Не потребует с меня ничего большего. Что Бог даст мне, то и разделю с ней. И сухая корка будет в радость, когда без попреков взята. Не всякая сытость в радость, не в каждую дверь стоит входить. Не каждый дом — очаг и крепость, хоть с виду дух захватывает, а войди — могильник. Пусть я дышу в хибаре среди бомжей, на самой что ни на есть свалке, зато никто мне не завидует, ничего у меня не потребуют. А что имею, не отнимут», — думает Прохор, улыбаясь самому себе.
Вот и костерки в ночи замигали призывно. Человек прибавил шагу. Ведь самая первая, самая крайняя хижина ее.
Прохор подходит к двери. Только хотел толкнуть, она отворилась перед ним:
А я к тебе, Раиса! Можно? — спросил, улыбаясь. Давно тебя жду, соколик! — припала баба кгруди.
Глава 11.
Так Любку звал еще муж, низкорослый, худосочный скандальный человек, какого за мерзкий характер обходили не только горожане и бездомные псы, но даже бомжи. Он не умел говорить спокойно, лишь на крике, с брызгами и матом, с жестами, оскорбляющими любого. При этом он кривлялся, корчил рожи и грозил любому, кто посмел к нему обратиться.
Каждый, кто встретил его на пути хоть однажды, считал, что увидел собственное несчастье в самую рожу и теперь до конца дня обречен на неудачи.
Любка терпела мужа, сколько хватило сил. Она родила сына, думая, что ребенок изменит характер мужика, но напрасно надеялась. Говорят, что паршивую овцу даже смерть не выправит. Так и здесь случи- лось. Любка стала выпивать. Да и немудрено. Мужик не приносил домой ни копейки, а жрать требовал каждый день. Когда на столе ничего не было, колотил Оглоблю, чем попало.
Любка была рослой сильной бабой и, шутя, могла бы вломить благоверному, вышибив из него одним махом и спесь, норов, и дурные манеры. Но в том то и дело, что выросла она в деревне, где с детства прививалось уважение к мужику, а недостатки его характера сглаживались добрым отношением и заботой. Поднять руку на мужчину считалось смертным грехом, а потому и Любка терпела. Но терпение не бесконечно, и баба устала. Ей тоже хотелось тепла и понимания, хотя бы небольшую передышку от беспросветных свар, скандалов и угроз. Ей нестерпимо захотелось хоть раз в жизни почувствовать себя бабой: любимой, нужной хоть на короткий миг.
Мужик постоянно обзывал ее блядью. Любка знала значение этого слова и всякий раз плакала, обижалась за то, что слышит такое незаслуженно. Но мужу было плевать на ее слезы, и вскоре стал обзывать грязнее и обиднее.
Оглобля — это было самое ласковое слово, предназначавшееся ей, когда муж был в хорошем настроении. По имени давно ее не называл. И даже подрастающий сын порою терялся, как зовут его мать?
Любка работала уборщицей на почте. Ее зарплаты не хватало и на неделю. Баба влезала в долги. Просила на хлеб, но муж отнимал. И она с сыном по несколько дней сидели голодными. Мальчишка терпел, сколько мог, потом начал плакать.
Однажды Любка не выдержала Уговорила, успокоила мальчонку и пошла на улицу. Она хотела подышать воздухом, вырваться из мрачной серой комнаты, отойти от горестей, в каких прожила последние восемь лет.
Тебе скучно одной? Пойдем отдохнем? — взял под руку какой-то незнакомый человек.
Любка онемела от удивления и поплелась послушно. Тот привел ее в кафе, накормил, напоил, затем увез на такси в какую-то квартиру и до самого вечера тешился бабой как хотел.
Любка временами трезвела и плакала от ужаса перед случившимся, но человек умело успокаивал, и,
выпив стакан водки, баба соглашалась, что коль обзывает мужик блядью, пусть хоть не будет обидно.
Домой он вернул ее ночью. Сунул на прощание деньги в карман и сказал, что иногда они смогут видеться.
Баба боялась войти в свой дом. Как глянуть в глаза мужа и сына? Ведь она опорочила их, — дрожали колени. Но, открыв двери, увидела пьяного мужа, храпящего на полу, и плачущего сына.
Любка вспомнила о деньгах. Достала, пересчитала их и повела мальчишку в кафе. Там накормила его досыта. Сын не спрашивал, где она взяла деньги? А она попросила его не говорить отцу ничего.
Теперь Любка повадилась выходить на улицу. Тот первый мужик заплатил ей столько, сколько она получала за целый месяц работы. А ведь еще и накормил, и напоил. Да и она не устала. И человек попался обходительный, не то, что свой мужик: не обзывал, не орал и не бил. Любку ничем не обидел. А и как мужик не истерзал. «Да так можно колымить», — решила баба и утром, увидев, что муж еще спит, выскочила на улицу, одевшись опрятнее.
Ее сняли вскоре двое мужчин. Увезли на машине, усадив на заднее сиденье. Долго не держали. Уже к обеду вернули бабу на прежнее место. Дали денег и даже коробку конфет ей в руки сунули.
Любка вошла в дом уверенней. Пусть для мужа она Оглобля, другие ее не считают такой. Называют вон как ласково. Не только кормят, еще и деньги дают немалые.
Ласточка, красавица, милая! — звучали в ушах совсем недавние слова, сказанные чужими мужиками, знавшими ее совсем недолго.
Любке было обидно: почему свой поганит? За что она должна с ним мучиться? Ведь вот обзывал блядью, а теперь с этих денег жрать будет.
Баба неспешно переоделась, заглянула в комнату. Сашка давно проснулся, рылся в шкафу, перебирал ее тряпки, разыскивая, что можно загнать за бутылку сегодня? Вон ее единственная шерстяная кофта валяется у его ног. Дважды отнимала ее прямо из рук. А вон и юбка самая приличная, берегла больше всех. В этой же кучке единственная кашемировая шаль — подарок матери к свадьбе. Бабу словно ветром сорвало. Обидно стало.
Да ты скоро нас с сыном пропьешь! А ну, пошел вон, босяк, шаромыга! Снова мои тряпки пропивать? — затолкала вещи в шкаф и загородила его собою.
С-сука! Потаскуха! — подскочил Сашка, пытаясь достать Любкино лицо костистым кулаком.
Где шлялась, проблядь? — визжал оглушительно.
Захлопнись, суслик! — не выдержала баба и, рассмеявшись в лицо, сказала, словно плюнула: — Ты кто есть? Огрызок от мужика! Катях сушеный! тебя нет вЗакрой свою вонючую пасть! Не то лихо тебе будет?
Глянула на Сашку сверху так, что у того голова втянулась в плечи.
Иди, купи пожрать! Не приведись, проссышь! На глаза не показывайся! Мигом зашибу! — пообещала спокойно, дав мужику сотню и, подойдя к сыну, положила перед ним коробку конфет. — Ешь, сынок, это твое, — сказала тихо.
Где деньги взяла? — услышала голос Сашки.
Оглянулась, ответила, не дрогнув:
Проверила, кем лучше быть: женой иль блядью? Знаешь, тем, кем ты меня называл, живется лучше. Никто не паскудит. С голоду не сдохнешь. Ни о чем голова не болит. Я и с тобой нынче дарма в постель не лягу. Коль считаешь сукой, буду брать как с кобеля. А не приведись, пропить мое — голову оторву! — осмелела баба.
Шлюха подзаборная! Проститутка! Курва вонючая! — вопил мужик, выпучив глаза, брызгая слюной на кофту жены.
Он тузил ее в живот кулаками, кусал за задницу. Он пинал ее ноги и плевал на юбку. Любка смотрела на него, усмехаясь, ожидая, когда устанет, выбьется из сил. Но Сашка носился вокруг злобной собачонкой и только распалялся.
Ему не просто изменили, не только унизили, а и пригрозили пускать в постель лишь за деньги! Такого он не мог пережить. Жена посмела высмеять, дав ему деньги на жратву с тех, какие заработала блудом. К тому ж и бутылку запретила купить. А как продышать случившееся? Ведь посрамлен мужик…
Сашка орал долго, но Любка ровно ничего не слышала. Не пыталась успокоить, уговорить как прежде.
Ну! Ты долго тут звенеть будешь? Давай деньги, сама за жратвой схожу!
Иди! Вон из дома! Чтоб ноги твоей тут не было! — указал на дверь, зажав сотенную в кулаке. Дай деньги! — потребовала баба.
Муж, отмерив по локоть, ответил, осклабясь:
Выметайся, подстилка! Мне после тебя жилье отмывать от заразы надо! На хлорку и мыло вдесятеро больше уйдет.
Алкаш! Дешевка! Меня лаешь, а сам чем лучше? — разъярилась баба и впервые решилась, подняла за шиворот к самому потолку, бросила на пол с размаху.
Сашка, крякнув, тут же стих. Лежал, не шевелясь, не ругаясь. Любка выдавила из его кулака сторублевку и, взяв сына, пошла с ним в магазин. Вернулась через час. Дверь в квартире оказалась закрытой.
Баба долго стучала, колотилась кулаками и ногами, просила, уговаривала, но в ответ ни слова. Никто не открыл двери, и Любка пошла к окну. Занавески плотно задернуты, сквозь них ничего не видно. Она стукнула в стекло, но Сашка не выглянул.
«Ладно! Сам виноват, коль так!» — вернулась к двери и с размаху высадила ее. Мужа дома не было. Любка увидела распахнутый настежь шкаф. В нем ни одной ее вещи. Словно ветром все сдуло. Баба выронила сумки, расплакалась навзрыд. Сын молча разделся, нежно обнял мать, уговорил закрыть дверь, вставив в петли.
Любка понемногу успокоилась, навела порядок, сварила пельмени и ждала, когда вернется Сашка. Тот заявился к ночи. На четвереньках. Долго пытался вставить ключ в замочную скважину. Потом понял, постучал. Любка открыла. Муж ввалился весь в грязи.
Ну, что сука? Сколько кобелей привела? — начал с порога.
Баба, ни слова не говоря, схватила его за душу, затащила в ванну, сунула под холодную воду головой, не дав ни раздеться, ни разуться.
Сашка выкручивался, пытался вырваться, он кусал, царапал Любку, но та не отпускала, держала мужика под холодной водой, приговаривая:
Я с тебя дурь вышибу, козел облезлый!
Вытащила, лишь когда мужик не только кричать не мог, задыхаться начал.
Он мигом выскочил из мокрого тряпья, прыгнул в постель, дрожа всем телом, стучал зубами. Весь хмель как рукой сняло. Ох, и досадовал мужик на последнее обстоятельство. Ведь совсем не так хотел. Думал, вернувшись домой, проучить бабу, избить дочерна и примириться лишь после долгих уговоров, если она отдаст ему все деньги. А потом до самой смерти попрекать бабу, чем она зарабатывала, при том хвалиться, что кроме него, никто бы ей такого не простил. Но Любка и думала предлагать деньги. Наоборот, подошла к постели и спросила:
Сказывай, говнюк, куда мои вещи дел?
У Сашки в горле заклинило от бешенства. «Она еще с него смеет требовать отчет? Ну, это уж слишком!».
Только откинул одеялко, чтобы вскочить, Любка коленом к постели припечатала. Надавала по морде, по спине, пригрозила придушить, если не вернет барахло.
Сын, никогда не видевший мать, избивающую отца, от страха боялся выйти из кухни, лишь изредка выглядывал в комнату, ожидая, когда все закончится.
Сынок! Сережка! Заступись! — увидел сына Сашка, но мальчишка не хотел вмешиваться.
В свои годы он частенько получал от пьяного родителя ни за что. Сколько раз хотел уйти из дома. И лишь мать удерживала. Ее мальчишка жалел.
И ты меня продал, выблядок? Чей ты есть? — орал Сашка. Любка вдавила его мордой в подушку, не давая кричать, дышать. Она разъярилась не на шутку.
Лишь чудом мужик сумел повернуть голову, глотнуть воздуха.
Отпусти, паскуда! Хана! Не стану больше жить с вами! Завязываю! — вывернулся из-под колена и, вскочив на ноги, стал одеваться.
Чтоб без возврата! Слышишь?
Я за милицией! Пусть вас власти вытряхнут отсюда! Обоих! Насовсем! Я — хозяин квартиры! Вы — халявщики! Никто! Нехай выбросят! Я квартиру закрыл. Как посмели вломиться сюда? У меня другая баба имеется! Ее приведу! Она — не блядь, заразу не принесет, как ты! — выскочил за дверь.
Любка не поверила в услышанное. Ну, кто всерьез воспримет алкаша? А через час в квартиру вошли двое милиционеров, следом за ними — Сашка.
Любка ушам не поверила, что ее муж написал на нее заявление в милицию. Уж в чем только не обвинил, опозорил с ног до головы. И потребовал немедленного выселения.
Мы не знаем за ним ничего плохого. Если он дебоширил, издевался, почему никогда не обращались к нам за помощью? Вот у него имеются следы побоев свежие! А на вас — ни царапины!
Да он всю меня искусал! Только вот стыдно показать где, — краснела баба.
Твои хахали отделали! Я даже прикасаться боюсь! — подал голос Сашка.
Поймите верно! Мы обязаны принять меры по заявлению! Человек сообщил, что вы его душили, издевались, истязали! Осмотр подтвердил следы насилия. На человеке живого места нет. Если дело дойдет до суда, а ваш муж так настроен, вас не просто выселят, а и посадят. Кому это нужно? Оставьте его. Сумейте обойтись без суда. От него ничего хорошего не получите! — посоветовал пожилой милиционер.
А мои вещи? Он их пропил?
Суд на лечение взыщет с вас гораздо больше. Освободите квартиру, или мы доставим вас в отдел, — встали оба.
И Любка испугалась.
Она глянула на Сашку растерянно.
Ладно, я! А сын как? — спросила глухо.
Чей он сын? Во всяком случае — не мой! — отвернулся Сашка и попросил: — Помогите! Пусть очистят воздух живей! Мне отдыхать надо…
Баба поняла, что Сашка решил всерьез отделаться от нее. Она собрала документы, свернула одеяло, подушку. Связала их. Собрала в сумку продукты и, взяв сына за руку, вышла на улицу. Следом за нею покинули квартиру милиционеры. Они сели в машину, ожидавшую у подъезда, и вскоре уехали, даже не оглянувшись на бабу с пацаном, мокнувших под проливным дождем.
Куда ж податься нам, сынок? — глянула на Сережку. Тот прижался к ней, надеясь только на ее тепло и защиту.
Господи! Не ради себя прошу! Сына пощади, помоги нам! — взмолилась Любка. Она не знала, куда ей податься, кто примет их в такую ночь? Ведь ни подруг, ни знакомых не имела, к кому могла бы попроситься на ночь
Эй, бабочка! Ты чего это тут мокнешь, да еще с пацаном?
Выгнал нас алкаш! Обоих из дому выпер! — заголосила Любка.
За что же так-то?
За все доброе!
И кто ж твой муж? — вгляделся человек в лицо женщины, подойдя поближе.
Дамочкой его весь город зовет!
А-а-а! Знаю такого! Так ты его баба?
Вот уж не ожидал! — усмехнулся мужик и предложил: — Чем с таким гадом жить, лучше давай к нам!
Куда это — к вам?
А у тебя есть другой шанс?
Некуда мне идти, — опустила голову и, глянув на человека, спросила: — К тебе домой пойдем?
Домой? Нет у меня дома! Есть хижина как у всех. Нас много. Все вот также как и ты на улице оказались. Беда у каждого своя, а горе общее! Если имеется родня, какая примет, помогу добраться. Может, подруги есть? Иль хахаль?
Никого нет. Одни мы. Был муж и отец, да и тот отказался! Чтоб выгнать, даже милицию позвал, — призналась Любка.
Это ж Дамочка! — рассмеялся мужик.
Совсем промок мой мальчонка! — испугалась баба, беспомощно оглядевшись по сторонам.
Она знала, никто из соседей не примет их. Не приютит даже на ночь. У всех свои заботы, чужие горести — лишняя обуза, их никто не разделит, не поможет.
Пропадем мы здесь до утра. Пошли хоть куда- нибудь, — решилась Любка и поплелась следом за Павлом, держа сына за руку.
Вот мы и пришли, — открыл человек дверь в хижину и, пропустив вперед Любу с Сергеем, зажег свечу.
Комфорта мало, зато спокойно. И никто не станет прикипаться к вам. Живите! Переведите дух, оглядитесь. Там и решите, как дальше станете жить. Отсюда никто не выгонит и силой держать не станет! — предупредил на всякий случай и указал на матрац возле печурки; — Располагайтесь! Ваши пожитки совсем промокли. Пусть просохнут.
Это твое жилье? — огляделась Любка.
Нет! Моя лачуга рядом. Тут Шнырь дышал. Теперь в город вернулся. К своим. Упросили. Да только не очень обрадовался. Обоих детей похоронили. Жена семью просрала. Когда мужа прогнала, думала цвести будет. А судьба кверху жопой все поставила. Не то цвести, сама чуть не сдохла недавно. Если б не Шнырь, уже деревянный костюм надела б. Так-то все они смелые! И твой такой же! Да только не спеши мириться с ним. Оглядись, потом решай, — предложил, уходя.
Любка, осмотревшись, затопила буржуйку, поставила на нее чайник и усадила Сережку к теплу.
Ладно, сынок, давай переночуем. Дальше видно будет, как жить, — повесила на веревку мокрую одежду, укрыла плечи мальчонки одеялом, накормила его и, уложив возле теплой печки, прилегла рядом с сыном.
Утром они проснулись под песни птиц. Любе даже не поверилось, что утро может начинаться так тихо и спокойно, так здорово.
В тусклое оконце заглядывали яркие лучи солнца
Мам, а папка не придет сюда? — спросил Сережка, сжавшись в комок.
Нет. Сюда он не придет, Да и не станет нас искать. Он выгнал нас навсегда.
А если придет, мы пойдем к нему?
Теперь уж ни к чему. Нет больше у тебя отца. Вдвоем с тобой остались. Прости, что так все получилось. Не сберегла я семью. Теперь вот не жена и не вдова. Сама не знаю, кто я есть?
Ты — моя мамка, а отец сам нас прогнал. Так может лучше, зато теперь никто нас бить не станет, и обзывать некому. На водку не променяет никого. Он все горевал, что меня за бутылку не махнуть. Большой уже. А вот соседская девка только родила девчонку и сразу загнала за большие деньги. Отец ей и теперь завидует. Деловой называет. Знаешь, чего ей предлагал?
Он ей советовал фирму устроить! Чтоб он детей ей делал, а она бы продавала их. Та девка сказала, что детвору от такого кобеля даже даром не возьмут.
Ну и скотина! — не выдержала Любка.
А еще он ей предлагался в вышибалы, но тоже не уговорил. Она ему сказала, что к ней приходят приличные люди…
Любка, слушая сына, поняла, что она далеко не все знала о муже, что у него была и своя жизнь, неизвестная ей.
Рассказанное сыном успокоило. Баба уже не корила себя за случившееся, не упрекала за несдержанность и лишь жалела, что не подготовилась к такой развязке заранее, не рассталась с Сашкой раньше.
Весь день Любка и Сергей знакомились с обитателями свалки. Бомжи не докучали расспросами. О Сашке здесь знали все. Многие были знакомы с ним лично и удивлялись молча, как с ним сколько лет жила женщина?
Мы тоже не без греха. Случалось всякое. Иные, что средь нас прикипелись, мужичье званье обосрали. За то их из семей взашей вытолкали. И поделом! Но твой благоверный — наипервейший подонок! Он умудрялся увести с веревок барахло, пропить его, а нас подставить за свою шкоду ответчиками, — поделился Кузьмич и рассказал, как Сашка продал ему за бутылку плащ на теплой подстежке, а вскоре привел хозяина и указал на бомжа. Мужик вместе с плащом чуть шкуру с Кузьмича не содрал. Ничего не захотел слушать и пригрозил, если еще раз хоть один бомж появится возле дома, он тут же выпустит на него своего ротвейлера.
Отнял он у меня плащ и ходу домой. Вижу, твой Сашка к нему навстречу. Мужик ему тут же на бутылку отстегнул, а тут я к Дамочке подвалил и давай его за душу трясти. Он как завопил. Ну, тут толпа зевак, кто-то ментов свистнул. Нас сгребли. Так знаешь, что твой мудак намолотил? Вроде я — вор, а он — честняга: увидел, как я у его соседа плащ спер и высветил меня. Так вот я теперь на нем отрываюсь за неудачу, — выругался Кузьмич.
Да он за бутылку сам раком станет!
У него, гада, ни стыда, ни совести!
У наших бомжей курево стрелял, а у него попробуй, попроси, вмиг забрызгает.
Да что там курево? Вместе с нашими мужиками на пиво складывался. Ну, а когда ему бутылка попала, он ее как начал, так и прикончил, — рассказывали бомжи.
Любка слушала молча. Обидно было. «Столько лет потеряла», — горевала баба. А ведь могла устроить свою жизнь иначе, но поспешила. Не стала ждать из армии своего парня. Захотела жить в городе и согласилась на первое предложение. Уже через полгода о том пожалела, но слишком большим был срок беременности.
Послушай, Люба, наши бабы по-разному живут, как и все мы. Одни простикуют, воруют, бродяжничают, другие работают. От городских мы отличаемся тем, что нет квартир, у многих нет документов и прописки. Есть, кто от милиции прячется, от расправы. Этим в город лучше не соваться. Тебе дорога открыта, выбирай, как жить станешь. Одно верно, стол общий, с голоду не сдохнешь. А и без дела не засидишься. Таких и у нас не празднуют, — предупредили бомжи.
Любка на следующий день вышла на работу, но, возвращаясь вечером, зашла в кафе, хотела выпить чашку кафе за целый день. Вот тут-то и подсел к ней улыбчивый русобородый Степан. Разговорились. Мужик заказал себе пива и шпроты, достал из сумки деревенский хлеб и сало. Предложил Любке. Та отказалась, но Степан был настырен.
Жаль, что в городе бываю редко. В деревне всегда дел полно. Не то отбил бы тебя у мужа! Зачем такой красе в городе чахнуть?
Не у кого меня отбивать! Ушла я от мужика вместе с сыном. Осиротели мы с Сережкой. А и замуж не собираюсь. Не хочу больше головой в петлю лезть. Хватило одного. Теперь уж никому не поверю.
Выходит, подморозило тебя? — вздохнул Степан и спросил: — А сыну сколько лет?
Теперь восьмой год…
Уже не малыш, но самый возраст, когда отец ему нужен. С кем же он теперь? С папашей?
Нет. Один. Ждет меня.
Где живете?
Где придется! — покраснела Любка, вспомнив жалкую лачугу, где ждет ее Сережка, выглядывая из двери на дорогу.
Извини, Степан, засиделась я с тобой, а мне спешить надо! — встала баба.
Люба! Нет деревни без собаки! Так и каждый из нас не в ответе за другого. Дай мне адрес! Может, когда-нибудь загляну.
Нет у меня адреса! И заходить не стоит, — разозлилась баба на себя за то, что разговорилась с мужиком совсем чужим и незнакомым. «Почти час проговорили, а ведь сын ждет. Давно б уже с ним была бы!», — торопится Любка, не оглядываясь по сторонам.
И где ты, бабонька, шлялась? — встретил Любку Павел у хижины и, окинув хитрющим взглядом, сказал, будто ушат холодной воды вылил на голову: — Тут твой Дамочка возникал! Приперся косой в жопу, пацана хотел забрать. Ну, мы его подналадили, кому куда удобно было! — рассмеялся громко. — По всем падежам просклоняли мудозвона, ходячую парашу!
Зачем ему Сергей понадобился? Ведь при ментах отрекся, сказал, что не его сын!
Что-то задумал утворить с мальцом. А может, вздумал пристроить, чтоб самому за его счет дышать. Не иначе! Ведь мужик, какой от ребенка отрекается, свой хрен на помойке сыскал и не верит ему до гроба Таких мудаков живьем урывать надо! Чтоб другим рядом с ними дышать совестно не было. У нас вон Бублик канал. Он на Колыме свое хозяйство поморозил. Его на бабу и домкратом не поднять. Ни к чему они ему. Однако прилепился к вдове. Троих ее детей вырастил. Всех усыновил. И не только чужим, самому себе родными яйцами клялся, что эти дети — его родные. Кто не верил, того пиздил, да так, что те потом остальных убеждали!
А зачем, если баба не нужна, все же женился? — не поняла Любка.
Вот, курица мокрохвостая! Да разве постель в жизни — главное? Шалишь! Важней всего тепло и понимание! Вот на том семья держится! И баба ему попалась путящая! Душевная, теплая.
От чего ж тут живет, а не в семье?
Как это «не в семье»? С бабой! Живут, что голубки воркуют! Не знай его беды, не поверил бы, что импотент полный! Он уж давно от нас слинял. Лишь
иногда возникает. Брал наших гараж строить, потом баньку, с огородом и садом помогаем.
А дети? Иль не научил?
Все могут. Грех сказать иное. Только старший его теперь институт закончил — на практике. Средний в мореходке учится, на судне все время, а младшего спрятать не успели. Его в армию забрали. Бублик к нему всякий месяц мотается: боится за него как за кровного.
Повезло той бабе! — вздохнула Любка.
Умная она, вот и увидела в мужике человека. Не испугалась, что бомж. Поверила и не жалеет о том.
А на Колыму за что он попал?
Бублик? Он же пекарем вкалывал в Брянске. В той пекарне особый хлеб выпекался. Назывался сталинским. Черный как судьба наша, но вкусный, с тмином, с кориандром, укропом. Его не просто покупали, а расхватывали. Так вот случилось, что купила бабка тот хлеб. Разрезала, а в нем таракан. Нет бы, пришла и заменила, иль деньги взяла. Она враз в органы, мол, как посмели сталинский хлеб испаскудить? Сегодня хлеб, завтра страну опозорят? Это диверсия! Короче, старуха была из коммуняк, кто портрет Сталина над койкой вешал в доме И прежде чем спать ложиться, тому портрету гимн Советского Союза пели. Добилась она своего: осудили Бублика! За сраного таракана на пятнадцать лет, а в статье указали «за осквернение имени вождя»! Ну да жив вышел, и то ладно! А вот твой козел сегодня грозил власти сюда на свалку вытащить и всех нас как тараканов на чистую воду вывести. Если б он не вонял, не тронули б его! Тут же до печенок достал. Разобрало всех, и вкинули так, что мало не показалось! Чего нас пугать? Мы уж все пережили! Ему того и не снилось! Да еще пацаненка не уговаривал, не звал по-доброму, а за шиворот и пинком хотел гнать. Ну, мы и взъелись. Вломили так, что раком пополз отсюда!
Ну, он быстро не отвяжется! Теперь уж точно с ментами нарисуется.
Он же при них отрекся от сына! Значит, милиция не придет, а вот алкашей притащить может. Но и с ними управимся, — улыбнулся Павел и предупредил: — Теперь ему одно остается: опорочить тебя с ног до головы, доказать, что не можешь вырастить сына. А он — вот ведь какой жалостливый, согласен Серегу растить! Дошло?
Не пойму, зачем ему сын? Он самого себя не прокормит. Куда уж ребенка?
Скоро узнаем. Ты только смотри теперь, в городе будь осторожна. Не клей хахалей, не высовывайся на панель, чтоб тебя не засекли!
Идет он в сраку! Сам не работает. Ни копейки в дом не приносил. Мне сына кормить надо! А как, если зарплаты на неделю не хватает? На такие гроши одной не продышать! Я из-за этого говна сына голодом морить не буду! И ни одна милиция не укажет. Половина городских баб простикуют. Им ничего, зато меня одну увидят! Пошли они все на хер вместе с Сашкой. Если такие жалостливые, пусть заставят его вкалывать и помогать сыну! А коли не могут, не укажут мне!
Чего ты на меня орешь? Я предупредил, сама решай дальше.
Любка вошла в хижину, обняла сына.
Меня папка побил, а дядьки заступились. Их так много было, как подскочили со всех сторон. Как дали ему! Погнали отсюда кулаками! Сказали, если придет, ему уши вырвут и в самую жопу воткнув Мам! А зачем жопе уши? Как же он тогда слушать станет? Все время без штанов будет ходить? — рассмеялся Сергей.
Милый мой Сергунька! Скажи лучше, зачем он хотел тебя забрать?
Он мне говорил, что ему стыдно за меня. А потому хочет вырвать из притона алкашей и проституток, пока не успели испортить меня вконец.
Спохватился, сучий сын! — вспомнила Любка, как год назад вернувшийся домой вдрызг пьяный Сашка бросился на нее с ножом. Порезал плечо, руку. Сережка, увидев окровавленную мать, выскочил на лестничную площадку, закричал. Сашка вытолкал за дверь Любку и, закрывшись на ключ, пригрозил, что если попытаются войти, обоим снимет головы.
Никто из соседей даже не выглянул, не вступились, не защитили, не помогли оставшимся на улице. И Любка вместе с сыном три дня жили под мостом. Там их приметили бродяги, сжалились, накормили. Узнав в чем дело, привели их к дому. Вызвали во двор Сашку и пригрозили повесить под мостом, если тот еще раз посмеет выгнать жену и сына.
Сашка после этого случая целый месяц не бил бабу, даже когда возвращался пьяным. Он боялся, что жена снова приведет заступников из-под моста. Лишь через месяц решился надавать по морде бабе. Но из дома не прогонял.
В подъезде своего дома женщина не сдружилась ни с кем. Даже бабы с одной лестничной площадки злились на Любку за то, что их мужики оглядываются на нее кобелино. Да и ей не хотелось впускать в квартиру соседей, чтобы не опозориться из-за Сашки. Не хотела выносить сор из избы, но и утаить неприятности не всегда удавалось. Пьяный муж орал на Любку, и соседи поневоле слышали и знали все. Она часто ходила в синяках, избитая дочерна. Может потому, даже в жаркие летние дни не носила платья и кофты с короткими рукавами. А Сережка не гулял во дворе, не играл с соседской детворой, чтобы не дразнили и ни о чем не спрашивали.
Сашка когда-то окончил строительный институт, работал прорабом. Именно его положение городского образованного человека предопределило судьбу Любки. Ей льстило, что ее муж не какая-нибудь деревенщина, а начальник! От него не пахло навозом или соляркой. Он ходил при галстуке и в очках, никогда не курил дешевые сигареты без фильтра, от него пахло одеколоном.
Любке завидовали все девки. Еще бы! Уехать из деревни навсегда, жить, не надрываясь. Не копать огороды, не косить траву на сено, не таскать на себе чувалы с картошкой и свеклой, не вскакивать спозаранку доить корову. В городе люди живут иначе: чисто, красиво и культурно, не ломая спину, не набивая мозоли, как в сказке.
Жизнь в городе казалась им раем. Любка через год взвыла не своим голосом. Призрачный рай оказался адом. И лишь в редких снах избитой, изруганной бабе снилась деревенька. Деревянные избы как добрые соседи не имели замков на дверях. Здесь и на ночь не закрывали окна, не боялись воров. Бесхитростно и просто, непридуманно жили там люди. Одинаково работали и радовались вместе. Если у кого случалось горе, всяк помочь и поддержать старался. Не было алкашей и проституток, воров и бомжей. Не знали этого деревенские, жили своим укладом. А какие песни пели в цветущих садах, в пшеничных полях, на речке и лугу… Любка нередко плакала, вспоминая то, с чем рассталась, от чего ушла бездумно.
Городской она так и не стала. Несмотря на уговоры Сашки, не решилась остричь косы и, хотя не заплетала как в девичестве, укладывала венцом вокруг головы и шла гордо. Ведь у многих других волосы были искусственные, либо короткая стрижка, а у нее свои, родные.
Пещера! Срежь свой хвост! Мне за него в парикмахерской литр водки обещали. На что тебе эта грива? Да и шампуни меньше тратить будешь, и мороки не станет. Под краном сможешь башку помыть, — уговаривал муж, но Любка не соглашалась.
Она не обрезала их, даже когда в доме нечего было поесть. И тогда Сашка пригрозил, что острижет их у нее ночью. Вот тогда впервые насмелилась и пообещала, если он на такое решится, тут же разведется с ним.
Сашка покрутил пальцем у виска, выругался грязно и забыл о косах жены.
Шли годы. Давно уж пожалела баба о своем замужестве и переезде в город. Ничего хорошего не ждала от будущего. Не радовалась праздникам и все мечтала подрастить сына, поставить его покрепче на ноги, выучить, дать образование, а потом, когда он станет взрослым, самой вернуться в деревню насовсем. Забыть пьяницу- мужа, свары и драки, оскорбления, жить до конца пусть в глуши, но в тиши, в труде, но не в беде. Но не получилось. У Сашки были иные планы, своя жизнь.
Любка достает из сумки булку:
Поешь, сынок.
Я не хочу. Мне наши дядьки дали поесть. Приносили хлеб и сало, картошку и селедку. Горячий чай пил. И даже яблок целую миску дали. Я и тебе оставил. Глянь, сколько всего на столе! Поешь!
Не хочется, — отвернулась баба. Ей стало обидно, что чужие люди защитили сына от отца. Даже бомжи ему не поверили, прогнали, а она жила с ним столько лет. «Выходит, сама во всем виновата», — вздыхает Любка.
«Виновата, но в чем? Лишь в том, что, не узнав хорошенько, поспешила с замужеством. Но ведь и это не от поспешности. Выпивают многие, только другие умеют при том сохранить и мозги, и семьи. Санька пропил все.
Видно потому, что никогда со мною не считался. Жил, как хотел. Когда с работы выгнали за пьянку, даже обрадовался. Обмывал как праздник. Все говорил, мол, его везде возьмут, у него повсюду друзья. Его давно звали на хорошие должности и высокие оклады». Звали… а когда выгнали, никому не нужен стал. Друзья не узнавали, бросали трубки, услышав его голос по телефону. Другие обещали поискать что-нибудь, но чаще говорили прямо: «Керосинить надо в меру. Своих таких хватает, пачками выкидываем на улицу. И ты не лучше. Так что не домогайся. Ничего не выгорит».
После таких разговоров Сашка напивался до одури, клял всех на свете, материл последними словами и перебил в доме всю посуду.
Сволочи! Столько бухали вместе! А как нужно мне помочь, рыла отвернули! — орал до пены с губ.
Тогда он стал пить постоянно: каждый день, целыми днями. Он брал в долг у знакомых, потом стал пропивать свои вещи. Пропил обстановку. Дальше добрался и до Любкиных тряпок. Он не просил и не спрашивал, брал молча и уносил. Баба ругалась, Сашка налетал на нее с кулаками. Дошло до того, что начал пропивать Сережкины игрушки, вещи.
Любка стыдила. Это бесило мужа.
Устройся на работу хоть кем-нибудь! Посмотри! Ты совсем опустился, на человека не похож!
Заткнись, тундра! Я здесь хозяин! Не нравится, выметайся вон! Тварь безмозглая меня стыдить взялась. Иди вкалывай! Хватит на моей шее сидеть. Ишь, задницу отожрала, свинья колхозная! Кто тебя силой держит здесь? Да я таких как ты кучками за любым углом сниму.
Не ради себя прошу! Ради сына одумайся! Ведь ты и себя, и нас губишь!
Хватит причитать!
Любка замолкала. Она думала, как остановить мужа? Как уговорить? Баба вскоре поняла, что ни о какой работе теперь говорить нет смысла. Сашку нужно было лечить от запоев. Но как убедить его в том? Любка пыталась много раз доказать мужу, что вся его беда от спиртного, и если он не задумается, не вылечится, его организм не выдержит.
Что ты понимаешь в моем организме? Дай на бутылку, я тут же выздоровлю!
С каждым днем жизнь в семье становилась невыносимее.
«Даже здесь, у бомжей, куда как спокойнее!» — подумалось бабе невольно.
Вдруг услышала голос Павла:
Люба! Вы спите?
Пока нет.
Идите к нам! Сейчас нельзя оставаться в одиночестве. Побудьте с нами.
Женщина глянула на сына. Сережка спал, улыбаясь, сжав в руках большое яблоко.
«Отец давно их тебе не покупал, а эти, хоть и чужие, не обошли, поделились», — подумала невольно и, тихо встав, пошла к костру.
Люди подвинулись, дав ей место у огня. Женщина, присев, вслушалась в рассказ смуглого спокойного мужика, сидевшего рядом с Кузьмичом.
Нет, она не выгоняла, я сам ушел. Понимаешь, детей не было. Прожили десять лет, и все псу под сраку. А тут завод закрыли. Разорился. Заказов не стало. Жена в торгашки подалась, а я не у дел. Везде был, нигде никто не нужен. Баба меня в торгаши стала уговаривать, я уперся. Не мое дело, не умею. На это тоже способности нужны. Ну, а тут пришел домой, жена собаку кормит на кухне и говорит ей: «Не ходи его встречать, он — безработный, значит, бездельник, дармоед! Не только мне или тебе, себе на кусок хлеба не заработал. Уже сколько времени на моей шее сидит и совести не имеет». Ну, что тут скажешь? Права! У меня от этой ее правоты в глазах темно стало. Повернулся и ушел от нее. Хуже всего от бабы зависеть, даже в мелочи. Все они с виду добрые да покладистые, а чуть прижмет нужда, враз зубы покажет любая.
У Любки кулаки сжались невольно. Может и Сашка со своими собутыльниками вот так же ее полощет.
Конечно, всяк себя выгораживает. Кто признается, что сам — говно? За десять лет даже дитенка не смог сделать, а бабу поганит. Да как она жила с таким холощеным? — возмутилась Любка и, не захотев никого слушать и видеть, ушла в хижину, легла спать, решив никогда больше не подходить к костру.
Бомжи, словно угадав, тоже не звали Любку посумерничать у огонька, и та, возвращаясь с работы, вскоре ложилась спать рядом с Сережкой. Сын рассказывал, как прошел день у него. Любка слушала вполуха, уже засыпая.
Мам, мам! А я с пацанами познакомился. Они тоже бомжуют, — рассказывал матери, но та уже не слышала, спала. Баба знала, бомжи никому не дадут в обиду ее сына, себе откажут, а его накормят. И Любка уходила на работу со спокойной душой. Случалось, иногда подрабатывала на мужиках. К ней их тянуло. Даже молодые парни не могли равнодушно пройти мимо нее. После таких встреч она приволакивала полные сумки харчей, половину из них отдавала бомжам.
Прошло уже больше месяца с того дня, когда бабу выгнали из дома. Она все реже вспоминала Сашку, его приход на свалку, понемногу успокаивалась. Но однажды, придя домой, не увидела в хижине Сережку. Любка огляделась, позвала. Сын не появился. Баба обошла все хижины, спросила каждого бомжа, но мальчишки нигде не было.
Мужики и бабы вместе с Любкой обошли всю свалку. Заглянули в заброшенные лачуги, звали, искали — все бесполезно. Сережки не было нигде.
Мой алкаш уволок сына! Теперь попробуй его отнять! Он его на все замки закроет, цепным кобелем рядом сядет и будет сторожить. Как же вы не увидели, что этот гад за сыном пришел? — плакала, упрекала бомжей Любка.
Когда в сумерках из города вернулись все мужики и узнали о случившемся, Кузьмич предложил:
Затягивать не можно. Пока никуда не успел подевать, забрать надо мальца. Отнимем силой и накостыляем козлу, чтоб в другой раз не рискнул заявиться.
Я не верю, что он дома один. Небось, с ментами приморился, ждет, когда появимся. Ловушку подготовил. Просто так Сергея не отдаст! Не для того увел, со своим умыслом, — предположил Лопух.
Э-э, да что с ним церемониться?
И верно! К ногтю гниду!
Айда в город! Заберем пацана и ходу!
Всей кодлой ввалимся! Он со страху в портки навалит! — предложили мужики и ринулись в темноту дружной стаей.
Впереди всех бежала Любка. Пожив среди бомжей, баба осмелела. Научилась стоять за себя. Может отбрить любого нахала, а если понадобится, сможет и в зубы дать. Теперь она не испугалась Сашкиных кулаков и не стала ждать, когда бомжи выломают дверь или вызовут Сашку на улицу. Любка выбила дверь плечом, вошла в комнату, увидела Сашку. Он только что выпил одеколон, закосить еще не успел, все соображал. Появление Любки его не удивило и не испугало.
Прикатила, кобыла? Соскучилась по мужику? Не хватает тебе кобелей на свалке, подзаборная шлюха?
Любка заглянула в спальню, на кухню, в туалет, Сережки не было нигде.
Бомжи взяли Сашку в плотное кольцо.
Не надо! Не трожьте его! Я сама! — подошла к мужу и спросила хрипло: — Куда сына дел?
Какого сына? — глянул на Любку удивленно.
Тебе подсказать? Иль сам вспомнишь? Кончай кривляться, гнида! Где Сергей? — вспыхнули злобой глаза.
Что? Просрала Сергея? Бомжей своих тряси! Они его занычили! Не сыщешь — убью тебя! — двинулся к Любке с кулаками. Бабу затрясло от ярости. Она схватила его за шиворот, тряхнула в воздухе как тряпкой и отшвырнула в угол. — То ж надо! Эдакая мартышка столько лет мучил меня! Чтоб ты через уши просирался!
Шлюха! Сына пропила! — вопил из угла Дамочка.
Что?! — Любка шагнула к Сашке, долбанула кулаком по голове. Тот повалился на пол, затих.
Урыла! — ахнул кто-то из бомжей.
Туда ему дорога! Надо было раньше с этим управиться! — отвернулась баба и решила заглянуть на балкон.
Даже пустые бочки и кадушки проверила, в выварки посмотрела. Сына нигде не нашла: ни под койкой, ни под столом. Исчез мальчишка.
Куда спрятал, засранец? — трясла Сашку, который никак не успевал прийти в себя.
Любка била его яростно, потеряв или забыв всякую жалость.
Прикончу козла! Говори, где Сергей?
Не знаю! Я его не видел давно!
Брешешь, змей! — осыпала тумаками.
Даже бомжи стали сдерживать:
Полегче, не то уроешь…
Не размазывай! Погоди!
Истерзав Сашку до одури, поняла, что либо он и впрямь не брал сына, либо уже что-то утворил с ним, спрятал у алкашей надежно.
Нет! Не брал он мальца! Глянь, вон у него кровь со всех мест бежит. Давно б раскололся! Он — слабак, не выдержал бы большой трепки. Бесполезно трясем. Пошли отсюда! — позвал Павел.
А Сергей?
Ну. Нет его здесь! И не было! Видишь, он сегодня из дома не выходил. Портки единственные и те вконец порвались. В таких не то на улицу, во двор не выйдет. Милиция поймает.
Где ж одеколон взял? С доставкой на дом принесли ему? — напомнила Любка.
Мне Петька принес! Я сыну его пообещал для дипломной проект сделать. Это больших денег стоит. Он и принес аванс! Хотя, ты не смыслишь в том, дура! — тут же получил оплеуху и умолк.
Где ж его теперь искать? — глянула Любка на бомжей растерянно.
Хрен его знает, но не мог же он сам по себе куда-нибудь смыться? — размышлял вслух Шайба.
Нет, конечно. Кто-то уволок. Но кто?
Может Дикая Кошка? У нее такие же сопляки приклеились. Она их приноравливает к жизни, — предположил Павел.
Нет, она не ворует пацанов! Только когда сами приволакиваются к ней. Да и не возникала она на свалке!
Сама не уведет, но ее пацаны могли отчебучить. Уломали нашего…
Треп! Дикая Кошка Серегу не возьмет. Зачем он ей? Лишний рот, ни хрена не умеет. В ее кодле все пашут, а Сергей ничем не поможет. Он мамкин. Катька с ним возиться не станет.
А может, его Пузырь уломал?
Тем более Толику он не нужен. Тот на халяву не пернет, а уж держать нахлебника и вовсе не согласится. Даже слушать о том не хочу! — замотал головой Кузьмич.
Куда же он делся?
Давайте домой! Может, Сергей вернулся и ждет нас?
Вот где мы не глянули: на речке! Там городские мальцы рыбу ловили последние три дня и ночевали в палатке. Скорее всего — с ними. Может, даже уснул у них? — вспомнил Комар.
А и верно! Не решился б далеко уйти. Если кто- то захотел бы увести, крик поднял бы такой, перепонки порвались бы.
Пошли мужики! Люба! Ты с нами иль тут остаешься? — прищурился Павел.
Конечно, за сыном! — отозвалась баба живо.
Куда ты в ночь? Сиди дома! Я с мужиками пойду. Разыщу сына и приведу домой! — встал Сашка с пола.
То гонишь нас, то держишь! А завтра что будет? Снова за шиворот или за нож схватишься? Нет! Не надо мне чужого дома, где хозяин не смог стать ни отцом, ни мужем! Осточертело все! Жить в блядях, не изменяя, никому такого не пожелаешь, даже врагу. Себе и подавно! Уйди, постылый! — отшвырнула Сашку с пути и вышла в ночь вслед за бомжами.
Люба вернись! — услышала вслед и не поверила ушам, не оглянулась.
Лишь в первые полгода жизни звал ее муж Любой, а дальше словно забыл имя.
Баба шла рядом с Кузьмичом. Тот немного приотстал от всех, заговорил с Любкой вполголоса:
Слыхала, как тебя твой мужик звал?
С чего бы? Не пойму, — пожала плечами баба.
Все просто и понятно. Он привык в тебе телуху видеть, безмозглую скотину! Ну, короче, быдлу, какой можно по морде и по жопе надавать, пользовать, как хошь. Ты сама в том виновата, так себя поставила с начала. Он и попривык помыкать. Где кулаком, где матюком погонял как дуру. Ты все сносила молча. Потому потерял к тебе уважение себя убедил, что оженился на деревенской дурехе. Неравный брак, от того запил, скатился.
А что я могла сделать? Он не хотел меня слушать.
Уже сделала! Развернула мужика к себе лицом! — хохотнул тихо и добавил: — Мало, спесь с него кулаками выбила, так ответила достойно! Показала ему, что ты — женщина, мать, какую есть за что уважать, и что-то переломила в нем. Это лишь начало, Любушка! Если сумеешь и дальше вот так за себя стоять, вскоре он придет руки твоей просить.
Да на хрен нужен! Столько лет с ним промучилась и снова в петлю? Нет, Кузьмич! Не хочу и не смогу!
Оно понятно! Простить такое трудно, но время сглаживает. К тому же у вас сын. Ему и мать, и отец родные нужны. Он очень тяжело переживает ваш разрыв. Ребенку твоему, как ни крути, скоро отцовские руки и его плечо понадобятся. Ведь у тебя пацан. Родного ему никто не заменит, помяни мое слово. Себе всегда сыщешь, а сыну — нет. Смотри, голубка, второй муж никогда не бывает лучше первого. Потому как первый — от Бога, второй — от сатаны.
У меня все наоборот. Сашку не Господь, его преисподняя высрала. Я за то наказана, что парня из армии не дождалась.
Выходит, не он твоей судьбой был, а Сашка нынче задумался…
Не хочу о нем! — оборвала резко Любка.
Цыть, заноза! Не моги на меня орать, не то башку в жопу вгоню!
Чью? — усмехнулась баба.
Твою к тебе! Далеко искать не стану! Ишь, как осмелела! Напробовалась других мужиков, познала сравненье? Вот и наглость сыскала! Думаешь, опыту набралась в Любовях? Хрен тебе в белы рученьки! Себя в дерьме искатала и не боле того! Настоящую любовь за деньги не купишь, а ты сучью похоть сбила! Думаешь, тебя любили? Держи карман до пятки. Приспичило козлов, вот и высморкались в тебя! А ты за деньги и хорьку подставишься. Видел, как с черномазым в баню пошла под руку. Во, срамотища! Хотел я вас обоих отмудохать, да мужики не дали.
Завязывай трандеть. Я жратву принесла, все молча лопали. И ты тоже! Чем Сашка лучше черножопого? Тем, что на халяву в постель лез, а потом морду бил? С тем я переткнулась и рассталась, а Дамочка каждый день изводил.
Сама себя уронила, себя и вини. Нельзя в дурах жить. Баба не только для постели, она душу греть
должна, а где надо — на своем настоять, но не криком. Мужика на горло не взять. Дошло иль нет?
К чему ты завелся? Не вернусь я к Сашке, хоть ковриком под ноги стелись.
Эх, глупая! Не век молодой да пригожей будешь. Придет времечко, когда и старый козел на тебя не поссыт, и сил не станет. С кем век доживать будешь? Сын свою семью заимеет, отделится. Одна останешься. Кобели к молодым пойдут, транда не дефицит. Сколько мокрощелок на панели? Семнасток старухами лают. И ты вот-вот сойдешь в тираж. Только алкаши за сто грамм станут тебя под заборами тискать
Ни хрена им не обломится!
И таким будешь рада! Ты не первая, кого жизнь в штопор скрутила. Я уже всяких видывал. Помоложе, покрасивей тебя бабы, а вовсе опустились, спились вконец. И тебя это ждет. Возьмись за ум, покуда сын не отвернулся. С добра ль Серега с кем-то смылся? Значит, ему уже нынче тошно с тобой. Уже теперь ему отцовская рука нужна, чтоб не сбился, толковым мужиком вырос.
А что он от родного видел? Срам?
То было! Нынче он в твоих руках! И коль сможешь удержать, выправишь человека, сохранишь семью и свою жизнь не искалечишь. Помяни мое слово: всякому свое испытание надо выдержать.
О Сашке слышать не хочу!
То покуда! Дай памяти остыть по прошлому. Сама увидишь, коль захочешь, как человек на твоих глазах поменяется. То непритворное, то истинное его проявится.
Не верю! — хмыкнула Любка.
Ты сколько лет прожила с ним? И поверь, ни хрена его не знала.
И не хочу! Мне б Сережку найти. А что Дамочка? Дурной сон!
Вовсе задубело сердце твое, бабонька. Слова слушаешь, а не слышишь. Не приведись большей беды. Если нынче сыщем Сережку, он вдругоряд удерет от тебя. А когда-то и навсегда. Хорошо, коль не сойдется с лихими людьми, а если судьба не пощадит и в наказанье за блядство и норов отнимет сына?
Кончай срать на душу! — взвилась баба, потеряв терпение, и, ускорив шаг, обогнала Кузьмича, пошла к бомжам, уже свернувшим к реке.
Вот их костерок! Гляди, угли еще тлеют, а палатку не видно. Да и где ее теперь сыщешь? Ушли подальше от реки и комарья в кусты. Там тихо и прохладно. По утру сыщется твой Сергей, — заглядывали под кусты и деревья, не верили в собственные слова бомжи.
Любка всю ночь не спала. Все ждала, прислушивалась к каждому шороху и плакала, дрожа от страха за сына.
Но Сергей не появился и утром. Городские мальчишки сказали, что он не был с ними и не подходил.
Любка металась по берегу реки. Она боялась, что сын, решив искупаться, мог утонуть. Мальчишки из города уверяли, что никого на реке не было.
Бомжи еще многократно проверили всю свалку, но пусто. Любка не раз билась в истерике, проклинала себя, что пришла к бомжам. Ведь если бы не это, Сережка и теперь находился бы с нею. Когда страх бабы достиг предела, на свалке внезапно появились трое: Колька-Чирий, Червонец и Сережка.
Забирайте своего гниду. Взяли мы его у вас вчера, хотели посмотреть, на что он годен? Так вот, он — полный лопух!
Тут же получил Чирий в ухо от Кузьмича:
Стервец! Как посмел, не спросясь?
Чего бочку катишь, плесень? Я тоже могу наехать вкрутую! — обиделся Колька и добавил: — Подумаешь, на день сопляка сняли! Мы ж его харчили. Он даже не отпахал. Думали, вы с него навар снимаете, а этот хрен только хавать умеет. Нет! Мы о вас лучше думали! — поспешили быстро убраться от бомжей, бравших их в кольцо.
Любка ни на- секунду не отпускала от себя сына. Он рассказал бомжам, как пацановская кодла учила его воровать, побираться. Но ничего не получилось, и его вернули. А сманили его, пообещав велик, если он поможет пацанам. Но вернулся на своих двоих. Сергей весь день до вечера был в центре внимания, а когда стало темнеть, на свалку пришел Дамочка.
Ну, что? Нашли Серегу? — не смог скрыть тревогу в глазах.
Боялся за него, — признался тихо и пошел к Любкиной хижине неуверенно, вздрагивая всем телом. На пороге постучал в дверь. Вошел боком и, увидев сына, присел около него.
Где ты был, сынок? — спросил внезапно осипшим голосом.
У пацанов. Мы играли во взрослых.
Зачем? Не спеши с этим. Оставайся в детстве подольше, — глянул на Любку и спросил: — Не надоело в гостях?
А что взамен предложишь? — усмехнулась баба
ехидно.
Домой вернуться…
Нет у нас дома. Туда, где ты живешь, мы не пойдем. С нас хватит! Сыты по горло. Да и зачем мы тебе? Сегодня тебе не на что выпить, пропивать стало нечего. Вот и пришел. Не то б забыл, как нас зовут. Иди к себе! Худо ли, горько ли, живем без тебя, и, поверь, куда как лучше дышится! Повидался с сыном и будет. Не мешай нам!
Значит, полная отставка? А ведь я тебе помириться предложил.
Не хочу. Все к тебе отгорело.
А сын? Давай его спросим.
Отстань от нас! Сережка мал! А я ненавижу тебя! Слышишь, уходи! — начала злиться Любка.
С чего это ты так загордилась?
Надоело жить со сволочью! Ты не муж и не отец, законченный алкаш!
Эх, Любка! Вспомнишь ты этот день. Не раз за жопу будешь рада укусить себя, да будет поздно. Сын тебя не простит.
Выметайся вон! — открыла двери баба. Дамочка встал и тихо сказал Сергею: — Мужай, сынок! Тебе и впрямь пора уходить из детства, — вышел из лачуги, и вскоре его шагов не стало слышно.
Любка постаралась скорее забыть о визите Сашки. И хотя вспоминала свой разговор с Кузьмичом, никак не могла согласиться с ним. Она не могла представить себе примирение с Дамочкой. Слишком много пережито и выстрадано. Отгорело к Сашке все. Она не верила ни одному его слову и презирала.
«Помириться, вернуться! Ни за что! Лучше сдохнуть, чем лечь с ним в одну постель, жить в одной квартире. Да это хуже пытки! Он даже сомневается, что Сергей его сын! Как жить с ним после этого?» — нервничает баба.
Люб! К тебе можно? — послышался за дверью голос Павла.
Входи!
Все нормально обошлось? Не обидел тебя Дамочка?
Помириться предлагал. Домой звал! — поняла, что Павел знает о том. Видно, неподалеку стоял, все слышал.
Размечтался! Да кто ж его простит?
А Кузьмич советует помириться! Мол, пусть подумает о сыне, своей старости!
Совсем крыша едет у деда! Чего ж сам не помирился со своими? Он свою старость уже в портках носит. Какого хрена суется не в свои дела? И тебе скажу, последней дурой будешь, если вернешься к нему! Сам мужик, но скажу правду: таких мудаков как Дамочка к бабам на пушечный выстрел нельзя подпускать. Его ничто и никто не исправит. И Кузьмич зря болтает, мол, если в бомжихи влетела, считай, пропала. Наши бабы — не пропащие. Сколько их — не гляди, что бездомные — замуж повыходило? И живут поныне семьями светло и счастливо. Нашли свою судьбу. И на твою долю солнце сыщется. Всему свое время. Никого не слушай, кроме собственного сердца. А что касается Сережки, то и ему такой Дамочка не в радость. От вашей жизни он больше всех страдал. Чем такой отец, уж лучше б его не было совсем. С Сашкой ты, в первую очередь, теряла Сергея. И уж если б ушел, ты никогда не вернула б сына в дом.
Да и не думаю мириться! Хватило с меня лиха! — усмехнулась Любка.
На следующий день она пошла на работу, принарядившись, и вдруг услышала:
Люба! Подожди! — к ней со всех ног бежал Степан. Тот самый, полузабытый, с каким познакомилась в кафе. — Я так долго разыскиваю тебя по всему городу! — подошел, улыбаясь, как давнишний приятель.
Зачем искал? Не стоит, — нахмурилась баба.
Почему?
Степан покраснел. Потом, словно решившись, выпалил одним духом:
Понравилась ты мне! В сердце, в самую душу запала. Веришь?
Степан! Отведи душу с другой! Ищи по себе. Мне не до приключений. Я все уже пережила. Не хочу новых бед ни с тобой и ни с кем другим. Забудь. И прости, мне нужно на работу, — хотела уйти, но Степан придержал.
Нам нужно поговорить. Давай после работы увидимся. Я подожду! Я слишком много думал о тебе и Сергее! Не откажи в малости. Ведь я — не нахал! Честное слово, эта встреча нужна. Выслушай меня, пожалуйста! Если и после этого откажешь, даю слово, оставлю в покое!
Не надо! Не о чем нам с тобою говорить!
Прошу! Я не задержу надолго!
Ладно. Тогда в пять вечера в том же кафе! — бросила на ходу и заторопилась, даже не увидев, что Степан шел следом.
«Значит, на почте работаешь? А я-то тебя по магазинам искал! Эх, дурак!», — ругал себя человек и решил заглянуть на почту, купить конвертов. Он обошел все. Заглянул в каждое окно, но Любу не увидел.
В пять вечера он пришел в кафе и испугался лишь одного, чтобы не забыла она о своем обещании. Но Любка пришла.
Спасибо тебе! — глянул на бабу и пригласил за стол. — Давай поедим! — предложил запросто.
Меня сын ждет.
Пойдем к нему.
Нет! Тебе нельзя. Сережка меня не поймет. Я не хочу, чтобы он видел меня с чужими, — и рассказала, как сын недавно исчез на целый день, как искали его, как он нашелся. О Сашке рассказала.
Помириться предложил. И это после всего! Как язык повернулся?
Ты не вернешься к нему? — спросил Степан.
Нет! Ни за что!
Люба! Я, конечно, простой человек! Нет у меня высшего образования, нет городской квартиры. Есть дом в деревне, большой участок и хозяйство. Есть большой сад. Имею свой твердый доход. Не бедствую. Живу со своими стариками: отец и мать у меня. Нужна жена — хозяйка в доме! Без этого никак нельзя. Была у меня жена из своих, деревенских. В семнадцать лет привел ее в дом. Из нормальной семьи. А она через полгода… Вобщем, с моим двоюродным братом спуталась. Застал я их. Не стал бить. Зачем? Что этим исправишь? Попросил ее освободить мой дом как можно скорее. Она не промедлила, в тот же день ушла. Прощение просила. Я не мог тогда говорить с нею. Просто открыл двери молча. И все на том. С тех пор не один год прошел. Конечно, я живой человек, имел женщин, но никогда не путался с замужними. С теми, с кем встречался недолго, не хотел судьбу связывать. Душа не лежала. А холостяковать сколько можно? Пора семью иметь. Это хорошо, что у тебя сын. Он и моим станет. Если согласишься, ты не уйдешь от меня. Сыну понравится у нас, а ты даже из-за этого не уйдешь. Не потянет нас с тобой на приключения. Всего навиделись и пережили нимало. Голодными не будем, руки-то при нас. Если Сергей захочет, я научу его работать на тракторе. Их у меня два. Научу водить машины, их тоже две.
А на чем в город добирался?
На своей «девятке». Она на стоянке теперь. Хочешь, поехали ко мне? Бери Сергея и вперед! — улыбался простодушно.
• — Ты меня совсем не знаешь, а уже в дом зовешь. Ведь бедою мечен. Иль забылось? Так у меня еще болит память. Не хочу в чужой дом! Из одного недавно выгнали. Второй раз этого не пережить.
А кто выгонит? Тебя там ждут. Я своим о тебе рассказал. Они, не видя, тебя полюбили. Сама увидишь, как нужна ты мне! — взял Любкины руки в свои.
Решайся, Любушка!
Не торопи. Ведь у меня сын…
О нем я помню! Давай за ним. Пусть поживет у меня! Если ему понравится, тебе решиться будет проще!
Любка смотрела на Степана, смеясь:
А не боишься рисковать? Ведь мы — бомжи! Бездомные!
Я уже обжегся на домашней! От мамкиной юбки взял, а она вон как отмочила! Хуже любой потаскухи! До сих пор с Виктором не разговариваю.
А они не поженились?
Да что ты? Кому нужна? Тетка никогда не приняла б ее в свой дом. И Виктор через год женился, но на другой. Двоих детей уже имеет. А эта до сих пор одна. Над нею вся деревня потешалась. Ну да не хочу о ней. Дурной сон — не жена. А ты решай смелее! Ведь вот сумела, не испугалась, в бомжи ушла. Теперь свой дом у нас есть! Поехали!
Подумать надо, Степан! Я один раз поторопилась…
Люба! Я, конечно, тоже могу привозить тебе цветы, говорить, как дорога и нужна мне, но не лучше ли не терять время. Ведь сын есть! Он вернее всех тебе скажет свое слово. Ему поверишь…
Знаешь, Степ, давай до завтра отложим. Слишком неожиданно все. Дай мне самой решиться, с Сережкой поговорить. Как надумаем, завтра отвечу! Подождешь? — спросила тихо.
Где увидимся и во сколько?
Давай здесь. В это же время.
Я буду ждать! — никак не хотел отпускать Степан Любины руки.
Та впервые за много лет шла по улице, улыбаясь. И путь до хижины на свалке показался ей очень коротким.
А у тебя гость! Давно ждет. С Сережкой лопочет. Мы их тут стремачим, чтоб не смылись без тебя ненароком! — встретил Любку Павел, улыбаясь хитрющими глазами.
Опять Дамочка приперся?
Он самый! Но уже Александр Петрович, так сказал себя величать. Его уже на работу взяли. С испытательным сроком. «Торпеду» ему вшили, коли бухнет, откинется враз. Так что до погоста приговорен к трезвости! А как духарится козел! Нарядился ровно пидер, — пырснул смехом в кулак вслед бабе.
Та вошла в лачугу и онемела.
Сашка сидел рядом с Сергеем за столом, заваленным всякими сладостями. Конфеты и печенье, халва и яблоки, виноград и бананы, мороженое и пирожные не оставили свободного места на столе.
Где это ты так долго гуляла? Сын голодный, а тебя носит? — глянул Сашка на Любку осуждающе.
Тебя, говна собачьего, не спросилась! Чего заладил шляться сюда? Кого тут потерял?
Я, между прочим, с нынешнего дня работаю в домостроительном комбинате в проектном отделе!
Ну и что с того? Для меня ты — говно! — отвернулась Любка.
Послушай, я тебя не обзывал и повода не давал говорить со мною в таком тоне. Не я, а ты пришла с работы на три часа позже, но почему-то не я, а меня ты поносишь? — поправил Дамочка очки, досадуя, что Любка никак не отреагировала на его внешний вид. А ведь он так старался. Постригся и побрился. Купил в комиссионке пусть подержанный, но вполне приличный костюм, туфли и галстук. Даже рубашку приобрел импортную. А все с тех денег за проект. Бутылку принять отказался, потребовал должную оплату и получил. Уж как хотел блеснуть перед Любкой, сразить ее наповал, чтобы она, замерев от счастья, побежала бы за ним дрожащим хвостом как раньше, будто за сокровищем.
Но баба лишь улыбалась. Чему? О том знала только она.
Пошли домой. Я кое-что из необходимого уже принес. В скором времени все приобретем и заживем как раньше. Собирайтесь! — не попросил, потребовал Дамочка.
Что? Ты мне указываешь? Иль все перезабыл, как вышвырнул нас? С ментами возник! От сына отрекся!
Чего не бывает! Свои должны прощать друг другу все. Я ж не попрекаю, где ты нынче три часа шлялась?
Пошел вон отсюда! — рявкнула баба.
Сынок! Скажи матери, с кем ты хочешь жить?
С мамкой! — отодвинул сладости Сергей.
Ты же говорил мне, что хочешь домой?
Но мамка не идет, а я без нее не пойду.
Люб! Нам надо помириться. У нас сын. Мы вынуждены жить вместе. Ведь не ты, не я не сможем завести другую семью. Мы оба виноваты друг перед другом, — говорил Сашка, пытаясь повернуть бабу лицом к себе
В чем я виновата перед тобой?
Разлюбила. Материла, била при чужих, а значит, унижала.
И ты посмел такое говорить? Да еще сам признал, что жить мы будем вынужденно, значит, принудительно! Нет, я никогда на это не соглашусь. Не хочу против воли! Не могу тебя простить и забыть все пакости. Ты посмел упрекнуть, где была это время? Тебя не спросила! Кто ты, чтобы требовал отчет? Я не пойду в твой дом! И не хочу тебя видеть! Уходи. Оставь нас в покое, слишком много зла нам причинил, такое не прощается. Не проси и не требуй, не доставай. Я слишком много натерпелась, чтобы поверить и вернуться, лучше соглашусь сдохнуть, но никогда не стану дышать под одной крышей с козлом! Вали отсюда, гад!
Одумайся! Ведь я больше не приду, не стану звать. Я нынче любую могу снять, и стаей помчат за мной бабы. Помоложе и получше. Уже сами предлагаются. Я сжалился над вами, а ты вот так! Думаешь, впрямь, замену не сыщу? Смешная! Ведь я не ради тебя, баб хватает, ради сына пришел. В последний раз предлагаю, пошли домой!
Нет! Уходи с глаз! — открыла двери.
Сашка молча поднял сумку, сгреб в нее со стола все сладости и, повернувшись к Сережке, открывшему в изумлении рот, сказал:
Пусть тебя мамка кормит. Самому давно пора поумнеть. Не понял, вот и потерял все разом. Прощайте! — вышел в двери, хохоча ядовито.
Мальчишка чуть не плакал. Нет, не потому, что сладостей не стало. Ими лишь хотели подкупить, поманили, но ведь не чужой мужик, свой отец вот так поизголяпся.
А хорошо, что мы не согласились пойти к нему! Ведь он всегда б вот так жратвой дразнился. И ссорил бы нас. А что, мам, все дядьки такие?
Нет, Сергунька, просто нам с ним не повезло. Другие…, - и рассказала сыну о Степане.
Поехали к нему! Ну и что, если он не родной. Вон я слышал от мужиков про Бублика. Он троих ребят вырастил чужих! Может и нам такой перепадет? Только бы не дрался и не прогонял.
Нет, этот не способен на такое! Да и о тебе не забыл. Все спрашивал, что любишь, чем увлекаешься, с чем мечтаешь? Свой ни разу не поинтересовался ничем.
Мам! А он мне взаправдашним отцом будет?
Говорит, что усыновит тебя!
Значит, завтра к нему уезжаем?
Если ты согласен, сынок!
Тогда давай собираться! — загорелись глаза Сергея.
Собирать нечего! Все вещи в одну сумку поместятся
Но Сережке не терпелось. Он допоздна ворочался, а утром чуть свет проснулся, разбудил Любу.
Я уже все собрал. Ты не передумала?
Нет, сынок.
Я буду ждать вас, когда за мной придете.
Только никуда не уходи! — попросила мать.
В этот день она взяла на работе отпуск, не решилась сразу увольняться. И едва время пошло к пяти, заспешила в кафе. Степан уже ожидал ее. Он подскочил, не зная, что ответит женщина. Та, подойдя к нему, сказала:
Ну, как? Пойдем за сыном?
Поехали! Показывай дорогу, хозяюшка! — просветлело лицо человека. Он взял Любу под руку, подвел к машине.
Сережка увидел их издалека и, подхватив сумку, забыв проститься с бомжами, помчался к дороге.
Ты куда? — поймал его Кузьмич и, глянув строго, сказал: — Без матери — ни шагу! Слышь, сынок?
А вон она с папкой! За мной приехали. Забирает он нас отсюда! Насовсем!
Откуда у Дамочки машина? — изумился Кузьмич.
Да это не Дамочка! — глянул Павел на Степана, вылезшего из машины.
Это наш, мой, понятно! Мы к нему насовсем! Прощайте! — помахал рукой Сергей.
Ну и дела! Своего не простили, чужого отцом назвал. Что за дети нынче пошли.
Глава 12. Яшка
У него все было не так, как у других. Он имел свои правила и привычки, которые никогда не менял, несмотря на откровенные насмешки бомжей.
Яшка всю свою жизнь был вором. Этого он не стыдился, напротив, гордился и носил своё звание ровно медаль.
Его никто никогда и ниоткуда не выгонял, кроме милиции, с какой у него имелись свои счеты. Он не терпел милицейского духа и вида мундира. От него у Яшки темнело в глазах, пересыхала глотка, руки сами собой ныряли в карманы, чтобы выловить оттуда финач или свинчатку. А из горла так и рвались слова, какие вслух говорят только в зонах, да и то на Северах, потому что тамошнее зверье, привыкшее к «фене», не обращало на нее внимания. Здесь, на свалке, Яшка ругался не так часто. Лишь когда его доставали.
Вот и теперь Кузьмич решил пошутить. Взяв в рот свисток, подошел к Яшкиной землянке, да и разразился милицейской трелью. Иначе Яшку не добудишься, а тут чай вскипел. Решил позвать, пригласил по-свойски и предусмотрительно отскочил от землянки. Стал ждать в сторонке, позвав одноглазую Лидку посмотреть цирк.
Дверь землянки с треском распахнулась. Из нее полетели поленья да такие, что попади хоть одно в Кузьмича, развалился б старик пополам.
Какого хрена с утра, не сравши, привалили, мудаки, лидеры гнилые, вонючки облезлые! Достану, вашу мать, каждого прохвоста! Сучье семя! Выкидыши барухи! Чтоб вы через уши просирались колючей проволокой! Чтоб вас за яйцы медведи придавили! — увидел Кузьмича с Лидкой: — Это ты, старый геморрой, ментом базлал? Чтоб твоя жопа до погоста другого голоса не знала, ебаный вприпрыжку! Чтоб тебя все городские шмары попутали и не выпустили б живым! Чтоб ты до конца жизни дышал бы на свою пенсию! А ты, одноглазая хварья, до последнего дня чтоб мужика целиком не видела! Только половину. Да и то не спереду, а сзаду! — орал Яшка, злясь, что сладкий сон оборвали так погано. Хорошо, что это была только шутка.
в
Ну, штопанный гондон, достал ты меня за самые что ни на есть! Погоди, я тебе этот прикол припомню!
Кончай бухтеть, Яшка! Пошли лучше чай пить! Раздухарился здесь! Весь запас дров из хазы вышвырнул. Теперь работы до вечера хватит тебе.
Яшка не пил обычный чай. Заделав себе чифир, ждал, когда настоится, и тихо радовался предстоящему кайфу. Ничего другого в судьбе не застряло. И Яшка ценил то малое, что не отнято и продолжало греть и радовать человека.
Кузьмич не лез к нему ни с разговорами, ни с вопросами. Знал, Яшка не уважает любопытства и может осечь зло и грубо. Когда захочет, сам затеет разговор. От его рассказов у бомжей волосы вставали дыбом на всех местах. Случалось, хохотали до боли в скулах. Сами не зная за что, уважали Яшку на свалке абсолютно все. Никто не обижался на человека за крутую брань. Знали, не от злобы она, от пережитого.
Ему в отличие от всех не приклеили бомжи кликуху. После услышанного не решались, не осмеливались обидеть его сильнее самой судьбы. А уж она его не пощадила
…Яшка рано начал воровать. Да и что оставалось делать, если отец вернулся с войны совсем без ног и даже по комнате ездил на каталке. Сам не мог залезть на кровать, сесть за стол. Отец тяжело переносил свою беспомощность. Ноги потерял на подступах к Берлину, пехотинцем был, подорвался на мине. Так и остался инвалидом до конца жизни. Его пенсии едва хватало на хлеб. И мать не выдержала, пошла на панель. Яшка узнал об этом не сразу от соседей, ругавших мать последними словами за то, что позорит своего мужа- фронтовика. Вот тогда и пошел Яшка воровать. Стал сам кормить семью. Запретил матери прости ковать. Отцу ни слова не говорил, где берет деньги. Лишь однажды, когда тот чуть не за горло взял, ответил, что военкомат всем участникам войны помогает. Особо инвалидам. Отец поверил. И только мать знала, что соврал сын, но тоже смолчала. Ночами она молилась за Яшку, чтобы не лишила сына жизни лихая судьба.
Нет, Яшка никогда не воровал по мелочам. В большом городе всегда хватало всякой накипи, и пацаны с малолетства знали, кто есть кто? Мальчишку взяли в «малину» за смекалку и, подшлифовав, стали брать в крутые дела.
Поначалу не рисковали воры давать ему полный положняк, чтобы отец не выбил ремнем из мальчишки правду, где тот берет деньги. Но Яшка вскоре сам потребовал свою долю целиком, и воры убедились, в семье пацана все обходится без шороха.
Но… подвела удача. Через несколько лет накрыла милиция банду. Всех разом взяла вместе с Яшкой. В засаду попались коварную, неожиданную. Отпираться было бесполезно. Вот тогда и повез товарняк Яшку вместе с ворами в первую ходку сразу на пятнадцать лет. Учли его первую судимость, другие воры получили по двадцать пять.
Уже на Колыме из письма матери узнал о смерти отца. Тот не выдержал и после суда над сыном не вернулся домой: сбросился с моста вниз головой.
Яшка помнил его глаза. Отец никак не мог поверить, что Яшка — вор. После процесса подкатил к нему, протянул руки сквозь решетку и спросил: Сынок! Это правда?!
Яшка смолчал, лишь слегка кивнул головой.
Зачем? Из-за меня? — побледнело лицо. Ему стало невыносимо больно. Он отдал за Отечество все, что имел. А теперь получил сдачу. — Выходит, я толкнул тебя в пропасть своими ногами, каких нет? Значит, отнято не только здоровье, а и ты? Зачем же мне теперь эта жизнь? Чтобы убедиться, какой я дурак? — заплакал впервые в жизни.
Он не стал писать жалобы, просить за сына. Кому? О чем? Он перестал верить всем сразу. Он в первый и последний раз пожалел о том, как бездумно распоряжался своим здоровьем.
Уж лучше б я погиб, остался б там вместе с ребятами, но не дожил бы до сегодняшнего дня. Мы — верили, что нас не бросят и не забудут. Все это было ложью. Солдат нужен на войне для победы. После нее не остается памяти, — сказал матери и отослал ее домой, попросив, дать ему успокоиться. Она не поняла, что навсегда…
Отец не знал главного: воры никогда не отбывали сроки наказания полностью. Яшка не был исключением и на третьем году сбежал из зоны вместе с ворами.
Десять лет «гастролировала малина». Сбивалась с ног милиция. Угрозыски искали беглецов, сколотившихся в жестокую, самую дерзкую банду. Яшка уже стал авторитетом среди воров. Его уважали фартовые, воры «в законе» считались с ним, держали за кента. Сколько раз подлая Фортуна подводила, и Яшку заметали менты. Он ни разу не раскололся, молчал на допросах, и его выпускали за недоказанностью. Сломать его не удалось никому. Даже тогда…
О том случае знали все «малины». Яшку взяли в притоне на шмаре и увезли в изолятор. Неделю не давали есть. Решили расколоть во что бы то ни стало.
В одиночной камере без куска хлеба просидел две недели. Следователь на допросах не только по морде бил. Яшка молчал. Тогда было решено сунуть его в «мешок» — бетонную яму, в какой ни лечь, ни сесть не возможно, над головой решетка, кругом дыры, прогрызенные крысами.
Первые три дня отбивался от них руками и ногами, а потом сдали ноги. Сколько могли, удерживали человека, но силы не бесконечны. Крысы сначала робко, потом нахально стали жрать еще живого. Вначале ноги, потом все выше, особо тяжело приходилось по ночам. Яшка понимал, отсюда есть два пути: либо признаться во всем и спасти свою жизнь, либо вытащат мертвым. Крыс с каждым днем прибавлялось. Теперь они уже не ждали темноты и не убегали даже днем. Охранники, заглянув в яму, спрашивали, хохоча: Ну что, фартовый, яйцы еще целы?
Как выжил? Чудом! Наступил однажды ногой на крысу. Раздавил и, подняв, сожрал ее. Целиком. В другой бы раз не поверил сам себе, что смог. Но тут… уж очень хотелось есть. Потом еще одну. Крысы уже нападали на него только сзади, да и то ночью. Охрана, увидев, что Яшка ест крыс, глазам не поверила. А и чему было удивляться? За две недели — ни корки хлеба. Зато перед следователем на допросах — полный стол. Только признайся…
Кто кого перетерпел бы? Выжил бы иль нет? Спасла его амнистия к большой дате, и Яшку выпустили, не выдавив из него ни одного слова. Вытаскивали из «мешка» трое охранников. Своими ногами он идти уже не мог.
Три месяца приходил в себя, лечил ноги. После «мешка» часто вскакивал среди ночи, кричал во сне и отбивался от крыс. Они снились ему много лет.
Едва встав на ноги, дал себе слово отомстить следователю за пережитое. Полгода охотился, много раз мог убить. Да только решил сделать это по-особому, с кайфом. И провернул задумку.
Отыскал на окраине города домишко. Старый, заброшенный он давно забыл своих хозяев. В подвале его водилось столько крыс, что люди, даже случайные прохожие, боялись оказаться вблизи этого дома впотьмах. Именно сюда привез он связанного по рукам и ногам следователя, какого подкараулил на его даче и, оглушив, связал, закинул в багажник воровской машины и привез в заброшенный дом ночью. Здесь, вытряхнув следователя из одежды, голого бросил в подвал. Тот пришел в себя через час. По нему уже бегали крысы, обнюхивали, покусывали.
Ну, как канаешь, лягавая падла? — спросил его Яшка. Тот все понял.
Его некому было амнистировать. Яшка захлопнул крышку погреба и навестил дом лишь через неделю. Собрал остатки в мешок и, не закапывая, не хороня, выбросил их на свалке. А в городе между тем вся милиция разыскивала пропавшего следователя. Но, как случалось всегда, так и не нашла следов.
Яшка несколько раз видел охранников, карауливших его «в мешке». Они его не узнавали. Сводить с ними счеты он не хотел. Подневольные служаки не могли отвечать за чужую подлость. Но все же через год кто-то достал и их: подожгли милицию, предварительно подперев снаружи все двери. Деревянное здание, облитое бензином со всех сторон, среди бела дня сгорело за час. Пожарные опоздали. Спастись никто не смог. Все окна первого и второго этажей были зарешечены. С третьего никто не осмелился прыгать. Да и куда? Все здание в секунды было охвачено огнем. Яшка так и не узнал, кто это сделал.
Он вскоре вынужденно уехал, потому что в город пригнали военных, ментов из других мест. Те ставили на уши всех, трясли горожан, искали виновников пожара, а Яшке не хотелось попадать под горячую руку вновь.
Три раза после этого ловил его угрозыск. Трижды отправлялся на Севера по приговорам и узнал Колыму лучше, чем город, в каком родился. Ни разу не отбыв свой срок, бежал из зоны. Больше половины жизни был в бегах, скрывался от милиции, угрозысков. Он никогда не имел своего угла, постоянной крыши над головой. Все было временным, мимолетным, несерьезным, даже встречи с бабами. Сколько их перебывало у него, со счету сбился. Помнил лишь первую и последнюю.
Первая запомнилась особо. Ей было тогда шестнадцать лет, ему — семнадцать. Ее выгнала из дома нужда. И она впервые появилась на панели, не зная, не умея вести себя, как надо, она краснела. Кенты закружили вокруг нее плутами. Смотрели бесстыдно на грудь. Потом и лапать стали. Яшка отнял ее у всех и увез в гостиничный номер на всю ночь. Утром дал денег. Много. Она была счастлива. Он понравился ей. Ведь не зря сказала, уходя, что хочет встретиться с ним еще. Даже без денег. Яшка не поверил, но эти слова помнил всегда.
Первая… Она была девственницей. Не пила и не курила. Ее еще не коснулась панель, не испортили липкие, похотливые руки. Яшка мог тогда уберечь и ее, и себя, если б подумал и остановился во время. Но он не поверил не только ей, а и себе.
Потом были другие: молодые и совсем юные, развязные и сдержанные, крашеные и пьяные, нахальные и ласковые, смелые и чувственные, — каждая помнилась по-своему. Ни лицом, ни по имени их в голове не удержишь столько. Другое в память врезалось…
Уходили фартовые от ментовской погони через городской сад. А в нем, ну как назло, все насквозь просвечивалось. Глубокая осень стояла — не самое удачное время. Никуда не спрятаться, не свернуть. И вдруг, вот счастье, увидел на скамейке одну из тех, с какой провел однажды бурную ночь. Улыбнулся ей, она подскочила, обвила руками шею, увела в глухую аллею. Милиция даже не подумала нагонять, знала, воры находят себе подружек лишь в притонах и никогда в горсаду,
А Яшка шел в обнимку с девкой. На все лицо улыбка. Еще бы! Сбил погоню с толку, избежал новой беды.
Яш! А какую бабу ты любил? Иль не довелось? Хоть какая-нибудь жила занозой в сердце? — спросила одноглазая Лидка человека, решив растормошить его, вернуть из воспоминаний.
А зачем баб любить сердцем? Разве вам это надо? — рассмеялся хрипло.
Ну да! Раньше мужиков за что любили? За серебро — на голове, золото — в карманах и сталь — в штанах. Теперь же у вашего брата — ветер в голове, пыль — в карманах, оболочка от сосиски — в штанах. Конечно, с такими про любовь никто не станет трепаться. Раньше были мужики! Насиловать умели! Теперь бабы лишь мечтают о таком! За то, чтобы с мужиком переспать, деньги платят! Вот уж не думала, что до такого срама доживем. Нынче девка просит парня: «Ну, скажи, что любишь!», а он ей в ответ: «Как отбашляешь?». Тьфу! Етит твою мать! Да после того, скажи, кто с нас счастливей: я иль нынешние сикухи? Я в свое время столько признаний слышала, волос не хватит…
Где? — рассмеялся Яшка и сказал: — Кто знает, какое время лучше, их иль наше? Ты про мою любовь спросила, была она иль нет? Спроси, кого не обожгла, кто ее минул? Спроси хоть Кузьмича, разве обошло? Да без нее, едрена мать, мужик не мужик! А и меня проняло. Приглянулась одна, вся такая пухленькая, все кругом торчком. Аж дух захватывало. Мимо нее равнодушно не пройти, обязательно зацепишься. Ну, вот так то я и прикипелся к ней в кабаке. Пригласил на танец, прижал к себе. Поначалу за талию, потом ниже лапать стал. Она меня оттолкнуть хотела, я не отлепился. Она уйти вздумала, я удержал. Предложил погулять. Отказалась. Обидно стало, решил узнать, где и с кем канает? Оказалось, в общаге. Я и зачастил. Поначалу гнала взашей, говорила, что видеть меня не хочет. Потом притерпелась, я ее к себе приручил, как кошку к салу. То конфеты и цветы, то духи и пирожные приволоку. А самого зло на себя берет. Ну, чего кружусь возле нее как муха над кучей? Ее соседки по комнате давно со мной на все были готовы, а эта не уступает. Ну, приволок шампанского на Новый год — целую сумку, заквасили, она и говорит: «Скажи, что любишь меня!». А у меня язык не поворачивается. Законом фартовым такое запрещалось. Она ждет. Я же молчу! А
после пятого бокала осенило, ответил, мол, если б не была нужна, не приходил бы к ней! Но самое обидное, что ведь так она меня и не полюбила!
Не уломал ее? — удивился Кузьмич.
Я не о том! Постель — не главное, но в ней, коль без любви, тепла не жди. По-разному отдаются бабы, но лучше всего, когда нас хотят не только телом, а и слиться воедино. Я слышал о таком от кентов, но самому не повезло. Не все купишь за деньги.
Эх, Яшка! Выходит, зря время тратил?
Не совсем зря, но без огня! Не то, что у тебя! Вон как ты любила, аж без глаза оставили, чтоб помнила!
И не говори, Яша! Крутой попался. За трипер чуть не убил. Окалечил, гад! — сокрушалась Лидка.
Яш! А как вы бабу начальника милиции увели? Это ж твои отмочили? — спросил Кузьмич.
То ему, козлу, за все пакости разом отмочили. Он нас совсем загнал, дышать не давал. Хотели самого урыть. И могли бы! Запросто, но кенты подумали и решили иначе. Раз старый козел все время на работе — жена одна дома, а она у него третья по счету. Ровесница его старшей дочки. Разве такую мог приласкать старый геморрой? Ну и позвонил ей один из кентов: на рожу Ален Делон — мелочь, наш словно с рекламной открытки выскочил. Ну, первый раз отказалась от встречи. Он вторично звонит, засыпал бабу своими Любовями. Мы, слушая, поверили, чуть не оттрамбовали его за это. Она, слышим, тоже потеплела через неделю. Встретились. Еще через три дня главный мент рогатым стал. Потом и вовсе увез наш бабу на целый месяц на море. Лягавый чуть в петлю не влез от позора. Выкинули его из мусориловки навсегда за то, что не умел рубить дерево по себе! — рассмеялся Яшка.
Ну и крутые вы, черти! — качал головой Кузьмич, хохотнув над проделкой фартовых
А баба та, где теперь дышит? — спросила Лидка не без страха за незнакомую женщину.
За нового русского замуж отдали! Пархатый змей! Он ее враз на Канары уволок, чтоб скорее нашего кента забыла! Сюда в Россию уже не вернет. У него в Германии свой дом, наваристый бизнес. Так что мамзель не в накладе!
Чего ж себе бабу не завел? Вам нынче все дозволено. Даже детву иметь можете! — полюбопытствовал Кузьмич.
Верно оттого, что хорошо их знаю и ни одной не поверю! Все они — стервы! — сплюнул Яшка и продолжил: — Сегодняшние воры — не мы! Ничего общего меж нами нет! Закон не держат. Воровскую честь по хрену пустили. С ментами кентуются! Даже навары у них общие. Канают иначе, не так, как мы. И друг друга подставляют. Щиплют пацанов и шмар! Называют себя «законными», фартовыми, не зная, что это есть. Даже званье вора в законе за башли покупают. Таких нынче зовут «лаврушниками». Их даже коронуют! Во где паскудство! Небось, мои кенты, встретят нынешних на том свете, за такие дела тыквы с резьбы свернут. И поделом сучьему племени! Не побывав в ходках, не понюхав шконок, не пообтеревшись в крутых делах, называет себя фартовыми всякая падаль и мразь! Сами старух на базарах трясут! За червонец мокрят! Разве это воры? Шпана голожопая! Лидеры! Наши фартовые банки и ювелирные трясли, меховые тоже, случалось, ростовщиков и абортмахеров прижимали, у кого в кубышке не меньше, чем в банке. Ниже этого не опускались никогда, западло держали иное. Не вырывали как нынешние копейки у пацанвы. Наоборот, подсос им давали. С «зелени» кентов растили. Не снимали навары с притонов, не облагали налогом транду. Сами башляли кучеряво. Мужиками возникали к шмарам. А нынешние? Свой хрен на помойке надыбали, званье мужичье просрали. Посеяли, зачем и как нужно рисоваться к шмарам! Они — не просто утеха наша! Сколько раз из бед спасали. Разве помогут нынешним? Своими клешнями уроют! И верно замастырят. Вот ты глянь, кто верх держит сегодня повсюду? Бабы! Они — за баранкой, в бизнесе, торговле. Они всюду мужиков обставили и загнали в угол. Те даже дышать стали только по разрешению! И приморились под юбками! Не, в наше время бабы знали свое место, не наезжали, не поднимали хвост на мужика. Помнили, без кентеля остаться могут. А голова — одна на всю жизнь. Вот и не завел себе: раньше не спешил, сегодня опоздал. Да и кто теперь решится жениться? Только псих! Я не из этих. Мне еще моя доля не опаскудела. Коли сдохну, так и то сам, без помощи! — перевел дух Яшка и потянулся к чифиру, сделал глоток.
Яшка! А зачем к тебе пацаны Чирия приходят? — спросил Кузьмич.
Натаскиваю «зелень», надо ж им мозги вправлять, чтоб не канула фартовая наука. Оно чем раньше, тем крепче помнится. Я и сам в их возрасте уже ходил в дела
А говорят городские, что скоро всех воров поизведут власти. Упрячут их за решетки как зверей! — сказала Лидка.
Ох! Уморила одноглазая хварья! Да о том давно трандят! Но хотеть, не значит сделать! Ведь вот даже сам Господь наш был распят рядом с ворами и простид в рай с собой взял! А всяких там бугров, начальников наказал за то, что они грешней нас! Так что с тех пор изменилось? Кого надо за решетку? Разве не тех, кто послал моего отца на войну, а меня заставили стать вором? Кто больше виноват? Вот пусть с себя и начинают!
Яшка сделал большой глоток чифира. Лицо покрылось красными пятнами. Мужик медленно встал, взял банку с остатками крепкого чая, пошел в землянку, слегка покачиваясь и напевая гнусаво:…там били девочек: Марину, Розу, Раю, — И бил их лично Костя-Шмаровоз…
Нет, он не заснул, повалившись на топчан в своей берлоге, как называл землянку. Яшка впал в блаженное полузабытье.
…Он снова в Одессе. Ему всего двадцать лет. Вместе с кентами приехал на воровской сход. А утром, пока все дрыхнут после крутой попойки в ресторане, Яшка пришел на пляж. О! Сколько тут прикольных чувих! А в каких позах валяются, аж голова кругом пошла. Куда ни глянь, одни бабы! Мужику даже ступить негде. Куда бы пристроиться?
Яша! Иди ко мне! — увидел знакомую.
Давай к нам! — приметил бывшую шмару.
Никому не отдам! Мой он! — вцепилась в руку баруха, с какой переспал после ходки. А под утро, разглядев, с кем разделил постель, чуть с балкона не выскочил от стыда. Перебрал, иначе ни за что не завалился бы в постель к престарелой бабе.
Осчастливил бабку! — смеялись кенты долго.
Нет-нет! Уйди от меня! — отталкивает Яшка бабу и видит, как к нему идет она…
Единственная, самая лучшая на свете! Наташка! Ее он не сумел добиться ни мольбами, ни уговорами, ни подарками. Сначала он вздумал овладеть ею, потом стал ухаживать всерьез. Хотел из-за нее уйти в откол, но Наташка бесследно исчезла. Он искал ее повсюду и лишь через десять лет уже в ходке самый верный кент перед смертью раскололся, что убил Наташку, чтоб спасти Якова от разборки «малины».
В море я ее утопил. Расписал «пером» всю как есть, чтобы не опознал никто. Не суди, кент строго! Ни одна не стоит того, чтоб за нее платился жизнью ты! Она уже наверное доперла, что стала тогда и радостью, и твоим горем! Ей ты нужен был на миг, а мне — навсегда…
Яшка смотрит на обнаженное тело девушки. Она быстро прыгнула в набежавшую волну, и сине-зеленая вода мигом стала кровавой.
Яша! Милый! Помоги! — вынырнула Наташка.
Ужас сковал человека. Где стройное тело, прекрасное лицо? Она вся изрезана ножом, исполосована на ленты.
Яша! Родной! Вытащи меня!
Человек, леденея от страха, пытается убежать, но кровавая волна захлестывает ноги. Они уже по колено в ее крови.
Господи! Не виноват! Не убивал! — пытается уйти.
Но все бабы, лежавшие на пляже, подскочили, вцепились в него:
Не уйдешь! Зачем, вскружив голову, не защитил ее от смерти?
Нет тебе прощенья, кобель! — схватила баруха за горло.
Он силится оттолкнуть. Наташка хочет помочь ему, ее не пускают. Она кричит:
Беги, Яшка! — он открывает глаза весь в холодном поту, руки, ноги дрожат.
Дядь Яш, линяй! Менты возникли! Шмонают кого-то! В городе какого-то фраера грохнули! Шустри! — слышит Яков голос Толика-Пузыря.
Вместе с ним он влетает в подвал, там потайной выход, который ведет далеко к реке, где в глухих зарослях ивняка есть совсем маленькая, неизвестная никому землянка. Да и землянка ли она? Без окон и двери, единственный вход — через пол. Конечно, можно выйти к реке, но сколько петлять придется?
Яшка с Толиком были уже далеко, когда в землянку ввалилась милиция. Увидев, что она пуста, заматерились, вернулись к бомжам:
А этот хмырь где? — указали на землянку Яшки.
Откудова знаем? Друг другу не докладаемся. Тут всяк своей волей живет! — ответил Кузьмич.
Поурежем вам волюшку!
А кому мы на хрен сдались?
Сами по себе — так и никому! Но кто убивает горожан?
Мы при чем? Средь своих ищите! — не выдержал Муха и тут же получил в зубы.
Чего? Наших дрючить? — вскочили бомжи на ноги, похватали колья и арматуру, кинулись на милицию.
Сами мокрите, а тут козлов ищите? Не обломится подставить. Своих высвечивайте, кто загробил?
Средь вас всякий второй — киллер!
Истерзали гады! Даже на свалке нет от вас покоя. Как кого убьете, наших заметаете! Пшли вон, лягавые псы!
Через несколько минут на свалке снова стало тихо. Милиция уехала. Бомжи успокоились.
А на сером обомшелом валуне на берегу реки сидели двое. Разговаривали так тихо, что даже птицы удивлялись способности людей так глубоко прятать голоса
Ну, как там ваши дышат? Все нормально? — спросил Яков Толика.
Без шороха обходится. Никто ни на чем не засыпался, не попух. Но у меня к тебе свой разговор имеется. Отдельный, — добавил Пузырь.
Валяй!
Завязать хочу с кодлой. Насовсем. Не хочу больше с ними дышать.
В рекет намылился?
Нет! Я другое выбрал. У меня теперь жена есть. Скоро ребенок будет. Понимаешь, я ему тоже нужен. Всегда!
У Яшки глаза на лоб вылезли. Он подавился дымом сигареты, никак не мог откашляться.
Ты женатый? Трандишь? — не поверил в услышанное.
Правда это! Катьку мою ты знаешь!
Дикая Кошка?
Она! Я с нею год живу. Скоро матерью станет. Боюсь за нее, она — за меня. Устали вот так мучиться. Ни дня покоя. Я долго думал, куда пойти, что делать, чтоб прокормить своих…
Старо, кент! Сколько о том мечтало? Да все мимо. Власти никогда не дадут людям дышать нормально. Все отнимут, выгребут, обмишурят.
Не скажи. Вон, Червонец уже пристроился, игровой зал открыл для детей. Те на компьютерах шпарят. Недорого это стоит, но Гошке хватает на хлеб. На квартиру себе копит. А я что, хуже?
Ты казино иль притон держать станешь? — усмехнулся Яков мрачно.
Это не по мне. Я воевать пойду!
Чего? С кем это, твою мать?!
В Чечню контрактником! Там за месяц по тыще долларов дают, — глянул Толик на посеревшее лицо Яшки.
Тот закурил, матерясь, спросил, продохнув:
Тебе, лопух, сколько лет?
Восемнадцать и три месяца!
Чего так рано жизнь опаскудела? Иль баба хреновая? Сыщи другую! Зачем к смерти в зубы? Тебе нужна Чечня?
Знаешь, я много раз о том думал. Мы с тобой русские, ты поймешь меня. Они таких как мы с тобой взрывают, а скольких взяли в рабство, кастрировали? Сколько у них заложников? Мне не нужна Чечня! Но ведь и меня, и тебя могли схватить на дороге и приковать к тачке! А копать для них траншеи и окопы! Ведь они наших осмеяли и унизили, таких как ты и я. Ну, если мы самих себя не защитим, свои дома и семьи, что с нами сделают чеченцы? Да они — фашисты! Знаешь,
еще грозят! Наши городские пацаны туда сорвались. Зло взяло! Чем тут друг с другом махаться, поедем в Чечню! Дадим им вздрючку от души, так нам за это отбашляют, и домой, — Толик загасил сигарету и продолжил: — Я уже все подготовил. Даже мелкоту — определил по местам. Помнишь, говорил тебе про Дашку, какую Катька к себе взяла. Из кодлы Чирия. Так вот я ее к старикам устроил. Насовсем. Ухаживает за ними, убирает в доме, учится жить по-человечьи, в семье. Скоро год, как живет у них. Я ей запретил воровать. И ее уже полюбили как свою. Прописали. Деньги с них Дашка не берет. На нее уже завещание есть. А еще Димка с Женькой. Те уже выросли. Работают в шиномонтаже. Себе на жизнь зарабатывают. Перестали бутылки по городу собирать. Да и времени не стало: учатся оба, наверстывают упущенное. Даже Зинка теперь не побирается. Выдернул ее с улицы, но с ней больше всего мороки было. Нигде не могли приспособить девку. С нею намучились все. Зато теперь она в кружевницах. Самое дело для девчонки, и зарабатывает неплохо. Но свыкалась долго. К режиму и требованиям не могла приноровиться, а теперь втянулась. Ее хвалят, говорят, что способная, толковая девка.
А Катьку куда воткнешь? — усмехнулся Яшка одними губами.
Ее никуда! Она моя жена! Пока вместе со своей матерью живут в квартире отца! В своей! Помирились мы с тещей. Говорит, что станет внука нянчить. Ждет. Ну, а если не уживемся с нею, куплю свою квартиру. Лишь бы меня ждали! Я не задержусь надолго! Накостыляю бандюгам по-свойски и домой, — расхохотался Толик.
А ты не думаешь, что там тебя могут не только окалечить, но и убить?
Послушай, как на роду написано, то и будет. Вон наш Колька на гололеде башкой трахнулся, чуть не сдох. Не в Чечне! В своем городе, в центре! А Тишка? В газовый люк провалился. Еле откачали! Васек в озере утонул, а уж двадцать лет ему было! И без войны! Да что далеко ходить? Нашмонают менты, вздрючат в дежурке за то, что нет паспорта. Ты уверен, что выйдешь от них своими ногами? И я не знаю: вернусь ли живой? Но это война. Она и прошлое спишет, если выживу!
Пойми, тут у тебя везде свои! Что случись, есть кому помочь. А там? Даже похоронить некому!
Туда тысячи поехали! Такие как я!
Вот и управятся сами! Не лезь!
Как? Без меня воюют? Нет! Я не хочу на заднице мох отращивать. Ведь ни кого-то, наших ребят отправили! Я их всех знаю! Классные пацаны!
Ты с Катькой говорил? Она согласна?
Плакала, отговаривала, но я сказал, что наш с нею пацан воровать не будет и станет жить в нормальной квартире! Я заработаю для него!
Крест над головой! — не выдержал Яшка.
Тогда будет пенсию получать за меня и вырастит сына. Но я вернусь. Мне даже цыганка так сказала!
Нашел, кому верить, дурье!
Короче, я ведь не советуюсь. Для себя все решил и тебя предупредил.
Эх! Сколько сил ухлопал, чтоб из лопуха фартового слепить. И этот линяет!
Не фартового, мужика ты из меня сделал. И спасибо тебе на том. Даром твое не пропало, оно со мной. И поверь, дышать в тюрягах и в бегах куда как хуже, чем уйти на войну, зная, что и себя защитил, и сына не только на день нынешний, а и на будущее.
Кто это тебе мозги засушил? Ботаешь, ровно по радио шпаришь! Дурак! На войну идут те, кому большего не дано, кто нигде и никому не нужен. А у тебя кентыш наметился. Зачем от него сваливать? Другое надыбай, коль фарт осточертел. Я знаю, что вытворяет война с мужиками! Сколько их вернулось героями, а сдыхали в зонах нищими. Их слава яркая как салюты и такая же короткая как они. Погасли, и все забыто. А ордена и медали продают потом на барахолках. Кто на хлеб иль на бутылку. Кто нынче считается с афганцами? А ведь тоже воевали мужики! И гибли. Сколько вдов и сирот осталось! Кто им помогает? Никто! Когда много героев, память людей скудеет. Черствеют сердцем. И тебя это ждет. Чечня — это котел, какой будет кипеть долго.
Но кто-то должен его остудить? Или ждать нам, пока они придут сюда, одних — в заложники, других — в рабов, а детей в бомжи повыкидывают? Ни хрена не
обломится им эта затея! Да и я решил, не могу отсиживаться. Поеду со всеми! — не уступал Толик.
Ты не спеши, не горячись! Подумай. Будь я твоим отцом, оттыздил бы и не пустил, но ты меня не послушаешься, вздохнул Яшка грустно.
А знаешь, я ведь не один. Со мной Колька- Чирий едет.
Мать твою! Съехала крыша у всех!
Нет! Мы пацанву в надежные руки отдаем. Под твое начало. Ты их не оставишь. Состряпай из них приличных мужиков, сбереги до нашего возвращения. И хоть когда-нибудь навести моих. Договорились?
Ладно! Хиляем на хазу! Менты уже давно ласты сделали, а у меня там еще чифир есть. На вечер хватит, — вспомнил Яшка, идя след в след за Пузырем.
Толик не задержался в землянке. Вскоре ушел, а человек еще долго сидел, задумавшись над услышанным.
Нет, Яшка, конечно, не понял Толика. Он совсем иначе смотрел на жизнь, но пацанов он учил фарту, показывал, раскрывал секреты, но свои мозги не вставишь, не заставишь ребят жить по-своему. Они перенимали у него лишь то, что считали нужным для себя.
«Все разные! Вон Колька-Чирий — последний прохвост. Сколько девок поимел, счету нет. Редкая падла, жлоб! Ничего светлого в душе, хотя еще серьезным мужиком не стал. Толян совсем другой, слишком серьезный. С детства в стариках канает, а вот на какую глупость решился. Не иначе, Чирий уломал. Хотя, куда ему? Колька — бздилогон, за чужой спиной храбрый. Хотя, какое дело мне?» — глотнул остывший чифир и лег на топчан. Перед глазами поплыли доски на потолке. Он пытался вспомнить, как долго строил вот эту землянку. Бомжи над ним подтрунивали, мол, к чему тебе хоромы? Но Яшка решил по-своему.
Как истинный фартовый он любил комфорт во всем и не согласился жить в хижине, в грязи и в холоде. Именно потому попросил экскаваторщика выкопать яму под землянку, указал, где и как надо копать. Заплатил ему двумя бутылками водки. Потом обтянул ее доской, укрепил кровлю и поселился сам, не пустив к себе никого из обитателей свалки.
В землянке все было просто и строго. Деревянный топчан, какой Яшка называл шконкой, деревянный стол, скамейка и пара табуреток, в углу — умывальник, печь-буржуйка, небольшая тумбочка с парой кастрюлек и сковородкой, чайник и несколько мисок. Все знало свое место. Яшка любил порядок. Он не терпел разбросанных вещей, грязной посуды и одежды. Не мирился с громкими голосами, а потому предпочитал одиночество.
На свалку он ушел сам. Его никто не выгонял из «малины». Уж так случилось, замели кентов на деле. Он в тот день был у шмары и бухал напропалую. Уж очень по душе пришлась баба. Фартовые, так и не надыбав Яшку, пошли на дело без него. И… попались. В Воркуту отправили их по этапу. Сроки дали на всю катушку, по пятнадцать на нос. Разыскивал угрозыск и Яшку. У шмары нельзя было оставаться, к ней наведывались менты. Он смылся на окраину города к Кольке-Чирию. В другую «малину» не хотел, там прикипелись падлы, кто корефанил с лягавыми и платил им дань. Яшка не мог сдышаться с такими, хотя ему и предлагали.
Работать «под крышей» — кайф! Менты сами наводкой станут, а при нужде прикроют. Только башляй. И дыши с кайфом! Всем жрать надо. Не станешь делиться, не дадут фартовать. Допер? Сгребут и размажут, — уговаривали Яшку городские ворюги нового поколения.
Чтоб я с ментами корефанил? — темнело в глазах и сводило судорогой скулы. — У меня для них один кент! Всегда наготове! — сдавливал рукоять финача так, что пальцы хрустели.
Он возненавидел местных воров за хлипкость, страх и предательство, за то, что оплевали, опозорили само понятие «фартовый». Яшка не считал их ворами, держал западло. Предпочел всем им пацановскую кодлу бомжей.
Конечно, он мог уехать в другой город, поискать подходящую «малину», но в том-то и дело, что все они, разжиженные новыми свежаками, спутались с лягавыми и делились наваром, пользовались их наколками, даже брали с собой в дела.
Яшка согласен был умереть, чем поверить менту, и не уломался. Сдерживала старая закваска, вбитая в него с самого начала. Вот так и получилось, что весь общак «малины» остался у него, и мужик берег его до возвращения кентов из воркутинской ходки. Из общей кубышки брал только на жизнь, не позволяя себе ничего лишнего. Он не ходил в дела, понимая, как нужно ему уцелеть. Ведь кенты в зоне должны быть спокойны за общак. Не приведись его просрать, кенты, возникнув на волю, первым делом свернут ему голову и расскажут о Яшке всем фартовым как о падле, паскуде, гниложопом козле. Попробуй с таким авторитетом улежать на погосте? Сраная баруха не потерпит в соседях. Именно это заставляло Яшку всегда помнить о безопасности, исключать любой риск.
Конечно, общак «малины» он притырил надежно. И все ж каждый день проверял его сохранность, пересчитывал, просматривал все, что должно было поддержать кентов.
Вот это алмазное колье взяли они из кубышки ростовщика в Одессе. Ох и взвыл тот, когда ее нашли. Вот и царские монеты его же. Двадцать, все из червонной рыжухи. Когда увели кубышку, ростовщик вздернулся. А ведь сам разорил и отправил на погост многих должников. Один оказался ушлым. Дал накол «малине» и получил свою долю, даже больше, чем был должен ростовщику.
А эта иконка особо дорога. Старинная. Ее бабка подарила. Совсем чужая. Жила в голоде, в нужде. Оттого и приютила у себя в доме на ночь пятерых фартовых, залегших на дно от ментов. Просились на ночь, прожили месяц. И заплатили старухе так, что она онемела от удивления. Ей тех денег на три жизни хватило б. На радостях эту икону подарила, попросив Господа спасти и сохранить людей.
«Малина» иконку берегла куда как больше денег. От неминучей смерти уберегла не раз. А вот теперь осталась она у Яшки. Как- то там в Воркуте обходятся без нее фартовые?
А вот эту брошь из платины с черным бриллиантом отняли у абортмахера в Ереване. Ну и гад был тот мужик! За свою мокрушную работу шкуру драл с баб.
Не всякая могла пойти в больницу. Вот и эта — Каринэ! Красивая чертовка! Студенткой была тогда. Одна беда над ее головой висела: отец из семьи ушел. А вскоре и она полюбила парня. Забеременела от него. Да только тут узнала ему истинную цену. Сказал ей как плюнул: «Не могу на тебе жениться, привести в свой дом. Родители против. Не хотят с нищетой родниться. Уйти от них? Но ведь сам на ногах не стою. Только учусь. Когда буду жить самостоятельно, тогда поговорим. Но когда это наступит? Ты лучше не жди…».
Врачи отказались делать аборт при первой беременности, и пошла Каринэ к абортмахеру. Тот загнул такую сумму, что девка в петлю влезла. На ее счастье бабка пришла. Вытащила из рук смерти. Когда узнала в чем дело, отдала внучке брошку для абортмахера. Ей цены не было. Царская вещица! Каринэ и пошла на аборт с бабкиной брошью. Тот подонок, увидев, затрясся от изумления и тут же согласился. Велел прийти завтра. Она пришла. Сама, хотя бабка предлагала проводить ее. Девушка обещала вскоре вернуться, но не приходила. Лишь вечером узнала бабка, что умерла внучка прямо на столе. Пока от шока, от горя отошла, не до брошки было. Когда вспомнила и попросила вернуть, абортмахер сказал, что ничего не брал у Каринэ и согласился помочь студентке бесплатно: «Бог с вами! Я и так переживаю ее смерть. Никогда этого не было в моей практике! О брошке впервые слышу!».
Он не думал о последствиях, а бабка была мстительным человеком. Вскоре вышла на воров. «Мне не надо возвращать брошку, ни к чему она теперь. Но убийцу накажите!» — просила бабка. Ее просьба была исполнена. Яшка самолично расправился с гнидой. Вместе с кентами ворвались ночью к абортмахеру, арматурным прутом избили насмерть. Тот, умирая, показал, где лежит брошка. Вместе с нею выволокли горсть золотых цепочек с медальонами, крестиками. Ушли, добив абортмахера. Золото отдали бабке Каринэ, а брошку себе оставили за работу. Ее берегли на самую лихую минуту.
Яшка любуется игрой огней, гладит безделушку, улыбается, вспоминая слова бабки Каринэ: «Эта вещь свою силу имеет. Она не прощает тех, кто ее украл.
Обязательно накажет, станет приносить несчастья. Такую силу имеет только черный бриллиант. Он сам себе выбирает хозяина. Его можно подарить, купить, но не отнять и не украсть. Он не терпит грязных людей. Умеет защищать доброго».
«Эх, бабка-сказочница! Что ж не спаслась твоя Каринэ? Небось, тоже в твою брехню до последней минуты верила», — вздохнул с грустью Яшка и положил в коробку.
Фартовый вспомнил, что ему надо сходить в город, купить харчей, и уже было собрался выйти из землянки, как услышал голос Кузьмича:
Яшка! Ты дома? К тебе тут пришли. Пущать их? Иль взашей гнать?
Яшка вышел и тут же узнал двоих кентов своей «малины». Ни о чем не спрашивал, завел в землянку:
Слиняли с зоны! Слава Богу! — обнял обоих.
Только-то и осталось нас! Всего двое! Остальных урыла погоня, — опустил голову Линялый, старший из фартовых.
Как? Всех? — округлились глаза Яшки.
С вертушки как волков перещелкали. Мы с Колуном меж кочек попали. Это спасло. Не приметили. Нынче не ловят беглых пешком с собаками. Враз в расход. И даже не закапывают. Так-то оно! Да мы сами себе не верим, что вырвались. Знаем, шмонать не станут. Так что, заново родились, — опустил голову Колун.
Менты борзые здесь. Наши ксивы аж обнюхивали. На кой понт? Их нам такие же лягавые загнали. По штуке за все. Нынче мусора сговорчивые. Нас фаловали к себе в рекет. Не уломали. Оторвались от них, — рассказывал Линялый.
— Вы с ментами ботали?
Куда деваться? Теперь они паханят фартом. Всюду! Кто не с ними, тех размажут. Свирепей нас, пропадлины!
Как меня надыбали? — опомнился Яшка.
Шустро! Пацаны вякнули на базаре. За стольник привели, — отозвался Колун.
Ну, что? Нынче отдых. А там и в дело? — спросил Яшка.
Дела? Погоди о них! — показал Линялый обмороженные до самых колен ноги и указал на Колуна: — У него плечо пробито навылет. С вертушки срикошетило. Какие уж там дела! Зарок дали, завязываем с фартом. В откол линяем. Да и с кем фартовать, для чего? Сами на «колеса» сели. Возникни в дело — засыпимся. А попадем под запретку, уже хана, не смыться. Вот и решили разбежаться по хазам, пока дышим. Залечь «на дно», может, навсегда…
Линялый верняк ботает. Невпротык нам фартовать теперь. Обставила лягашня и пацаны. Всюду «крыши», куда ни ткнись — новые «малины». От фарта — ни хрена. Один разбой! Нам в это не соваться, не сдышимся! У тех свой закон — сплошной беспредел. Да такой, что нам тошно. Шпана себя в фартовые коронует! Ну, как с тем поладишь, когда над тобой сопляка паханом поставят?
Или мента! — добавил Колун.
Куда навострились теперь? — спросил Яшка.
Думали о том, и знаешь, решили не хуже тебя, зашиться куда-нибудь в глушь. Где не фартовали.
А разве есть такие места? — удивился Яшка искренне.
Имеются там, где каждый родился! В деревнях, где никого из знакомых не осталось, кроме неба и земли под ногами. Все чужим стало, но осталось родным. Да и сами то, едрена мать, словно взаймы эту жизнь выпросили для себя. А для чего?
Кончай хандрить, кенты! Давайте лучше бухнем за встречу! Ведь живы.
И наших помянем! — добавил Колун.
Ты, слышь, Яшка, мы ж к тебе чего возникли: общак живой, не просрал его? — прищурился Линялый.
То как же? Целехонек! Как целка!
Дели на троих! И кранты! Нам не с руки у тебя ошиваться. Не можем по-собачьи дышать. Пойми, кент!
Не держу, воля ваша! — вытащил кубышку из подвала.
Общак делили недолго. Все поровну, как и говорили. Никто ни на кого не остался в обиде. И только на душе свербило, словно кто-то по бухой, балуясь шилом, воткнул его в сердце и крутил, испытывая терпение. Когда-то так пытали в зонах ссучившихся зэков. Они вскоре умирали, не выдержав боли. Их мучители оставались жить. Но по смешной случайности ощущение пытки преследовало их каждый день. Всю жизнь…
Бомжи… Наши бездомные странники… Как похожи они друг на друга своей бедой. У каждого из них за спиною стоят постоянными попутчиками отчуждение, непонимание и презрение. Их никто не ждет и не понимает. Нет у них тепла в душе, его выстудила самая жестокая стужа — человеческая. А до костра все ли сумеют дойти?
Может оттого и сегодня в подвалах и на чердаках, в парках под скамейками и на свалке все еще стонет и плачет горе человеческое. Да кто услышит, кто поможет ему? Упавшему в пропасть не подают руки, а самому в одиночку не всякому дано выбраться.
Не греет общий костер. Он вышибает из глаз слезы. Их природу поймет не всякий, лишь тот, кто однажды испытал на себе цену унижений. Может, потому нет друзей и родни. Они отвернулись и отказались, вычеркнув из памяти и сердца все одним махом. Немногие сумеют выдержать и перенести такое. Но что делать бомжам? Изгнанные из жилищ и семей они уже не ждут сострадания. Не верят тем, кого любили. И каждый день как о самом большом даре мечтают лишь об одной встрече с нею — самой милосердной к каждому. И к ним… Ведь когда-то сжалится, избавит от мук и страданий, а для нее, для Смерти, все живые равны.
Может она сегодня приберет кого-то из изгоев, и станет их меньше у горестного костра? Но нет, их не убавляется. Их с каждым днем становится больше. И плачет горе человеческими слезами, обливая стылые пороги родного дома.
Там не стало тепла, умерла любовь, ушла целая жизнь. И снова для кого-то среди дня наступила ночь…