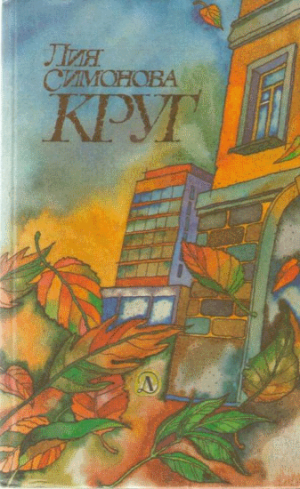
Часть первая. Бунт
1
Был холодный осенний день.
Надежда Прохоровна сидела одна в своем директорском кабинете, и ей казалось, что ветры за окном сшибаются, стонут и, невидимые, тайком проникая в школьный дом, сковывают ее своим ледяным дыханием, и именно поэтому так неповоротливы ее мысли.
Ей хотелось согреться, почувствовать прилив энергии. Она закуталась в шаль, попыталась хоть ненадолго отключиться от всего, что так сильно волновало ее. Но мучительная тревога не отступала, напротив, последнее время она все усиливалась и перерастала в болезненное предчувствие беды.
Надежда Прохоровна запрещала себе думать об этом, мысленно прикрикивала на себя: «Прекрати! Не раскисай!» — и как будто точно знала: беды не миновать…
Всего лишь полтора месяца назад, начиная директорствовать в этой прославленной школе огромного города, она чувствовала себя победительницей. Польщена была, что ее прежняя работа учителем, а позже завучем и директором не осталась незамеченной. Долгие годы вслед за мужем-строителем разъезжала она по стране, преподавала и в совсем маленьких, и в больших школах, всюду добивалась успеха, уважения и даже предположить не могла, что возможно продуманное, организованное противостояние учеников учителям.
То, с чем она столкнулась здесь, в образцово-показательной школе, было ничем иным, как бунтом. Признав это, ей следовало, не мешкая и не откладывая дольше, решать, как поступить. Но никакое сколько-нибудь разумное действие не приходило ей в голову. Опыт предшествующих лет не подготовил ее к подобной ситуации…
Надежда Прохоровна не спала ночами, а если ей удавалось ненадолго заснуть, то сны являлись громоздкие, вязкие, из которых не просто выбраться. И уже во сне, поднимаясь откуда-то из глубины, незаметно охватывало все ее существо беспокойство. Пробуждаясь, она знала, что никакими усилиями не прогонит его…
Первого урока по расписанию у Надежды Прохоровны не было, за другие дела она не бралась, сидела неподвижно, в странном оцепенении. Когда в дверь постучали, она вздрогнула, испугалась, что увидят ее такой поникшей, но быстро справилась с собою и, словно по команде, вечно звучащей внутри ее, приняла привычный торжественно-величавый облик.
— Ой, извините, — выпалила с порога совсем уже взрослая девочка, просунув в дверную щель по-мальчишечьи коротко стриженную голову.
Получив приглашение войти, она изо всех сил старалась показать, что ужасно взволнована и едва справляется с нарушенным от стремительного бега дыханием:
— Меня… послала… за вами… Ольга… Яковлевна… Она… зовет… вас… на помощь…
Девчонка была долговязая, нескладная. Выдавали ее глаза, невозмутимо спокойные, ироничные, неопределенного холодного цвета. И эти глаза-льдинки пытались смотреть на директора тепло, с наигранным сочувствием.
— Что-то еще натворили? — сурово полюбопытствовала Надежда Прохоровна.
— Ну, что такое мы могли натворить? — будто искренне изумилась девочка, интонацией ловко маскируя издевку, — Вы же знаете, Ольга Яковлевна с нами не справляется…
Надежда Прохоровна позволила себе не заметить издевки, спросила устало:
— Вы уже не можете без скандала?
— Не можем, — покорно согласилась девочка.
— Смотри, Холодова, — нехотя предупредила директор школы, — до добра вас это не доведет.
Теперь девчонка сделала вид, что не услышала сказанного. Продолжая играть, она услужливо распахнула перед директором дверь кабинета, картинным жестом приглашая ее последовать за собою.
2
Появившись в классе, Надежда Прохоровна обнаружила, что, несмотря на ее просьбу, неоднократно повторенную, большинство учеников сидит на уроке в красно-белых шарфах.
Всякий раз, глядя на нее наивными глазами, они объясняли, что в школе холодно, а им вовсе некстати простужаться и пропускать занятия.
В школе действительно было прохладно. Но учителя успели уже рассказать ей, что, обматывая шеи красно-белыми шарфами, ребята «фанаты» выражают так свою приверженность «Спартаку», поскольку красный и белый — цвета этой команды.
«Фанаты» всем и всеми верховодили в школе, и комсомолу стоило позавидовать их спаянности и внутренней дисциплине, которую от них вроде никто и не требовал. Но завидная организованность все же пугала Надежду Прохоровну, потому что цели «неформалов», так они называли себя, оставались для нее не ясными.
В первые же дни своей новой работы услышала Надежда Прохоровна о трагической гибели на стадионе во время футбольного матча одного из старшеклассников, Сергея Судакова. Думая о мальчике, которого она не знала, о его ужасной судьбе, Надежда Прохоровна испытывала почти незнакомое ей чувство незащищенности перед толпой. Страшилась так неожиданно возникшей и совсем не свойственной ей неуверенности. А каждый новый день только увеличивал ее тревогу…
Игра в фанатичную преданность спортивному клубу казалась Надежде Прохоровне нелепой и небезопасной. Но она все же старалась уяснить скрытый для ее понимания смысл этой игры, хорового скандирования рифмованной фразы: «В Союзе нет еще пока команды лучше «Спартака» — и малевания на стенах здоровенной буквы «С», обведенной ромбиком и перечеркнутой по диагонали.
Она наблюдала и терпела это представление, но оно все усложнялось. Надежда Прохоровна увидела, что девочки напялили на себя пиджаки мальчишек, а мальчики втиснулись в шерстяные кофточки своих одноклассниц. С ее приходом никто не изменил ленивых, разболтанных поз и не прекратил возить во рту жвачку.
И Надежда Прохоровна впервые не выдержала.
— Что за маскарад? — с ходу грозно спросила она, будто продолжала недавно прерванный разговор. — Опять безобразничаете? Что же, придется поступать по-иному…
— По-иному, это как? — поинтересовалась девочка, которую посылали за директором.
— Все умничаешь, Холодова? — раздраженно осадила ее Надежда Прохоровна.
— Почему умничаю? — Холодова, успевшая сесть на место, смотрела на директора ледяными, немигающими глазами, — Просто интересуюсь своей судьбой.
— Судьба будет такая, — жестко определила Надежда Прохоровна, — класс расформируем. Всех отправим по разным школам. А пока, чтоб явились родители. Все! Все!..
Она круто повернулась, направилась к выходу, но сообразила, что так и не узнала, зачем ее звали, и задержалась. Поморщилась досадливо и перенесла гневный взгляд на молоденькую учительницу:
— Что случилось еще?
Худенькая, хрупкая Ольга Яковлевна выглядела чуть старше своих учеников. Все время, пока сыпались упреки и угрозы, она стояла, втянув голову в плечи, не отрывая глаз от пола. Теперь, когда обращались непосредственно к ней, она подняла глаза, полные смирения и покорности, явно рассчитывая на поддержку директора. Но ответить она не успела.
— Что случилось? — поднялась во весь рост Холодова. — Трудно понять? Мы на грани! — И тут же села, метнув в сторону Ольги Яковлевны уничтожающий, ненавидящий взгляд.
Надежда Прохоровна посмотрела на ребят и увидела такие же ненавидящие глаза.
— Они на грани! — возмутилась Надежда Прохоровна. — А мы спокойны и счастливы, мы с радостью ждем каждую новую выходку! Чем же еще вы нас порадуете?
Ободренная словами, а главное, позицией директора, классная руководительница Ольга Яковлевна быстро перешла в наступление.
— Они на грани, — едва слышно повторила она, привлекая директора на свою сторону, — им не нравится, как я убираю кабинет. Плохо вытерла столы, и они отказываются заниматься…
Ребята тотчас заметили, что в глазах их классной заплясали злые огоньки — отблески недавнего боя, и поняли, что бой не окончен и она надеется выиграть.
— Что такое? Вы сами убираете кабинет? — Недоумение Надежды Прохоровны было яростным.
— Что поделаешь? — обреченно вздохнула Ольга Яковлевна, — Они давно уже отказываются дежурить…
Тайно от директора, но вполне победоносно она поглядывала на свой непокорный класс, и все почувствовали, что она выигрывает. Только Надежда Прохоровна, потрясенная поведением ребят, ничего не замечала.
— Отказываются дежурить?! — продолжала директор на высокой ноте, — Мы изо дня в день печемся об усилении трудового воспитания… — Она чуть задержалась на последнем слове, в волнении не сразу выстроив фразу. Тут ее и настиг бесстрастный, теперь не имеющий никаких интонаций голос Холодовой:
— Простите, Надежда Прохоровна, но вы неправильно понимаете трудовое воспитание, — Девчонка в упор посмотрела на директора, а потом так же, не отрывая буравящих глаз, на учительницу — рано, мол, торжествуешь.
Надежда Прохоровна побагровела.
— Марш за тряпкой! — приказала она. — И сейчас же вытереть все столы!
Холодова спокойно взяла с доски тряпку, тщательно прополоскала ее под краном, благо разговор происходил в кабинете физики, и не торопясь начала протирать столы. Несколько человек бросились помогать ей, вырывая тряпку из рук и затевая возню.
Надежде Прохоровне стало ясно, что Холодова нарочно демонстрирует несостоятельность окрика, обветшалость якобы законного, годами сложившегося учительского права на беспрекословное повиновение учеников и тем самым провоцирует ее.
— Вот паршивка! — вырвалось у Надежды Прохоровны, и лицо ее исказилось. — Спектакль устраиваешь?! Все по местам!
— Я делала то, что вы просили, — вернувшись на место, словно размышляя над происходящим, невозмутимо произнесла Холодова, — а вы меня оскорбляете. Вам позволено все, нам ничего, так несправедливо. Я тоже хочу сказать… — Голос ее чуть дрожал, но говорила она уверенно: — Силою власти вы можете заставить меня или кого-то из них, — она кивнула на одноклассников, — вытереть столы. Но надо, чтобы мы захотели сделать это снова. А мы не захотим.
— Не захотим! — поддержали ее.
— Вот видите, — удовлетворенно отметила Холодова. — Вы не думайте, мне не трудно. И у меня получится лучше, чем у Ольги Яковлевны, потому что я как следует прополоскала и отжала тряпку и она больше не испачкает столы мелом. Делая все кое-как, нельзя надеяться, что кто-то с охотой включится в твою работу. Понимаете?..
Это «понимаете?» труднее всего далось Надежде Прохоровне. Девчонка смеет так говорить с ней, директором школы. И она снова не сдержалась:
— Философствуете! Говорить научились! А вести себя и трудиться не научились! Так вас воспитали в показательной школе?!
— Показушной! — выкрикнули снова.
И это сразу отрезвило Надежду Прохоровну. Что же такое она говорит? Не сумела вовремя остановиться…
Холодова же не дала ей опомниться. Помолчав, как бы мимо пропустив директорские наставления, девчонка еще и одобрила Надежду Прохоровну, что тоже оказалось непросто стерпеть:
— Тут вы правы. В нас не воспитано желание трудиться. Нет потребности. Но мы же в этом не виноваты…
Никто из прежних и нынешних учеников Надежды Прохоровны не владел так легко словами, как Холодова, и не умел так независимо держаться. Цепким, изучающим взглядом она обежала всех присутствующих и, решив, что может еще несколько минут занимать общее внимание, ловко выхватила из портфеля толстую тетрадь. Перелистав страницы, прочитала:
— «Человек со стороны тела создан для труда. Но мы видим, что вместе с ним рождается только способность к этому: человека нужно постепенно учить и сидеть, и стоять, и ходить, и двигать руками для работы. Итак, откуда же у нашего духа было бы преимущество, чтобы без предварительной подготовки он сделался бы совершенным благодаря самому себе и через себя?» Ну вот, — заключила она, — это написал Ян Амос Коменский. Еще в восемнадцатом веке. Вы тоже, наверное, читаете «Великую дидактику»? Или только газеты?..
Сзади крикнули:
— Да здравствует Холодова!
— Да здравствует «Спартак»! — подхватили голоса, — В Союзе нет еще пока команды лучше «Спартака»!
— «Динамо» Минск? — чуть обернувшись к классу, вроде бы спросил у ребят длинный, худющий парень с волосами, едва не касающимися плеч.
— Нет! Нет! Нет! — ответили ему хором.
— «Зенит» Ленинград?
— Нет! Нет! Нет!
— Ольга Яковлевна? — Длинный парень, по фамилии Прибаукин, стоя, дирижировал, размахивая длинными руками.
— Нет! Нет! Нет! — в едином дружном порыве неистово орал класс.
— Анатолий Алексеевич?
— Да! Да! Да! Даешь Анатолия Алексеевича!
Жутковатая это была забава. Надежда Прохоровна почувствовала, что у нее пересохло во рту и ослабли колени.
Ольга Яковлевна стояла рядом, отвергнутая, ненужная, снова втянув голову в плечи и не отрывая глаз от пола. А ее класс, ее ученики, жестоко, безжалостно продолжали скандировать:
— А-на-то-ли-я А-лек-се-е-ви-ча! Классным! Анатолия! Алексеевича! — И, должно быть намекая на то, что на нового директора еще возлагаются кое-какие надежды: — Надежда! Надежда! Надежда! Прохоровна! Просим! Классным! Анатолия! Алексеевича!
И вдруг разом все прекратилось. Встала аккуратная девочка, Оля Киссицкая, и деликатно попросила:
— Простите нас великодушно! — Она прижала к сердцу пухленькие ручки и склонила голову. — Нам не хотелось бы ссориться, но мы на грани. Поймите нас…
— Я только тем и занимаюсь, что пытаюсь понять вас. — Надежда Прохоровна умела быстро взять себя в руки. — Скоро педсовет, мы все обсудим…
Что именно обсудит педсовет — поведение ребят или их просьбу, высказанную в столь непривычной форме, — оставалось неясным. Но директор, горделиво вскинув голову, поспешно покидала класс, и они увидели ее подчеркнуто прямую спину. Вслед за директором и Ольга Яковлевна выбежала из класса.
3
Стремительно направляясь в свой кабинет, Надежда Прохоровна пыталась успокоиться, но у нее не получалось. Не могла она больше выносить ерничества, ироничности, невозмутимости, бесконечных дерзостей. Одна Холодова чего стоит?! Откуда в этой долговязой девчонке такая наглая смелость? Такая беспощадность?.. Неформальный лидер!.. И не придерешься. Лучшая ученица не то что в классе — в школе. Редкая память. Учителя если урвут время, то прочтут Макаренко и Сухомлинского, а эта отличница знает и Блонского, и Выготского, и Шацкого. Где только достает ставшие почти библиографической редкостью книги?! И ни один мускул не дрогнет на ее лице, когда она в упор расстреливает своими немигающими глазами: «Ольга Яковлевна не знает физики! Пока не поздно, пусть займется чем-нибудь другим!» Только шея покрывается красными пятнами, но это уже природа, и от нее не зависит. Робот!..
Больше всего в этот момент Надежде Прохоровне хотелось побыть одной. Но не успела она закрыть за собою дверь кабинета, как в нее постучали. Стук был характерный, нетерпеливый, барабанящий, и она не обманулась. Вошла завуч Виктория Петровна — грузная, страдающая одышкой, постоянно возбужденная женщина.
— Я все уже знаю, — сразу же объявила она. — Ольга Яковлевна рыдает! А эти изверги всё изгаляются! Всё выпендриваются! — Завуч не церемонилась в выборе слов, — Напрасно вы, уважаемая Надежда Прохоровна, с ними сюсюкаете, чохаетесь с ними! Они так совсем на голову сядут, голуба моя, предупреждаю!..
Надежда Прохоровна видела, как недоверчиво косится на нее Виктория Петровна, словно прикидывает, будет ли толк из новой директрисы? И невольно подумала, как неуютно, наверное, детям под тяжестью этого подозрительного взгляда…
— Что прикажете делать? — по возможности спокойно спросила Надежда Прохоровна и поймала себя на том, что постоянно оправдывается перед завучем, будто не Виктория Петровна, а она проработала в этой школе двадцать с лишним лет, — Я и так сегодня вышла из берегов, кричала на них…
— Неужели кричали? — Не скрывая удовольствия, Виктория Петровна опустилась на стул и заинтересованно посмотрела на директора. — Ну, это уже прогресс вперед!
«Прогресс вперед» рассмешил Надежду Прохоровну, а ее собеседница обиделась.
— Не вижу ничего смешного, — осуждающе произнесла завуч и назидательно добавила: — Кричать на них мало. Их надо наказывать! Наказывать надо!
— Ох, Виктория Петровна, Виктория Петровна, неутомимая вы женщина, — посетовала Надежда Прохоровна. — Много ли дают ваши телефонные звонки родителям? Только озлобляете их, а заодно и ребят. Да они уже в пятом, даже в четвертом классе понимают, что наказать их вы не можете. Двойки не поставите — вам проценты успеваемости нужны для отчета. Из школы не прогоните — у нас всеобщее среднее образование. И класс расформировать нам с вами не позволят. Тем более старший класс. Ну, а кричать громче станем, думаете, они нас лучше услышат? Всё слова, слова… Потонули мы в словах… — Она встала, подошла к окну и, поливая из небольшой красной леечки цветы, предложила: — Давайте-ка, я вам расскажу как раз к случаю забавную историю… Так вот. Летит самолет. Один пассажир, несмотря на увещевания стюардессы, выпил изрядно и пристает к соседям. Стюардесса и так с ним, и эдак, и просит, и требует, а он будто и не слышит. Наконец, когда она слишком надоела ему, он вдруг как гаркнет на весь салон: «Не мелькай, милочка! Если я тебя не устраиваю, высади меня!» А самолет на высоте десять тысяч метров…
Улыбаясь, Надежда Прохоровна повернулась к завучу. На неподвижном лице Виктории Петровны не появилось даже малейшего подобия улыбки. История, случившаяся на высоте десяти тысяч метров, оставила ее безучастной.
— Безнаказанность, — изрекла она, — ведет к распущенности. За последнее время, — завуч явно намекала на время директорствования Надежды Прохоровны, — эти изверги распустились до предела!
«У нее вовсе отсутствует чувство юмора», — с досадой отметила Надежда Прохоровна, а вслух произнесла:
— Ольга Яковлевна не справляется с классом. Ребята не хотят ее, просят Анатолия Алексеевича. Есть ли смысл им отказывать?..
Виктория Петровна оставила вопрос без ответа. Плотно сомкнула тонкие губы, и Надежда Прохоровна вдруг заметила, что завуч нервно теребит в руках какие-то бумаги.
— Вот, полюбуйтесь, — дождавшись подходящего момента, не без некоторого торжества протянула она директору одну из бумаг.
Это было сообщение из милиции. Быстро пробежав его глазами, Надежда Прохоровна узнала, что «подростки Клубничкина Мария, Дубинина Ольга, Тесли Юстина, Прибаукин Вениамин, Столбов Алексей и Попов Валерий были задержаны за нарушение общественного порядка».
Надежду Прохоровну поразило, что среди нарушителей порядка оказался тихий мальчик с ангельским личиком, комсорг класса, Валерик Попов. Как он-то попал в эту компанию? Похоже, Прибаукин скоро всех подомнет под себя?..
Опережая возможные вопросы, Виктория Петровна молча передала Надежде Прохоровне еще один листок бумаги, на котором уже рукою завуча было написано: «Акт совершения недостойного поступка обсужден на классном собрании совместно с родителями. Проведена беседа директора лично с каждым учеником. Закреплено шефство учителей за данными учениками персонально».
Надежда Прохоровна недоуменно посмотрела на завуча.
— Что вас тревожит? — не поняла Виктория Петровна. — Совершенные злодеяния или указанные здесь меры по их искоренению? Обещания мы исполним, чуть позже, а реагировать обязаны немедленно!
«Тоже мне словесник! — разозлилась Надежда Прохоровна, — Как пишет, как говорит! И что говорит?!»
Но самое ужасное для директора школы заключалось в том, что она наверняка знала: никуда ей не деться от предложения завуча.
Со старательностью прилежной ученицы усвоила Виктория Петровна правила игры. Надежда Прохоровна понимала, что и она не посмеет отступить от этих правил, с той лишь разницей, что посердится на себя и на всех, помучается и все же подпишет бумагу.
Второй день в ее сейфе лежало письмо, которое переслали из редакции молодежной газеты. Никогда прежде, во всяком случае сколько она помнила, школьники не писали таких писем о своих учителях. Долго созревал нарыв, теперь он готов прорваться. И никто не подскажет ей, никто и не знает, как не допустить общего заражения крови…
Чувствуя безнадежность хоть что-то изменить во вращающем ее с невероятной силой круговороте жизни, Надежда Прохоровна все более ожесточалась.
Что же делать, если так положено?! Она будет реагировать, немедленно! Напишет в редакцию, что меры приняты. С учителями и завучем проведены беседы. И она, директор, персонально прикрепила себя к завучу для нормализации обстановки в школе. Каково?! Но в редакции, пожалуй, обрадуются. Получат ответ, и вроде бы разбираться незачем. И они играют все по тем же правилам. Кому охота обременять себя лишними хлопотами?! Таких теперь не сыщешь… Да и что можно понять, несколько раз появившись в школе? Шумит листва, а корни глубоко, их с поверхности не разглядишь…
В дверь снова постучали. На пороге появился Анатолий Алексеевич, и Виктория Петровна обрадованно вскочила ему навстречу, немало удивив Надежду Прохоровну. Директору школы казалось, что завуч давно ушла, так непривычно тихо она сидела, но выходит, исподтишка наблюдала за ней?.. Остался неприятный осадок…
— Ну? Как дела? Что эти изверги говорят? Чем мотивируют? — атаковала завуч молодого учителя.
Нетерпеливое любопытство, бесцеремонность, с которой Виктория Петровна и в кабинете директора ощущала себя основным действующим лицом, раздражали Надежду Прохоровну, но она никак не показывала этого. Спросила только:
— Может, и меня посвятите в свои секреты?
— Какие секреты?! — возмутилась Виктория Петровна. — В школе ни у кого от нас с вами не должно быть секретов! Этот молодой человек ходит в любимчиках, я и попросила его разведать, за что все-таки наши голубчики угодили в милицию? Милиция сигнализирует, что они хулиганили в подъезде!..
— Я думаю, это не совсем так, Виктория Петровна, и я прошу вас больше не давать мне таких поручений… посреднических, извините, это как-то неловко… — Несмотря на решительность, звучавшую в голосе, Анатолий Алексеевич совсем по-ученически топтался возле завуча. — У них было важное дело. Они хотели его обсудить. Шел дождь. Пришлось забежать в подъезд. Поднялись на второй этаж и громко спорили. Жиличка с этого этажа, как они говорят, оказалась слабонервной. Позвонила в милицию. Сейчас же все боятся подростков. Никто не хочет их выслушать. А их надо послушать! — твердо произнес Анатолий Алексеевич и с надеждой посмотрел на директора.
— Их послушать — волосы дыбом встанут, — мрачно проговорила Виктория Петровна, пристально изучая своих коллег. — Если им во всем потакать, завтра они и этого любимчика, своего избранника, тоже свергнут. В школе непозволительна анархия, в школе необходим порядок! И все обязаны ему подчиняться!
— А я согласна их выслушать, — коротко сказала Надежда Прохоровна. — И я прошу вас, Анатолий Алексеевич, взять классное руководство над нашими бунтарями. Я верю, вы сумеете найти с ними общий язык. Если не возражаете, я сегодня же издам приказ. Надеюсь, Виктория Петровна поддержит меня?!
Тяжело ступая, завуч направилась к двери. Анатолий Алексеевич смущенно развел руками, пробормотал что-то несвязное: «Благодарю… Подумаю… Но…» — и тоже попятился к выходу.
Оставшись наконец одна, Надежда Прохоровна вынула из сейфа письмо и еще раз внимательно прочитала его.
«Здравствуй, дорогая редакция!
Я пишу в редакцию первый раз и не знаю, как надо писать. Поэтому начинаю с самого для меня главного. Нашего завуча мы боимся как злого волшебника. Некоторые храбрятся: «Что мне сделают?» — а сами, завидя завуча, идущего по коридору, стараются незаметно улизнуть или опрометью бросаются наутек. Не хотят попадаться на глаза.
Маленьких детей пугают завучем, словно бабой-ягой. У ребенка душа в пятки: еще не знает всех школьных законов, а его уже спешат запугать. Я считаю это неправильным. Учителя нельзя бояться. Слово «учитель» должно звучать гуманно, а не запугивающе. Иногда так хочется поговорить с учителем по душам, поспорить, доказать свою точку зрения. Но спора не получается, потому что учитель всегда прав. Он переспорит тебя не вескими доводами и примерами, а силою власти.
В нашей показательной, вернее, показушной школе учителя не дают нам высказаться — а ученик тоже человек и имеет право на свое мнение! Очень плохо, что учителя не позволяют этому мнению развиться. Могут вырасти люди без мнения, без инициативы, безответные и безответственные люди, которые способны поступать только по чьей-то указке.
Пусть бы в педагогических институтах, когда берут студентов, смотрели не только на знания, но и на человеческие возможности. В учителя надо пускать тех, кто умеет детей любить и терпеть от них. Может, я не права? Но думаю, что права. Помогите нам.
С уважением
Мария Клубничкина».
«Не боится, — с горечью подумала Надежда Прохоровна. — Высказала все, что думает, и полным именем подписалась. Ничего они, теперешние, не боятся. А мы привыкли бояться…»
В том, что происходило со старшеклассниками, прямой вины Надежды Прохоровны не было. В школе она недавно, а наследие ей от предшественницы досталось нелегкое. Но все равно, если вмешается газета и об этом станет известно в районе, в городе, виноватой окажется она, провинциалка, не сумевшая справиться с детьми в доверенном ей высокопоставленном учебном заведении. Не по ее зубам орешек! Пиррова получалась у нее победа!..
Надежда Прохоровна не любила правдоискателей. Немало она их повидала, и ей казалось, что правдоискатели, как черные кошки, несут беду. Разве правда сама по себе, не подкрепленная делом, может что-то изменить, улучшить?.. Нет, она ни за что не покажет письмо Клубничкиной Виктории Петровне. Сердце у нее больное, а характер крутой, чем все это обернется?..
Но сама забыть о письме она не могла. То, что писала Клубничкина, было понятно ей, созвучно ее отчаянию… безысходности… боли… Девочка не жаловалась, она молила о помощи. И будто знала или интуитивно догадывалась, что помощь не придет. Кто услышит крик больной души, когда все вокруг притерпелись к боли?
4
Отслужив в армии положенный срок, Анатолий Алексеевич вернулся в педагогический институт, только на вечернее отделение. Мама, которая никогда не болела, внезапно умерла от инфаркта, и он вынужден был самостоятельно зарабатывать на жизнь. Он устроился в школу замещать лечившего свои старые раны преподавателя начальной военной подготовки.
Этой осенью, уже с дипломом историка, Анатолий Алексеевич начал вести и свой любимый предмет, и его уроки нравились ученикам. Он чувствовал, что ребята тянутся к нему, старался не избегать их испытующих взглядов и острых вопросов, которые нередко и его самого ставили в тупик. Тогда он честно признавался им в этом, как советовала ему мама, тоже учитель истории…
Согласившись на классное руководство, Анатолий Алексеевич лишился свободного времени и покоя. Он старался теперь подолгу оставаться с ребятами, иначе как бы он мог понять их? А ему прежде всего хотелось понять…
Он обещал им в дни Ноябрьских праздников пойти в поход. Договорился с шефами, молодыми сотрудниками научно-исследовательского института, что они проведут в школе дискотеку, даже с диск-жокеем. Ребята обрадовались, вроде бы успокоились, а на следующий день ушли с уроков.
Виктория Петровна, как всегда, первой узнала о том, что класс в полном составе исчез с занятий, и бушевала в кабинете директора:
— Вы только подумайте, уйти с двух математик, физики и биологии! Когда это было? А я предупреждала: попустительство к добру не приведет! Их надо наказать! Я настаиваю! Никаких вечеров! Никакой распущенности с диск-жокеями!..
Анатолию Алексеевичу показалось, что Надежда Прохоровна растеряна и колеблется.
— Я помню, в нашем небольшом городке, — неторопливо начала она рассказывать, — показывали трофейную картину. Были послевоенные годы, заграничных фильмов мы раньше не видели, и народ валил в кино. На вечерние сеансы билеты достать было невозможно, мы удрали с урока, с последнего, конечно. Директор школы в наказание послала наш класс разгружать машину дров, которые завезли на зиму. Мы без звука дрова перетаскали, да еще напилили и накололи. Все было справедливо, мы оставались друзьями. А тут мы по одну сторону забора, они — по другую. Как перебраться?
— Давайте поговорим с ними, — робко попросил Анатолий Алексеевич.
— Уже говорили, — отрезала завуч. — Даже совместно с родителями. Второй раз этой корриды мое сердце не выдержит!
— Ну, вы можете не участвовать в разговоре, — мягко посоветовала Надежда Прохоровна, — а нам с Анатолием Алексеевичем все же необходимо понять, что происходит…
— Я не привыкла не участвовать, — обиженно и в то же время надменно заявила Виктория Петровна. — Наше поколение не пугалось трудностей. Но потакать им я не намерена!..
Надежда Прохоровна попыталась уговорить:
— Может, вам все-таки поберечь сердце?
— Я не могу уберечь свое сердце, — с отчаянной гордостью произнесла Виктория Петровна, — от главного дела своей жизни!..
— Ну, хорошо, тогда я прошу вас, Анатолий Алексеевич, привести их всех ко мне, как только вернутся в школу. Я думаю, к вашему уроку они вернутся. Он последний? — Директор просматривала таблицу расписания, которая лежала у нее на столе, под стеклом. — Значит, после урока я жду вас с ребятами.
Надежда Прохоровна не ошиблась: они пришли на историю.
— Где вы заблудились? — попытался пошутить Анатолий Алексеевич, от растерянности не зная, как себя вести.
— В Бермудском треугольнике, — ничуть не смущаясь, отвечали они, словно бегство с двух математик, физики и биологии было делом вполне привычным.
Анатолий Алексеевич знал, что Бермудским треугольником именуется у них пространство между универмагом, универсамом и «Детским миром», и, поразившись откровенной наглости ответа, сказал с обидой:
— Вы, ребята, уж совсем зарвались!..
А они ему в ответ, так по-свойски, с дружеским доверием:
— Приходится рваться. Свободно же не дают.
Оказалось, они стояли в очереди за кроссовками. Пока ждали, успели съездить к родителям, к знакомым за деньгами — наврали, что «Детский мир» приехал в школу на распродажу. И совершенно не испытывали вины. Виноватой они считали промышленность, которая не поспевает за спросом. И учителей, на уроках которых скучно.
К директору они тащились нехотя. В директорском кабинете, падая на стулья, расшвыривали по полу потрепанные портфели и сумки.
— Итак, мы снова все вместе, — сказала Надежда Прохоровна приподнято-торжественным тоном, приветливо улыбаясь.
— Команда знатоков против команды любителей, — в тон ей сразу же бросил вызов сутуловатый сумрачный Слава Кустов.
Все довольно, ободряюще заулыбались.
— Вы и на сей раз ни в чем не виноваты?.. — не обращая внимания ни на реплику, ни на улыбки, спросила Надежда Прохоровна.
— Ну почему же? — живо откликнулся теперь уже Пирогов, высокий красивый подросток с умным, чуть надменным лицом. — У вашего вопроса, уважаемая Надежда Прохоровна, есть, как минимум, два аспекта. (Сегодня он захватил инициативу в разговоре.) С одной стороны, сложности нашей жизни: ну, там всякие трудности с экономикой, которая должна быть экономной, но не хочет, потом происки империалистов, вынужденные расходы на вооружение, помощь развивающимся странам… — перечисляя, он загибал пальцы, — что еще? Мы все это понимаем. И не в обиде. Три часа, заметьте, безропотно стояли в очереди… С другой стороны, нехорошо, конечно, уходить с уроков, тем более надолго. Но… — Он нарочно помолчал. — Но если честно или, как вы справедливо настаивали на собрании с родителями, доверительно, то нам на уроки являться не хочется. — И он посмотрел на директора таким наивно-честным взглядом.
Надежда Прохоровна на этот раз держалась абсолютно спокойно. Интонацией подражая оратору, она спросила с иронией:
— Не будешь ли ты, Пирогов, так любезен, объяснить, что вас не устраивает?
— Отчего же… — нисколько не затрудняясь, согласился Пирогов. — Научимся наконец быть деловыми людьми и скажем кратко: «Всё».
На голове у «делового человека» красовался венок из серовато-блестящих вертушечек с детской игрушки — флюгера. Он, по всей видимости, олицетворял терновый венец или, как сказал поэт, «белый венчик из роз», в котором «впереди — Иисус Христос». Пирогов не посчитал необходимым снять свой венец перед появлением в кабинете директора.
— Не хочется вводить вас в заблуждение, — продолжал он, позируя, — сегодня с утра я немного задержался. Войдя в класс, я почувствовал, что обстановка накалена до предела и наша уважаемая Антонина Кузьминична готова впасть в истерику. Допустить такое было бы весьма прискорбно. Я незаметно вышел, — беззастенчиво докладывал Пирогов, словно находился в компании сверстников, — завел будильник, который случайно оказался в моем портфеле, и поставил у приоткрытой двери. Он зазвонил. Все закричали: «Ура! Звонок!» И Антонина Кузьминична, хотя, как и все, понимала, что звонок не настоящий, уверяю вас, тоже обрадовалась. Ей еще меньше нас хочется присутствовать на собственных уроках. Ну, а дальше, вы уже знаете, мы пошли подышать воздухом свободы, и… тут совсем некстати выбросили кроссовки… Как было не подобрать такую прекрасную кость?..
Виктория Петровна жадно глотнула воздух. Ее тяжелое, неподвижное лицо сделалось влажным от возбуждения. Анатолий Алексеевич поднялся, чтобы подать ей стакан воды. Ребята смотрели равнодушно. Больное сердце Виктории Петровны не вызывало у них сострадания.
— Можно мне сказать? — подняла руку, будто не видела недомогания завуча, Клубничкина, крупная, румяная девочка с копной бронзовых кудрей.
— Ну, говори, Клубничкина, что ты хочешь сказать? — неохотно согласилась Надежда Прохоровна, с тревогой поглядывая на завуча.
— Я хочу сказать, — встала Клубничкина, — что ваши разговоры-уговоры — сплошная демагогия. Вас причины не интересуют, только следствия. Мы же на математике ничего не понимаем! Говорим Антонине, то есть Антонине Кузьминичне: «Бесполезно слушать то, что непонятно». А она: «Не хотите слушать, не приходите на мои уроки, сдавайте зачеты!» Мы согласились. Перестали ходить на уроки, так Антонина побежала к вам жаловаться. Натуральная демагогия!
— Ты сама демагогию не разводи! — удивительно быстро справилась с недомоганием несгибаемая Виктория Петровна. — Учись как полагается и будешь все понимать!
— Как учите, так и учимся, — огрызнулась Клубничкина, ожесточаясь. — Прогнали хорошего учителя математики, ко двору не пришлась?!
— Что ты себе позволяешь?! — снова, едва дыша, не жалела себя Виктория Петровна. — Ты становишься просто злом школы!
— Зло школы не я, — грубо отразила удар Клубничкина, — и все тут, кроме вас, это понимают. А позволяю я себе не так уж много. Надежда Прохоровна спрашивает, я ей отвечаю. Если вы снова согнали нас сюда каяться, то и незачем было. Достаточно нас унижали на собрании с родителями. — И, больше не замечая Викторию Петровну, она обращалась только к Надежде Прохоровне: — Нужны хорошие учителя. И специализация. Зачем мне математика, если в жизни она не пригодится?
— Тебе могут пригодиться только кавалеры! — никак не могла успокоиться Виктория Петровна.
Клубничкина, не удостоив ее вниманием, продолжала:
— А тем, кому без математики не обойтись, нужно преподавать ее всерьез. Не как в трехстах километрах от железной дороги…
— Маша Клубничкина! — подал сигнал длинный, длинноволосый Прибаукин.
— Да! Да! Да! — немедленно подхватил хор.
— Ты что-то хотел добавить к сказанному, Вениамин? Слушаем.
Вениамин Прибаукин не спеша встал, постоял молча и вдруг пробасил:
— На физику тоже приходить не будем. Аленке… — Поправился: — Ольге Яковлевне… учить противопоказано, — и сел. Уже сидя, добавил: — Двуличная она. Но вы, — сказал он, указывая пальцем на Викторию Петровну, — этого не поймете. Вам тоже в школе трудно.
— Хорошо, что сознаете, как с вами трудно, — ловко вывернулась Виктория Петровна.
Прибаукин тихо хохотнул и стал смотреть в окно.
— Ну, если уж пошел столь откровенный разговор, — старалась из последних сил держаться Надежда Прохоровна, — то давайте разберемся, какие трудности с биологией?
— Кожаева! Мария! — скомандовал Прибаукин. — На выход! Твой номер!
Тоненькая, бледнолицая девочка с глубоко посаженными глазами, скептически взирающими на мир, застенчиво сказала:
— На уроках биологии и географии скучно. Учительница биологии заменяет себя телевизором, а географ на каждом уроке показывает учебные фильмы…
— Что же в этом предосудительного? — то и дело вытирая платком вспотевшее лицо, все же вмешалась Виктория Петровна. — Все это предусмотрено программой.
— Да нет, предосудительного, наверное, нет, — вяло отбилась Кожаева, — только телевизор и кино можно смотреть и без учителя. Общения не хватает. Компьютер и тот способен взаимодействовать, отвечать на вопросы…
— А какие у тебя вопросы? — Надежда Прохоровна решила выяснить все до конца.
— Вопросы?.. — переспросила девочка. — Всякие. Можно ли, к примеру, биологической энергией лечить людей? Представляете, сколько семей сохранилось бы, если вылечивали алкоголиков?!
— Без вас этих вопросов не решат! — не унималась Виктория Петровна, — Лучше бы в учебник почаще заглядывали, чем развлекаться антинаучными бреднями!..
— Вот так не надо, — забеспокоилась девочка. Щеки ее разрумянились, глаза оживились, — Кибернетику тоже считали лженаукой. На десятилетия задержали развитие генетики. Разве можно повторять ошибки прошлого?!
— Но сейчас мы говорим об ошибках настоящего. О ваших ошибках!
Тут у Надежды Прохоровны терпение лопнуло. Она строго, осуждающе посмотрела на завуча, хотела что-то сказать, но Холодова, снова Холодова, вскочила, схватила с пола портфель:
— С меня хватит! У меня нет времени на пустые разговоры. Как там, у Овечкина, в записных книжках: «Я не могу уже выносить ни одной глупости. Некогда». Извините, я пошла. — И она направилась к выходу.
— Холодова! Вернись! — Эта девочка как-то особенно действовала на Надежду Прохоровну, да и устала она одновременно справляться и с ребятами, и с Викторией Петровной. — Ты что, Холодова, больше всех занята?
— Я не знаю, как все, — без всякого выражения ответила Холодова, — но у меня столько тележек, что их трудно везти. Сегодня у меня занятия в школе юных журналистов, репетиция во Дворце пионеров — на Ноябрьские праздники наш ансамбль выступает перед ветеранами. Извините, мне еще и за младшей сестренкой надо поспеть в садик. А тут пустое, мы идем в никуда… — И она с силой рванула на себя дверь, зная, что ее обязательно попытаются задержать.
Пирогов поправил венец из детских вертушек и тоже наклонился за портфелем. Привстал, перехватил недобрый взгляд завуча и, обращаясь непосредственно к ней, спросил:
— Кстати, вы не знаете, что означает нимб на иконах святых и самого Христа? Может, это свечение? Невидимая глазу биологическая энергия? Может, Христос обладал способностями сенса?..
— До чего договорились? До чего договорились?! — запричитала Виктория Петровна, но ее никто не слушал. Все расходились, без спросу, без разрешения.
— Ребята! — попытался остановить их Анатолий Алексеевич, молчавший во время разговора, но и его не услышали.
Задержалась только Киссицкая. Жеманясь, она попыталась сгладить впечатление:
— Простите великодушно… Все устали… — Она делала доброе дело: защищала товарищей, успокаивала учителей, — и все же что-то отталкивало от нее и тех, и других.
«Хочет со всеми сохранять добрые отношения, — едва сдерживалась Надежда Прохоровна. — И вся она такая мягонькая, ласковая, кошечка. Недаром ее Кисей зовут. Но добрых отношений у нее не получается… Хотя так ли это на самом деле?..»
— Оставьте меня, пожалуйста, одну, — жестко попросила Надежда Прохоровна.
Киссицкая тут же исчезла, а Виктория Петровна собралась еще что-то сказать, но директор резко остановила ее:
— Вы мне сегодня очень мешали, Виктория Петровна. Мне надо подумать… Не только мне. Нам всем…
5
Жалил мелкий, колючий дождик. Дул порывистый ветер. Анатолий Алексеевич уходил из школы домой с тревогой. Его мучило собственное бессилие, и от этого на душе, как никогда, было мерзко. Он поднял воротник пальто, натянул берет на уши, а подбородок спрятал в теплом, еще мамой связанном шарфе и пошел вдоль школьного двора, загребая ногами мокрые опавшие листья.
И вдруг он увидел их. Они сидели на здоровенном деревянном ящике, непонятно как попавшем за школьную ограду, и молча жались спинами друг к другу, напоминая стайку потрепанных осенними невзгодами воробьишек. Лица у всех потерянные, каждый замкнулся в себе.
Маша Клубничкина, накинув полы своей яркой оранжевой курточки, похожей на парашют, на голову и плечи рядом сидящей подружки, будто отгородила ее от тягот внешнего мира. Услышав приветствие, Машина подружка вздрогнула, высвободила лицо, и Анатолий Алексеевич ужаснулся ему.
Девочку звали Олей Дубининой, Олесей. При первом же знакомстве с классом Анатолий Алексеевич сразу выделил ее среди других: «Самая красивая девочка в школе».
У нее были длинные золотистые волосы, темные грустные глаза и неторопливые, плавные движения. Теперь ее лицо померкло, сделалось плоским, глаза опустели.
Хотелось спросить: «Что случилось?», но Анатолий Алексеевич не решился. Да и, только он приблизился, ребята вспорхнули и разлетелись. Дубинина, на ходу бросив Клубничкиной: «Пойду умоюсь», побрела в школу. Маша, поколебавшись, осталась.
— Маша, — тихо спросил Анатолий Алексеевич, — чем я могу помочь?
Клубничкина слабо, но доброжелательно улыбнулась:
— Расцепите нас! Мы устали. Они, наверное, тоже… — Она просительно заглянула в глаза Анатолию Алексеевичу и, приблизившись, совсем по-детски, словно договаривалась с подружкой хранить «страшный секрет», зашептала: — Я написала в редакцию. Ведь тонущие корабли имеют право подавать сигнал SOS. Кто-то должен спасти наши души? — В глазах мелькнула растерянность. Вдруг она порывисто отодвинулась, и лицо ее неожиданно приняло независимое и отчужденное выражение: — Думаете, дурочка? Наивная? Пусть! Но кто-то же должен… — И сама себе ответила: — В том-то и беда, что никто, ничего, никому не должен! Я дала себе слово, клятву… Вырасту, не забуду, как была девчонкой, подростком, кто я сейчас?..
— Маша, — отважился спросить Анатолий Алексеевич, — почему у Олеси такое лицо?
Маша пристально посмотрела на классного руководителя, определяя возможную для себя откровенность.
— Сегодня год, как погиб Олесин мальчик, Судаков Сережа. Вы же помните этот ужас? Олесе не хотелось идти в школу, в такие дни все особенно напоминает о Сереже. Мы с ней побродили по улицам, а потом испугались скандала и пошли на уроки. И натолкнулись на Викторию. Как только она поспевает повсюду?! Ну, она на нас за всех и отыгралась: «Безобразие! Ищите любую причину, чтобы прогулять!» Ничего себе любая причина! Обидно же… Олеся заплакала, я и ляпнула кое-что. Виктория пообещала, что меня из школы выгонят, она давно на меня зуб точит. Но мы еще посмотрим, кто кого… Пусть теперь ею займется редакция!..
— Маша, — сказал Анатолий Алексеевич, — мне кажется, ты потом будешь жалеть. У Виктории Петровны больное сердце… Она учила тебя и хочет тебе добра. Человек она сложный, ее методы устарели, но и твои, знаешь, не лучше… Она пугает, и ты хочешь, чтоб она боялась, и тоже «сигнализируешь». Чем же ты лучше? И стоит ли, выясняя отношения, стремиться уничтожить? Не благородно это. Даже ради того, чтобы отстоять свои принципы… Ты подумай…
— Подумаю, — пообещала Маша.
Тут из школы выбежала Олеся, пролетела мимо Анатолия Алексеевича и Клубничкиной, не видя их, ничего не различая перед собою. Маша бросилась за нею, догнала, обняла крепко, спросила:
— Виктория?
Олеся кивнула.
— Гадина! Гадина! — отчаянно закричала Клубничкина. — Ненавижу! — И горько заплакала.
Анатолий Алексеевич растерялся, потом сказал:
— Поехали ко мне, посидим, поговорим, чаю попьем. Мама варила много варенья. Ее уже нет, а варенье осталось.
Он думал, они откажутся, а они обрадовались. Им некуда было идти, не с кем поговорить. И он вдруг осознал: их не как-нибудь надо выслушать, а так, как это делали старые доктора, прикладывая ухо к самой груди.
6
Дома у Анатолия Алексеевича было тепло. Попыхивал электрический самовар. Мягкий, неяркий свет электрических свечек на стене над столиком, где они устроились пить чай, казалось, согревает. Девчонки успокоились, растаяли в мягких креслах.
Клубничкина спросила:
— Это ваша комната?
— Это комната моей мамы, — ответил Анатолий Алексеевич, — она тоже преподавала историю, и ее ученики любили собираться за этим столом.
— Странно, — сказала Маша, оглядываясь по сторонам, — Слишком уж молодежная комната… — Перехватив недоуменный взгляд учителя, пояснила: — Все живое… Книги, раскрытые на письменном столе, даже с закладками. Пластинка на проигрывателе… Значки…
— Я все тут оставил, как было при маме, — с грустью пояснил Анатолий Алексеевич.
— Да я не об этом. — Клубничкина не понимала бестактности своего поведения. — Я не видела у взрослых таких живых комнат. Большинство покупает книги для интерьера. Стерео, чтоб не хуже, чем у других… Я спрашивала их, чем отличается джаз от рока, а рок от диско? Не знают. Но заявляют, что современная музыка им не нравится. «Горлопанит»! Мешает. А они хотят покоя! Чтобы их не трогали. Это главное. Их ничто уже не волнует!.. Ну, а значки у взрослого?.. Как-то не укладывается…
— Мама собирала их всю жизнь. Особенно те, что имели отношение к детству, к образованию, к пионерской организации. Получилась коллекция…
— Извините, — опомнилась Маша.
— Чем же, по-твоему, живут взрослые? — задал вопрос Анатолий Алексеевич.
— Господи, да они и не живут вовсе, — безразлично пожала плечами Клубничкина. — Делают вид, что живут. Видимость жизни. — Глаза ее сузились, презрительная улыбка искривила рот, — Будто работают. Будто веселятся. Будто стремятся к чему-то. А сами безрадостные… Показуха! Везде одна показуха!.. И знаете, когда некоторые взрослые слишком уж налетаются перед носом, да еще норовят на нос сесть, приходится отмахиваться.
Она говорила грубо, с вызовом, и у Анатолия Алексеевича испортилось настроение. Дубинина сразу почувствовала это.
— Машка, ты чудовище, — сказала она тихо, мягко, но ее слова отрезвили Клубничкину. Она сразу стушевалась, опустила голову.
Олеся как бы извинилась за подругу:
— Вы на нее не обижайтесь, Анатолий Алексеевич. Она человек-репейник. Прицепится, уколет и торчит. К ней надо привыкнуть. Сережка легкий был человек и то иногда обижался… — Глаза ее стали наполняться слезами.
Анатолий Алексеевич помнил, как оглушила, раздавила и ребят и взрослых гибель Судакова.
…Сергей отправился с мальчишками-«фанатами» на матч «Спартака». «Спартак» в тот день играл неудачно, но перед финальным свистком неожиданно забил гол. Все, кто уже устремился с трибун к выходу, задержались, остановились, образовалась давка.
Мальчишки пытались прорваться к своей команде на поле и прыгали через ряды сидений, расталкивая возбужденных победой болельщиков. Кто-то отпихнул Сергея, кто-то наступил на его длинный, размотавшийся в толчее красно-белый шарф. Сергей не удержался, упал под ноги мечущихся людей…
Тягостная атмосфера, которая к тому времени сложилась в школе, стала и вовсе невыносимой. Родители забирали детей, жаловались районному начальству, обращались и в самые высокие инстанции. Директора школы освободили «за ослабление воспитательного процесса», как было сказано в приказе. Ребята же, наслушавшись взрослых разговоров, со свойственной им прямолинейностью, говорили: «Поперли директрису, потому что турнули на пенсию ее министра. А пока он властвовал, «госпоже министерше» все позволялось и школа считалась образцовой».
До конца года исполняла обязанности директора Виктория Петровна. Трудное пережили время…
— Сережка был умный, веселый, с чувством юмора, — сказала Маша и посмотрела на подругу. — Забежит на перемене к нам в класс, пошутит: «Ну, гномы, как тут моя Белоснежка? Не забывайте, гномы, что я старший и самый неотразимый!» Он же старше нас был на год. До сих пор не верится, что больше не придет, не споет: «Главное, ребята, что? Сердцем не стареть!..»
Анатолий Алексеевич с тревогой посмотрел на Олесю. Она сидела с отсутствующим видом, и все, что происходило внутри ее, оставалось скрытым от посторонних глаз.
— Вы говорите, Сергей умный, с чувством юмора, зачем же ему фанатизм? Он увлекался спортом?
Маша не сразу отозвалась:
— Это сложно. Хотя что сложного? Понимаете, Пирогов интересуется экономикой, историей, искусством, его друг, Кустов, — информатикой, языками. У Кожаевой — биология, у Холодовой — школа юных журналистов, балалайка… Но есть же и такие, кто не определил еще пока своего интереса… А выделиться чем-то среди других всем хочется…
— Ну, а Сережа?
— Сережа?.. — Олеся будто пробудилась, на ее лице появилось заинтересованное выражение. — Сережу замучили родители. Отец заявил, что гуманитарные науки у нас бесправны и хватит того, что на это ушла его жизнь. Настраивал Сережу на естествознание, для которого вроде теперь дорога открыта, а у Сергея с математикой нелады. Какая ж химия или биология без математики? Стали родители завлекать Сергея археологией, посылали в экспедицию с приятелем. Вернулся он оттуда злой. Распевал: «Главное сердцем не стареть!» — но я чувствовала, что человек потерялся. И родительские подсказки не по нему, и самостоятельно ему думать мешают… «Фанской» жизнью он себя обманывал. Вроде дело есть и друзья рядом. В куче легче. Самому с собой страшнее…
— Может, я не понимаю чего-то, — спросил Анатолий Алексеевич, — но разве так уж интересно взрослым ребятам из года в год заниматься одним и тем же: собирать фотографии спортсменов, вырезки из газет и журналов с сообщениями о матчах, орать: «В Союзе нет еще пока…»? Чушь какая-то…
— Но зато всем доступно. И всегда можешь рассчитывать на поддержку своих, — убежденно сказала Маша. — А это важно. Комсомольцам, случись что, на тебя наплевать. Киссицкой какой-нибудь разве до других есть дело? А тут, хоть ночью тебе позвонят, ты побежишь и, если надо, будешь своих отбивать от «фанов» другой команды. Но и к тебе, стоит позвать, прибегут свои. И ты живешь уверенно, знаешь, что тебя защитят и поймут. И это многих устраивает.
— Ну, а на уроке зачем вы кричите: «В Союзе нет еще пока», красно-белыми шарфами обматываетесь, вы что, тоже «фанаты»?
— Да это так, игра, — смутилась Дубинина. — От учителей отбиваемся…
— А Прибаукин? Он тоже играет?
— У Прибаукина свои заботы, — уклончиво ответила Олеся.
Анатолий Алексеевич уже знал, как только заходит речь о ком-нибудь из их товарищей, они становятся неприступными крепостями. Штурмовать ему не хотелось.
Ни о чем серьезном в тот вечер больше не говорили. Пили чай с вареньем и слушали музыку. А когда девчонки совсем собрались уходить, Маша вдруг сказала:
— Вам не нравятся наши игры? А ваши игры вам нравятся? Правила, по-моему, одни и те же.
— Какие правила? — Анатолию Алексеевичу стало не по себе.
— Будто не знаете? — недоверчиво покосилась на него Клубничкина и снисходительно улыбнулась, — Убегать, чтоб не осалили…
Ночью Анатолий Алексеевич не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал, как мечется за окном ветер, и пытался представить себе, что посоветовала бы ему мама? Вспомнил, как она пришла однажды из школы, потрясенная жестокостью своего ученика, долго не могла успокоиться и говорила, что дети становятся жестокими и неуправляемыми, когда теряют веру во взрослых, уважение к их словам и поступкам.
Он спросил тогда, как же поступать в такой момент? И мама не задумываясь ответила: «Только не выяснять отношений. Бесполезно. Влиять в такой момент бесполезно». Улыбнулась и добавила: «Поступать надо как труднее всего — лечить терпением, ждать и надеяться. Если не на полное выздоровление, то хотя бы на улучшение душевного самочувствия…»
Анатолию Алексеевичу казалось, что он и теперь слышит голос мамы. Вероятно, он все-таки задремал и уже в дреме думал о том, что ни разу после смерти матери не видел так явственно ее лицо, глаза, улыбку…
Утром он проснулся с уверенностью, что ему открылась истина, совсем простая, и удивлялся, как раньше не пришло в голову поговорить со всеми, кто учит его ребят, попросить, чтобы временно его класс оставили в покое. Не кричали, не требовали, не замечали…
Не сомневаясь в успехе, он почти бежал в школу. Но после первых же бесед с коллегами у него как бы отдельно от рассудка возникло ощущение, что многие, даже соглашаясь с ним, будут поступать, как привыкли. Такова великая сила инерции. И все пойдет, как и шло. Несуразным, угрожающим чередом. Он перед этим бессилен.
7
Надежда Прохоровна с утра уехала к районному начальству и долго не возвращалась. Не дождавшись директора, Виктория Петровна, которая не терпела беспорядка, в назначенный час собрала учителей и властвовала на педсовете. Совет этот был относительным, потому что говорила только сама Виктория Петровна. С присущей ей страстностью завуч отчитывала учителей точно так же, как и учеников.
— Вы хоть понимаете, голуба моя ненаглядная, — обращала она свой гнев на Ольгу Яковлевну, — как вы виноваты в том, что вас свергли? Не панибратствуйте! Не заигрывайте! А вы еще и покуривали вместе с ними!.. Мне все известно! От меня не скроешься!.. — Она задыхалась от возмущения, — А вы, голубь мой, — перенесла она свой пылающий взор на географа, — что такое вы им говорите? «Без контурных карт на урок не приходите». Так они ж только и ждут этого!..
Она не знала пощады, не церемонилась:
— А вы, Антонина Кузьминична, не молодка уже, голуба моя, а чудите, чудите! Что за зачеты? У нас не проходной двор, у нас показательная школа!
Властность Виктории Петровны обладала гипнотическим свойством, и Анатолий Алексеевич не посмел ослушаться, явился на эту тягостную беседу, хотя его ждали ребята. Теперь он страдал. Мучительно и стыдно было наблюдать, как завуч все более распаляется во гневе, а предметы ее гнева, эти неумехи, страшатся поднять глаза.
Не зная куда себя деть, Анатолий Алексеевич принялся рассматривать директорский кабинет, в котором никогда подолгу не задерживался. Теперь он вдруг увидел, какая дорогая тут мебель, и цветной телевизор, и пианино, и компьютер…
Школа, в которой он сам учился, не была похожа на эту, богатую, современную. Только портреты великих по-прежнему висели на стенах. На него смотрели с детства знакомые внушительные и строгие лица, и постепенно в сознание проникали слова, некогда произнесенные ими.
«Самые правильные, разумные, продуманные педагогические методы не принесут пользы, — крупными буквами было набрано под портретом Макаренко, — если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком и прежде всего правильные формы дисциплины, труда, свободы, игры и… авторитета».
«Я твердо убежден, — утверждал Сухомлинский, — что есть качества души, без которых человек не может стать настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте — умение проникнуть в духовный мир ребенка. Только тот станет настоящим учителем, кто никогда не забывает, что он сам был ребенком».
Нет, эти истины не утратили своей мудрости. Но все так привыкли, что эти портреты и эти высказывания царят перед глазами, что уже перестали замечать их и воспринимать смысл сказанного.
Зато все, что говорила Виктория Петровна, хотели они того или не хотели, — слушали постоянно.
— Не буду анализировать ваши уроки… Любая их часть… Все не то… На совещаниях говорим о единых требованиях… Ответственность… Престиж… — Она старалась говорить убедительно и эмоционально. Ей казалось, что так скорее склонит всех к своей точке зрения, и не замечала, что ее подопечные давно уже томятся, с рвением изучая пол и стены.
Анатолий Алексеевич посмотрел в окно и залюбовался игрой солнечного света. Там, за окном, шумели растревоженные ветром деревья. Ему ужасно захотелось туда, где живой свет и вольный ветер…
Не думая больше о последствиях, он решительно поднялся, приложил руку к сердцу, как бы извиняясь, и вышел из кабинета…
В канцелярии, не успев закрыть за собой дверь, Анатолий Алексеевич столкнулся с Надеждой Прохоровной, которая выглядела расстроенной и уставшей. И без объяснений было понятно, что районные руководители народного образования и на этот раз ничем не помогли ей.
Мало заботясь о произведенном впечатлении, что, казалось, так несвойственно новому директору школы, Надежда Прохоровна почти прокричала:
— Просто ли заменить плохого учителя? А четверых? Да еще в середине года?! Это же ЧП! А в нашей школе не могут случаться чрезвычайные происшествия! В нашей школе, как вы знаете, все должно быть в порядке!.. — И вдруг со страшной иронией отчаяния она задала вопрос, который звучал скорее риторически: — Может, что-то дельное советует вам райком комсомола?
Анатолий Алексеевич невольно улыбнулся, потом принял подчеркнуто серьезное выражение лица, достал из кармана записную книжку и монотонно прочитал то, что на днях записал в райкоме под диктовку:
— «Трудовое воспитание усилить.
Постоянно напоминать, что, кроме прав, есть обязанности.
Организовать свободное время.
Опираться на здоровое ядро.
Избавляться от штампов…»
— Поможет? — откровенно насмешливо спросила Надежда Прохоровна.
— Ну, раз дают руководящие указания, — снова улыбнулся Анатолий Алексеевич, — значит, считают, что они ценные. — Ему искренне было жаль Надежду Прохоровну.
8
А в кабинете истории, дожидаясь Анатолия Алексеевича на классный час, как малые дети, резвились его ученики. Скакали по столам, возились и изо всех сил старались перекричать друг друга.
К доске юная журналистка Холодова прикрепила «Молнию».
«МЫ ТАК НЕ БУДЕМ!» — было выведено сверху крупными буквами. А строкой ниже помещалось сообщение под заголовком: «О недостойном поступке с прятанием дневников». Прочитать его было почти невозможно: крохотные, малоразборчивые буковки затрудняли чтение. Зато призыв, которым сообщение заканчивалось, сразу бросался в глаза: «НЕ ДОПУСТИМ В ДНЕВНИКАХ ТАКИХ ЗАПИСЕЙ: «На требование дать дневник путем обмана отвечали, что нет!»
Слово «таких», инициалы и фамилия автора дневниковой записи — В. П. СОЛОВЕЙЦЕВА — выделялись красной тушью. Завершали данный образец публицистики смеющиеся рожицы.
Анатолий Алексеевич, войдя в класс, не пробовал никого успокаивать, встал к ребятам спиной и с интересом изучал «Молнию». Он очень рассчитывал на то, что рано или поздно его ученикам захочется узнать, какое они своей «Молнией» произвели впечатление? И верх возьмет любопытство! Так и случилось: вскоре Анатолий Алексеевич почувствовал настороженное внимание. Тогда, не повышая голоса, он сказал:
— Ребята, жизнь у нас с вами совсем никудышная. Такая жизнь никого не устраивает, ни вас, ни учителей. Хорошего разговора, чтобы понять друг друга, у нас не получается, а понять надо. Я предлагаю: пусть каждый, кто захочет, напишет обо всем, что у него наболело. Скинем с себя груз обид и тревог наших и, может, почувствуем облегчение. И даже сами себя скорее поймем и тогда уж вместе решим, что делать и как жить дальше. Согласны?
— А устно высказаться нельзя? — жеманничая, спросила Киссицкая.
— Высказывайся! — разрешил Прибаукин. — Твои драгоценные мысли должны знать все.
— А это поможет психологическим изысканиям? — как всегда мрачно, съязвил Кустов.
— Лучше бы занялись делом, — проворчала Холодова. — Сколько времени люди теряют зря!
— Не будем писать? Или напишем? — повернулась к классу Маша Клубничкина.
— Напишем, — за всех поручился Прибаукин. — Дети — это чудо природы. Его надо изучать. Кися, ты ведь чудо, правда? — Он откровенно потешался над Киссицкой, которая молча, с ненавистью глядела на него.
Клубничкина, почувствовав поддержку Прибаукина, пообещала:
— Напишем. Я ими займусь. Они у меня как миленькие…
По едва уловимой реакции класса Анатолий Алексеевич понял, что напишут.
Из любопытства? С надеждой на помощь? Развлекаясь? Пока этого он не знал.
Дней через десять «собрались» письменные исповеди ребят. Анатолий Алексеевич читал их вечер и ночь, почти физически ощущая, как больно его душе, хотя всю прожитую им жизнь его учили, что души как таковой не существует.
Маша Клубничкина.
Взрослые народ загадочный. Некоторые черствы, другие заносчивы, а иные назойливо добросердечны. А те, о ком Сент-Экзюпери сказал: «Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко и от этого, признаться, не стал думать о них лучше», — враги.
Нас просили прийти с родителями в воскресенье, в десять. Некоторые приволокли даже двоих родителей. И что же? Дверь школы оказалась закрытой. Сорок минут мы мокли под дождем и страшно замерзли. Но никто и не подумал извиниться перед нами. Надежда Прохоровна пролепетала что-то про водопроводную трубу, которую прорвало, а Виктория Петровна — про транспорт, который плохо работает, хотя ей до школы рукой подать!.. Но они всегда правы.
Пока учителя говорили с родителями, нас, как преступников, держали за дверью, а потом по одному вызывали на допрос. Почему вы, Анатолий Алексеевич, не вмешались, не остановили их? А может, вы были заодно с ними? Да только какая сила у вас против Виктории?
Почему всем задавали один вопрос: «Как ты думаешь жить дальше?» С фантазией у вас не очень. Наверное, вы надеялись, что мы станем каяться и обещать. Слава богу, никто не стал. За непокорность положено наказание — и нас выворачивали наизнанку. Вы пробовали, Анатолий Алексеевич, поставить себя на наше место?
Мне при всех говорили, что их гордость, Саша Огнев, из-за меня ушел из школы, что его мать боялась дурного влияния. А Сашина мама хорошо ко мне относилась, и ушел он из-за них, потому что плохо учат и обстановка в школе нервная. Но хоть бы и из-за меня? Зачем бередить душу? Кто позволил выносить на общий суд то, что принадлежит только нам? Кто разрешил шарить по нашим портфелям, читать наши записки, собирать слухи и сплетни, кто в кого влюблен? У кого родители хорошо живут, а у кого развелись и почему? Наш завуч, как трудолюбивая пчелка, собирает этот нектар с каждого цветочка и не скупится поделиться с другими пчелками. И она имеет право спрашивать у меня, как я собираюсь жить?!
Вы помните, я попросила разрешения прочитать стихотворение. Надежда Прохоровна согласилась. Мне жаль ее. Мы узнали, она родилась в октябре, под знаком «весы», вот и старается сгладить, уравновесить, но она ж цыпленок против этой старой хитрой лисы Виктории.
Я прочитала Долматовского: «Всегда в порядке, добрые, приятные, удобные, они со всеми ладят и жизнь вдоль шерстки гладят… А я люблю неистовых, непримиримых, искренних, упрямых, невезучих, из племени колючих… Не берегут колючие свое благополучие, и сами лезут в схватку, и режут правду-матку!..» Вот я все и резала правду-матку, а чего добилась?
Так, может, лучше усвоить житейскую мудрость: помолчи и за умного сойдешь, молчание — золото???
Олеся Дубинина.
Вы обещала, что никому в школе не покажете то, что мы написали. Мы поверили. Но это в последний раз.
Скажите, можно ли человеку, обезумевшему от горя, сказать, что похороны его близкого друга всего лишь предлог, чтобы прогулять? Разве бестактностью и грубостью воспитаешь в другом человеке добрые чувства? А расправа, которую учинили нам на собрании с родителями? Я боялась посмотреть в их глаза. Такие жалкие они были, наши родители, униженные и оскорбленные. А Виктория Петровна находила и бросала им в лицо все новые и новые претензии и попреки. Меня прямо судорогами свело, когда она заорала: «А знаете ли вы, что ваши дочери встречаются на квартире у Столбова с мальчиками?» Моя мама спросила: «Что ж тут плохого, если девочки дружат с мальчиками?» Я видела, мама возмущена и волнуется. А Виктория Петровна ей: «Если вы не видите опасности, что девочки остаются с мальчиками без присмотра взрослых, то не удивляйтесь, если ваши девочки забеременеют». Какая гадость! Как нам после этого уважать ее?
У нас переходный возраст. Формируются наши взгляды, характеры, вкусы, отношение к жизни, а мы то и дело сталкиваемся с грубостью, цинизмом, лицемерием и фальшью. Может, это хорошо? Закалимся?
Слава Кустов.
Может, вам покажется странным, что я начинаю с мелочей? Но я вообще странный. Иногда вдруг становлюсьнервным. Особенно когда хватают за рукав и ни с того ни с сего посреди коридора пристают: «Что такое? Почему без сменной обуви?» А я как раз всегда меняю обувь. У меня запасные ботинки хранятся в тайном месте, чтобы не стянули. Простите за жаргон, но я никак не могу отучить себя от разных словечек. Так вот, я так привык с первого класса менять обувь, что теперь всю жизнь буду таскать за собой ботинки в мешочке. Но в тот раз я отнес их домой, чтобы мама сволокла их в мастерскую. Вы, наверное, не одобрите, что я попросил маму позаботиться о моих дырявых ботинках? Но сам я забыл бы это сделать, потому что я очень рассеянный. И тогда на меня кричали бы не один день, а всю педелю. Я объясняю нашему завучу: «Я первый раз без сменной обуви», а она будто не слышит: «Научились врать без зазрения совести!» А я как раз ужасно правдивый. Вы только не подумайте, что я хвастаюсь. Напротив, это мой самый крупный недостаток. Если бы я умел заливать, как один парень, который зачем-то приперся к нам в класс, то вполне вероятно, я тоже умел бы завораживать девчонок. Но я честный до ужаса, и именно поэтому мне никто не верит. Ну, и завучиха не поверила. «Ты вообще, — говорит, — все больше меня разочаровываешь». А я и не собирался ее очаровывать, тоже мне принцесса! «Ты, — говорит, — и куришь уже, наверное?» Спятила прямо! В жизни я не курил. «Не курю я», — объясняю человеческим языком. Не понимает. «Я видела тебя в туалете с курильщиками», — не стесняется, кричит на весь коридор про туалет. Я объясняю: «Я туда зашел по другим делам». Не верит. Вообще-то я пошел послушать, о чем «фаны» трепятся. Чепуха, но надо быть в курсе. «Фаны» припаялись: за какую команду болеешь? Ну, я им, как в старом анекдоте: мол, за себя болею. Ну, они и полезли, а Виктория приперлась на шум. Влип за истинную правду: ни за кого я последнее время не болею. Равнодушный стал, потому что никто меня не понимает, даже лучшие друзья. «Ты что, — говорят, — оглоблей подавился? Сохнешь по этой скелетине? Она и на женщину не похожа. Холодная, как лягушка». Будто они каждый день лягушек щупают, какие они холодные! Я объясняю: «Она умная!» А они: «Компьютер еще умнее». Свиньи, правда? Так я о чем? О сменной обуви. Разве правильно так обращаться с людьми?..
Господи! Как мне всё надоело…
Валерий Попов.
У меня со всеми хорошие отношения, и с ребятами, и с учителями. Я хочу, чтобы все у всех было хорошо.
Алеша Столбов.
Мир, в котором мы живем, ужасен. Все лгут, притворяются, тянут одеяло на себя. Даже учительница, молодая, симпатичная, и та прикинулась знатоком юных душ, втерлась в доверие, а сама всех закладывала завучихе. Навар? А просто: завучиха за услуги делала вид, что не замечает, как плохо она нас учит.
Все ищут выгоду. Влияние вещей настолько сильно, что некоторые теряют рассудок. Вещи, как Демон, преследуют нас! Я завидую монахам. Келья помогала им избавляться от мирских соблазнов. Но есть и другое спасение — РАЗУМ. Чем больше человек знает, тем трезвее смотрит на все, что его окружает, и это спасает. Моя наипервейшая цель — как можно больше знать. Вам покажется странным услышать такое признание из уст неуспевающего ученика. Но мне так скучно учиться в школе, что я не знаю, дотяну ли до аттестата?
Оля Киссицкая.
Человека в школе, какой он на самом деле, трудно узнать. Поэтому кратко о себе. Я из интеллигентной семьи, чем горжусь. В этой школе с первого класса, учусь на «4» и «5», французский знаю прилично, закончила музыкальную школу. Изучаю историю, философию, литературу дополнительно, помимо учебника, насколько это возможно. Свой класс не люблю, болото. Девчонки (три четверти) любят рассуждать о тряпках и парнях и т. д. Неинтересно, скучно. Я тоже люблю красиво одеться и хочу нравиться мальчикам, особенно тем, кого уважаю. Но замуж выходить не собираюсь, это помешает моей карьере. Эти рассуждения прошу не разглашать. Я еще могу изменить свои суждения, характер у меня противоречивый. И вообще несносный. Я самолюбива, тщеславна, эгоистична, честолюбива. Один мой знакомый из нашего класса пошутил недавно: «Мы любим всех, все человечество, но больше всего себя». Пожалуй, он, как всегда, прав.
Из моих хороших качеств хочу отметить, что я не жадна, доброжелательна, коммуникабельна. Дружбу со мной завести легко, но многие почему-то потом от меня отходят. Остаются те, кто одного круга со мною, — милые, интеллигентные люди.
Игорь Пирогов.
Прежде чем сказать то, что вас интересует, хочу представиться. Итак, что я люблю? Кого я люблю?
Люблю все новое. И кое-что из старого. Люблю Маяковского (из новых), Пушкина (из старых), Лермонтова, Северянина не люблю. Обожаю Хлебникова, но читал мало. Из художников люблю только новаторов: импрессионистов, абстракционистов, кубистов, дадаистов (особенно!), представителей pop’art, op’art, кинетизма, механического искусства, а также Руссо, Миро, Дали, Модильяни. Из старых только троих: «Брейгеля, Гольбейна-младшего, Боттичелли. Писателей люблю следующих: Достоевского, Тургенева, Михаила Булгакова (особенно), Владимира Орлова (чуть поменьше). Музыку очень люблю. Здесь уж должен признать, что старые композиторы ничуть новым не уступают. Моцарт и Вивальди — вот два любимейших. Еще очень люблю Веберна, Берга, Шенберга, Хиндемита, Джона Айвза, Родиона Щедрина, Эдуарда Артемьева, Вагнера, Римского-Корсакова, Стравинского, Баха, Джона Леннона и Пола Маккартни из «Битлз», братьев Джибб из группы «Би Джиз». Постарайтесь не смущаться и не возмущаться тем, что наряду с серьезными классическими и модернистскими композиторами стоят композиторы музыки рок, поп («Битлз») и диско («Би Джиз»), Для меня не существует никакой разницы между Хиндемитом и Полом Маккартни, то есть я их обоих люблю одинаково. Как, в общем-то, для меня нет разницы между классикой, джазом, модерн-музыкой, эстрадой. Везде есть свои талантливые и (скажу, хоть это будет непривычно) гениальные композиторы, даже в эстрадной музыке. Почти то же я могу сказать о живописи, о художниках: не важно, к какому течению ты принадлежишь. Важно, хорош ли ты как мастер, как личность. И что самое главное, ОРИГИНАЛЬНЫЙ мастер! О писателях скажу так же: самое главное, как ты преподносишь ту идею, которую закладываешь в свое произведение. Как ты пишешь, если писатель, а не просто выразитель идеи. В доказательство могу привести Николая Гавриловича Чернышевского. Его идеи честны и благородны, точны и умны, но какое занудство и беспомощность какая!.
Ну, а теперь мои отношения со взрослыми. Меня оскорбляет, что люди старше меня всего на пять-шесть (не более десяти) лет относятся ко мне и моим сверстникам как к детям. Еще больший разрыв происходит с поколением, чья молодость прошла во время правления Иосифа Виссарионовича Сталина. Эти люди не способны к решительным действиям, могущим дать результаты. Может быть, что-то сможем мы? Правда, есть среди нас такие, кто в поисках выхода из сложных жизненных ситуаций уходит в различные молодежные группировки: «фанаты», «пацифисты», «панки». Часть молодых, питая отвращение к фанатизму и прочим движениям, отходят в сторону, становятся аполитичны. Многие не понимают, что причины наших недостатков имеют глубокие корни в нашей истории, начиная от монголо-татарского ига и кончая годами репрессий и культа личности Сталина. Непонимание приводит к политическому безразличию. Но ведь это случается не только с ребятами, но и со многими взрослыми… На этом, позвольте, я закончу, а то залез уже в дебри.
Вениамин Прибаукин.
Когда мне приходится думать о будущем, я сопоставляю жизнь своих родителей со своими мечтами и не нахожу ничего хорошего в том, как они живут. Скучно. Размеренно. Радости мимолетные. Но больше огорчений. Ежедневные огорчения — не горе еще, но для себя я хочу иного. Чего? Не знаю, чего-то яркого, праздничного, чтоб радоваться. Долго думать я не умею, это меня утомляет. И представить себя в будущем не могу. Хотя на всех перекрестках кричат, что будущее человек себе строит сам. Чушь это! Сам никто себе такого бы не построил! Для взрослых все в этой жизни делится на черное и белое, оттенков они не видят. Сходишь в магазин, постираешь сестренке пеленки — ты хороший. А если у тебя есть личная жизнь — ты уже плохой. Ты еще маленький, у тебя нет жизненного опыта, ты делай все только так, как говорят они. Откуда же тогда возьмется мой опыт, если я не сделаю по-своему, а буду только исполнять?!
Объяснять взрослым хоть что-то — бесполезно. Ухожу куда-нибудь, меня спрашивают: «Когда вернешься?» Говорю: «Поздно». А мне: «Придешь в восемь!» Я отвечаю: «Хорошо», потому что иначе не отпустят. А прихожу поздно — на меня кричат: «Эгоист! Мы же договорились, волноваться заставляешь!» А по-моему, эгоисты они: не понимают, что мне хочется встретиться с ребятами или девчонкой. С девчонкой — не дай бог! Это, с их точки зрения, уже преступление. Начинают проводить «работу», будто сами не были молодыми… Бред какой-то…
Один древний греческий философ, не помню какой, сказал что-то вроде того, что нужно свернуть с проложенного пути. Пусть ты заблудишься, но зато сам найдешь дорогу к солнцу и свету. Пускай я буду спотыкаться и падать, но подниматься и идти вперед. Главное — идти. Своим путем. Не хочу правдами и неправдами в институт, хочу просто работать. И чтоб рядом были друзья и девчонка, которая мне нравится.
Юстина Тесли.
Я не хочу писать об учителях, вы же все знаете сами. У меня трудности дома. Я не могу любить и уважать свою мать только за то, что она меня родила. А воспитывали меня сначала ясли, потом детский сад — пятидневка, а теперь школа. Эти учреждения разъединили меня с матерью, и мы не понимаем друг друга. Отец у меня прекрасный, он врач, и даже ночью, если позовут, побежит к людям, а маму это бесит, она считает его дураком. Папу все благодарят, но денег врачам платят мало, а маме нужно много денег. И она все посмеивалась над ним, что не может заработать. Завела кавалера. Я хотела уйти с отцом, она не пустила… Нехорошо, что я рассказываю вам это, извините, но мне деться некуда: дома плохо и в школе не лучше… Извините…
Маша Кожаева.
Конфликты с родителями и учителями происходят, по-моему, из-за неумения взрослых общаться с детьми. Мне с родителями повезло. Отец воспитывал во мне самостоятельность в поступках и мышлении, чувство собственного достоинства и через это уважение к другим. Действуя, я не страшусь, что меня накажут. Но таких семей, где атмосфера доверия и дружелюбия, мало. Чаще родители за малый проступок наказывают, следят за каждым движением, но насилие влечет за собой обман. За двойки не пускают в кино — спрячем двойки. За сломанную вещь ругают — сожжем ее и скажем, что в глаза не видели. За курение бьют — спрячемся в подворотню. Родители не всегда имеют силы и время для воспитания, а воспитание учителей сводится к нотациям и окрикам. Человека в ученике не видят.
Когда я жила с родителями за границей, то познакомилась с картиной одного американского художника. Он изображает людей в виде консервных банок абсолютно похожими. Мне кажется, наша школа напоминает фабрику по производству таких консервов. Стоит ученику произнести какую-нибудь оригинальную мысль, ее называют глупостью, а ученика — выскочкой. Никто не пытается выявить своеобразие личности, вывести это своеобразие наружу. И мы привыкаем отвечать однообразно и вести себя однообразно. Хитрим и приспосабливаемся. А истинные чувства и мысли скрываем глубоко внутри. Если ты не болван, то быстро сообразишь, что от тебя хотят, что им требуется, и, чтобы жить без неприятностей, поступаешь по принципу: нате, получайте! И даже с ребятами отучаешься быть откровенным. А папа мне говорил, что откровенность — это счастье юности.
Наверное, мы несчастливое поколение, потому что не доверяем друзьям, а тем более взрослым. Взрослые, превратив нас по подобию своему в консервные банки с удобной для них начинкой, забыли приложить к этим банкам ключи и сердятся, что не могут открыть. На кого сердятся?
Оля Холодова ничего не написала.
Читая письменные исповеди своих учеников, Анатолий Алексеевич впервые представил себе их душевное смятение и был потрясен. Теперь, когда они не кривлялись, не жеманничали, не иронизировали — не защищались, обнажилась боль, и стало ясно, как же им тошно в их счетах с собственным «я» и с окружающим миром.
Бунтуя, они бежали от самих себя. Ненависть ко всему, что мешало им жить, желание избавиться от оков объединили их, но как же далеки они были друг от друга на самом деле.
Кто-то виноват в этом. Родители, которые внушили им, что они самые любимые, но не научили любить. Классные руководители, которые часто менялись. Виктория Петровна, так настойчиво стремившаяся к порядку, совершенно не нужному им для счастья. Бывшая директриса, «госпожа министерша», заботившаяся больше о показном, чем о настоящем.
Но и у вины всех виноватых были свои причины, своя вина. Не исследовав звенья этой сложной цепи, сделавшей всех — и старших, и младших — невольниками времени, не поймешь поведения ребят. И пожалуй, не объяснишь их теперешней жизни, если не попытаться увидеть каждого из них не только в сегодняшнем дне, но и во вчерашнем дне их семей, и даже на том далеком историческом пространстве, где не было ни их, ни их родителей, но уже рождалось их начало.
Как историк, Анатолий Алексеевич понимал, что это вовсе не простая задача.
Часть вторая. Смятение
1
Оля Киссицкая этой осенью отправлялась учиться со смешанным чувством радости, беспокойства и ожидания.
Лучшая ее подруга Ника Мухина ушла в школу с математическим уклоном. Боязно было оставаться без Ники, без ее твердого слова, поддержки, но зато теперь она, Оля, сможет играть главную роль и ее мнение станет ориентиром для класса.
Оля и Ника всегда были в центре внимания. Но первой Ника, после Оля, а Оле хотелось главенствовать. И оттого, что это ее нетерпеливое желание расходилось с действительностью, она раздражалась, нервничала. Но обижалась не на себя — недолюбливала класс.
Многие одноклассники не испытывали к ней симпатии. Пусть. Но без Ники никто больше не помешает ее отношениям с Игорем Пироговым, не скажет: «Твой Пирожок ни с чем!» А Игорь все больше нравился ей.
Чем хуже она Дубининой? Подумаешь, какая красавица, золотые волосы! Кроме тряпок, и говорить-то с ней не о чем. Счастье, что она Пирогова с его вздохами не замечает. Такой, как Игорек, ей не по зубам. Присохла к своему дурачку — шутничку Сережке Судакову, нравилось, что он классом старше. Но теперь, когда Судакова не стало, не заинтересовалась бы она Пироговым!
Оля понимала, что так думать скверно, совестно по отношению к трагически погибшему товарищу, да и к Дубининой, которая мается со своим страшным несчастьем. Но злой бес, словно нарочно, вселялся в нее, когда на пути ее желаний возникали препятствия.
Так случилось, что никогда не удавалось Оле увидеть себя прежде, чем взрослые сообщали ей, как она выглядит. Не успевала она оценивать свои поступки и слова раньше любящих ее старших и постепенно свое отражение в восторженных глазах стала воспринимать за самое себя, а восторги на устах близких — за истинные свои заслуги. И всякий раз чувствовала себя ущемленной, когда обнаруживала несовпадения.
Отец и мать Оли поженились еще студентами, и с первых же шагов семейной жизни попали в полную зависимость от своих родителей. Родительские пары, «старики», плохо совмещались друг с другом: опыт жизни, взгляды, привычки, ценности — все не совпадало. Оля осознавала уже связь между несложившимися отношениями взрослых и противоречивым своим характером.
С тех пор как она помнила себя, ей всегда казалось, что мосток, объединявший тот и другой берег, держится кое-как и вот-вот провалится. Мамины «старики», такие умные и образованные, ни с того ни с сего принимались вспоминать, сколько сделали для Олиного папы. Папа приходил в бешенство. И папины «старики» немедля возмущались и начинали перечислять, сколько вещей и продуктов перетаскали за время своего «оброка»…
Стоило только одним «старикам» подарить Олечке платье, как другие тотчас же тащили шубку. Только одни забирали девочку на дачу, другие немедля доставали путевку в лучший санаторий, куда пускали с детьми. Если кто-то восторгался остроумной фразой маленькой Оли, его тут же перебивали, восхваляя ее сообразительность или красоту.
Оля научилась ловко передвигаться по ветхому мостику. Повзрослев, она сообразила, что разногласия между «стариками» куда более серьезные, чем простое выяснение отношений: «кто больше — кто меньше?» или осуждение «нелепых» привычек: «В таком-то возрасте (имеется в виду бабушка мамы) и ходить в брючках, да еще порхать на лыжах». Или: «На таких-то приемах и не научиться правильно держать вилку (это уже о бабушке папы)».
Прислушиваясь к взрослым разговорам, Оля узнала, что мамин папа — ученый — обвиняет папиного и других, «таких как он», во всех недостатках нашей жизни, которых он подмечает немало. А папин «старик» — партийный работник, — волнуясь, доказывает, отстаивает и наступает на маминого с претензиями к «хлипким» интеллигентам. И чаще всего они не могут понять друг друга, когда вспоминают трудные времена — коллективизацию, тридцатые годы или послевоенные, а особенно когда говорят о культе личности и о «исторической неизбежности».
— Вы хотели создать монолит, вы заботились о равных правах для всех в коллективе, — горячится дед-ученый, — честь вам и хвала. Но личность… В агонии вашего дела вы презирали личность. Вы ее уничтожали годами, десятилетиями.
— Вы слепой человек, — возмущается дед — партийный работник, — разве когда-нибудь прежде были созданы такие условия для расцвета личности? Мы голодали, мы мерзли в голых степях, в тайге и болотах, возводя гиганты индустрии, дороги и электростанции. Разве мы не добились успеха? Разве не выстоял наш монолит в годы войны? А о своих ошибках мы сказали честно и прямо…
— Сказали?! — с досадой нападает дед-ученый, — Но скольких мы недосчитались?! Разве они помешали бы успеху? С ними мы двигались бы вперед куда быстрее и разумнее… И войну выиграли бы скорее, с меньшими потерями… Но войны не станем касаться. Это особое время: там ясно, где враг, где свой и против чего бороться, что защищать…
Оля всегда внимательно слушает «стариков», но не может определить, кто из дедов больше прав? Выходит, в одно и то же отпущенное для жизни время они жили по-разному. И теперь мамин «старик» почему-то попрекает папиного, будто именно он управлял событиями. А сам-то он где был? Почему не возражал, не вмешивался, если ему так все не нравилось? И что значат эти слова, такие страшные своей непонятностью: «роковое время», «историческая неизбежность», «история не рассчитана на одну человеческую жизнь»?..
Когда Оля думает об этом, голова становится тяжелой и хочется поскорее вышвырнуть непосильную ношу из головы, избавиться от всего необъяснимого…
Но в школе, в разговорах с одноклассниками она никогда не показывает свою растерянность, никогда. Напротив, свысока дает всем понять, что знает нечто такое из первоисточников, о чем все остальные и не слышали. И в зависимости от обстоятельств повторяет суждения то одного, то другого деда.
Домашняя атмосфера вечного раздражения и недовольства всех всеми лишила Олю способности любить и уважать. По-настоящему преданно и безраздельно полюбила она только себя, единственную.
Жадно надеясь на лидерство, Оля мучилась в догадках, отчего же победа, едва померещившись, ускользала от нее? Почему все не устраивается так, как она задумала? И теперь вот вперед вырвалась Холодова? И даже эти, Клубничкина с Дубининой, значат для ребят больше, чем она?!
Человек совсем не глупый, Оля путалась в простом, житейском, не догадываясь, что секрет всего, что с ней происходит, в ней самой.
Раздражаясь, все чаще в мыслях натыкалась она на новенького, Прибаукина. Ей казалось, что именно с появлением этого «преподобного Вениамина» и начались для нее все сложности. И она все больше настраивала себя против него.
2
Поначалу и всем остальным в классе Вениамин Прибаукин не приглянулся. Определили: «темный парень». Умные книжки его не интересуют, в искусстве не сечет, на французском как только рот откроет, все покатываются со смеху. Говорить с ним о высших материях, а в классе поговорить любили, просто смешно.
Но среди них, привыкших, что никому ни до кого нет дела, Венька казался добродушным и непривычно компанейским.
Веньке ничего не стоило сесть рядом с девчонкой и, обняв на глазах у всех, шептать ей на ухо что-то таинственное. Поначалу девчонки смотрели на него с недоверием, некоторые, как Киссицкая, презрительно, но Прибаукина это не смущало. Он невозмутимо и щедро разбрасывал комплименты, которые самыми неведомыми путями попадали все же на благодатную почву и давали недурные всходы.
«Ах, Маша, какой у тебя цвет лица, я падаю!», «Ах, Олеська, какой миленький у тебя воротничок! А глаза! Зовут и дурманят!» Что уж там, нравилось это девчонкам. И даже Холодова удостоила Вениамина рассеянной улыбкой, когда он, вроде бы ни к кому не обращаясь, громко сказал: «Ну, дева, ты у нас просто Сократ!»
Прозвища, не обидные, но очень точно бьющие в цель, с легкой руки балагура Веньки плодились одно за другим, как грибы после теплого осеннего дождя. Ольгу Яковлевну стали называть Аленкой, Олю Дубинину — Олеськой, Олю Холодову — Сократом или Соколей, производным от Сократа и Оли, а Олю Киссицкую не Кисей, как ее именовали прежде, а Цицей — в честь древнеримского философа Цицерона. Хитрый Венька чувствовал враждебность Киссицкой, но и ее он старался смягчить, угадывая, что этакой философствующей гусыне приятно получить имя философа и, не дай-то бог, не отстать хоть в чем-то от Холодовой.
Награждая прозвищами многочисленных Оль и Маш, Прибаукин как бы поправлял время, так охотно уравнивающее всех, даже в выборе имен. Шутовствуя, как и все на свете шуты, он точно чувствовал ситуацию и людей.
Правдоискательницу Машу Клубничкину умиротворял, называя Малинкой, Машу Кожаеву окрестил Мадонной, Игоря Пирогова, почитаемого в классе больше остальных мальчишек, возвеличивал князем Игорем или просто Князем, и Пирогову это льстило. В предшествующие годы он был всего-навсего Пирогом или Пирожком.
Не наградив Прибаукина иными дарованиями, природа полной мерой воздала ему в умении покорять и привлекать к себе, и Венька ловко пользовался этим даром.
Сразу сообразив, что тягаться интеллектом с Игорем Пироговым или с его ближайшим другом Славиком Кустовым, да и с девчонками, такими как Сократ и Цицерон, он не сможет, Прибаукин безмятежно заявил:
— Дружбаны, скучно вы тут живете! Занудь! Песок из вас еще не сыплется? Жить надо современно!
— Современно, это как? — ехидно кольнула Холодова. — Пить, курить и орать: «В Союзе нет еще пока…»?
Прибаукин не опешил, не отступил, как нередко случалось это с другими в разговорах с Сократом, сказал простодушно:
— Ну, детка, ты меня удивляешь! Вроде ты и Сократ, а в банановых рощах путаешься! Современные девочки, детка, вместе с аттестатом зрелости волокут предкам тяжелый животик. Ты как насчет этого?
С Холодовой так развязно никто никогда не общался, и все замерли, не понимая, что последует за этим. Оля-Сократ будто смутилась, но если и так, то всего на мгновение, а в следующее прищурила холодноватые, острые глаза и бросила язвительно, как только она умела:
— Ну, Веник, — она тоже не промахивалась с прозвищами, — с тобой все ясно. Ты работаешь в облегченном весе. — И сразу ушла с выражением победоносной иронии на невозмутимом лице.
Больше Прибаукин никогда к ней не цеплялся, и она его не трогала, сохраняли устраивавший обоих нейтралитет.
Прибаукин не был похож ни на кого из мальчишек, учившихся в их классе, всякий раз он оказывался другим и всегда неожиданным.
Огромные часы, почти компас, надетые поверх рукава Венькиного школьного пиджака, сразу обратили на себя внимание. Даже те, у кого были свои часы, невольно обращались к Вениамину: «Сколько натикало?»
Он с невозмутимым видом отвечал:
— Десять копеек.
— Такие шутки? — взбесился Пирогов, первым попавшийся на удочку.
— Хочешь знать, сколько времени, гони десять копеек.
— Ты что, озверел? Такого я еще не слышал.
— Ну вот, детка, теперь услышал. В жизни, детка, за все надо платить. И скажи мне спасибо за науку.
— Ну, и скотина же вы, месье, — разозлился Пирогов и отошел в сторону.
— Не шурши! — прикрикнул на него Вениамин. — Для вас же стараюсь, понимать надо. Соберутся монеты, пойдем в кафешку. У вас тут классный гриль-бар рядом. Побалдеем!..
А потом, как-то само собою, Венькина затея превратилась в занятную игру:
— Веник, который час? Давай лапу, хватай свои десять! Как поживает твой бармен?..
Когда Валерик Попов, комсорг класса, спросил у Вениамина, не собирается ли он вступить в комсомол, Венька изобразил такое искреннее изумление, будто интересовались, не полетит ли он в космос?
— Я? — переспросил он. — Ну, что ты, детка, зачем мне это? В институт поступать мне ни к чему, карьера меня не колышет, а в работяги меня и так допустят. Пахать и вкалывать у станка кто-то должен. Это буду делать я. Приумножать силу и могущество нашей великой страны. Смекнул, Попик? — И он снисходительно улыбнулся Попову, а заодно и Пирогову с Кустовым.
Попова, отличника и тихоню, самого примерного в классе ученика, Попиком никто не называл. Он был просто Валериком. Ну, а последнее время к нему вообще редко обращались. Выбрали комсоргом за прилежание, ну и вкалывай, и помалкивай! Тут же все вдруг будто заново взглянули на Попова и увидели, что он и вправду похож на попика: такой голубоглазый, чистенький, смиренный.
Почувствовав всеобщее напряженное внимание, Валерик шумно глотнул и болезненно улыбнулся, а Пирогов с Кустовым многозначительно переглянулись: поняли, что прежнее равновесие в классе нарушается и их лидерство может пошатнуться. Не сговариваясь, они отошли в сторону, а вслед за ними и Киссицкая. И уже в кругу близких ребят Пирогов, картинно покашляв в кулак, уронил фразу, которая не должна была оставаться тайной для Прибаукина:
— Господа, этот человек не нашего круга.
Все услышали, и Венька услышал. Но не подал виду. Обнял Дубинину и потянул за собой. Это было его ответным ударом. Все в классе знали, и Прибаукин сразу разобрался, что Пирогов давно и безнадежно влюблен в Олеську. Притворяется, что его девчонка Киссицкая, знает, что она от него без памяти, но кого-кого, а Веньку Прибаукина не проведешь. Венька, как самая чувствительная мембрана, способен улавливать настроение окружающих людей. И он давно сообразил, что «фанская» трепотня в этом классе не проходит. Захватывать передовые позиции тут придется иными путями. И он искал единственно возможный для себя путь.
Венька нисколько не сомневался, что красив и строен и девчонкам нравится. Его манера сидеть развалившись, далеко вытягивая длинные, сильные ноги, неторопливо подниматься и передвигаться лениво привлекала внимание. И шептание на ухо всякой чепухи явно производило впечатление. Тут Прибаукин не имел соперников и всегда оставался в простодушном недоумении, отчего это многие его одноклассники теряются рядом с девчонками? Ему смущение было неведомо. И он все настойчивее утверждался в мысли преуспеть на дамском, фланге уже развернувшегося сражения за лидерство с Пироговым, Кустовым и другими «умниками». В таком тонком деле ему без своей команды, без «своих», которые за тобой в огонь и в воду, не обойтись. И он действовал не спеша, приглядываясь к ребятам, трезво оценивая все хитросплетения в их отношениях.
Дубинина и Клубничкина, без всякого сомнения, свои. Олеську он знал и раньше: видел как-то с Судаковым в одной «фанской» компании и запомнил. Ее нельзя было не заметить и не запомнить — шикарная девчонка! Только она и теперь, после гибели Сережки, остается все же его девчонкой, а он не хотел выглядеть свиньей.
Маша Клубничкина, в общем, девчонка в порядке, но толстовата, а Вениамин не выносил толстых женщин.
Ну, Холодова с Киссицкой — эти для него слишком умны и языкасты. О чем с такими говорить и как вести себя, он не знал и быстро утешился тем, что умные бабы и не бабы вовсе.
Из тех, кто еще выделялся сразу, он приметил Машу Кожаеву. Кожаева приехала из Парижа, жила там с родителями с четвертого класса, кое-что повидала, записи у нее классные, и понимает не меньше Сократа с Цицероном, но не держится так заносчиво, скромная! Вот если бы не такая худющая, и грудь не дощечкой… Европейская женщина! Но ему это не по вкусу. Мадонна!.. На нее только молиться…
В выборе девчонки для себя он остановился на Юстине Тесли. Все Оли да Маши — жертвы моды, а она — Юстина. Можно Ю, в этом что-то есть. И молчаливая, застенчивая, спокойная. Ее и Сократ с Цицероном в свою компанию принимают, и Олеська с Малинкой не против нее, а она держится все же отдельно от всех, сама по себе. За внешней кротостью и даже покорностью Венька, знаток человеческих душ, почувствовал душевную силу и обаяние. Симпатичная девочка и вниманием поклонников не избалована. Тем лучше, она станет его открытием! В том, что Юстина не отвергнет его притязаний, Венька не сомневался. Она прямо трепетала, когда он подсаживался к ней или во всеуслышание заявлял: «Эта Ю для моего Я!»
Попик смотрит на него во все глаза, рот забывает закрыть, улыбается ему, все улыбается и улыбается, будто на всякий случай. Позвать — побежит, пожалуй. Если не за ним, так за Клубничкиной. Малинка ему, бедненькому святоше, ой как нравится, но он ее боится, он и себя, наверное, боится, мамин мальчик. Еще один любимый сынок к нему липнет — Алешка Столбов. Этого «умники-господа» почему-то не жалуют. Вот и компания, и о’кэй!
3
Возникало только одно затруднение: где собираться? У Веньки нельзя. Раньше отец сильно пил и, пьяный, кидался на мать и на Веньку, кричал так, что слышали соседи: «Сотру в порошок!» Маленький Венька ужасно трусил, что отец и вправду превратит их с матерью в порошок. А когда подрос, то жил в вечном страхе, что кто-нибудь из ребят увидит отца шатающимся и орущим. Мать же, как назло, настояла отдать Веньку в языковую школу, чтоб «рос среди хороших, интеллигентных ребят» и не пристрастился к «дурным привычкам». У матери была своя программа воспитания.
Сразу же, как только от цирроза печени отец умер, мать вышла замуж. За морского офицера, родственника какой-то приятельницы, которая позаботилась о ее судьбе. Офицер редко бывал дома, больше плавал на своем корабле, а когда возвращался, то не привозил с собой свежего ветра странствий и почти ничем не изменял размеренного хода их скучной жизни. Разве только тем, что появилась у Веньки сестренка, глазастая и горластая.
Сестренку Венька полюбил, хотя и прибавилось хлопот с ее появлением. Как позовешь друзей, когда в доме грудной ребенок?! Напрашиваться же к кому-то Веньке не хотелось. Он же для всех устраивает праздник. И он ломал себе голову, как быть, пока не вспомнил о Столбовых, о том, как они явились в школу всей семейкой.
Не сумели вовремя прийти на родительское собрание, где всех ребят перед родителями отчитывали и, убоявшись нового директора, Надежды Прохоровны, приползли на другой день. Венька упал прямо со смеху, когда мамочка Столбова, прихватив Надежду Прохоровну в коридоре, без всякого стеснения, что их слушают Алешкины одноклассники и знакомые, стала объяснять, кто они такие:
— Мы Столбовы, мы еще не успели вам представиться. Вы, конечно, видели фильмы моего мужа?..
Надежда Прохоровна загадочно улыбалась, и Венька подумал: «Небось никаких фильмов этого Столбова не видела, но ни за что не признается». Кивает головой и улыбается, а мать Алешкина все верещит и наступает на директрису, умора да и только!
— А я — Пыжова! Пыжова! Надеюсь, вам мое имя знакомо? Я актриса, театра и кино… Наш Алешенька… Он переживает переходный возраст. Это пройдет, а так, поверьте, он очень способный мальчик… Он имеет склонность стать режиссером, как папа…
Венька знал уже, что «режиссер» с трудом переползает из класса в класс, и ему противно было слушать всю эту трепотню и видеть, как актриса, дурочка какая-то, унижается перед директрисой.
«Такие родители, — мелькнула тогда догадка, — для своего раскормленного тюфячка в лепешку расшибутся». Теперь эта мысль стала обрастать всякими существенными для данного случая подробностями. Нельзя ли у этих Столбовых собраться?
Алешка постоянно увязывался за Венькой на стадион, не против был поорать в вагоне метро: «Динамо»? Не-е-т! «Ливерпуль»? Не-е-ет! «Спартак»? Да, да, да! В Союзе нет еще пока команды лучше «Спартака»!»
Как-то после одной из «фанских» встреч Венька напросился к Столбовым в гости, хотел своими глазами оценить великие возможности, которые мог подарить этот дом. И старался, обольщал маму-актрису.
— О, этот ваш фильм «Оазис в пустыне»! Это шедевр! Это смелая попытка смешения жанровых и драматургических структур! Какое воссоздание среды, человеческих характеров, взаимоотношений, атмосферы времени!
Пыжова посмотрела на него с изумлением, а когда он принялся беззастенчиво нахваливать исполнение ею главной роли, то и вовсе прослезилась:
— Ах, мальчик, как тонко ты чувствуешь искусство!
— Вы были просто божественны! Вы превзошли себя! Какая яркая напряженность! Какая трансформация характера от комического гротеска до высот трагедийного звучания! — Венька немало потратил времени, чтобы заучить фразы из газетных рецензий, как стихи из школьной программы, и теперь уверенно завоевывал симпатии и доверие.
— А в театре, в театре ты меня видел, мой мальчик? — с восторгом умиления спрашивала актриса.
И юный обольститель, не задумываясь и не теряясь, сообщал, в какой «неописуемый экстаз» привел его спектакль, который он никогда не видел и о котором впервые услышал от самой Пыжовой в школьном коридоре.
— Алешенька, я давно мечтала, сынок, о таком друге для тебя! — красивым грудным голосом пела мама-актриса. — Ах, Вениамин, Вениамин, я буду рада всегда видеть вас в нашем доме…
Прибаукин улыбался, и хотя вполне добился успеха, все же не останавливался — ему понравилось завоевывать:
— Ну, что я такое? Вот ваш Алешка… Я дилетант, невежда, а он… почти профессионал… И какой умница!..
Прибаукин понимал, что никакая мать, а эта тем более, не устоит перед похвалами сыну. Трудно предположить, насколько затянулась бы эта беседа, если бы Алешка, такой добродушный, вдруг не взбесился.
— Кончай травить! — заорал он неожиданно. — И ты, ты тоже мотай достигать высот трагедийного звучания!
— Боже! — воздев холеные руки к высокому лепному потолку, воскликнула Пыжова. — Когда же наконец канет в небытие этот подростковый возраст?!
Вениамин задушил в себе улыбку и стал поспешно прощаться, почтительно раскланиваясь…
4
Вскоре компания собралась у Столбовых. Венька приказал всем не возникать, то есть вести себя благовоспитанно. Это входило в его планы дальнейшего завоевания.
Смотрели фильмы, отснятые семейством Столбовых в поездках по стране и за рубежом. Слушали музыку, записанную на отличной японской аппаратуре, танцевали.
Венька, пообещав праздник, поражал всех необычными яствами. Строгал яблоки, парил их в эмалированной кастрюлечке, добавлял варенье, мороженое, которое заботливо прихватил по дороге, и получалось нечто воздушное, великолепное. Фруктовые коктейли искрились в хрустальных бокалах и странно возбуждали, даже пьянили. Хотелось сидеть близко друг к другу, смотреть в глаза, шептаться, молчать, танцевать при свечах. Так Венька и задумывал, невидимыми, но вполне реальными нитями соединяя своих.
Для хозяина дома пригласили Машу Кожаеву. Она Алешке нравилась, Венька и это успел заметить. Маша пришла с радостью. Венька знал: она пытается восстановить прежние дружеские отношения с Клубничкиной. Пока Маша Кожаева не уехала с родителями в Париж, они жили в одном дворе, ходили в один детский сад и в первых классах сидели за одной партой. Но теперь Дубинина не подпускала Кожаеву к Клубничкиной, словно Клубничкина за эти годы превратилась в личную собственность Олеськи. Хитрый Венька все учитывал.
Была и козырная карта в его игре. Венька надеялся, что Кожаева расскажет «умникам», как провела время с Прибаукиным и его друзьями. Этого больше всего хотелось Веньке, и он чистил для Кожаевой апельсины, называл Мадонной и всячески обхаживал. Он всегда знал, что делает.
Все так и сложилось, как он задумал. Простодушная Маша Кожаева, не подозревая своего участия в интригах, рассказала Киссицкой и Холодовой о Венькиных коктейлях, о танцах при свечах и о фильмах, которые снимали в поездках Столбовы. И, что поделаешь, ничто человеческое оказалось не чуждо нареченным Цицерону и Сократу, не устояли они против прибаукинской хитрости. Они привыкли быть самыми умными и самыми способными в классе. Но и во всем другом, они считали, имеют право быть первыми. Пусть Дубинина и Клубничкина выглядят старше и дружат с мальчишками из старших классов. Старшие их не касались. В своем же классе все мальчишки, которых они выделяли, всегда были в их компании, с ними и ни с кем больше.
Киссицкая, не медля, собрала у себя Игоря Пирогова, Валерика Попова, Славу Кустова и Холодову, из-за которой Славка окончательно потерял голову. Позвали и Машу Кожаеву. Живя в Париже, Маша путешествовала по Италии, Турции, Голландии, отовсюду привезла интересные книги, записи, диски и занятно рассказывала обо всем, что видела. Но главное, Киссицкой не терпелось показать Кожаевой, как, в отличие от Прибаукина и Дубининой, общаются люди их круга. Пусть сравнит и доложит Прибаукину.
В тот вечер они говорили о передаче мыслей на расстоянии, об экстрасенсах, о спиритизме, об общении с душами усопших и о переселении душ. В последнее время это многих занимало, и они искали литературу, расспрашивали всех, кто хоть что-то знал об этом. Игорь рассказал о гипнотизере, который на глазах у большого зала совершал чудеса. Знакомые его родителей видели, как этот человек внушил всем, кто пожелал выйти на сцену, что они находятся в саду с апельсиновыми деревьями и никто их не видит. Немолодая женщина вдруг вскочила со стула, бросилась к предполагаемому дереву, буквально сдирая с его веток апельсины и жадно заталкивая их в воображаемую сумку. Парня, едва умевшего играть на пианино, гипнотизер заставил представить себя Листом и исполнять сложнейшие музыкальные произведения. Девушка под гипнозом возомнила себя англичанкой, бойко говорила по-английски, а вопрос, произнесенный на ее родном, русском языке, не поняла.
— Подкорка наша дремлет! — с восторгом заключил Игорь, — Если ее разбудить, раскрываются потенциальные возможности. И они огромны! Разуверившемуся в себе музыканту можно втолковать, что он гений. Язык учить не так, как мы долбим. Лечить болезни, пьянство и всякое свинство, вроде этих апельсинов…
Маша Кожаева, которая давно и всерьез увлекалась биологией и прочитала какие-то французские книжки, стала рассказывать об экстрасенсах. Маша утверждала, что сенсы способны не только передавать биоэнергию и лечить ею, но еще и чувствовать структуру всей Земли, обнаруживать «биопатогенные» зоны, несущие болезнь и неприятности людям. Уверяла, что некоторые — их называют «духовными астронавтами» — ощущают весь океан мирозданья в целом и знают, что у нашей старушки-Земли чудовищная аура. Она пропитана низменными человеческими инстинктами и думами. Такое осквернение Земли то же преступление, как и загрязнение воздуха, но только с этим пока еще не ведется борьба, потому что не все верят.
— Может, и правильно делают, что не верят? — усомнилась Холодова. — Бредятина все это.
— Вот-вот, — отозвалась Маша. — Один француз приблизительно так и пишет: мою бессмыслицу понять нетрудно, если вы уделите ей такое же внимание, с каким относитесь к чтению списка танцовщиц.
Игорь настолько внимательно слушал Машу Кожаеву, что хозяйка дома заволновалась, села за пианино, взяла несколько аккордов и заиграла Листа, бросив вскользь:
— Кстати, о гипнозе, исполнять Листа довольно сложно.
Холодова посмотрела на подругу насмешливо. Она сразу разгадала хитрость Киси, но промолчала. Киссицкая, перехватив ее взгляд, не решилась дольше утомлять всех своей игрой. Ей достаточно было вернуть себе общее внимание.
Киссицкую не сильно волновало загрязнение психической атмосферы Земли, зато не терпелось потанцевать с Игорем. И Игорь танцевал с нею. Подсел, когда пили чай. Все шло, как Оле хотелось: велись умные разговоры, Игорь от нее не отходил, всем все нравилось. И Дубинина с Клубничкиной, как и было задумано, узнали об этом!..
Класс с головой погрузился в нехитрые «игры» и совершенно перестал заниматься.
Завуч Виктория Петровна чувствовала, что страсти бурлят. От ее вездесущего взгляда не ускользнуло, что Пирогов дурачится на уроках ради Дубининой, а Киссицкая в такие моменты особенно зорко следит за Пироговым. Кустов из-за Холодовой не вылезает из троек, хотя раньше был отличником. Попов, самый примерный мальчик, вздыхает возле Клубничкиной, а из-за этой девочки, так она считала, уже пострадал любимый ее ученик, Саша Огнев, которого родители забрали в другую школу. Но больше всего ее тревожили отношения Прибаукина с Тесли.
Однажды, внезапно явившись на географию во время учебного фильма, Виктория Петровна увидела в темноте, что Прибаукин обнял и поглаживает Юстину. От возмущения завуч вскочила с места, бросилась зажигать свет, закричала: «Развратники! Мелкие развратники!» Никто ничего еще не сообразил, а она, задыхаясь от волнения, приказывала, чтобы явились родители Тесли и Прибаукина, и, хлопнув дверью, поспешно удалилась.
Юстина сидела красная, низко опустив голову, но географ погасил свет и принялся снова показывать свое учебное кино. Венька же и на этот раз не растерялся. Все видели, даже в темноте, как он снова обнял Юстину за плечи и громко, чтобы все слышали, сказал:
— У нас любовь. Мы, дружбаны, не можем сдерживать свои чувства, извините. Вопрос считаю закрытым.
Кому-то это было безразлично, а некоторые девчонки тайно завидовали Юстине.
Родители Прибаукина и Тесли в школу не пришли. У Прибаукиных из-за маленькой сестренки телефон часто отключали, а мать Юстины оказалась в очередной командировке. Все могло забыться, но Виктория Петровна не умела вовремя сдержать себя, ей не терпелось узнать, как далеко зашли отношения у Тесли с Прибаукиным? Завуч всегда чувствовала себя особенно ответственной за все, что происходило в стенах школы. И она намекнула Ольге Яковлевне, что неплохо было бы выяснить, «что там у юной пары»?
5
Ольга Яковлевна не настолько была глупа, чтобы не понимать, как плохо ведет она уроки физики. Путается в определениях, то и дело сбивается, объясняя урок, не может получить нужного результата в опытах. И она всячески задабривала Викторию Петровну. Заигрывала она и с учениками, пытаясь стать для них своею, доверенным лицом. После уроков она приглашала ребят в крохотную комнатушку-лабораторию позади кабинета физики, позволяла там покурить, обсудить школьные сплетни, посмеяться над Викторией. Все без лишних церемоний, по-братски, намного ли она была старше их?..
Ребята охотно к ней потянулись, а кое-кто из девчонок доверил ей и личные тайны. Но без конца перемывать косточки друг другу и учителям скоро ребятам наскучило. Ничего любопытного Ольга Яковлевна не знала, и постепенно теплые отношения угасали. Да еще все более очевидным становилось, что многое из сказанного доверительно Ольга Яковлевна докладывает завучу, выслуживается.
Как-то, зазвав к себе в лабораторию Прибаукина, классная вроде бы невзначай поинтересовалась: что же произошло на географии?
Венька взорвался:
— На географии, — процедил он сквозь зубы, — ровно ничего не произошло! Хотя ужасно хочется, чтобы что-то произошло. Я за свободу любви, а ты, Аленка? — Он впервые обратился к учительнице на «ты» и в глаза назвал ее Аленкой.
Ольга Яковлевна вспыхнула, заметалась, ударила Веньку по щеке и сама себя испугалась. От неожиданности Венька пошатнулся, но устоял, сказал, посмеиваясь:
— Нехорошо бить детей. Телесные наказания в школе давно уже осуждены общественностью, — и вышел из лаборатории, оставив Ольгу Яковлевну наедине со своими горькими мыслями.
На следующий день Прибаукин не подавал виду, что между ним и Ольгой Яковлевной что-то случилось. Ольга Яковлевна тоже будто не хотела ни о чем вспоминать. Вызвала Прибаукина к доске, поставила ему «четверку» хотя Венька отвечал невпопад, даже на наводящие вопросы. По физике он так отстал, что и при хорошем-то учителе вряд ли смог бы догнать товарищей.
И теперь все еще могло обойтись, если бы не Виктория Петровна. Как, действительно, удавалось ей поспевать к месту всех школьных происшествий?!
На переменке она придралась к Юстине:
— Опять распустила волосы! Начинается все с распущенных волос, а кончается распущенным поведением. Свободной любви им захотелось, ишь чего! Есть с кого пример брать…
Подумав, что Виктория Петровна намекает на поведение ее матери, которая разошлась с отцом и привела в дом молодого мужа, Юстина будто вросла в пол. Виктория Петровна могла растоптать кого угодно. Ответить ей Юстина не умела, и завуч именно поэтому приставала к Тесли больше, чем к остальным. Однако из того, что сгоряча прокричала Виктория Петровна, стало ясно, что Ольга Яковлевна все же донесла завучу на Прибаукина. Откуда же иначе это упоминание о свободной любви?..
Венька на переменах вечно мотался где-то по школе со своими «фанатами», но как только узнал обо всем, пришел в ярость. Опрометью бросился он к кабинету физики и вдруг вернулся. Объяснил:
— Время не вышло. Подождем. Когда у нас физика?
На физике, которая оказалась последним уроком, Прибаукин тянул руку выше всех.
— Я так хочу ответить, так хочу…
Ольга Яковлевна его не вызывала, чувствовала недоброе. Но Прибаукин мешал ей, и она не выдержала, сдалась. Медленно поднялся Вениамин со своей парты, как всегда неторопливо, проплыл к доске и, неожиданно резко повернувшись к Ольге Яковлевне, размахнулся и со всего маху… нет, не ударил, сделал вид, что бьет по щеке. Рука проскочила мимо, но все увидели страх в глазах учительницы.
— Не обижайся, Аленка, — в наполненной ужасом тишине сказал Прибаукин. — Ты преподала мне урок, я его запомнил и ответил тебе. Теперь все о’кей, мы квиты. Учителей не полагается бить по щекам, но и учеников тоже не полагается…
Ольга Яковлевна заплакала в голос и, обхватив голову руками, выбежала из класса. Тишина продержалась еще секунду и взорвалась невообразимым шумом. Все вскочили со своих мест, зашумели, перебивая друг друга. Большинство поддерживало Веньку, оправдывало его. Говорили, что Ольга и вправду двуличная. Вызывает ребят на откровенность, а потом все доносит Виктории. И учит плохо. Но Маша Кожаева не соглашалась. Она защищала Ольгу Яковлевну, говорила: «Подумайте, каково ей теперь? Подумайте!» И Кустов тоже жалел классную, говорил, что Виктория ей не простит, если узнает. Как она будет все объяснять Виктории?
И тут, как всегда, Холодова расставила все по местам:
— Ничего она объяснять не станет. Скажет, что мы сорвали урок. Подумаешь! Разом больше, разом меньше, какая невидаль! И вообще пошли отсюда поскорее. Дел по горло, а мы тут развели детский сад. Это ты, детка, — обратилась она к Вениамину, скривив рот в иронической усмешке, — запутал всех в вопросах своей свободной любви, — и ушла, помахивая портфелем.
В тот день шел ужасный дождь. Несколько ребят во главе с Прибаукиным забрели в подъезд, чтобы обсудить, как Венику вести себя дальше. Тогда они и попали в милицию.
6
Вечер, которого так настойчиво добивались всем классом, теперь пугал Киссицкую. Будет ли она достаточно привлекательна? Удержит ли подле себя Игоря?
Ей удавалось, не на всех уроках, но все же, сидеть с Пироговым. Не однажды он расшаркивался перед нею и на глазах у всех церемонно целовал руку или переносил портфель из кабинета в кабинет. На переменах Князь, как теперь его величали, охотно вступал в бесконечные философские разговоры и будто ни на кого, кроме нее, не обращал внимания. Но ей случалось все же перехватить странный взгляд Игоря, обращенный к Дубининой. Это постоянно держало Киссицкую в напряжении.
На вечер она возлагала большие надежды и готовилась к нему загодя. Бабушка со стороны мамы подарила ей отличный костюмчик — фирма! Мама ради такого случая разрешила надеть свое ожерелье. Туфель подходящих не было, но бабушка со стороны папы по телефону приняла заказ, и туфли появились, самые модные.
Ольга придирчиво оглядела себя в зеркало. Волнистые светло-каштановые волосы, веселые карие глаза, чуть вздернутый носик… Вполне приятное, живое лицо! Пусть не такое красивое, как у Дубининой, но и не такое неподвижное. Но фигура, чего уж, у Дубины была что надо. Правда, Дубиной ее никто, класса с четвертого, не называл, красота все же великая сила и по-своему защищает человека. А вот ей не мешало бы похудеть. Но как? Голодать? Бегать? Заниматься физическим трудом? Стоило, наверное, попробовать. Но насиловать себя она не привыкла. Зачем ей лишаться удовольствия съесть пирожное или булочку? Чушь, тащиться на стадион в то время, когда можно поваляться на диване с умной книгой! Кто-то говорил, что человек за свою жизнь в состоянии прочитать всего две-три тысячи книг, а их столько, самых разных и интересных!
Оля покрутилась еще возле зеркала и подобрала волосы кверху. Все должно быть иначе, чем у Дубининой, у которой волосы рассыпаются по плечам. Зато такой, как у нее, костюмчик Дубине и не снился! И такого ожерелья у нее нет, и туфель. Пускай смотрит!
В школу Оля пошла пешком, вдоль бульваров, не спеша. Они жили в прекрасном старинном доме, как теперь говорят, с архитектурными излишествами, в просторной профессорской квартире деда, и в новый район, как другим, им перебираться не пришлось.
На воздухе у Киссицкой становился лучше цвет лица, да и прийти на вечер она наметила с опозданием. Слушать дурацкую лекцию о правонарушениях среди подростков и молодежи, на которой настояла Виктория, Оля не собиралась. Пусть там все уляжется, образуется, и тогда войдет ОНА!
Оля Киссицкая постоянно проигрывала оттого, что в центре любого события видела только себя. В зале было жарко, душно, и ей сразу же стало не по себе в плотно облегающем костюме.
Гремела музыка, перемигивались цветные огоньки в лампах на стенах. В парном воздухе, подчиняясь власти ритма, исступленно метались взбудораженные ребята. Появления Киссицкой никто не заметил.
Оля поискала глазами Игоря, но увидела только Машу Клубничкину, танцующую с Огневым. Маша сияла.
В другой раз Оля ни за что не удостоила бы Клубничкину вниманием, но теперь протиснулась к ней, спросила непринужденно:
— Не знаешь, где Холодова?
— Тебе лучше знать, — не прекращая танца, огрызнулась Маша. — Говорят, не хочет зря тратить времени. — И уже насмешливо добавила: — А твой голубок воркует вон там, в углу, возле Дубининой…
Оля похолодела. Изо всех сил стараясь не выдать волнения, не доставить удовольствия Клубничкиной, она выдержала паузу и стала энергично выбираться из толпы.
В углу, куда небрежным кивком указала Клубничкина, чуть привалившись к стене, стояла Олеся Дубинина. Взгляд ее был отрешенным, словно она внутренне отделила себя от диск-жокея, музыки и этого буйного веселья не видимой для посторонних преградой.
Черное платье, совсем простое и вместе с тем изящное, подчеркивало стройность ее фигуры. Украшений Олеся не носила. Ее украшением были золотистые волосы, свободно и легко струившиеся по плечам.
Дубинина никогда не вела оживленных бесед с одноклассниками и, как казалось Киссицкой, едва шевелилась. Но что-то, знать бы что, притягивало к ней мальчишек. И теперь возле нее толпились и Пирогов, и Кустов, расстроенный отсутствием Холодовой, и Попов, и даже — кто бы мог подумать! — Анатолий Алексеевич. В этой компании Киссицкая обнаружила и Машу Кожаеву, она переговаривалась с Анатолием Алексеевичем, смущенно улыбаясь.
Киссицкая приблизилась к ребятам, бросила небрежно: «Привет!», поздоровалась с Анатолием Алексеевичем и сделала вид, что слушает диск-жокея, в музыкальных паузах кратко рассказывающего об ансамблях и исполнителях. Когда он замолчал и снова хлынула музыка, Киссицкая, встав так, чтобы всем хорошо было ее видно, сказала:
— Не очень-то интересно, не знаете, кто это?
— Какой-то сотрудник из института наших шефов, — отозвался Попик. — А что? Мне нравится…
— Ну, лучше, чем ничего… — оценила Киссицкая с добродушием человека, привыкшего чувствовать превосходство. — Но музыка же не возникает сама по себе. Панк-музыка! А кто такие панки?
— А кто такие панки? — передразнил Киссицкую подоспевший Прибаукин, волоча за собой Юстину. Оба они разрумянились от бурных танцев, и счастьем светились их лица.
— Панки, — покровительственно пояснила Киссицкая, — на Западе выступают против общества. Они и в музыке объявляют свою самостоятельность, независимость от остальных. До них выступали хиппи — протестовали против городской культуры, звали в поля. А еще раньше были «сердитые люди», которые бунтовали против своих высокопоставленных родителей…
— Да что ты? — нарочито удивляясь, уставился на Киссицкую Прибаукин, — Какая ты, Цица, у-у-умная! Просто жуть! Даже мурашки бегут по коже! — И другим тоном, резко и с раздражением: — Пошла бы ты… потряслась. Или никто не клеет?..
Оля вспыхнула, но улыбнулась снисходительно:
— Балда ты, Веник!
— Я-то балда, — согласился Веник, — но вот Князь… — Он сделал перед Пироговым реверанс, согнувшись и помахивая у ног воображаемой шляпой. Все заулыбались, а Игорь, услышав, что обращаются к нему, встрепенулся… Но тут Дубинина внезапно произнесла:
— Расстегнулось, — и едва повела рукой в сторону Киссицкой.
— Что расстегнулось? — растерялась Киссицкая.
— Пуговка расстегнулась, — невозмутимо пояснила Дубинина, — На костюмчике. Говорят, ты сало любишь?..
— Ха-ха-ха! — загрохотал Прибаукин, заражая всех своим смехом. — Один ноль в пользу Олеськи.
Оля почувствовала, что она уничтожена. Ей бы повернуться и уйти, но не хватило духу оставить Игоря возле Дубининой. Она презрительно ухмыльнулась и ответила только Прибаукину:
— Ноль — это ты, Веник, — И, не взглянув на остальных, обратилась к Пирогову: — Игорь, можно тебя на минутку?..
Пирогов нехотя оторвался от стены, которую, казалось, продавливал спиною, и, жестом объяснив присутствующим необходимость отлучиться, последовал за Киссицкой.
— Тебя устраивает общество этих куриных мозгов?! — Кися наступала и нервничала, стремясь подальше увести Пирогова.
— Ну, почему куриных? — будто удивился Пирогов, — Там наши друзья, Славик, Попик и даже Анатолий Алексеевич…
— И Прибаукин, — отрезала Киссицкая, — с его пошлыми шуточками. Ты же сам говорил, что он человек не нашего круга.
— Но здесь же общий круг, — отбивался Игорь, — мы же на танцах, а не в салоне.
— Вот именно, — не очень убедительно настаивала на своем Киссицкая. — Я не захотела ответить этой, унизиться. А красотка явилась на танцы?! Уже не скорбит о горячо любимом Судакове?
— Она не хотела идти, — вступился, может, излишне горячо Игорь. — И не танцует. Ее Анатолий Алексеевич вытащил, потому что ей худо. Жизнь же не может остановиться. Зачем ты так зло?
Киссицкая почувствовала, что наворачиваются слезы.
— А она? Она не злая? При чем тут сало?.. Чехов говорил, что воспитание в том, чтобы не заметить. Но тут о воспитании не может быть и речи…
— Сало, наверное, ни при чем, — устало и уже с раздражением отозвался Пирогов. — Но и Чехов тоже ни при чем. Нельзя же повсюду вести умные разговоры.
— Ты хочешь сказать… — начала было Оля, но слезы мешали ей, — Если б я могла предположить… Я думала… я так хотела потанцевать.
— В таком настроении, — жестко заключил Игорь, — я не способен танцевать… Извини…
Оля резко повернулась и заторопилась к выходу. Слезы душили ее. У двери она все-таки обернулась и скорее почувствовала, чем увидела, что Игорь возвращается на прежнее место, возле Дубининой. Она выбежала на улицу и, плача, понеслась бульварами домой.
7
Ночью не утихал дождь. Он колотил по балкону, словно забивал гвозди, и Оля все больше чувствовала себя униженной, распятой. Теперь ей приходили в голову великолепные реплики, которые она могла бы бросить в лицо этой, и она думала только о том, как отомстить.
К утру она приняла окончательное решение: прекращает всякие отношения с Князем. И даже не посмотрит больше в его сторону. С этой мыслью она немного успокоилась и уже на рассвете задремала. А проснулась от резкого телефонного звонка. Телефон трезвонил, как колокол, созывающий на пожар, и Оля, забыв обо всем, босая, метнулась к аппарату и, отчаянно волнуясь, сорвала с рычага трубку.
— Привет! — услышала она насмешливый голос Холодовой. — Ну, как первый бал Наташи Ростовой?
Говорить не хотелось. После ухода Ники Мухиной они сблизились. Но равнодушие ко всему, что не затрагивало интересов школьного Сократа, не позволяло довериться ей. Вот и теперь Оля чувствовала, что ее тезке нет ровно никакого дела до так называемой Наташи Ростовой. Просто узнает новости…
Как князь Андрей на том далеком балу, Оля загадала: если спросит о Кустове, то, может, у нее еще наладится с Игорем? Но Холодова и не думала интересоваться Славиком. Она рассказывала о себе: на зимние каникулы ансамбль поедет в Бельгию. Ее руководитель в школе юных журналистов, очень симпатичный третьекурсник с факультета журналистики, дал ей задание написать об этих гастролях. Он сам пишет прозу, и его обещали напечатать в «Юности». У букинистов она достала четырехтомник Платона, можно теперь получше познакомиться с его диалогами с Сократом…
— Твой Кустов, между прочим, — мрачно оборвала ее Киссицкая, — подпирал стенку возле Дубининой, — Смотри, пока ты будешь гастролировать с балалайкой и тешиться диалогами с Сократом…
— Ой, как было бы хорошо! — обрадовалась Холодова, — Для меня просто спасение, если Славик к кому-нибудь пристроится, — Она презрительно хмыкнула и вдруг встрепенулась: — А ты-то, Кися, что, собственно, такая… сердитая? Не занял ли вакантное место возле Дубининой твой великосветский Князек?
— Почему ты всегда обо всем говоришь насмешливо? — сорвалась Киссицкая и тут же пожалела, что выдала себя. — Не все темы подлежат осмеянию!
Холодова, оставив излюбленный ироничный тон, сказала серьезно и спокойно, как истину, которую выстрадала:
— Нельзя, Кися, настолько зависеть от других людей. Нужно освободиться. И жизненную силу черпать в себе. Я стараюсь ни от кого не зависеть…
— Да уж, — почти плача, пролепетала Киссицкая, — ты у нас сильная личность. Я иногда удивляюсь тебе, а иногда завидую, Славик такой мальчишка — хороший, добрый, умный, а тебе без разницы, что человек страдает!
— Ах, бедненький… — Иронические нотки снова появились в голосе Холодовой. — Перебьется. Современные мужчины совсем уж от бабьего подола оторваться не могут. Пора их оттаскивать, а то и вовсе равновесие потеряют, разучатся самостоятельно на ногах стоять… — И сразу стала торопливо прощаться: — Ну, Кися, пока. Все ясно: чем меньше общаешься с нашим классом, тем больше сохраняешься для дела. Будь!
«Деловая, — со злостью подумала Оля, — Что она, и в самом деле неспособна чувствовать или только притворяется? Но своего она в жизни добьется! И лет через десять, глядишь, мы еще увидим ее имя в центральной прессе. Интересно, о чем она станет писать?»
Размышления эти ничуть не утешали. Оля побрела на кухню, обдумывая, как ей жить дальше. Родители сидели уже за столом. Не хотелось показывать им взволнованное лицо. Повернувшись спиной, Оля выхватила из холодильника холодную котлету и бутылку кефира. Не очень-то вежливо заявила:
— Некогда, надо заниматься…
В ее комнате снова трезвонил телефон. «Наверное, кто-то из «стариков», — раздраженно подумала она и неохотно сняла трубку.
— Сударыня, — в трубке звучал голос, который она не могла перепутать ни с каким другим, — не желаете ли вы составить компанию симпатичному и вполне преданному вам юному господину?
Оля заметалась. Все-таки позвонил! Не хочет портить с ней отношений? Или правда предан ей и вышло недоразумение? В конце концов, что произошло? Ну, стоял он возле Дубининой на вечере, но не один же? Славик тоже там был, хотя Дубинина сто лет ему не нужна. Нервы сдают, и все она преувеличивает. Человек звонит, зовет, голос его звучит у самого уха, и через десять — двадцать минут она может быть рядом. Радость вытесняла обиду, и после затянувшейся паузы она по возможности равнодушно произнесла:
— Не знаю. Честно говоря, после вчерашнего…
— Не будем осложнять жизнь, — не дав ей договорить, перебил Игорь. — Зачем устраивать сцены?..
Бессонной ночью Оля Киссицкая вспоминала все, что только могла вспомнить дурного об Игоре. Все, что когда-то смущало ее или не нравилось Нике Мухиной. Она гнала от себя его образ, пытаясь освободиться от его обаяния, выискивая неприятные жесты или фразы. Но только увидела Игоря на бульваре у старого тополя, где они и раньше встречались, не сумела сохранить на лице задуманную угрюмость, улыбнулась.
Игорь сорвался ей навстречу, лицо его осветилось улыбкой, и Оле показалось, что и вправду вокруг его головы обозначился ореол сияния.
— Кися, — весело сказал Игорь, — нам надо спешить. Сеанс начинается через пять минут. Бежим… — И они, взявшись за руки, побежали.
Показывали дрянной фильм. Но судьба героя, вернее, главного действующего лица тронула ребят. Вполне современный человек, начитанный и даже образованный, оставил инженерную должность, где ему так мало платили, и поступил слесарем по обслуживанию легковых автомашин. Здесь он зарабатывал гораздо больше. Спекулировал ворованными запасными частями, попался и предстал перед судом… В общем, банальная история. Поразило, что во время отпуска, который этот человек проводит на теплоходе, все принимают его за физика-атомщика и уверены, что в силу секретности своих занятий он не может о них рассказывать.
— Вопрос, — сказал Игорь, когда они вышли на улицу, — кого считать интеллигентом? Все грамотные, все читают, смотрят телевизор. В театр билетов не достанешь!.. Продукция всеобщего среднего образования…
— Ну, мы уже говорили, — покровительственно произнесла Оля, — интеллигент от слова «интеллект». Интеллигент — человек умственного труда…
— Это раньше так было. Бурлаки тащили лямку, а Ньютон открывал Закон всемирного тяготения, а теперь у нас слияние… Умственного и физического… Ученые пашут не меньше пахарей, а пахари мыслят не хуже ученых… Я летом, когда ездил с отцом по Волге на этюды, таких людей встречал в деревнях, во как мыслящих! — Игорь выставил большой палец правой руки кверху. — Многим так называемым интеллигентам позавидовать…
— Мыслящие люди среди работяг всегда были, наверное? Иначе кто же входил в первые рабочие кружки в России?
— Интеллигенция тогда объединяла и просвещала их, болела одной с ними болью за судьбу России и действовала! У нее организаторская роль была в революции. А теперь? Уснула интеллигенция! Интеллигентность нельзя раздать вместе с дипломом, как лычки к мундирам, — задумчиво проговорил Игорь. — Интеллигентность это величие и сила духа… Независимость мысли… Верность принципам… Забота об отечестве… Умение страдать не только за себя…
— Да уж, чего-чего, а вот страдать наша интеллигенция умеет. — Оле хотелось во всем соглашаться с Игорем, но ей мешало привычное высокомерие. — Сидя за столом, так наболеются за судьбу державы, что раскиснут и расстроятся…
— Только страдают они на словах, в компании, а живут каждый для себя…
— Что же ты считаешь, что наши родители не приносят пользы?
— Да нет, я так не считаю, они вкалывают и дело свое делают. Исправно исполняют. Исполнители они. Соглашатели. Живут одним днем, в вечной суете… Я не умею объяснить, но что-то потерялось в дороге… За что лучшие люди умирали в войну, в революцию? В степях и в тайге, возводя гиганты индустрии, восстанавливая их потом и снова строя? Чтобы их дети, ожирев от достатка, успокоились и расхватали все завоеванное. И все только для себя, для себя. Даже театр, кино, книги! Кто больше? Как там у Велимира Хлебникова?
— А где ты взял Хлебникова? — некстати спросила Оля.
— Дубинина давала, ей какой-то поэт принес… — сказал и спохватился, попытался отвлечь Кисю от сказанного, но уже не получилось. Она надулась, замолчала. У дома, вместо прощального приветствия, она заявила:
— Вот что, дорогой мой князь Игорь, или я, или Дубинина. Понял? — Слезы были наготове.
— Хорошо, Кися, — согласился Игорь, — Я подумаю. — Лицо его стало суровым, чужим, как тогда на вечере.
У Оли перехватило дыхание. Все испортила. Испортила! Опрометью бросилась она в подъезд. Прижавшись к стене, приходила в себя, надеясь, что Игорь войдет следом. Но Игорь не шел. Она выбежала на улицу, плохо соображая, что делает. Игоря там не было. Навернулись злые, непрощающие слезы.
Впервые в жизни она не могла сразу получить то, что хотела.
8
Олеся Дубинина, как могло показаться на вечере, не была человеком злым, тем более мстительным. Но Киссицкая, который уж год, раздражала ее своим высокомерием, категоричностью, шумным поведением. Олесе казалось, что Киссицкая нарочно создает видимость бурной деятельности, чтобы покрасоваться, оказаться в центре внимания. Олеся презрительно называла Киссицкую «деятельницей» и подчеркнуто сторонилась ее.
Не могла простить Олеся и давней обиды. Киссицкая со своей предводительницей Мухой устроили ей однажды судилище на совете пионерской дружины. Как они унижали ее! За что? Не пришла собирать макулатуру и схватила двойки. Так макулатура сгнила потом на школьном дворе, а двойки она исправила. Не поинтересовались «деятельницы», почему у нее двойки? Почему она не таскала бумагу? А от них с мамой уезжал отец, и маме было очень плохо. Но разве Киссицкую могла взволновать чья-то судьба?..
Все видели, что Киссицкая Оля и Оля Дубинина питают недобрые чувства друг к другу. Но кто мог предположить, чем это обернется?..
Да и не до того было ребятам. Почти всякий день выясняли они отношения с завучем, с учителями, с классной, бунтовали, качали права, обдумывали дальнейшую тактику сражения. Это сделалось главным, выматывало, держало в напряжении. Беспокойная жизнь, когда нервы на пределе, обостряла давнюю неприязнь двух девчонок, сталкивала их, поводы находились.
К праздникам, как всегда, принимали в пионеры и в комсомол. И теперь комитет комсомола распорядился, чтобы в классе, где учились Киссицкая и Дубинина, дали рекомендации троим. Не двоим, не одному, а именно троим, сообразуясь с указанием райкома, который, считалось, лучше знает, скольких ребят в их школе можно принять в организацию.
Комсоргу Валерику Попову, человеку вялому и несамостоятельному, никак не удавалось собрать не только всех комсомольцев, но даже бюро. И обсуждение кандидатов помимо его воли возникло стихийно, на перемене.
— Попик, — дождавшись, когда в кучу сойдется побольше ребят, позвала Валерика Дубинина. — Попик, я все хочу у тебя спросить, почему это вы не приобщаете Машу Клубничкину? Она вроде вполне политически грамотная и патриотически настроенная… О себе, как видишь, Я не пекусь, подружкиной судьбой интересуюсь…
Молчаливая Оля Дубинина с речами не выступала, но если начинала говорить, то сразу же, как только произносила первую фразу, слушатели, и именно те, что ей были нужны, оказывались рядом.
— Да я… я… — растерявшись от неожиданности, мямлил Попов, поглядывая на Пирогова, Кустова, Киссицкую и Холодову. От них зависело все, и Валерик хотел понять их отношение к происходящему, — Лично я не против. Маша мне нравится… — сказал и осекся, смутился, покраснел, стушевался больше прежнего. Вокруг все ехидно заулыбались.
— Достойный аргумент! — съязвила Холодова, и ее глаза, не знающие улыбки, приняли знакомое ироничное выражение. — Если ты «за», то помог бы нравящейся тебе Маше исправить двойки. Как ты, Мария, насчет улучшения показателей? — Вопрос, обращенный к Клубничкиной, прозвучал примирительно, и все поняли, что Холодова возражать не станет.
— Дружбаны, что тут происходит? — шумно ворвался в образовавшийся кружок Вениамин Прибаукин. — Обсуждаются показатели Клубничкиной? На мой взгляд, они у нее вполне подходящие! Улучшать не надо!
— Что ты паясничаешь! — раздраженно оборвала его Киссицкая. — Идет серьезный разговор. Мог бы он идти и не на перемене, — она неприязненно посмотрела на Попова, — тогда бы те, кому не положено, не совали нос не в свои дела. Комсомол, между прочим, не кружок для начинающих клоунов, а Коммунистический Союз Молодежи.
— Ну, мне-то, если ты меня имеешь в виду, — оборвал Киссицкую Вениамин, — сто лет твой комсомол не нужен. А вот, если по тебе судить, драгоценная ты наша Цица, то принимают в комсомол начинающих демагогов. Чем тебя не устраивает Дубинина или Клубничкина, чем? Власть свою показываешь? Принципы у тебя! А в чем принцип-то?
— Учатся Дубинина и Клубничкина кое-как, хуже, чем могли бы, — откровенно высокомерно стала перечислять свои претензии Киссицкая. — Обещали сводить всех в театр, не получилось.
Маша Клубничкина вскипела от возмущения, тряхнула бронзовой гривой, приготовилась к бою. Но Олеська легким прикосновением руки остановила ее.
— Я не закончила свою мысль, — медленно и очень спокойно проговорила она. — Наш класс, руководимый Коммунистическим Союзом Молодежи, давно уже ни на какие совместные действия, кроме выяснения отношений с учителями, не способен. Мы достали билеты в театр, ждали вас, никто не пришел. У кого же не получилось? И потом, нам, таким-сяким, с кого пример брать? У вас даже бюро вовремя провести не получается… — И она скользнула колючим взглядом мимо Киссицкой к Попову.
— Да, у нас с этим туго, справедливая критика, — забеспокоился, невольно подыгрывая Дубининой, простодушный Попов. Он вечно перед всеми оправдывался, чувствуя, что не справляется с обязанностями комсорга. — Но ничего же нет страшного в том, что мы советуемся с народом? Правда?
Все захохотали, а Дубинина тут же воспользовалась ситуацией:
— Ах, с народом? Это хорошо! Это демократично! Вот ты меня как представителя народных масс и просвети. Маша в Академию наук баллотируется или в молодежную организацию хочет вступить, которая, кстати, призвана воспитывать? Комсомолу люди нужны или отметки? А тех, у кого отметки похуже, их куда, за борт?
— И за борт ее бросает… — дурачась, в полный голос запел Прибаукин. — Стенька Разин… Пирогов… — И, покровительственно похлопывая по плечу Пирогова, спросил озабоченно:
— А кто княжна-то, князь Игорь, вот в чем еще вопрос?..
Пирогов понял, что на сей раз ему не отмолчаться. Правила игры требовали пошутить:
— Господа! — Он сделал шикарный мушкетерский реверанс. — Не будем ссориться, господа. Хорошие люди нужны всем. И комсомолу тоже. Должен вам совершенно конфиденциально сообщить: нынче дефицит… на хороших людей, — И он долго продолжал раскланиваться и расшаркиваться, возможно, затем, чтобы не встречаться глазами ни с Дубининой, ни с Киссицкой.
Дубинина немедленно согласилась с ним:
— Игорек прав. На хороших людей дефицит. Слишком много развелось болтунов и демагогов, — Она неторопливо перекинула свои золотистые волосы на плечо, скрутила их жгутом. По плечу поползла золотая змейка. И вдруг — о чудо! — на глазах у всех рассыпалась, обернулась искрящимся золотым дождем.
Мальчишки завороженно смотрели на Дубинину. Киссицкая сразу заметила, что и Пирогов, ее Пирогов, тоже не спускает с Олеськи восторженных глаз. Она почувствовала, что у Игоря к Дубининой возникает нечто такое, что ей не преодолеть, не переменить… И она уже плохо владела собою. А Прибаукин, демон человеческих отношений, раздувал пламя, нарочно распаляя страсти.
— Кстати, — тараща глаза и изображая удивление, осведомился он, — не вступая в комсомол, хорошим человеком не станешь, что ли? А я, непросвещенный, собирался. Вот дурень!..
— Опять паясничаешь! — не умея уйти от неприятного разговора, нервничала Киссицкая. — Ленин говорил, организация удесятеряет силы каждого!
— Я согласен, — серьезно сказал Прибаукин, — Только мои силы удесятеряют «фанаты», тоже ничего компания.
— Фанатизм во всех своих проявлениях слеп, — продолжала в одиночку сражаться Киссицкая, — У вас нет цели!
— А у вас какая цель? — насмешливо спросил Прибаукин.
— Ты отлично знаешь, — возмутилась Киссицкая. — Построение коммунизма.
— Разве его еще не построили? Когда еще обещали, что через двадцать лет все войдут в светлое здание. Где оно? Двадцать лет да-а-вно просвистели. Можно подумать, что вы слепо не верили и не горели энтузиазмом. Наша команда «Спартак» нас почти никогда не подводит, выигрывает!
— Ну, от «Спартака» твоего, может, и есть какая-то польза, — с интонацией человека, в любом случае чувствующего превосходство, произнесла Киссицкая, — а от «фанатов»? Комсомол в самые трудные времена стране помогал, на самых сложных участках работал. Ты только об ошибках говоришь, но не ошибается тот, кто ничего не делает…
— Ну, понесло, — зло, необычно для себя грубо сказала Олеська. — Сейчас будет говорить о «роковом времени», о «исторической неизбежности», о том, что «история не рассчитана на одну человеческую жизнь…». А у меня всего одна жизнь, слышишь? Одна, и я хочу радоваться, а не страдать. И хватит болтать об ошибках и достижениях с чужих слов. Сама-то ты, комсомолия, какую кому принесла пользу?
— Я учусь хорошо, это главное. И все, о чем комсомол меня просит, выполняю!
— Ну, и о чем он тебя просит? Монтаж подготовить к празднику по выдержкам из газет и журналов? Или пару песен исполнить на районном вечере политической песни? А когда мы поехали на виноградники, почему ты отказалась работать под дождем? Нам же объяснили, что это очень нужно совхозу, вовремя успеть убрать урожай…
— У меня ревматизм, и от сырости болят ноги…
— А как же твой идеал, Павка Корчагин?! Он о ногах не думал. И Машка Клубничкина не подумала о том, что у нее легкие слабые, то и дело воспаление. Вместе со всеми виноград под дождем собирала. Но ты ее в комсомол не пустишь, по какому праву? Кто дал тебе право распоряжаться моей судьбой? Ненавижу таких, как ты. На словах активных. Умеющих суетливость свою выдавать за активную жизненную позицию…
Все вокруг будто опешили от незнакомого им поведения Олеськи. Стояли молча, неподвижно, не вмешиваясь.
— Я тоже ненавижу таких, как ты, — сузила глаза Киссицкая. — Таких, которые пекутся только о своих радостях. Палец о палец никогда не ударила ни для класса, ни для школы!
— Если человек не участвует в том, что ему кажется демагогией, это, между прочим, тоже активная позиция. И имей в виду, что иногда честнее не участвовать, не ударять пальцем… и никак по-иному не ударять… Твои заслуженные дедушки, которые так хорошо объясняют тебе все о разных временах, никогда не подсказывали тебе таких мыслей?..
— О чем спорит подрастающее поколение? — поинтересовался Анатолий Алексеевич, появившись в классе.
— Обсуждаем горячо, кого принимать в комсомол, — изображая подобострастие, за всех ответил Вениамин Прибаукин. — Никак не решим, кому отдать предпочтение наших сердец?
— Можем обсудить это после урока. — Анатолий Алексеевич в этом классе старался держаться построже.
— А мы исторических проблем тоже касаемся, — не унимался Венька. — Только не по учебнику. Вы это допускаете?
— Допускаю, — согласился Анатолий Алексеевич. — На политклубе. Там можем провести любую дискуссию.
— Любую? — переспросила Холодова с явной иронией, — Ну-ну, посмотрим…
И начался урок.
9
Комсомол совершенно не привлекал Олеську. Тяжбу с Киссицкой из-за вступления в комсомольскую организацию она начала исключительно затем, чтобы не уступить Кисе, не позволить ей взять верх над собою. Но на душе от чуждой ей возни становилось гадко.
Вспомнился разговор с отцом, к которому Олеська очень была привязана и прислушивалась больше, чем ко всем остальным взрослым.
Она нисколько не осуждала отца за то, что он оставил семью, захотел пожить в одиночестве. Он по-прежнему заботился о них с мамой, помогал деньгами. Странным казалось поначалу, что он надумал уйти из редакции, пошел служить в церковь старостой или еще кем-то… Но она свыклась и с этим, объясняя себе, что так для него лучше…
Ни отец, ни мать никогда не говорили с Олесей о боге, никак не объясняли ей отцовского поступка, а она ни о чем не спрашивала. Замкнулась в себе, притихла и даже своих одноклассников стала сторониться. Вряд ли кто-то из них понял бы отцовский выбор, только посмеялись.
Мама, после того как отец уехал, долго болела, лежала в больнице, и за Олеськой приглядывала соседка по квартире, тетя Варя. Своих детей у тети Вари не было, она относилась к Олеське как к дочери. И для Олеськи тетя Варя стала близким и родным человеком, а для мамы и исповедником, и советчиком, и подругой.
У мамы, Олеська рано поняла это, характер мягкий, как воск податливый. Ему требуется ваятель. В отсутствие отца тетя Варя пыталась стать опорой для матери. Муж тети Вари, человек неплохой, но сильно пьющий, отправился на Север подзаработать, и тетя Варя в свободной комнате на время приютила одинокую молодую женщину, Нину.
Жили одной семьей. Нина вела хозяйство. Она дома печатала на машинке. Говорила, не хочет отсиживать от звонка до звонка в конторе, устает от неприятных людей и от глупостей, которые с умным видом произносят на собраниях, а на жизнь ей многого не надо. Работу Нине приносили журналисты и писатели, ученые и дипломники, и большинство из них становились друзьями дома.
Нина хорошо печатала на машинке, но еще лучше играла на гитаре и пела. И все, кто по вечерам приходил к ним в гости, вместе с нею пели песни Высоцкого, Галича, Визбора, Окуджавы и других бардов. Рассказывали о том, что читали, видели, слышали, а молодой поэт Алик, нараспев декламировавший свои стихи, больше всех нравился Олеське.
В кругу друзей мама оживлялась, становилась веселой, кокетливой, а на работу всегда шла с плохим настроением. Она работала экономистом и как-то сказала Олеське, что устала от лжи. Когда-то они учились с тетей Варей в одном институте, но тетя Варя устроилась товароведом в универмаг и шутила, что от ее экономики гораздо больше пользы. Стараниями тети Вари все они были одеты и обуты и не обделены продуктами хорошего качества. «Хочешь жить, умей вертеться», — наставляла тетя Варя Олеську, но жизнь от этого не становилась легкой.
Жизнь почти у всех, кто бывал в их доме, не складывалась просто. Артист Феликс играл в спектаклях молодежной студии, которая превозносилась поклонниками, но не признавалась официальными авторитетами. На хлеб Феликс зарабатывал, устроившись дворником. Романы и повести Кирилла Сергеевича не принимали в редакциях, он объяснял, что «там не хотят правды». Писатель нанялся ночным сторожем, чтобы иметь время писать то, «что душа велит». Художник Роман Флегонтович создавал картины для себя и своих друзей. В закупочную комиссию носил только те, что «имеют рыночную цену». Поэт Алик время от времени печатался в молодежных журналах, но, как и все их друзья, считал, что «самое верное — ни в чем не участвовать, не участвуешь — не ошибаешься, не причиняешь боли себе и другим».
Гости в их доме пили чай с сушками и сахаром, не забывая при этом бросать денежки в копилку в образе страшной красно-бурой кошки с отвратительной улыбкой-гримасой.
Шиковать позволяли себе редко: в дни рождений, праздников или когда кто-то получал гонорар, побочный заработок.
Олеся крутилась среди взрослых, ее примечали, восторгались ее красотой, никогда не делали замечаний, не прогоняли: «Пусть знает о жизни правду!»
Эта правда сильно расходилась с тем, в чем Олеську уверяли в школе, и она мучилась, пытаясь выяснить истинное. Но обстановка в школе складывалась такой неприглядной, а люди представали перед нею в таком дурном свете, что симпатии ее склонялись к домашним.
Единственной радостью для Олеськи в школе был Сережа Судаков. Когда-то родители привели их одновременно учиться фигурному катанию на коньках. Потом им казалось, что полюбили они друг друга еще в те, малышовые годы.
Пятилетней девочкой Олеська знала уже, что она красивая. «Ух, какая красивая девочка!» — неизменно неслось ей навстречу. А позже вслед: «Какая девочка!» Но Олеська сторонилась сверстников, страшилась лишних, неожиданных вопросов. Дружила с Клубничкиной, сидела с ней на уроках. И не расставалась с Сережей. Другие для нее не существовали.
Когда Сережа погиб, мать испугалась за Олеську, вызвала отца. Он увез дочку к себе.
Вечер и ночь они говорили. Тогда отец впервые поделился с ней своим сокровенным, тем, что прежде для Олеськи оставалось тайной.
— Почему ты так поступил? — позволила себе спросить Олеся.
— Мне стало трудно жить, — не отводя глаз, признался отец. — Мне показалось, что я многого в жизни не понимаю и моя жизнь бессмысленна, ничего не стоит… Вера дала нравственные ответы на мои вопросы.
— А жизнь… сама жизнь не дает ответов?
— Дает, если человек не теряет веры. Человек должен во что-то верить. Без веры человек становится раздраженным и способен на дурное. Ты всматривалась в иконы? Разве все они написаны талантами? Но они привораживают. Почему? Потому, что написаны с верой.
— А Лев Толстой? Его книги тоже завораживают, а его отлучили от церкви. А Павлов Иван Петрович, физиолог, поповский сын, отважился заниматься тем, что церковь запрещает?
— Льва Николаевича, — не торопясь отвечал отец, — отлучили от церкви, но не от веры. И у него своя философия жизни и смерти. А у Павлова Ивана Петровича — своя вера, в дело, которому он служил…
— А ты… ты не нашел, во что верить?
— Я… я потерял уверенность…
Олеська обхватила голову руками, словно это помогало понять, а потом неожиданно для себя бросилась к отцу. Обняла и соскользнула, упала перед ним на колени.
— Ну, скажи, скажи, если есть бог, кому понадобилось отнять у меня Сережку?
Отец остановил ее жестом, поднял, усадил рядом.
— Страдания и тревоги посылаются нам, чтобы закалить душу, научить ее трудиться.
— Как мне жить теперь?
— Исполняясь терпением и надеждой. И зная, что бывает и хуже…
— Хуже? — заплакала Олеська. — Хуже не бывает…
— Бывает, — настойчиво повторил отец. — Бывает и хуже.
В комнате горела одна-единственная лампадка под образами. Отец не переносил яркого света. Небольшое зеленоватое облачко вокруг лампадки казалось мерцающей звездочкой и как-то объединяло их. Отец рассказывал, она слушала:
— Твоей бабушке было почти столько же лет, сколько тебе, когда с нею стряслась беда, не меньшая, чем с тобою… Хотя беды не бывают ни маленькими, ни большими. Они всегда испытание…
— Разве она ушла на фронт такою, как я сейчас?
— Слушай, не перебивай меня. Еще до войны в дом ее отца, твоего прадеда, ночью ворвались чужие люди и увели его с собою. Твоя бабушка Оля, ты названа в память о ней, ничего не могла понять. И твоя прабабка, ее мать, не умела объяснить ей и себе, что случилось. Твой прадед был большим ученым. Занимался языкознанием. Его труды читали во всем мире. Он ездил на конгрессы и симпозиумы в другие страны, он владел многими языками… И вот кому-то почудилось, что он недостаточно патриотичен в своих высказываниях. Кто-то захотел увидеть в нем шпиона… В то время боялись, что враги народа помешают строительству нового общества… Его посадили в тюрьму и требовали, чтобы он признал себя приспешником империализма, покаялся в заграничных связях во вред Родине… Но прадед не мог каяться в том, чего не было. Он объяснял, доказывал, ссылался на свое революционное прошлое. Над ним издевались… Прабабка в отчаянии бросалась от одного его товарища к другому, ходила по инстанциям, писала прошения. На прошения ответов не получала, а товарищи обещали помочь, но, видно, у них не получалось… Он погиб на Колымской трассе, высекая в скалистых сопках — отвесах дорогу над пропастью. Я узнал об этом двадцать лет спустя, когда он, уже после гибели, был реабилитирован вместе с другими и меня разыскал его товарищ по лагерю… Товарищ передал мне просьбу деда верить в его абсолютную честность перед собою и перед партией. И главное, верить в партию, в ее идеалы… У меня помутился разум… Твоя прабабка не дожила до этого времени. Вскоре после ареста мужа пришли и за ней. Ее отправили в тайгу, на лесоповал, а она была пианисткой, и пальцы ее были легкие, нежные. Она не вынесла…
Отец сидел спиной к мерцающей лампадке, и лицо его, оставаясь в тени, казалось темным и мрачным пятном. Волнение отца Олеся ощущала физически, оно передавалось из души в душу, и Олеська сжалась от боли, боялась пошевелиться, чтобы не помешать отцу…
— Вот как бывает… — проговорил он глухим, далеким, не своим голосом. — Твою бабушку Олю, назовем ее Большой Олей, хотя она была невысокая, хрупкая, застенчивая, отправили в Казахские степи… Рыть землю… Она не умела этого… Ее учили музыке, языкам, она писала стихи… Там, как и повсюду, разные жили люди… Какая-то добрая душа пристроила ее в медпункт уборщицей. Она выжила… Но… — Отец замолк.
Олеська почувствовала его муку. Эта мука поселялась и в ней, заставляя заново переживать все, что выпало на долю ее близких, еще до ее появления.
— Но… — повторил отец, с трудом продолжая рассказ. — Никто не спас ее от надругательств над ее молодостью. Она была очень красива. И ты так на нее похожа! Мне, порою, мерещится, что передо мною моя мать, беспомощная девчонка, в степи, среди заключенных… Спасением для нее — боже, что я говорю! — но все же спасением оказалось, что приглянулась она молодому охраннику. Выпросил он для себя Большую Олю в награду за верную службу… Страшно мне. Страшно думать, как растоптали ее душу… Дом, в который попала Большая Оля, не напоминал ей отчего дома. Хозяйка, властная и грубая женщина, попрекала куском хлеба, потешалась над судьбой Большой Оли, могла и ударить. Ее сын, возвращаясь домой, напивался и распускался до безобразия. Большую Олю он, правда, не бил, но куражился над ней вволю. Этот человек стал моим отцом. Да простится мне, как я его ненавижу!.. (Тут Оля увидела, как отец осеняет себя крестом. И глаза его, такого большого и сильного человека, наполнились слезами.) Так случилось, — продолжал он, — что я, совсем еще малое дитя, заболел воспалением легких. Старуха запрягла лошадь, усадила мою мать в сани и, бросив на колени младенца, приказала гнать в больницу. Надеялась, что не одолеет Большая Оля далекую дорогу и она избавится от неугодной «невестки» под благовидным предлогом… Большая Оля чудом добралась до города. Но в больницу не пошла, села в проходящий поезд и увезла меня подальше от проклятых мест. Шла война. Паспорта у Оли не было, но она объясняла, что потеряла его при бомбежке. Подлечив меня, снова села в поезд и так, под чужим именем, пересаживаясь из состава в состав, оказалась, наконец, у порога родительского дома. Упала на землю у крыльца и заплакала. Впервые за все страшные годы… Войти в квартиру она не решилась. Жизнь научила ее осторожности. Побрела к старушке тетке, сестре матери, надеясь, что хоть кто-то из родственников жив. Старушка тетка, воспитанница Смольного института благородных девиц, рассказывала мне потом, что Оля, придумав себе чужое имя и совсем иную судьбу, почти сразу же пошла в военкомат проситься на фронт. Говорила, что хочет очиститься в огне сражения. Умереть или выжить. И тогда уж заново жить… Я остался у тетки… Большая Оля сказала в военкомате, что может быть медсестрой. Ты помнишь, какое-то время в заключении она работала в медпункте уборщицей. Ей казалось, что кое-чему она там научилась. На курсах ее еще подучили и послали на фронт. Под Смоленском, когда Большая Оля выносила с поля боя окровавленного командира, ее ранило в голову. Без сознания она попала в плен… Старушка тетка умерла. Меня пристроили в детский дом. Когда я подрос, пытался искать мать. Многие после войны находили родителей. Мне не удалось… Несколько лет назад меня отыскали французские коммунисты. От них я узнал, что наша Большая Оля бежала из фашистского концлагеря в южном французском городке и присоединилась к отрядам Сопротивления. Товарищи по Сопротивлению рассказывали мне, что Большая Оля была отважным бойцом и о ней даже сложили песню. После войны товарищи посадили ее на пароход, который отправлялся в Одессу. Но я ее так и не дождался… Как и все, кто возвращался из плена, Большая Оля, должно быть, снова попала в сталинский лагерь. И погибла… — Голос отца стал еще глуше, печальнее. Больно было смотреть на его сразу постаревшее, скорбное лицо. — Я хотел учиться на философском факультете университета. Товарищ отца, тот, что вернулся из лагеря, настаивал, чтобы я учился, и поддерживал меня деньгами. Но меня в университет не приняли. Я пошел в педагогический, изучал историю, а преподавать не смог. Работал в газете, как ты знаешь. После встречи с французами я не мог и писать. Что-то оборвалось в душе… Ты понимаешь?.. — Он заглянул Олеське в глаза, встал, поднял ее за плечи, притянул к себе, склонил голову к ее голове.
Так они стояли. Обнявшись, разделяя боль, которую время притупляет, но не излечивает. В окна просился уже свет нового дня. Робкие солнечные лучи пробивались сквозь занавеску.
— Папа, — спросила Олеська, когда они немного успокоились, — ты не хочешь, чтобы я вступала в комсомол?
— Мне хотелось бы, — не сразу отозвался отец, — чтобы ты жила с верой. Без веры, надежды и любви человек перестает быть человеком. И тогда он способен на все худшее… Если веришь, как верили, несмотря ни на что, твой прадед и Большая Оля, вступай! Но мне показалось… Ничего не делай без веры!.. — звучала не просьба — мольба, обнаженная боль. Он отвернулся, отдернул занавеску. Светало…
10
Погрузившись в проблемы своего класса, Анатолий Алексеевич старался как можно реже появляться в учительской. Отсиживаясь в «оружейке» — крохотной комнатушке на четвертом этаже, где хранилось боевое некогда оружие, пригодное теперь лишь для занятий по начальной военной подготовке, — он подолгу думал о жизни, о ребятах, о своем учительстве. И сознавал, что не находит пока убеждающие слова и верный тон.
Ребята молча выслушивали его правильные рассуждения о комсомоле и расходились разочарованными. Подсказать им, как избежать формализма при приеме в организацию, он не умел. Этот формализм был как бы узаконенным. Какими делами заняться школьному комсомолу, он и сам представлял смутно. Ребята знали и понимали не меньше, чем он, их учитель.
— Посмотрим-посмотрим, как вы станете выкручиваться, — ехидничала Холодова, когда он пообещал дискуссии в политклубе.
— Боишься, что знаний не хватит? — тоже съязвил он. — Так ты и поможешь. Ты ведь у нас лучший политинформатор?..
— Политинформация — совсем другое, — словно несмышленышу пояснила девочка, — читаешь, что пишут, и пересказываешь. А как быть с тем, о чем не пишут? Как объясните вы нам, почему мы разбазариваем нефть? Почему в стране, где столько богатств: земли, леса, нефти, газа, металла и народ трудолюбивый, а теперь и образованный, не хватает мяса, колбасы, даже хлеба?! Или вы знаете, как возник в нашей социалистической действительности культ личности? Как наша прославленная демократия допустила напрасные жертвы?..
И все они посмотрели на него с нескрываемым любопытством. Он учил их истории. Они хотели прежде всего знать его мнение о культе личности Сталина, будто от его позиции в этом вопросе зависело что-то очень значительное в их дальнейших отношениях.
Что он мог им сказать? Что он знал помимо того, что стало известно на XX съезде партии и в публикациях после съезда?
Со студенческих, даже со школьных лет он привык цитировать. Сколько он помнил себя, так было принято. Мысли великих надежно защищали, как щит, как непробиваемая броня. Но что-то, пока неуловимое, какой-то едва различимый сдвиг уже наступил в сознании молодых, которые и младше-то его не намного. Они не желали больше поклоняться авторитетам и оценивали все, что узнавали, видели и слышали, по своему разумению. И всех остальных людей принимали или не принимали по их способности мыслить и действовать. Этих ребят нельзя было уговорить, их можно было только убедить.
Разговор в политклубе о культе личности Анатолий Алексеевич начал издалека. Рассказал о том, как в своих работах рассматривали взаимодействие «героя» и «толпы» Ленин и Плеханов. Упомянул, как высмеивали Маркс и Энгельс «льстивый культ Лассаля», его «хвастливое самовоспевание», стремление «казаться самому себе невероятно важным». Прочитал отрывок из письма Маркса Вильгельму Блосу: «Из неприязни ко всякому культу личности я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран, — я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал».
Процитировал он и Ленина, как же без этого? «Еще бы обойтись без неудач и ошибок в таком новом, для всей мировой истории новом деле, как создание невиданного еще типа государственного устройства! Мы будем неуклонно бороться за исправление наших неудач и ошибок, за улучшение нашего, весьма и весьма далекого от совершенства, применения к жизни советских принципов».
Казалось, его слушали внимательно. Но когда он принялся излагать позицию партии в оценке заслуг и ошибок Сталина, его неожиданно перебил Прибаукин:
— А как же быть с теми, чья жизнь жертвенно брошена на алтарь прекрасного здания будущего блаженства? — То ли Вениамин балагурил по привычке, то ли, спасаясь иронией, всерьез выяснял важную для себя истину?..
И тут вскочила Киссицкая, не дожидаясь ответа. Назидательно сказала:
— Как бы ни иронизировали некоторые, история не рассчитана на одну человеческую жизнь. Смешно спорить. Бесспорно, что Сталин имеет большие заслуги перед партией, рабочим классом и даже международным рабочим движением… — Она и на уроках всегда говорила так, будто считала себя крупнейшим теоретиком прошлого и настоящего. — Общеизвестна его роль в подготовке и проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма и, наконец, в Великой Отечественной войне… — Задрав кверху курносенький носик, Киссицкая говорила с пафосом, не замечая неприязни одноклассников, — Но с другой стороны, особенно в последний период, игнорирование норм партийной жизни и принципа коллективного руководства привело к извращению партийной демократии, к нарушению революционной законности, к необоснованным репрессиям. Время было такое…
Испытывая ощущение страшной неловкости и стыда за свою беспомощность, Анатолий Алексеевич с сожалением наблюдал, как воздвигает Киссицкая непреодолимую преграду между собою и своими товарищами, а заодно между ребятами и им самим.
И снова он не успел вмешаться, поднялась Дубинина. Раньше ее никак нельзя было упрекнуть в несдержанности и агрессивности, теперь Олеся резко оборвала Киссицкую:
— Что ты знаешь о том времени?! Что ты все выставляешься и болтаешь о том, что тебе неизвестно?! (Анатолий Алексеевич не предполагал, что Олеська может быть такой разгневанной, разъяренной.) У тебя нет вопросов? Для тебя все просто? В результате ошибок… У тебя в семье пострадал кто-нибудь в результате ошибок? Я устала от твоей болтовни. Сама-то ты веришь в то, о чем плетешь с чужих слов?
— Что ты имеешь в виду? — взвилась Киссицкая. — Я верю в идеалы коммунизма…
— А я хочу во всех идеалах разобраться сама, понимаешь — сама! — Олеська порывистым движением откинула назад волосы, ее теплые глаза сделались непроницаемыми, злыми. — Партия осудила Сталина, потом осудила тех, кто его осудил, потом… — Она безнадежно махнула рукой и собралась сесть, но выпрямилась и принялась снова говорить, отчаянно, неистово: — Я не хочу, не хочу и не буду выдавать готовые идеалы и цели за свои собственные. Это безнравственно. Я должна обрести веру или… — Она вдруг сама себя остановила и обратилась с вопросом к Клубничкиной, которая всегда сидела с ней рядом: — Ты можешь сказать, во что веришь?
— Я? — растерялась правдоискательница Клубничкина. — Я — в справедливость.
— А ты, Игорь? — спросила Олеська у Пирогова, не замечая больше Киссицкую, которая продолжала стоять в выжидательной позе.
— Я? — Игорь манерно схватился за лоб правой рукой, якобы размышляя, — Я верю в разум и… пожалуй, в добро.
— А я, — выкрикнул Прибаукин, — в чувство юмора!
Холодова почувствовала, что пришла ее очередь сказать свое слово. Удивительно угловатые, не женственные были у нее движения. Но держалась она всегда с достоинством, без суеты.
— Сократ, — сказала она спокойно и внушительно, — тоже верил в разум. Даже в высший разум. Он бродил по улицам Афин, этакий, заметь, Прибаукин, добродушный остряк. Кстати, ищущий истину, Клубничкина, в справедливом споре. Он учил людей, как жить нравственно и справедливо, как правильно устроить жизнь. Только его остроумие и его искания мало кому нравились. Аристократы считали его развязным, а демократы видели в нем своего разоблачителя. И Сократа, с его верой в высшую справедливость и в высший разум и некую всеобщую целесообразность, осудили на смерть.
— Во что же ты веришь? — Теперь они стояли, возвышаясь над всеми другими, втроем — три Ольги: Киссицкая, Дубинина и Холодова.
— Я верю, — не затрудняясь, спокойно продолжила Холодова, — в себя, в свои силы.
— Ну, понятно, — нервно рассмеялась Дубинина, — ты всегда пляшешь вокруг себя.
— Да, — согласилась Холодова и насмешливо-спокойно посмотрела на разгоряченную Дубинину, — Все, что сейчас я делаю, по твоему мнению, для себя, в конечном счете обернется благом для всех. Надеюсь. Пусть каждый позаботится хорошо делать свое дело. Этого, хотя бы этого, уже достаточно для общего блага. Что дают вам эти разговоры? Что? Жизнь не меняется от разговоров о ней. Помните, как у Ильфа и Петрова: «Хватит говорить о том, что надо подметать двор, пора брать в руки метлу!»
— То-то ты собираешься посвятить свою драгоценную жизнь болтовне… в письменном виде! — взвинтился вдруг и Прибаукин.
— Ну, тут ты не прав, — без обычной иронии произнесла Холодова. — Одна фраза, даже два слова Анатолия Аграновского: «Надоели дилетанты!», но вовремя сказанные, стоят куда больше, чем пламенный трудовой порыв тех же дилетантов…
Бурный разговор разом угас. И Анатолий Алексеевич испытывал горечь, растерянность и тревогу.
Удобнее думать, что все бури нашего прошлого отбушевали, погасли костры в наших душах. Но нет, в углях сохраняется опасный огонь. Он готов воспламеняться в душах тех, кто пришел после, и обжигать с прежней силой и болью.
Почему не понять, как тяжко справляться им с этой болью? Как страшно жить с непониманием, с неприятием, с осуждением?..
11
Поверив в педагогический дар Анатолия Алексеевича, Надежда Прохоровна настойчиво убеждала себя успокоиться.
Вечером и дискотекой большинство старшеклассников остались довольны. Она подумала: «Роком они отгораживаются от нас, от нашей жизни, в которой многое не принимают. Сумасшедшие танцы помогают им разрядиться. У этих юных душ никогда не было храма, и они научились очищаться на шумной площади, в балагане…»
Вспомнив вдруг Машу Клубничкину в серебристом змеином наряде с оголенными руками и глубоким вырезом на спине, Надежда Прохоровна невольно улыбнулась. Фантазерка! Маша призналась ей потом, что увидела похожий наряд в каком-то фильме на миллионерше, путешествующей по Нилу с молодым мужем. Выпросила у матери старое платье, ставшее ей узким, и перешила его.
«Жизнь коротка, мне так страшно, что я могу умереть, — вдруг разоткровенничалась Клубничкина. — Если я стану актрисой, буду перевоплощаться, проживу много жизней…»
Она, конечно, в пику Виктории Петровне притащила на вечер Огнева. Смотрите, мол, ваша «гордость» не из-за меня, а из-за вас покинула школу!..
Смешная все-таки девчонка! Правдоискательница! Тряхнет бронзовыми кудрями и мчится вскачь с шашкой наголо. «Не понимаю, — говорит, — почему у меня по биологии пара?! Я по биологии таких отметок не получала. Это Мария Сергеевна виновата: включит телевизор и задумается. По задумчивости и влепила мне двушку вместо кого-то». Хитрюга! Но чем-то вызывает симпатию. Искренностью, непосредственностью, вечно бурлящими в ней чувствами, с которыми она не может справиться. В конце концов, фантазия и безрассудство в таком возрасте куда более привлекательны, чем благоразумие…
С утра, до первой переменки, в школе бывало тихо. Телефон начинал звонить чуть позже. Надежда Прохоровна любила этот ранний час и никогда не давала первого урока. Это время предназначалось ею для раздумий.
Не слишком устраивали ее беседы в политклубе. Все-то они критикуют! Все! Не нравится им, видите ли, что мы разбазариваем нефть, она нам и самим нужна. И не поставим ли мы на колени Европу, если вдруг перестанем снабжать ее нефтью из Уренгоя?! Прямо мировая скорбь в образе Холодовой или Пирогова!.. А может, так и надо? Именно так?! Разве не естественно стремление юной души беспокоиться, страдать? С какой стати мешать им выговориться? Чего бояться? Доберутся до наших ошибок, станут судить и осудят, имеют ли право? Но отними у них это право, и лишишь их способности мыслить, самостоятельности.
Когда закипает вода в чайнике, мы снимаем его с огня, приоткрываем крышку. Иначе крышку сорвет, может случиться, огонь загаснет… Надо выпускать пар! Но выпущенный пар становится началом движения…
В тех школах, где Надежда Прохоровна преподавала раньше, сложностей было меньше, но и ребята такие головастые встречались реже. Хлопотно с ними, но и любопытно…
Мысленно она во всем одобряла Анатолия Алексеевича. Сумел хоть как-то объединить в ансамбль совсем непохожих Столбова и Прибаукина с Кустовым и Пироговым. И как ни странно, художественный руководитель у них не Пирогов, не Кустов, а Прибаукин. Не поймешь их. Венька все же захватывает инициативу в классе. Столбов знает во сто крат больше, а вот слоняется повсюду за Вениамином. И комсорг Попов тоже постепенно становится прибаукинской тенью…
В чем тайна его привлекательности? Тесли глаз с него не сводит. А на репетиции, куда ее соизволил пригласить маэстро Прибаукин, ей померещилось, что Вениамин да и Пирогов все взоры устремляют к Дубининой. Как объяснить их вдруг возникающие и так же мгновенно гаснущие привязанности? Каково Тесли? А Киссицкой? Эта не простит! Но может, все еще как-то уладится, успокоится?..
Так неторопливо размышляла директор школы перед новым своим учительским днем, пока в дверь настойчиво не постучали. По стуку, как всегда, она догадалась, что пришла Виктория Петровна. От нее действительно не скроешься…
После того как Надежда Прохоровна попросила завуча на время отстраниться от опеки бунтующего класса, их отношения стали натянутыми. Виктория Петровна не упускала случая подчеркнуть свое зависимое от директора положение. И на этот раз, сохраняя официальный тон, не могла все же скрыть нервного возбуждения.
— Опять что-нибудь случилось? — с тревогой спросила Надежда Прохоровна.
— Я предупреждала, — сухо ответила Виктория Петровна, — безнаказанность ведет к распущенности! Вы попустительствуете их безобразиям!..
— Да оставьте вы, — перебила завуча Надежда Прохоровна. — Не понимаем мы их. У нас своя правда, у них своя. — И подумала: «Как хорошо, что я не показала ей письма Клубничкиной!»
— Только что мне позвонили из милиции, — со злой радостью сообщила Виктория Петровна, — вы же знаете, у меня с милицией тесные контакты….
— Из милиции?.. — не сдержала удивления Надежда Прохоровна, настолько не вязалось это сообщение с ее миролюбивыми размышлениями.
— Ну да, из милиции! — Высокомерное торжество Виктории Петровны не оставляло надежд директору. — Что, собственно, вас удивляет? Вы верите, что такой мальчик, как наш уважаемый Анатолий Алексеевич, справится с этими извергами? Мы не справились, а он сотворит чудо! — Завуча мучила одышка, но она не садилась.
— А что все же случилось?
— У Столбовых пропала картина и старинное фамильное кольцо с камеей. Алексей исчез из дома.
— Выходит, сын украл у родителей картину, кольцо и исчез?
— Откуда мне знать? Вы же запретили мне вмешиваться. Случайно услышала, что накануне у Столбовых собиралась компания из дорогого вашему сердцу класса… Я сочла своим долгом сообщить вам, хотя и не уверена в последствиях…
— Да перестаньте, Виктория Петровна, до того ли сейчас, — не скрывая досады, остановила завуча Надежда Прохоровна. — Разве вы не понимаете опасности случившегося?
— Отлично понимаю! — В голосе Виктории Петровны звучали интонации человека, чья истина отвергалась, а теперь торжествует. — Понимаю и сочувствую!.. — И она, так и не присев, ушла, что было совсем на нее не похоже.
А в дверь снова беспокойно барабанили. «Виктория вернулась!» — не сомневалась Надежда Прохоровна, но вошел Анатолий Алексеевич. Никогда она не видела его таким взволнованным.
— Я не успел вчера поговорить с вами, — прямо с порога сообщил он. — Вам Ирина Николаевна ничего не рассказала?
— Ирина Николаевна знает что-то о краже?
— О какой краже? — с изумлением и испугом уставился на директора Анатолий Алексеевич.
— Как? — в свою очередь поразилась Надежда Прохоровна. — Вы не слышали о краже у Столбовых?! Ну, тогда, я чувствую, нам есть чем поделиться друг с другом.
12
Ирина Николаевна, учительница русского языка и литературы, ревниво оберегала дружеские отношения с непокорным классом, бунтующим против ее коллег. Сознание превосходства составляло ее тайную гордость, ее успех.
Она старалась его упрочить. Следила за новым в литературоведении, не пропускала интересных статей в литературных журналах и газетах и на уроках почти не прибегала к услугам учебника.
Ребята ценили ее знания. Ирина Николаевна первой сообщала им о появлении заслуживающих внимания книг, спектаклей, выставок. Даже в современной музыке пыталась разобраться и проявляла осведомленность. С ней было о чем поговорить.
Ирина Николаевна умела рассказывать, и у нее хватало терпения выслушивать…
Учительница русского языка и литературы одобряла всякую попытку размышлять по-своему. Но… о том, что уже кем-то было сказано. Свободомыслия Ирина Николаевна страшилась, хотя тщательно скрывала это от всех, кого учила.
Непросто сложилась ее жизнь. Годы работы в показательной школе при прежнем директоре, «госпоже министерше», приучили Ирину Николаевну к беспрекословному повиновению и вечной тревоге за свое будущее.
Она еще помнила открытые уроки молодой учительницы математики, бывшего классного руководителя теперешних бунтарей: математический футбол, эстафету вариантов решения одной задачи… А как полемично ставила и обсуждала она вопросы на педсоветах!
Но вот ее в школе нет, а она, Ирина Николаевна, по-прежнему превосходно ведет уроки литературы! И ее ценят!
Но если быть честной, хотя бы с собою, надо признать, что молодую учительницу математики ребята не просто ценили — боготворили. Именно после того, как ее отняли у класса, началась их агрессивность…
Ирина Николаевна тешила себя мыслью, что быть борцом не ее удел. И пусть это трусость или слабость, но она не может позволить себе ничего помимо хорошего знания литературы ее учениками. Нельзя ей рисковать: на ее попечении старушка мать и двое сыновей, которых еще предстоит поставить на ноги.
Сочинения, которые писали в этом классе, Ирине Николаевне нравились. Ребята тут подобрались умненькие и вполне образованные для своих лет. Прочитав их соображения о рассказе «Третий сын» Платонова, она с удовлетворением отметила, что Холодова знакома уже с послесловием к последнему изданию рассказов писателя. Толково и очень ловко переиначивала она на свой лад размышления литературоведа.
«Третий сын, — утверждалось в послесловии, — особенно требовательно отстаивает чувство единой жизни всех поколений, которое поддерживается спасительной скорбью по каждому отдельному человеку. Ничем нельзя, по Платонову, разделить людей, в том числе и самой смертью. Сила взаимного тяготения и делает людей не «пылью», а неуничтожимым и всемогущим человечеством».
«В рассказе «Третий сын», — пишет Холодова, — Платонов рассказывает нам, как по-разному переживают смерть матери шесть ее сыновей. Мы должны понимать, что писатель в своем творчестве отстаивает чувство единой жизни всех поколений. И если для нас не существуют те, кого уже нет, то нарушается связь времен. Никого нельзя считать «пылью», все люди находятся под влиянием силы взаимного тяготения, и именно это делает их всемогущим и неуничтожимым человечеством…»
«Поняла ли до конца Холодова, — подумала Ирина Николаевна, — что литературовед, объясняя художественно-философскую систему Платонова, показывает, как меняется и развивается она, следуя за жизнью, в середине и конце тридцатых годов? И то хорошо, что ученица не высказывает своего отношения к тридцатым годам! Кто знает, понравилось бы это новой директрисе, если бы она надумала прочитать сочинения?»
Она подчеркнула красным карандашом языковую оплошность: «в рассказе… рассказывается» — и, как всегда, поставила Холодовой «5» за содержание и «5» за грамотность.
Но по душе ей пришлись сочинения, в которых осуждались черствость и неблагодарность сыновей умершей старухи и восхвалялся третий сын, пытавшийся возвратить к печальному событию расшумевшихся братьев. Таких сочинений было большинство. Все ли одинаково думали? Во всяком случае, научились понимать, что следует писать, а что не следует, и выдерживали правила игры. Ирина Николаевна ценила тактичность.
Последним она прочитала сочинение Маши Кожаевой. Эта новая в классе девочка выводила ее из себя излишней свободой в общении и высказываниях.
«Мне рассказ Платонова не понравился, — искренне признавалась Кожаева. — Что Платонов хотел сказать? Что третий сын всех чувствительнее? Братья давно не видели друг друга, и они ведут себя как живые люди — обмениваются новостями, воспоминаниями. Гораздо хуже было бы, если бы они притворялись и лицемерили, изображая скорбь. Какое право имеет третий сын стыдить и поучать их? Что, он лучше всех знает, как правильно жить, и может указывать? Пусть каждый живет как хочет! Нельзя лишать личность свободы!»
Читая рассуждения Кожаевой, Ирина Николаевна все более раздражалась. Ишь! Защитница свободы личности! Все судят так, а она эдак! И какая черствость! Какой эгоизм! Ни капли душевности, сострадания!
«Твои рассуждения говорят о душевной глухоте», — сделала заключение Ирина Николаевна в конце листка с сочинением. И со злым усердием выправила все грамматические и пунктуационные ошибки. Возможно, она не осознавала, что в ней бунтует униженная смирением молодость. Тем более не догадывались об этом ее ученики, взрослеющие в иное время.
Сочинения, как и всегда, бурно обсуждались в классе. Когда очередь дошла до Кожаевой, Ирина Николаевна с подчеркнутым неодобрением прочитала вслух Машину работу и обнародовала свое заключение. Реакция оказалась непредвиденной. Кожаева вспыхнула, поднялась:
— Вы не смеете.
— Что я не смею? Оценить твое сочинение? — Ирина Николаевна не привыкла к дерзостям на ее уроках.
— Не смеете оскорблять! — твердо сказала Кожаева. — Я написала то, что думаю. Вам угодно, чтобы все думали одинаково? — Ее глубоко посаженные глаза стали наполняться слезами, а губы подергивались. — Хотите начинить наши головы одинаковыми продуктами и законсервировать до надобности? А я не хочу быть вашей консервной банкой!
— Ты… ты… да ты… просто мелкая душонка! — Ирину Николаевну трясло от возмущения и неприязни. Ребята никогда не видели ее такою. — Ты не хочешь, чтоб мы тебя начиняли, тебе нравится заморская начинка?! Это там, в чужих краях, ты растеряла душевность?! Тебе ничего не стоит ниспровергнуть писателя! Поставить под сомнение замечание учителя! — Ирина Николаевна безобразно кричала, и все притихли, не понимая, что вырвалась наружу долгие годы зревшая обида, растоптанное, никогда не осуществившееся желание встать и сказать однажды: «Вы не смеете!», что так легко далось теперь Кожаевой! Но разве Кожаевой было легко?
Машино лицо полыхало, руки дрожали. Но покоряться она не желала.
— Писатель — человек, и я, и вы тоже, надеюсь, — сказала Кожаева отрешенно, дождавшись конца грозного учительского монолога. — Все люди имеют право судить о делах и поступках друг друга. Я перестану уважать себя и вас, если вы не извинитесь за свою оскорбительную истерику.
— Я… я должна извиниться? Перед тобою?! — Ирина Николаевна негодовала. — Вот что. Или ты, Кожаева, остаешься в классе, или я. Ясно?
Маша не двинулась с места. Медленно, тяжело села. И голова ее, будто сделалась чугунной, стукнулась о скрещенные на парте руки. Ирина Николаевна пристально посмотрела на Кожаеву, на класс, схватила со стола журнал и ушла, хлопнув дверью.
Кожаева заплакала. Всхлипывая, она повторяла: «Что я сделала? Ну, что я сделала? Я написала, что думаю. Учат говорить правду, а потом за правду же попадает!..» Упоминание о «правде, за которую попадает», сразу вызвало симпатии к Маше. Они любили и выделяли среди учителей Ирину Николаевну, но когда она стала называть Кожаеву «мелкой душонкой» и вспоминать «заморскую начинку», все почувствовали растерянность, словно рушился последний бастион.
13
В жизни все взаимосвязано. Эта мысль, такая простая и древняя, почему-то не часто приходит к людям в повседневности. Сочинение, которое могло бы порадовать Ирину Николаевну, Маша Кожаева разорвала. А это, что так неожиданно спровоцировало скандал, написала после бессонной ночи, перед самым уходом в школу.
Родители Кожаевой оставались работать за границей, и Маша жила с братом. Всю жизнь отец был для Маши примером. То, что он утверждал, превращалось в правило. Его спокойное, доброжелательное отношение к людям становилось ее манерой поведения. Размышления отца о жизни, о светлых идеалах, о красоте мира с годами становились Машиным миропониманием. Отец был большим и сильным, Маша в шутку звала его «мой Портосик».
Брат нисколько не напоминал отца, он пошел в мамину родню. Невысокий, худенький, даже тщедушный, он выглядел слабым и беззащитным, но душою оказался сильным и неуязвимым. Пока они жили в Париже, брат оставался дома, учился в университете, потом служил в армии. Теперь он работал океанологом, с охотой занимаясь своими исследованиями, и утверждал, что за океаном — будущее.
О жизни, о людях, тем более об идеалах он никогда не говорил. После работы он отдыхал, читал, слушал музыку, ходил, как он объяснял, «культурно развлекаться». Но больше всего ему нравилось собирать друзей дома. Добрые отношения с друзьями он ценил превыше всего.
Его друзья, образованные и доброжелательные молодые люди и девушки, смотрели брату в глаза, с восторгом ловили каждое его слово и называли «совестью эпохи».
Машу поражало, что совсем взрослые люди с детским азартом играют в «детективы». Игра заключалась в том, что кого-нибудь выставляли за дверь, пока остальные придумывали сюжет и действующих лиц некоего преступления. Вернувшись из коридора, «сыщик» расследовал «преступление» и находил «преступника». Брат говорил: «Каждый по-своему убегает от трудностей бытия. Мне не по душе заниматься «бегом за инфарктом». И твои сенсы меня не увлекают».
Маша привыкла рассказывать отцу школьные новости, делиться с ним впечатлениями и сомнениями. Брат деликатно выслушивал ее, но в ситуацию, как отец, не вникал. Как-то он сказал ей: «Надо все воспринимать не страдая». В другой раз: «Единственным пороком осталось предательство. В ответ на все остальные обиды следует всего лишь пожимать плечами и отходить в сторону — в этом мудрость».
В Париже, в школе при посольстве, училось не так уж много ребят, и все хорошо знали друг друга. Однажды их класс не подготовился к контрольной по математике, и почти всем поставили плохие оценки. Учитель сказал: «Разрешу переписать, если согласятся все». Одна девочка, у которой, кроме пятерок, не было других отметок, заупрямилась. И у большинства в четверти получились тройки. Ту девочку, отличницу, вся школа осудила. Отец сказал: «Нужно уметь личные интересы подчинять интересам коллектива».
Брат, напротив, уверял Машу, что никого ни в чем нельзя принуждать. Все имеют право на собственную позицию. Тем более что никто и не знает точно, что верно, а что скверно. Поклонение авторитетам парализует человека. Надо переносить людей такими, какие они есть. Переделать людей, а тем более мир — невозможно, и незачем мучиться его несовершенством.
Маша терялась, мучилась, ей не хватало отца. Брат судил обо всем по-другому, но тоже убедительно.
Когда Маша поняла, что ребята переманивают ее из компании в компанию из-за записей, да еще используют посредником в своих не очень-то красивых отношениях, она плакала, просила брата перевести ее в другую школу. Брат смеялся:
— Ты что, глупая? Пусть они уходят! Выше всякого знания я ценю самопознание. Понимаешь, мы с тобою внешне не очень-то удались. Есть люди, которые с первого взгляда располагают к себе, пусть они в центре внимания, а мы станем интересоваться ими. Все любят, чтобы ими интересовались, выслушивали их, приходили в восторг. Проявляй любопытство к людям, и незаметно в центре событий окажешься ты…
Когда Маша поинтересовалась, что думает брат о «Третьем сыне» Андрея Платонова, он рассказал ей о Генри Форде.
Форда якобы спросили, в чем секрет его успеха? Он ответил, что если и существует такой секрет, то состоит он прежде всего в способности понять точку зрения другого человека и увидеть ситуацию под его углом зрения. Брат утверждал, что осуждать, указывать, говорить правильные слова удел ограниченных людей, а яркая личность живет независимо и тем самым отстаивает свои права.
Раздумья мешали Маше заснуть. Ворочаясь с боку на бок в ночной темноте, которая казалась густо-черной, душной и угрожающей, Маша слышала, как бродит из своей комнаты в кухню брат, что-то забыв или не в состоянии сразу успокоиться. Потом все звуки и шорохи стихли, и Маша услышала шум дождя и порывы ветра. Если бы она, как эти ветры, могла носиться по белу свету, то сейчас же перенеслась к отцу, и он нашел бы, как ее успокоить.
«А что, если отец не верит в то, что говорит? Просто успокаивает ее, считая, что она еще маленькая?!» Рассуждения отца о том, что личное нужно уметь подчинять интересам коллектива, в чем-то напомнили ей Викторию: «Дубинина, подбери волосы! Тесли, не распускай волосы!» Как-то Холодова, которая, казалось, совсем не боялась Виктории Петровны, прикинувшись простодушной, спросила: «А чем мешают школе наши прически?» Не задумываясь, завуч отрезала: «У школы должно быть свое лицо!»
«Выходит, — подумала Маша, — у школы должно быть свое лицо, а каждый из нас на свое собственное лицо не имеет права?»
К утру, как только забрезжил рассвет, Маша поднялась, разорвала сочинение о рассказе «Третий сын», которое представлялось ей теперь пресным и ничтожным, и написала то, другое, что так неожиданно вывело из равновесия Ирину Николаевну.
14
Не только великие цели и задачи способны объединять. Пережитое и выстраданное вместе связывает не меньше.
Почувствовав общее подавленное настроение, Венька воскликнул:
— Дружбаны! Где фонтаны? Где фейерверки? Кончай травить о смысле и красоте жизни! Лови красоту и кейфуй!
На лицах, озадаченных неприятностями, появились улыбки.
Венька почти всегда вызывал улыбку. Не ироничную, злую и неприемлющую, а добродушно-снисходительную или просто веселую.
— Дружбаны! Балдежку сварганим?!
Все закивали и довольно захмыкали. Выяснилось, что в воскресенье можно собраться у Столбова. Воскресным вечером Алешкина мама была занята в спектакле, а папа — на съемках в киностудии.
Ребята так устали от постоянного неудовольствия учителей, что даже Холодова согласилась идти к Столбову, а Киссицкая явилась одновременно с Дубининой. И Кожаева перестала обижаться на ребят за интриги, в которые они ее тайно вовлекали. Вениамин торжествовал.
В тот воскресный вечер он был в ударе. Недавно созданному ансамблю он приказал явиться с гитарами, а ударные инструменты оставались всегда у Алешки: репетировали у Столбовых.
Ансамбль под управлением маэстро Прибаукина знакомил слушателей со своим искусством.
пел Веник весело и звонко, —
— Эх-ма, тру-ля-ля, эх-ма, тру-ля-ля! — подпевали Пирогов, Кустов и Столбов, тоже весьма довольные собою и доброжелательным любопытством слушателей.
заливался Веник.
Ансамбль подпевал ему:
— Эх-ма, тру-ля-ля, эх-ма, тру-ля-ля!
— Па-па, пара-па-па-па! — подхватывали остальные, притоптывая в такт ногами, постукивая руками по столу и подергивая плечами.
— А чьи стихи, чья музыка? — спросила Киссицкая.
«Зануда она все-таки!» — с досадой подумал о ней Пирогов, но немедля галантно ответил:
— Стихи поэта Григория Поженяна, исключая, разумеется, припев, а музыка… народная…
Петь больше не хотелось, и Прибаукин затеял танцы.
Изобретая немыслимые и виртуозные па, заражая всех весельем, Венька лихо пытался ввести в штопор Юстину, но у Юстины, робкой в движениях, не получалось.
— Эх-ма, тру-ля-ля! — огорчался Веник, и, оставив Тесли в недоумении, выхватил из стайки девчонок гибкую и пластичную Дубинину. Приподняв Олеську, Венька почувствовал, что лицо его покрывает золотистый мягкий дождь пахнущих осенними листьями волос, а голова кружится и руки слабеют. Венька резко опустил Олеську и еще раз удивился, как необыкновенно она хороша. И тут же заметил, что так же ошеломленно смотрит на Олеську Пирогов. И все взоры обратились к ней.
Не успев еще сообразить, что произошло, Олеська своевольным движением плеча откинула золотые волосы назад, посмотрела на всех удивленно.
— Расстегнулось, — насмешливо сказала Киссицкая, повторяя ситуацию, так некстати сложившуюся для нее самой на вечере.
Олеська в отличие от Киссицкой никак не выразила своих чувств. Едва наклонила голову, глянула мельком: кофточка действительно расстегнулась. Тогда Олеська тряхнула головой, золотой дождь рассыпался по плечам, заслонил грудь от посторонних глаз.
— Ну, зачем же? — сказал весело уже пришедший в себя Прибаукин, — Искусство должно принадлежать народу…
Напряжение разрядилось улыбками, но танцы как-то сами собою прекратились. Киссицкая зло посмотрела на Прибаукина и многозначительно на Юстину. Юстина ответила ей благодарным, грустным, понимающим взглядом.
Отойдя в сторону, Киссицкая стала рассматривать картину на стене. Заинтересованно и громко спросила, обращаясь к хозяину дома:
— Лехочка, не скажешь, кто автор этой картины? — Она умела незаметно переключать внимание на себя.
— Какой-то приятель отца, — нехотя отозвался Столбов, развалясь в кресле и мрачно покусывая ногти. Он был единственным мрачно настроенным человеком в этой веселой компании. — А что, тебе нравится?..
Поскольку танцы утихли и компания отдыхала, все уставились на картину. На фоне ярко-синих гор, в голубоватой воздушной дымке стояла девушка в розовом. Левое плечо кокетливо выставлено вперед, длинные светлые волосы искрятся в лучах заходящего солнца. Глаза удивленно и радостно смотрят на мир… Чем-то девушка напоминала Олеську, но смотрела иначе, доверчивее, мягче.
— Ничего, миленькая картинка, — оценила Киссицкая, — простенько, но с большим чувством… — и улыбнулась ехидно.
— Я не понимаю, — медленно произнес, не поднимаясь с кресла, Пирогов, — ты меня извини, Алексис, зачем рисовать даму в розовом, даже если у нее в глазах большое чувство?..
— Что ты имеешь в виду? — насторожилась Киссицкая.
— Ну, если я захочу посмотреть на красивую девушку, я могу это сделать и в жизни, — пояснил свою мысль Пирогов, стараясь не встречаться взглядом ни с Дубининой, ни с Киссицкой, ни с кем другим, — А большое чувство я каждый день вижу в глазах своих родителей… — Он помолчал и добавил: — Живопись сделала такой скачок вперед, что теперь просто стыдно так рисовать. Ты, конечно, извини, Алексис… Искусство должно трансформировать жизнь, потому что скопировать ее оно все равно не сможет…
— Что же ты хочешь сказать, что «Незнакомка» Крамского или «Боярыня Морозова» Сурикова и не искусство вовсе? — вмешалась Маша Клубничкина.
— Тогда так думали о жизни, а сейчас это уже устарело. Искусство отражает уровень мышления. Но я никому не собираюсь навязывать своего мнения. Просто, мне кажется, в наше время если картину можно объяснить словами, то это уже назидание, а не искусство.
— Что же тогда искусство? — грубовато атаковала Клубничкина.
— Мастерство художника в композиции, колорите, цветовой гамме, световом решении… Искусство должно возбуждать чувства, эмоции, заставлять звучать внутренние струны…
— Ну, и как они будут звучать, — попыталась полемизировать Маша. — Если я смотрю на картину как баран на новые ворота и не могу объяснить словами, что нарисовано?..
— Ну, на баранов новое искусство не рассчитано, — с легкой улыбкой покровительственно объявил Пирогов, — Ты будешь стоять, долго смотреть, думать, и, может, со временем в твоем мозгу мелькнет хоть какая-нибудь мысль…
— А в твоем мозгу мелькают мысли, когда ты смотришь на всех этих шарлатанов? — обозлилась Маша, вспомнив высказывания отца о художниках-модернистах.
— Зачем ты так? — вмешалась в разговор до сих пор не вымолвившая ни слова Маша Кожаева. — Ты же не видела этих картин. Ты, наверное, и Пикассо, не видела, и Дали, и многое другое, а осуждаешь все с чужих слов.
Маша Кожаева с детства знала отца Клубничкиной. После возвращения из Парижа она пару раз, по секрету от Дубининой, бывала в гостях у Клубничкиных. Отец Маши показался ей радушным и гостеприимным человеком, сразу вспомнил подружку-тезку, расспрашивал о Париже. Но обо всем заграничном высказывался с неодобрением. Маша призналась, что спорить с отцом бесполезно. Отец — человек военный и привык, что младший обязан беспрекословно подчиняться старшему. Понимая, что суждения отца не совсем верные, Маша Клубничкина невольно разделяла их.
— Интересно, — Кустов в этот вечер пребывал в прекрасном настроении, совершенно размякнув возле своей любимой Холодовой, — что же получается: свободу новаторам производства?! И долой новаторов живописи?! Как понять все эти противоречия нашей убедительной действительности?..
— Слушайте, умники, — неожиданно как всегда, предложил Прибаукин. — Проведем эксперимент. Возьмем столбовскую картину, а ты, Князь, для сравнения принесешь какую-нибудь абстракцию своего отца. Предложим все это широкому потребителю и посмотрим, за что больше дадут купюр?
— Широкий потребитель еще не ценитель, — заволновался Пирогов.
— Почему? — Прибаукин сегодня был настойчив, — Искусство должно принадлежать народу! Я поговорю с барменом. Отличный паренек, и связи у него шикарные. Он найдет стоящих ценителей.
— Ну, я не знаю, — засомневался Пирогов, — Отец не согласится, а без спросу я не приучен…
— Трус ты, Князь. Скажи, что испугался за своего папашу. Может, он действительно только мазила и шарлатан, а не художник?
— Пошел ты!.. — не сдержался галантный Пирогов. — Чтобы твоя безмозглая башка уразумела, что к чему, я согласен. Но продавать мы ничего не будем, только приценимся. И я сам поприсутствую при этой оценке.
— Я и не собирался торговать, — обиделся Прибаукин. — Просто я уже выпал в осадок от ваших теоретических споров. Общество учит нас слова подкреплять делом.
— Ой, ребятки, — будто проснулся Алешка, — я вам знаете, что еще дам? Колечко. Возьмете? — Толстый, неповоротливый, он неправдоподобно резво вскочил с кресла, выбежал из комнаты и вернулся с крупным перстнем старинной работы. На светло-бежевом камне все увидели нежный женский профиль, искусно высеченный из белого мрамора.
— Камея, — пояснил Алексей. — Моя мать теряет рассудок, когда напяливает такие штуковины. Увидите, большинству наплевать на ваших академистов и модернистов, им подавай вещички, изделия.
— А что? — обрадовался Прибаукин, — Интересная мысль! Попробуем?
— Чур, я тоже присутствую при выяснении ценностей, — решительно заявила Маша Клубничкина, — Раз я баран, я хочу знать, в те ли ворота я упираюсь?.. Пирогов, — без лишних церемоний обратилась она к Игорю, — подыщи нам что-нибудь аналогичное столбовской картине — в розово-голубой гамме, или, как там это называется, колорите? Наверное, твой отец рисовал что-то розово-голубое, символизирующее удачный брак?..
— Сударыня, вам не кажется, что вы грубы и неделикатны? — Пирогов явно был растерян и не знал, как правильнее себя вести, что с ним почти не случалось.
— Подумаешь, какой нежненький!.. — возмутилась Клубничкина. — Чего ты боишься-то? Все будет о’кэй.
Прибаукин включил магнитофон. Ритмичная, бравурная музыка заполнила пространство, снова возвращая всех в состояние веселой беззаботности.
— Дружбаны! — широко раскинув длинные руки и пытаясь перекричать музыку, заорал Прибаукин, — Я научу вас еще одной чудненькой детской игре. Сам услышал о ней недавно и спешу поделиться с друзьями.
Все оживились, с любопытством поглядывая на Веньку.
— Игра называется «Саранча», — удовлетворяя всеобщее любопытство, излагал Венька. — Запомните, «Са-ран-ча»! Как говорит наша уважаемая Цица, простенько, но с чувством… Приходишь к другу в гости, и если он сам тебя не угощает, то всей компанией наваливаешься на холодильник. И вот, стол уже накрыт. Прямо скатерть-самобранка! Фирма́!
— Ты что, смеешься, что ли? — изумился Пирогов.
— Я не смеюсь, — совершенно серьезно ответил Прибаукин. — При возросших возможностях трудящихся масс, я думаю, эта весьма гостеприимная семья не пострадает, если мы удовлетворим свои скромные потребности. Есть же хочется, дружбаны?
— Ну да… Ну конечно же, — спохватился нескладный Алешка. — Мама сама предложила, чтобы я вас накормил… Там все оставлено в холодильнике, но вы же танцевали… и потом это… спорили…
— Вот видите, — внушительно произнес Прибаукин. — Я всегда прав. А почему? А потому, что я ближе вас к простому народу…
Никто не стал Прибаукину возражать. После споров и танцевальной встряски всем и вправду хотелось есть, и девочки быстро накрыли на стол. И балдежка покатилась дальше с новой силой.
Кустов был счастлив от того, что Холодова никуда не торопилась. Он придвинулся к ней и мечтал, что она позволит ему снова таскать ее портфель и провожать до дома. Он не мог предположить, что его Оля-Соколя едва сдерживает себя и так благосклонна к нему и ко всем только потому, что для поездки с ансамблем в Бельгию ей нужна характеристика. На скорую руку она завоевывает дополнительные симпатии, упрочивает добрые отношения с коллективом.
Маша Клубничкина пребывала в прекрасном настроении, потому что снова представила себя в роли миледи, блистающей на званом и шикарном балу среди знаменитостей высшего света. Своей веселостью она доставляла немало радости Валерику Попову, который раньше не находил случая приблизиться к ней. Дубинина от души развлекалась, глядя, как робко маленький голубоглазый Попик простирает свою хрупкую ручку на массивное плечо Малинки, и не без удовольствия ловила на себе влюбленные взгляды Пирогова и Прибаукина. Не ускользала от ее внимания и злобная улыбка Киссицкой, которая пыталась показать всем, что ужасно веселится. И растерянную, судорожную гримасу на лице Юстины Тесли она видела. Тесли Олеське было жалко. Неужели Вениамин, добрый малый Венька, позабавившись любовью к своей Ю, отвернется от нее? «Мужчины таковы, — заключила Олеська, — надо их крепко держать в руках!»
Киссицкая сначала нервничала, перехватывала взгляды Пирогова на Дубинину, а потом стала обдумывать хитрый план спасения своих отношений с Пироговым и развеселилась.
Прибаукин, вне всякой зависимости от обстоятельств, всегда пребывал в прекрасном расположении духа. А Маша Кожаева радовалась, что мало-помалу становится среди ребят своим человеком и Алешка уже не смотрит на нее так затравленно, привыкает. Она отвлеклась от всего, что тяготило ее, и принимала живое участие в беседе.
Но больше всех счастлив был Столбов. Избавляясь от ненавистного кольца, ему казалось, он избавляет мать от пагубного пристрастия к побрякушкам!..
15
В один из дней Ноябрьских праздников Алешина мама не была занята в спектакле и отец не торопился на киностудию. Дни стояли солнечные, мама придумала всей семьей пойти погулять. Отец никогда ни в чем не отказывал ей. Он был значительно старше, относился к жене покровительственно, как к девочке, и когда-то это не нравилось Алеше. Потом он перестал замечать родителей.
Семейная прогулка не входила в его планы. И вообще представлялась вздорной прихотью матери. Развалившись в кресле и мрачно покусывая ногти, он думал о том, как смешно будет выглядеть «за ручку» с папочкой и мамочкой.
Ему хотелось встретиться с Прибаукиным, прошвырнуться с его дружбанами, «побалдеть» в гриль-баре, потрепаться и послушать музыку. То, что мать с отцом никогда не хотели считаться с его собственными намерениями, злило и обижало Алешу.
Молча изучал он потолок, который и так знал до мельчайших подробностей.
Мама заплакала. Отец тут же стал называть его толстокожим эгоистом и попрекать отметками в школе, несобранностью, безответственностью и полным отсутствием каких-либо достойных желаний и устремлений.
Алеша стойко выносил все обидные слова отца, а потом отключился и размышлял об ансамбле, который они создали. Ему ужасно хотелось написать для ансамбля песню. Он знал, о чем сказать людям, но выразить мысли стихами никак не удавалось. Едва справляясь с непослушными рифмами, он не сразу почувствовал, что отец трясет его за плечи. Совершенно остервенев от гнева, отец кричал ему:
— Ты что, и правда полная тупица, как утверждает Виктория Петровна, или только притворяешься, чтобы удобнее было жить?
С недоумением поглядев на своего величественного отца, Алешка ошалело спросил:
— А что случилось-то?
Ничего не объясняя, отец заявил:
— В общем, так: или ты идешь с нами, или я больше никогда не возьму тебя на просмотр в киностудию и вообще не буду иметь с тобою ничего общего!
Алешка высвободился, передернул плечами, словно стряхивая с себя физические и словесные притязания отца, и, не понимая зачем, согласился:
— Ну, пойдем, раз это так для вас важно.
Отец вздохнул с облегчением, а мама сразу же зашевелилась в своей комнате, принялась что-то передвигать, хлопать крышками коробочек, в которых хранились ее побрякушки. И вскоре появилась сияющая, накрашенная и вовсе не заплаканная. Как только ей удавалось сохранять сухими глаза после громких, надрывающих душу рыданий?
Алешка, не торопясь, натянул на себя самые старые и уже заплатанные джинсы, выношенный, насквозь просвечивающий свитер, нехотя напялил куртку, давно ставшую ему тесной.
Торжественно, всей семьей, как хотелось матери, они двинулись вдоль улицы. Мать была счастлива. Длинная, почти до пояса, нить крупного жемчуга заменяла ей шарф и оттеняла черное легкое пальто. В ушах и на среднем пальце левой руки сверкали камеи. Уже этого было достаточно, чтобы привлечь к себе внимание, но матери хотелось не только привлекать взгляды толпы, но еще и парить над нею. И она носила шляпы с великанскими полями. Может, шляпа казалась ей парусом? Или парашютом? Алешка не видел ее лица… Они с отцом тащились сзади, как шлейф, не глядели друг на друга и молчали.
Алешке представилось, что они с отцом и все другие люди вокруг находятся в партере, а мама — на возвышении, на подмостках сцены. Он попробовал еще раз отключиться, последнее время это у него хорошо получалось. Шум толпы убаюкивал, и, будто покачиваясь на легких волнах, он снова принялся искать рифмы для своей песни… И тут опять услышал крик отца. Пришел в себя и не увидел перед собою матери. Отец стоял рядом с ним, словно застыл навеки. У его ног чуть вздрагивала шикарная мамина шляпа с великанскими полями.
В сказках и древних легендах герои, случалось, проваливались в преисподнюю, исчезали в разверзнувшейся на пути бездне. Слышал он и в разговорах, как люди уверяли друг друга, что могли бы провалиться сквозь землю со стыда. Но никто никуда не проваливался, быстро усмиряя свою покорную совесть. Теперь же мама и впрямь исчезла, и Алешка затих, не понимая еще, что произошло.
— Что ты стоишь? — одернул его отец. — Что ты стоишь, словно соляной столб?! Мы потеряли маму!.. — Он почти кричал, пытаясь с трудом и очень неловко согнуться и ухватить одною рукою шляпу, другою — придерживая радикулитную поясницу.
Алешка тупо смотрел на отца и, как парализованный, не мог сдвинуться с места. Когда шляпа оказалась уже в отцовских руках, Алешка увидел, что она скрывала под собою водопроводный люк. Выходило, что мама упала в люк. Витая над землей, не заметила предостерегающего знака.
— Беги к автомату! — громко и нервно закричал отец. — Надо вызвать милицию! «Скорую помощь»!..
Вокруг собралась толпа. Люди дивились происшествию и оживленно обсуждали дальнейшие действия. Один человек сказал:
— Надо вызывать не «скорую», а пожарную. Слышишь, мальчик, звони в пожарную часть!..
— Что ребенка-то тыкать! — услышал Алешка рядом с собою сердобольный женский голос. — Ребенок, поди, и так расстроен: шутка ли, мать на глазах погибла. Чего рты-то разинули, давно бы уж сами сбегали, набрали 01, там и без двушки отвечают!..
Алешка похолодел, услышав, что мама погибла. Это просто не укладывалось в голове. Как это — погибла? Он стремительно бросился на землю рядом с зияющим чернотою люком и заглянул в темный проем.
— Ну, что… Что там? — зашумели столпившиеся зеваки.
Алешка неподвижно лежал, распластанный на земле, и понимал, что не сможет подняться.
Он слышал, как отец нервно и нетерпеливо закричал:
— Господи, ты заснул, что ли?! Спящая красавица! — В гневе и волнении он не очень-то церемонился с сыном, называя его «спящей красавицей», «трахнутым пыльным мешком по голове» или «позором семьи». Но даже если бы при всех отец назвал его «позором», Алешка не был уничтожен и раздавлен больше, чем картиною, открывшейся его взору.
Нет, мама не исчезла в темной, бездонной бездне, не провалилась, как Алиса в Страну Чудес, она была совсем близко от него. Присмотревшись, он обнаружил, что мать сидит верхом на спине какого-то человека, совсем так же, как он когда-то в детстве в зоопарке устраивался на маленькой и выносливой лошадке — пони.
Этот человек спускался, должно быть, по лестнице в глубину колодца, чтобы определить место повреждения. Как только удержался он на лестнице, когда сверху на него свалилась женщина?.. Как справился с испугом?.. Говорят, в момент опасности люди судорожно хватаются за спасительную соломинку и рука застывает в судороге. Может, именно судорога помогла этому человеку накрепко вцепиться в лестницу и замереть с непосильной ношей на шее. Каково ему было!
Мысли мелькали в Алешкиной голове с быстротою звука, а тело сделалось грузным и непослушным. И вдруг он совершенно ясно услышал голос матери. Она не звала на помощь, не выражала испуга или тревоги. Она произносила слова, которые прежде всего слетали с ее уст, когда она чувствовала, что должна защищаться. Она повторяла:
— Я — Пыжова, вы слышите, я — Пыжова! Вы, наверное, знакомы с фамилией нашего древнего актерского рода? А мой муж — Столбов! Вы не смотрели его фильмы?!
Алешка обезумел: «Кому она это говорит? Рабочему, придавленному ее тяжестью? Людям, столпившимся вокруг зияющего темнотою люка? Или, может, самой себе, чтобы увереннее чувствовать себя не только на земле, но и в подземелье?» И вдруг снова, но уже настойчивее и раздраженнее, прозвучало:
— Да не шевелитесь же вы! На мне фамильные камеи! Их носила еще моя прабабушка! Вы их поцарапаете!..
Алешка приткнулся щекою к холодному шершавому асфальту, скрывающему живую и теплую землю. Подумал: «К черту! Все к черту! Все эти камеи, жемчуга, все фамильные побрякушки ко всем чертям! И шляпы с полями тоже к черту! Стыдно оторваться от асфальта и поднять глаза стыдно! Стыдно!» — последнее, что пронеслось в сознании, и он отключился, уже не на время, а вовсе.
Очнулся он в травматологическом пункте. Прямо перед собою увидел мощную фигуру молодого человека, которому люди в белых халатах массировали шею, вправляя вывих или еще как-то врачуя последствия случившегося. А мама, живая и невредимая, сидела поодаль и как ни в чем не бывало снова объясняла кому-то, что она Пыжова, и ждала восторгов.
Из разговоров он понял, что пожарным пришлось спускать в люк лестницу, вытаскивать с трудом сначала маму, а за нею богатыря-рабочего и немало повеселить этим оправившуюся от ужаса и сострадания толпу. «Хорошо, что я ничего этого не видел», — порадовался Алеша и наотрез отказался возвращаться домой. Потребовал, чтобы его отправили к бабушке. У бабушки провел он оставшиеся дни осенних каникул, поклявшись себе, что вернется в родительский дом только затем, чтобы вышвырнуть в мусоропровод все эти камеи. Может, тогда мать опомнится и станет нормальным человеком?! Мысль о том, что вещи душат и делают безумными людей, преследовала его давно.
Но не так-то просто оказалось осуществить этот замысел. Мать к камеям была привязана и почти никогда с ними не расставалась. В то воскресенье, когда Алеша пригласил друзей, она долго возилась на кухне, приготавливая угощение, и в спешке, опаздывая в театр, забыла кольцо на полочке в ванной комнате, где мыла перед уходом руки.
16
После того как на улице Алеша потерял сознание, отец больше не кричал на него и не выговаривал за всякую пустяковину. Мама тоже притихла, и в доме стало непривычно спокойно. Алеша постоянно ловил на себе тревожные и недоумевающие взгляды родителей и терялся в догадках, что им от него надо?
Разговаривать с отцом и матерью он не намеревался, тем более о чем-либо просить их. Но отказать Прибаукину в гостеприимстве Алеша не посмел. Мрачно объявил он, что в воскресенье к нему придут ребята. Мать, а вслед за нею и отец обрадовались. Алеша никогда не мог понять их, да и не старался особенно. Все равно они редко виделись, и у каждого была своя отдельная жизнь.
Отсутствие картины и пропажу кольца мать обнаружила не сразу. После спектаклей она уставала, долго металась по квартире, а потом быстро ложилась. Но утром, еще не проснувшись как следует, Алеша услышал из кухни ее истерический шепот. Он оделся и, тихонько притворив за собой входную дверь, опрометью бросился на улицу. Пробежал квартал и из автомата позвонил Веньке:
— Начнется заваруха — не раскалывайтесь!
— А ты где будешь? — прикрывая трубку рукой, прошептал Венька.
Алеша задумался.
— Говорите, что не знаете. И чтоб Кися не выставлялась! Твои дружбаны не прикроют меня на пару дней?
— Понятно, — одобрительно отозвался Прибаукин. — И заметано. Вечером позвонишь.
Алеша никогда не мог объяснить своих поступков. В нем с ранних лет жила уверенность, что все без особых усилий с его стороны как-нибудь устроится. Ему невдомек было, что он совершил кражу, что, не обнаружив его дома, родители будут волноваться. Тем более не предвидел он, что мать с отцом обратятся в милицию.
Вечером, услышав от Вениамина, что все подняты на ноги, а в школе переполох и Виктория мечется как сыщик, Алешка с ненавистью подумал, что предки совсем спятили.
Через день все вещи спокойно вернулись бы в дом. И он рассказал бы родителям, как ребята поспорили и как надумали разрешить этот спор. И они вместе посмеялись бы. А теперь, когда началось милицейское расследование, все равно никому ничего не объяснишь и пусть мать с отцом пеняют на себя. Пусть катится все к черту! Он спрятался у Венькиных друзей и вовсе перестал размышлять о последствиях случившегося.
Самые близкие люди иногда больше всего мучают друг друга. Дети отказываются понимать дневные страхи и ночные тревоги своих родителей. Родители не в силах осознать, что многие поступки их взрослеющих детей совершаются не из жестокости, эгоизма и дурных наклонностей, а без всякой видимой и объяснимой причины: в минуты отчаяния или сомнения, неожиданного злого или доброго порыва, — а такие минуты выпадают и у взрослых, только они опытнее.
Во время уборки квартиры никому не приходит в голову созывать к себе в дом гостей. А в душу к подросткам незваные, нетерпеливые и назойливые посетители напрашиваются, не желая дождаться, пока там все окажется на своих местах, все будет прибрано.
Разговоры с одноклассниками Столбова не приносили успеха ни Анатолию Алексеевичу, ни Надежде Прохоровне, ни тем более Виктории Петровне. Напротив, эти беседы, претендующие на откровенность, сильно ухудшили отношения Анатолия Алексеевича с классом.
Столбов не приходил на занятия и не появлялся дома. Милиция требовала, чтобы ребята по одному являлись на беседу к следователю. Надежда Прохоровна просила подождать. Она чувствовала, что ничего страшного не произошло. Иначе волновалась бы и «вся честная компания», а они были подавлены, но спокойны. Уроки в этом классе не «получались» даже у самых опытных учителей. Виктория Петровна поверила, что снова пробил ее час.
17
Как спортсмен, приготовившийся для прыжка, неутомимая Виктория Петровна напрягла все свои силы в единый порыв и бросилась на урок к учителю по французскому, Льву Ефимовичу.
Лев Ефимович давно преподавал в этой школе. На его уроках никогда не происходило никаких безобразий. Никто не успевал ни поболтать, ни пошуметь, ни отпустить шуточку. Все, кого он учил, со временем легко и без ошибок писали и говорили по-французски, удивляя прекрасным произношением.
Большую часть урока Лев Ефимович уделял игре и живому общению. Начинали всегда с обсуждения какого-нибудь изречения. Зная об этом, Виктория Петровна настойчиво упрашивала Льва Ефимовича дать ребятам фразу, которая, как ей казалось, имеет для них потаенный смысл: «Все средства хороши для достижения цели». Возможно, она хотела заставить ребят задуматься над их поступками? Или вызвать на откровенность?..
Лев Ефимович усердно и терпеливо отговаривал завуча от ее затеи, ссылаясь на сомнительный смысл высказывания, и с огорчением наблюдал, что его не хотят услышать.
Учитель французского не понимал и не принимал людей категоричных и настырных. Властные и шумные женщины отталкивали его. С трудом сохраняя вежливость хорошо воспитанного человека, он старался как можно реже общаться с Викторией Петровной. Противостоять ей, переубеждать ее, а тем более бороться с нею Лев Ефимович не умел и не находил возможным, даже когда видел, что завуч не права.
После очередной атаки Виктории Петровны он сдался. Он утешал себя тем, что Виктория Петровна, если и придет на урок, по-французски ничего не понимает. За двадцать с лишним лет во французской школе она так и не удосужилась выучить хотя бы десяток французских слов. Теперь он воспользуется этим.
Лев Ефимович не учел неисчерпаемой изобретательности этого сложного человека. Виктория Петровна появилась в классе до звонка и, не теряя времени, подсела к Маше Кожаевой, блестяще владеющей французским. Что оставалось Маше, как не переводить?
Ребята разбирались в лабиринте характера завуча гораздо лучше, чем Лев Ефимович и все другие учителя. Как только Виктория Петровна наклонилась к Кожаевой, класс смекнул: изречение брошено им, словно кость, которую они обязаны обгладывать. Обменявшись взглядами, они приготовились к атаке.
Холодова, опять Холодова, посмотрела на завуча насмешливо и с явным расчетом на перевод произнесла:
— Эта фраза всего лишь вольное изложение лозунга иезуитов: «Цель оправдает средства». Кто такие иезуиты, чем они занимались, всем известно. Нормального человека не привлечет такое изречение, и я не понимаю, зачем нам его предлагают?..
— История знает немало примеров, — перехватил эстафетную палочку Пирогов, — когда, преследуя якобы благородные цели, люди, обладающие властью, добивались своего весьма неблагородными путями. Вспомним, — он остановился, приложил руку ко лбу, — хотя бы Ивана Грозного! — «Хотя бы» он выделил интонацией.
Они все без затруднения говорили по-французски, но Пирогов, как и Холодова, не спешил произносить слова, то и дело прерывая свою речь вопросом: «Как это по-французски?»
— Так вот — как это сказать по-французски?.. — грозный властелин, наводя в своих владениях порядок, потихоньку уничтожал оппозицию, не так ли?..
— Я с вами совершенно согласен, — на лету поймал его вопрос Славик Кустов, — Если власть попадает в руки жестокого и самовлюбленного человека, не жди от него пощады. — Славик тоже прикидывался, что не может подыскать нужного в чужом языке определения: «Как это сказать по-французски?»
Лев Ефимович видел, как неохотно, с некоторым смущением согласилась переводить Маша Кожаева. Зато с каким усердием и, пожалуй, злорадством переводила она теперь совершенно синхронно все сказанное специально для завуча. Он чувствовал, что Виктория Петровна возмущена, но перебивать и одергивать учеников было не в его правилах. В конце концов Виктория Петровна сама напросилась на эту беседу…
И все же Лев Ефимович нервничал. Он с трудом переносил любые скандалы, даже если они его не касались. А тут — на его уроке! — ученики позволяют себе неслыханную дерзость по отношению к учителю, к женщине… Но разве из сказанных ими слов следует, что относятся они к Виктории Петровне? Неубедительное утешение, и все же нет повода вмешиваться…
Виктория Петровна не ожидала, что ее прекрасный замысел обернется против нее самой. Теперь она не прочь была сбежать с французского, но это означало бы открыто признать поражение…
Даже Прибаукин пытался говорить по-французски. Лев Ефимович едва сдержал улыбку, услышав нескладную, пересыпанную чудовищными ошибками французскую речь Вениамина. Только крайняя ситуация заставила Прибаукина хоть как-то склеивать слова:
— Получить бы столько средств, чтобы оправдать ими все цели, вот была бы жизнь!..
Все покатились со смеху. Никто не умел, как Вениамин, в самые сложные моменты вносить живительную струю веселости. Для Льва Ефимовича получился удобный момент, чтобы уйти от неприятного разговора. И тут, как нарочно, вмешалась Виктория Петровна.
— У тебя, Прибаукин, — сказала она по-русски, — на уме одни развлечения!
— Ну, я же еще не такой старый… — тоже по-русски огрызнулся Прибаукин.
— Честь нужно беречь смолоду! — нравоучительно произнесла Виктория Петровна. — И никого не тащить за собой в пропасть!..
Лев Ефимович с содроганием смотрел на гостью, а у ребят слова о чести и пропасти, в которую никого не надо тащить, вызвали подозрение. Не выведала ли Виктория что-нибудь об истинной причине пропажи картины и кольца в доме Столбовых?
Уже у двери завуч остановилась и враждебно добавила:
— Погрязли в болоте лжи. И критиканства! Ишь осудили Ивана Грозного! (Она умела отводить от себя стрелы.) А сами?.. Вести себя не научились, а уж пожалуйте… прогресс вперед… осуждают!..
— Но рот нам никто не заткнет! — быстро выкрикнула по-русски Клубничкина.
Все снова истерически захохотали.
Не успела завуч покинуть класс, вслед за нею вышел и Лев Ефимович. Он не мог позволить себе оставаться со столь распустившимися учениками. И не желал обсуждать с ними их поведение. Свой протест он выражал молчаливым действием. Ребята остались в классе одни.
— Кися, — громко позвал Прибаукин, — признавайся честно, Цица ты наша ненаглядная, ты заложила?
Вздернутый носик Киссицкой задвигался от возмущения:
— Как ты смеешь?! Ты… ты…
— Не ссорьтесь. — Холодова, не медля, бросилась гасить небезопасный для всех скандал. — Не время ссориться. Надо сегодня же пойти к Столбовым, все объяснить и извиниться.
— Так их же вечером не бывает дома, — попробовал сопротивляться Венька.
— Значит, завтра утром. Встречаемся у их дома в восемь. И чтоб Алешка был тоже, как штык! — приказала Холодова и посмотрела сначала на Вениамина, а потом на всех остальных невозмутимо холодно. — Понятно?
— Что ты выступаешь? — подключилась к обсуждению вопроса Клубничкина. — Тебе что, больше всех надо?
— Да, мне надо! — отрезала Холодова. — Мне надо. Если вы не придете, я расскажу там обо всем сама. — Она привычно быстро схватила свой портфель и вылетела за дверь.
— А она ведь, дружбаны, пойдет и одна! Так что собираемся все в восемь! — объявил Прибаукин.
— Кися! — вернулась к тому, что беспокоило всех, Клубничкина. — А все-таки: Виктория у тебя о чем-нибудь спрашивала?
— И у тебя спрашивала, и у всех. — Киссицкая заметно волновалась.
— И ты ей намекнула? Ну, скажи честно родному коллективу, а?
— Отстаньте вы от меня! — уже со слезами выкрикнула Киссицкая. — Ни о чем я не рассказывала. — Она тоже схватила портфель и побежала прочь от своих товарищей…
Они давно учились вместе и неплохо знали друг друга. Киссицкая говорила правду, она не рассказала Виктории Петровне о том, что произошло у Столбовых. Но в то же время, эта правда была неполной, половинчатой. Когда Виктория Петровна пытала ее вопросами, Киссицкая молчала. Но в конце разговора не преминула, по своему обыкновению, сгладить впечатление, попыталась утешить завуча:
— Не волнуйтесь так, Виктория Петровна, ничего особенного не случилось. Через день-другой все само собой образуется. Вы же знаете Прибаукина и Клубничкину, без фантазий они не могут.
В тот день, когда случился скандал на французском, произошло еще одно печальное событие. Порывшись в портфеле, Вениамин Прибаукин не обнаружил там своего дневника. Не того дневника, в котором Виктория Петровна изощрялась в угрожающих посланиях родителям, а личного дневника, в котором почти ежедневно делал записи сам Вениамин.
Часть третья. Расплата
1
Спрятавшись под лестницей, ведущей на чердак, в стороне от всех пыталась справиться с собою Оля Холодова. Анатолий Алексеевич объявил, что педсовет отказался утвердить характеристику, выданную Холодовой комитетом комсомола для поездки с ансамблем в Бельгию.
В чем, собственно, она провинилась? Учится на пятерки. Политинформацию проводит. Что еще? Дерзит? Бунтует? Так она защищается!.. Разве не понятно?
Дурацкая история со столбовскими вещами? Так она же и повела всех объясняться к Столбовым!
Никто и никогда не видел Холодову плачущей. Бывало, что в момент сильного волнения шея ее покрывалась красными пятнами, но разве заметишь это за высоким воротничком школьной формы? Выражение невозмутимости и холодности почти никогда не оставляло ее лица, сразу убеждая, что все возможные страсти и желания подчиняются в этом человеке воле и рассудку. И теперь она старалась заглушить рыдания…
От людей Холодова быстро уставала. Даже самые близкие мешали ей сосредоточиться на своем, для нее важном. Природой ей даровано было редкое умение оберегать и защищать свое «я», и она искренне недоумевала, когда ее упрекали в эгоизме и равнодушии.
Оля Холодова упорно старалась забыть свое детство. Тогда она была другой. Воспоминания мешали ей осознать себя сегодняшнюю. Когда-то и ей, как Нике Мухиной и Киссицкой, хотелось во всем участвовать. С удовольствием соглашалась она быть звеньевой, членом совета отряда, а как-то ее выбрали и председателем. Она произносила речи, требовала от ребят, чтобы хорошо учились, хватала за руки всех, кто сбегал с пионерских сборов, проводила линейки, смотры строя и песни, тимуровские рейды, походы за макулатурой и металлоломом…
Больше всего ей нравился кукольный театр, который организовал Славик Кустов. Тот, прежний Славик, не хмурый, сутуловатый подросток, а радостный и добродушный мальчик. И еще походы по дорогам боевой славы, в которые их водил географ, прошедший с боями всю войну до Победы. Когда они приезжали на места сражений, он так рассказывал о них, что Оля чувствовала себя участницей давних событий, будто сама переживала их. Вместе с учителем географии они создали в школе музей боевой славы. Это было настоящее, не придуманное дело.
Потом что-то произошло с ней. Наверное, не сразу, а скапливалось постепенно, прежде, чем пришла уверенность, что фальши и показухи она для себя не хочет.
Кукольный театр начинался с того, что Славик принес из дома кукол. Их ему дарили, или он сам шил их вместе с мамой и младшим братом. Всех желающих Славка научил кукол оживлять. Разыгрывали русские народные сказки или сами сочиняли смешные коротенькие пьески, добродушно высмеивая школьные проказы. Постепенно куклы научились не только двигаться и говорить, но петь и танцевать. Олино умение подыгрывать куклам на балалайке обеспечило ей свое особое место в небольшой, состоящей из мальчишек труппе.
Спектакли показывали в школе, в соседнем детском саду и по очереди во всех дворах домов, где они жили. Старшая пионервожатая вечно носилась по школе, как ошпаренная, и не принимала в их театральных делах никакого участия. Они сами по себе со своими спектаклями, она со своими непонятно какими нагрузками. Ну и пусть бы. Да только однажды, когда в школу приехали из райкома комсомола и всю дружину собрали на пионерскую линейку, пионервожатая «отчитывалась» перед гостями и их кукольным театром. Куклы перестали казаться Оле живыми, превратились в игрушки, с которыми пора проститься.
После занятий все пионеры из их школы бегали по соседним домам, унижались, просили: «Тетенька, не найдется ли у вас лишней макулатуры?», «Дяденька, макулатура у вас не завалялась?». Иногда их щедро одаривали, иногда перед носом захлопывали дверь. Случалось, вежливо объясняли, что за макулатуру получили уже «Королеву Марго».
Оля так неловко чувствовала себя во время этих выпрашиваний и так уставала, таская тяжелые пачки грязной и пыльной бумаги, что вечером долго не могла прийти в себя и плохо спала ночью. Каждый день старшая вожатая обещала, что машина заберет их внушительный вклад в «Миллион — Родине!» — для новых книг, учебников и тетрадей. Но обещанная машина не приезжала, и макулатура сгнила под дождем и снегом. А в душе, словно ржавым колесом проехались по живому, остался след, который и сейчас еще не порос травою.
Несколько лет участвовала Оля в шумных тимуровских рейдах по домам ветеранов под лозунгом: «Приносить радость людям!» «Вам не нужна помощь?» — настырно спрашивали они, врываясь в благоустроенные квартиры. «Спасибо, миленькие, — отвечали им старики и старушки, порою умиляясь до слез. — Слава богу, у нас дети, внуки, все хорошо». Иногда одинокие люди просили о чем-то: сходить в магазин, в аптеку, но доставляло ли это им радость? Большей частью ребята не успевали даже запомнить имена этих людей, так как выданные им пионервожатой адреса постоянно менялись. Когда же в Олином подъезде парализовало одинокую женщину, никто не знал об этом целую неделю! С тех пор Оля возненавидела «добрые дела» под лозунгами и по разнарядке.
Потом их бывшая директриса, эта «госпожа министерша», прогнала из школы пионервожатую. Говорили, за то, что она позволила себе возражать на педсовете. Хоть и не больно много значила старшая вожатая в их жизни, но все же… Отрядного вожатого у них и вовсе не было. Его заменяла их любимая учительница по математике, их классная, но и ее вскоре прогнали.
Жизнь пошла совсем скучная. Девчонки стали собираться возле церкви, по соседству со школой, чтобы послушать колокола и посплетничать. Однажды они заметили странных по виду людей, которые прятали что-то в церковной стене.
Времени у девчонок оказалось предостаточно, энергию девать некуда, и они изо дня в день после уроков и даже на переменах исследовали каждый сантиметр церковной стены, обнаружив в конце концов тайник. В тайнике незнакомцы оставляли записочки, содержание которых девчонки не понимали, а спросить разъяснений дома или в школе не решались. Кому они были нужны с их записочками?
«Поднадзорные» скоро обнаружили слежку и, в свою очередь, не спускали с них глаз. Взгляды были недобрые, и Оля Холодова струсила, увидев, что один из незнакомцев преследует ее до самого дома.
Приближались летние каникулы. Посовещавшись, девочки успокоили себя, что летом они разъедутся и приключение прекратится.
Летом часть ребят, в том числе и Оля Холодова, отправились в поход с учителем географии. Вечером, не успели они разбрестись по палаткам, кто-то совсем близко подошел к их стану. Географ выскочил, но вокруг была тишина. В другой раз они не нашли топора. Отправились за ним в лес, думая, что оставили топор там, и вдруг увидели, как мелькнула в кустах фигура знакомого незнакомца. Девчонки всполошились. Киссицкая утверждала, что «шпионы» топором заманивают их в лес…
Преподаватель географии прочитал в глазах девчонок испуг. Допытывался, в чем дело. Пришлось рассказать ему «церковную историю». Географ приказал всем быстро собраться и переместил стан на далекое от прежнего место. Утром, оставив всех на попечение двух пап — Славы Кустова и Валерика Попова (кто-то из родителей всегда ходил с ними в походы), — географ поехал в город. Вернулся расстроенный, и они быстро собрались домой.
Занятия в школе начались без географа. Пронесся слух, что «министерша» убрала его из-за «истории с церковью». Родители попытались выяснить, что же все-таки случилось? Толком ничего не узнали. «Министерша» кратко пояснила, что люди, появлявшиеся у церкви, «вредные сектанты». Хорошо, что их выявили, но это не детское дело.
Родители возмутились: что за порядки в школе, если руководство не знает, чем заняты дети? Куда смотрят пионерские вожатые? Директриса тут же во всем случившемся обвинила старшую вожатую, которую якобы за плохую работу и прогнала, а заодно и учителя географии, хотя он-то ровно никакого отношения не имел к происшествию. Кто-то должен был быть виноватым. Кого-то полагалось наказать, чтобы районное начальство не сомневалось, что меры приняты. Так они лишились и учителя географии, к которому успели привязаться.
Новая старшая вожатая ко всему, что сделано было до нее, относилась безразлично. Музей боевой славы ее не интересовал. Собранные в походах материалы растащили, разбросали, и стены их прекрасного некогда музея опустели. С тех пор Холодова раз и навсегда отошла в сторону от всех «очень важных мероприятий».
Нет, она не отказывалась вести политинформацию и всегда тщательно готовилась к ней, потому что считала такую информацию полезной для малышей, а все, за что она бралась, она дала себе слово делать хорошо, не для видимости и отчета, а для явной и конкретной пользы. Она не позволяла себе больше суетиться, болтать, тратить попусту время на ненужные споры и веселье с «дружбанами». Занималась делом.
2
Сидя под чердачной лестницей на корточках, обхватив острые колени руками и уперев в них подбородок, Оля Холодова дожидалась звонка, чтобы тут же отправиться в «оружейку» к Анатолию Алексеевичу.
— Я очень прошу… пойдите со мной к Надежде Прохоровне, — попросила она классного руководителя тоном не таким решительным, как обычно. — Подумайте, что я скажу в ансамбле? Почему мне не дают характеристику?..
— Расскажешь в ансамбле, как вы себя ведете, — холодно пояснил Анатолий Алексеевич.
— Но характеристику же дают не всему классу… — необычно робко попробовала настаивать Холодова.
Анатолий Алексеевич не ответил, поднялся и двинулся к двери. Холодова покорно потащилась вслед за ним по лестнице вниз к директору. Но по какому-то невероятному закону подлости на пути у естественного хода событий возникает камнем преткновения коварный случай. В кабинете Надежды Прохоровны оказалась завуч, Виктория Петровна. Отступать было поздно. Не успел Анатолий Алексеевич рта раскрыть, завуч вздорно выкрикнула:
— Нет, нет и нет! И не просите! Я категорически… вы слышите? Категорически протестую… Я буду говорить с райкомом комсомола…
Оля почувствовала нарастающую внутри себя бурю. Она упорно воспитывала в себе подчеркнутую сдержанность, но в этот миг поняла, что теперешней черной бури ей не унять.
— Нет, это я пойду в райком комсомола, — внешне невозмутимо и вполне вежливо пообещала Холодова, и шея ее покрылась пятнами. — Да, да, точно. Я обязательно пойду в райком комсомола и, может быть, даже в райком партии. И расскажу обо всем, что здесь творится. Мало ли насмотрелась я тут за все эти годы?.. — Глянула на всех взрослых по очереди колючими глазами и быстрой, уверенной походкой пошла прочь. Но все же успела еще услышать вдогонку вопрос Надежды Прохоровны: «Кстати, кто ее родители?»
Было время, Оля Холодова страшилась и вся сжималась, словно перед ударом, когда ей в стенах этой школы задавали вопрос: «Кто твои родители?»
У большинства ее одноклассников родители были художниками, артистами, журналистами, переводчиками, торгпредами или, по крайней мере, инженерами, врачами и учителями. А у нее — отец токарь, а мать ткачиха. Как теперь она ненавидела себя ту, маленькую, растерянную девочку!
Когда ребята подросли и главным в оценке товарищей стали уже не физическая сила и отчаянность в играх и затеях, а ум, интеллектуальность и начитанность, Холодова задумалась. Природа не обделила ее умом, и она быстро смекнула, что проигрывает рядом с теми, кто быстро и без хлопот получает в своем собственном доме лучшие книги и уверенные рекомендации, что посмотреть в театрах и на выставках, что прочитать в журналах, и не мучается выбором, не теряется в оценках прочитанного и увиденного.
Повзрослевшая Холодова угрюмо молчала на переменах, а в компаниях забивалась в угол. И вдруг, неожиданно для всех, воспрянула духом. Поклялась себе, что всего достигнет сама. И с настойчивостью сильного характера принялась за дело. Ей повезло. В библиотеку при домоуправлении пришла работать старушка пенсионерка, которая хорошо знала, любила литературу и искусство и не жалела времени для Оли. Видя жадный интерес девочки к окружающему миру, старушка библиотекарша старалась давать ей первой новые журналы, хорошие книги и, как умела, развивала ее страсть и способности к литературе. Библиотекарше, единственной, показывала Оля свои стихи, небольшие рассказики и наброски наблюдений, неизменно встречая поддержку, одобрение.
Отец и мама никогда не отказывали Оле в деньгах. Со временем они стали безропотно подчиняться ее указаниям, на какие журналы и газеты подписываться, какие покупать книги. Иногда вместе обсуждали они нашумевшую повесть или новый кинофильм, но оценки ее родителей не всегда совпадали с теми, которые из дома приносили в класс некоторые ее одноклассники, и проигрывали по сравнению с ними. Оля это понимала.
Все более ожесточаясь, до полного отрешения сосредоточиваясь на том, что обдумывала, Оля пыталась всем и всему противопоставить свое собственное, непохожее мнение. Она и на балалайке захотела учиться играть из протеста против общей привязанности к пианино или гитаре.
Маленькая Оля Холодова ревниво следила за тем, чтобы все вокруг любили ее отца и мать. Теперь ей все это кажется телячьими нежностями, хотя и сейчас с родителями она вполне ладит. Времени нет выяснять отношения, все заняты и видятся не часто.
Мама обслуживает не то в два, не то в три раза больше станков, чем положено, и пятилетку выполняет чуть ли не на год раньше намеченного срока. Ее постоянно избирают делегатом, депутатом, представителем и еще кем-то, и домом ей заниматься недосуг. А папа и вовсе взлетел высоко. Он был отличным, уникальным токарем. Но с тех пор как его избрали членом райкома партии, а потом и членом бюро горкома, он возвращается домой только спать. Маленькая сестренка — зачем они произвели ее на свет? — постоянно остается на попечении Оли — не бросишь же родную сестру…
Родители отдалились от нее, и она к этому привыкла. Она была благодарна им за то, что своими превосходными успехами на производстве и в жизни обеспечили ей вполне благополучное существование и немало упрочили в ней чувство уверенности в себе и защищенности от внешнего мира.
Правда, иногда Оле Холодовой кажется, что отец и мать потеряли что-то живое, близкое, домашнее. Превратились в некий образец примерности и положительности, который надо выставлять на всеобщее обозрение для подражания и поклонения, но что-то мешало ей подражать и поклоняться.
Становясь старше, Оля-Соколя все меньше понимала, зачем устраивать шумиху вокруг простых вещей? Зачем постоянно суетиться и перевыполнять планы, а не создать их сразу такими, какие под силу честно работающему человеку? И стоит ли уж так бурно восторгаться честным трудом? Разве это не норма порядочности?
Летом она уезжала с сестренкой в деревню к бабушке и там подолгу сидела или лежала в кустарнике, чуть поодаль от проселочной дороги, где на высоком холме стоял памятник всем деревенским, кто не вернулся с войны. Издалека, чтобы никто не захватил ее врасплох, разглядывала она этот высокий памятник и тут впервые ощутила свою связь с прошедшим.
На фотографиях в бабушкином доме дед оставался молодым, живым и настоящим, потому что дело его и результат этого дела были понятны.
Бабушку Оля любила. Отступая от принятых для себя правил, частенько по вечерам льнула к бабушке, укладывая голову на ее колени, чтобы погладила. С бабушкой ей жилось просто, потому что все в ней было естественным: и движенья, и раздумья, и разговоры. Бабушка твердо ступала по земле, на которой родилась и состарилась, и не вставала на цыпочки, чтобы с неба достать луну. С утра до вечера она крутилась по хозяйству, не отказывалась, если просили, помочь на колхозной ферме, где проработала больше сорока лет. Вечерами она рассказывала Оле о тяжелом деревенском детстве, о молодости, которая пришлась на войну, о трудных и голодных послевоенных годах и о том, как после гибели мужа одна ставила на ноги сына.
Бабушка судила о жизни без затей, во всех ее «хорошо» или «плохо» жила спокойная мудрость опыта и здравого смысла.
Возвращаясь в город, Оля Холодова еще больше отстранялась от всех, замыкалась в себе, именно в себе пытаясь черпать силы. Что могла она противопоставить родителям да и другим малопонятным ей людям, кроме твердого решения жить по-иному?!
3
Ошалев от того, что она произнесла в кабинете Надежды Прохоровны, Холодова постояла немного на лестнице, навалившись грудью на перила. Получалось, что она угрожала директору, завучу и даже Анатолию Алексеевичу. Как теперь ей выходить из положения? Ни в какой райком она идти не собиралась. Вырвались злые слова от отчаяния и полной невозможности доказать что-либо оголтелой Виктории. Из-за нее не поехать ей в Бельгию, не увидеть другую страну, не поговорить по-французски!
Оля припустилась вверх по лестнице, уселась снова в своем укромном уголке у входа на чердак. Быстро вырвала двойной листок из ученической тетради, переписала фломастером из своей разбухшей тетради слова Сократа, произнесенные им, по свидетельству Платона, после смертного приговора: «В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас!»
Схватив листок, даже не перечитав написанного, Оля-Соколя помчалась в кабинет завуча. Виктории Петровне всегда казалось, что она лишь на минутку идет к Надежде Прохоровне, и она оставляла свою дверь открытой. Но минутка неизменно затягивалась надолго. Холодова, как и все в школе, знала эту привычку завуча.
Подвернувшейся под руку кнопкой быстро прикрепила Оля свой листок к стене над письменным столом. Теперь предстояло немедленно исчезнуть, как и было обещано на бумаге. Научившись подолгу сосредоточиваться на том, что обдумывала, Холодова большей частью приходила к логически правильным выводам, не подозревая, что нравственная их сторона не столь уж неуязвима.
На этот раз Оля, по прозвищу Сократ, рассудила так: если она исчезнет на несколько дней из школы, это вызовет недоумение и тревогу. Она никогда не прогуливает и никогда почти не болеет. После отчаянного ее заявления школьному начальству придется задуматься.
Не очень порядочно? Эгоистично? Жестоко? Допустим. Но для нее это единственное спасение. И в конце концов, она только защищается…
4
В свой излюбленный утренний час в начале школьных занятий Надежда Прохоровна нервно расхаживала по кабинету, не замечая, что уже не в первый раз поливает цветы.
Она была недовольна собою. С кем же все-таки посоветоваться, как поступить?
С Анатолием Алексеевичем? Он, в сущности, сам еще мальчик и растерян не меньше ее.
С Ириной Николаевной, лучшим учителем в школе? Но она как будто в панцире — попробуй доберись до нее. Такое впечатление, что она боится сказать лишнее слово. От нее никак нельзя было ожидать выяснения отношений с учениками. Что с ней-то приключилось?
Лев Ефимович? Прекрасно преподает французский. Но она давно поняла: интеллигентность не позволяет ему ни во что, с его точки зрения, скандальное вмешиваться. Он осуждает бывшего директора школы, ее предшественницу. Без лишних слов, но все же возмущается ее постоянным стремлением истинное дело подменять показным да еще заставлять всех вращаться вокруг себя. С неодобрением относится Лев Ефимович и к действиям Виктории Петровны. Но высказывается лишь в частных беседах, и то, когда она настойчиво добивается его мнения по тому или иному поводу. Выступать публично, на педсовете не в его правилах. Советовать ей что-то, чтобы взять на себя часть непосильного груза, он не станет. Зачем?..
Виктория Петровна? Впервые Надежда Прохоровна подумала о завуче не только с досадой, но и с неприязнью. За что ратует этот ревнитель порядка? Хочет добиться от мечущихся подростков и равнодушных, плохо знающих свое дело учителей некоего непостижимого совершенства? Не правильнее ли было бы позаботиться об относительном благополучии и самом минимальном спокойствии для всех в школе, и для детей, и для взрослых? Нельзя же постоянно жить на пороховой бочке?!
Надежда Прохоровна корила себя за мягкотелость и соглашательство. Не надо было отказывать Холодовой в характеристике. Разве может она одна отвечать за всех?..
За окнами дули сильные и беспокойные ветры, поддерживая все нарастающую тревогу. Надежда Прохоровна не заметила, как вошел Анатолий Алексеевич. Робко спросил, словно поймал ее мысль:
— Что будем делать?
Надежда Прохоровна грустно улыбнулась:
— Вот жду, что посоветуете вы?
— Может, и верно, расформировать класс? — будто страшась своих слов, спросил Анатолий Алексеевич, — Может, в других школах им будет лучше?
— Знаете, ужасно хочется рассказать вам еще одну притчу, — загадочно улыбаясь, предложила Надежда Прохоровна, — Послушаете? — Она села поудобнее, закуталась в шаль, — Так вот, один бедняк устал от жизни. Все-то у него было не слава богу. И жена попалась больная. И дети родились горластые и шаловливые. И крыша дома прохудилась. И работа не удавалась. И есть стало нечего. Однажды ночью этот несчастный тайком сбежал от жены и детей и от горькой доли. И отправился куда глаза глядят — искать счастья. Шел день, шел другой, шел третий, ни разу не оглянувшись на свой дом и не приклонив голову даже ночью. Повсюду он встречал нищету, страдания, безрадостные лица, но он все шел, пока не свалился на дорогу без памяти. Сколько проспал, не помнил, а когда проснулся, забыл, в какую сторону путь держал. Думал, что идет дальше, а на самом деле повернул назад, к своему дому. И снова он шел день, другой, третий, и снова его свалили усталость и отчаяние. Теперь, когда он открыл глаза, то увидел дом с худой крышей, очень похожий на свой. Больная женщина и голодные дети как две капли воды походили на его собственную жену и на родных его детей. И так ему стало их жалко, что решил он тут остаться и помочь чем сможет.
Он жил в своем доме, возле своих детей и жены до конца дней, не переставая мучиться угрызениями совести, что где-то вдали оставил детей и жену как две капли воды похожих на этих…
Анатолий Алексеевич засмеялся:
— Вы правы, все наши школы похожи, и в другой им не будет лучше… Откуда только вы знаете столько разных историй?
Надежда Прохоровна повеселела:
— Коллекционирую народную мудрость…
Тут снова, как шаровая молния, вкатилась в директорский кабинет Виктория Петровна. Ничего не говоря, она протянула двойной тетрадный листок, на котором красным фломастером нацарапано было изречение знаменитого древнегреческого философа.
Надежда Прохоровна принялась изучать Сократову мудрость, а Виктория Петровна присела, мучаясь одышкой, на краешек стула. Надежда Прохоровна с рассеянной улыбкой передала бумажку Анатолию Алексеевичу и увидела, как Виктория Петровна тихонько сползает со стула и, закатив глаза, падает на пол.
— Что с вами, Виктория Петровна? — в тревоге воскликнула Надежда Прохоровна.
Ответа она не получила. Виктория Петровна лежала на полу, и сердце ее, казалось, вот-вот перестанет биться.
5
Родительское собрание в этом классе провести всегда было сложно. Только неутомимая Виктория Петровна ухитрялась как-то ловить родителей по телефону. Но теперь у Виктории Петровны случился сердечный приступ, и она лежала дома. Надежда Прохоровна с Анатолием Алексеевичем, отчаявшись в телефонных поисках, высказали свои пожелания родителям в ученических дневниках. На зов откликнулись человек семь-восемь, и совсем не те, кого больше всего ждали.
Прибаукиной не с кем было оставить грудную девочку — Венькин отчим не пришел из очередного плавания. У Столбовых не получалось вечером вырваться из театра и с киностудии, и они появлялись в удобное для них время. Дубинина-старшая после первого злополучного родительского собрания так обиделась за себя и за свою дочь, что пообещала: «Ноги моей больше не будет в школе!» — и действительно не отзывалась на звонки и записи в дневнике. Самые странные слухи ходили об отце Оли Дубининой. Говорили, он служит в церкви, но кто-то уверял, что это ложь и он корреспондент газеты. Можно бы давно все выяснить, да времени не хватало. В школе ведь не только этот класс, и с другими тоже забот хватает. Родители Кожаевой только через год обещали вернуться из Парижа, брат же всякий раз по телефону вежливо обещал зайти, но ни разу не появился. Мама Юстины Тесли, экстравагантная и неуловимая, постоянно возила по стране иностранных туристов. Ее молодой муж на время ее отсутствия отбывал в собственную квартиру, а отец Тесли мыкался по больницам. Холодовы, в отличие от мамы Тесли, сами отправились в туристическую поездку не то в Японию, не то в Австралию, и к девочкам, Ольге и ее маленькой сестренке, из деревни приехала бабушка. Что скажет бабушка?..
Надежде Прохоровне хотелось не торопясь, спокойно обсудить и обдумать вместе с родителями не совсем обычную ситуацию в классе. Она просила прийти учителей. Рекомендовала Анатолию Алексеевичу рассказать о том, что уже сделано, привлечь родителей к ребячьим походам, кружкам, театру на французском языке, который в дополнение ко всему создавал Лев Ефимович…
Но так, как она предполагала, не получилось. Отец Маши Клубничкиной, полковник, казался крайне взволнованным, но торопился. Он тревожился за судьбу дочери, но ему необходимо было куда-то прибыть к определенному часу. Как упрекнешь военного человека, когда в мире так неспокойно?! Клубничкин попросил слово, как только вошел, сразу же нарушая все задуманное. Ни к нему, а у него оказались претензии. Как можно допускать беспорядки? И где? В школе! Младшие должны подчиняться старшим! Беспрекословно! Незачем потакать их выходкам! Приструнить, потребовать, не распускать!.. Вот дома его Маша никогда ничего себе не позволяет, и только дурное влияние… Наивный человек, счастливый в своем неведении, он не догадывался, как тяготит Машу пребывание в собственном доме. Клубничкин не допускал мысли, что все фантазии его дочери — ее тайное убежище от его однозначных суждений и приказов, не допускающих возражений.
— Не могу понять, — с искренним удивлением и горечью сказал Клубничкин, — почему моя дочь до сих пор не в комсомоле? Мой дед был коммунистом, организовывал первые коммуны, погиб от кулацкой пули. Мой отец был коммунистом, лучшим трактористом в колхозе и погиб в бою, геройски погиб. Я тоже коммунист, и моя жена… Я не могу допустить, чтобы моя дочь… Почему она плохо учится?! Что она, неспособная? Я этого не замечал… — бросил вызов и удалился, довольный собою и уверенный в своей правоте.
Надежда Прохоровна и слова не успела вымолвить, вслед за Клубничкиным поднялась Попова. Она тоже была обеспокоена. У нее рос вполне благополучный сын, тихий, прилежный мальчик. Отличник. Товарищи доверили ему возглавлять комсомольскую группу. Не понятно, почему же они не слушают ее сына? Не хотят выполнять его поручений? Шумят на уроках? Прогуливают? Мешают тем, кто хочет учиться? Разве нельзя навести порядок?..
Все родители в большинстве случаев недовольны были другими детьми, вообще некими «трудными подростками». У своих хоть и признавали кое-какие недостатки, все же считали их вполне неплохими, милыми и способными…
Когда зашла речь о дерзкой выходке Холодовой, о ее угрозах и сердечном приступе Виктории Петровны, неожиданно для всех слово попросила бабушка. Та самая, о которой директор школы подумала: «Что скажет бабушка?» Поднялась и уверенно сказала:
— Я выступать не приучена. И не умею я… Так что уж не обессудьте… Я коров доить умею. Сено косить. Хлеба ро́стить (она сделала ударение на первом слоге). Но сына я поднимала сама, без мужа. Потому что он, как тут рассказывали о себе другие, пал тоже смертью храбрых. — Чувствовалось, что она очень волнуется. Несколько угловатым для пожилой женщины движением поправила она и без того строго зачесанные назад волосы и стала совсем похожа на свою внучку Олю Холодову, — Что я хочу сказать?.. Не понятно мне, отчего вы детей «трудными» называете? Мне, грешнице, кажется, что родители нынче трудные… — Она недовольно покачала головой и на мгновение вроде бы задумалась. — Смотрите, что делается-то?! Не успеют родить, не покормят как положено — все молока у них нету, — тут же ребеночка в ясли от себя отымают. Ну, потом, как положено, сдают в детский сад, да еще на эту… пятидневку, что ли… Потом, пришло время, снова сдают, только уже в школу. И даже после занятий, — она едва сдерживала возмущение, видно не один день копившееся в ней, — оставляют в школе на продленку, так вроде у вас называется?.. И ребенок, извините меня, так и пасется долгие годы на далеком выгоне… И забывает, чей он, откуда…
Она передохнула, но раз уж отважилась, то продолжала:
— Домой-то его почти и не приводят. Заглянет и уж скорее на фигурное катание, или на музыку, или еще куда. Вроде для ребенка благо, а мне кажется, больше для себя покой. Чтоб не мешал, не путался под ногами. Ребенок отвыкает от дома и от родителей своих отвыкает. Что ж это такое? А теперь, если с другой стороны посмотреть… — откинула она худую руку в сторону и вдруг подбоченилась, — и фигурное, и музыка, и кружки, и лучший кусок, и самая лучшая одежка и обувка — все для него, ненаглядного! А от него что же? Да ничего. Ни для кого. Вот как получается! Ухаживают, а урожая не ждут. По-хозяйски ли это?
Она растерянно обвела всех присутствующих пытливым взглядом. Слушали ее внимательно и с почтением, и она, немного успокоившись, продолжала:
— Вы подумайте, подумайте: ребенку с товарищами-то и побыть некогда. Поиграть или погулять. Занятой он, почитай, с пеленок. Что ему товарищи! Ребенок занятой, а уж о родителях и говорить не приходится! Хороший у меня сын, роптать грех. Он и в своем деле мастер, и человек заслуженный, депутат народный… Но больно уж он… Как сказать-то, и не подберу слова… Возвеличенный, что ли… Хоть и сын мне родной и любимый, но не знаю я, как к нему и подступаться, а девочка, что ж, она тем более теряется… Вот мы с нею перед дедовой карточкой сядем вечерком, погрустим, вроде как с ним, с дедом-то, погибшим в войну, потолкуем… А у сына спросишь: «Как там, сынок, не учудят ли новую-то войну, упаси бог?!» Он ближе все-таки к верхам, ну и поинтересуешься. Он отвечает по-газетному: про «происки империалистов», «про несовместимость систем», — а газеты-то я и сама читаю, я же грамотная… — И так же неожиданно, как начала, быстро заключила: — Ну, вы уж извините меня, задержала я вас, мне б не надо. Да только теперешним родителям почаще надо бы вспоминать, что есть у них дети. И трудные, и нетрудные, они ваши дети. Они наши дети, — повторила она. — И кто ж это, посеяв рожь, ожидает пшеницу?..
И после нее уже нечего было да и не хотелось говорить.
— А бабуля-то у Холодовой — философ! У них это, должно быть, наследственное, — сказала Надежда Прохоровна Анатолию Алексеевичу, — Прямо как у Федора Михайловича Достоевского: «Войдем в зал суда с мыслью о том, что и мы виноваты». Молодец, бабуля! Все верно: они наши дети. Трудные дети трудных родителей. В очень непростое время…
— Время собирать камни?.. — не то размышляя о чем-то своем, не то спрашивая, откликнулся Анатолий Алексеевич, не стремясь продолжить разговор.
6
Через несколько дней Холодова, умышленно прогуливающая занятия, как ни в чем не бывало возвратилась в школу. Никто не спросил у нее, где она была? Что с ней? Ее возвращение не заметили.
— Я не знаю, что должен делать учитель, когда ученик угрожает ему? — сухо пояснила свою позицию Надежда Прохоровна, и Анатолий Алексеевич увидел на ее лице следы бессонных ночей. — Когда я не знаю, как поступать, я не поступаю никак. Не обессудьте. Не вступать же мне в противоборство с девчонкой на равных. Хотя я больше для нее не учитель: грубостью и угрозами она лишила меня этого права. Понимаете? Это страшно.
Анатолий Алексеевич попытался поговорить с Холодовой:
— Тебе не жалко Викторию Петровну? Ей плохо…
Холодова посмотрела на него безжалостными, немигающими глазами:
— Она сама создала ситуацию. — И в голосе ни единой теплой нотки.
— Но теперь она больна, тебе не хочется ее навестить?
— Я не думаю, что она обрадуется мне.
— Оля, но ты же умный, для своих лет немало образованный человек, как можешь ты быть такой грубой, жестокой?
Холодова надменно пожала плечами:
— Я защищаюсь… Понимаете? Защищаюсь…
— Но ты все же должна…
— Я никому ничего не должна, — отрубила Холодова и посмотрела в упор, не пряча и не отводя жесткого, непрощающего взгляда.
Анатолий Алексеевич, как и прежде, почувствовал, что теряется перед этим взглядом. Как-то в случайном разговоре он услышал от пожилой женщины: «Да, эти не извиняются и не благодарят…» Пожалуй, что так, не извиняются и не благодарят. Но, стараясь понять их, прежде всего понять, он не спешил с осуждением. И, несмотря ни на что, его симпатии оставались все же на их стороне.
Да, они бунтовали, они позволяли себе неслыханные по отношению ко взрослым дерзости, они не щадили и не оглядывались, но и сами страдали. Взрослые, умудренные опытом, педагогическими знаниями, немало напутали, создав и все время усугубляя сложности в отношениях с ребятами. Да и время выпало на их взросление не такое уж легкое…
— Разве ты не благодарна Виктории Петровне? — пытался пробудить хоть какое-то малое чувство в душе Холодовой Анатолий Алексеевич. — Она учила тебя…
— Чему учила? — вызывающе спросила Холодова. — Хамству? Жестокости? Демагогии? В чем же вы меня упрекаете? Лучше задумайтесь, чему и как нас учат?! — Она посмотрела на Анатолия Алексеевича с такой недетской снисходительностью, словно она, а вовсе не он, была учителем. — Андрей Платонов предостерегал всех: люди — не пыль, больно одному — больно всем, и все мы единое целое — человечество! Его не хотели слушать. Его заставляли молчать, обрекли на неизвестность. То, что хотел сказать писатель, не совпало с законами революционной целесообразности… Вот о чем мы должны были говорить на уроке литературы. Об утраченной нравственности… И Кожаева пыталась это сделать. Но Ирина Николаевна боится об этом… И требует, чтобы мы рассуждали о поведении героев из рассказа «Третий сын», как это делают бабки на скамеечке у подъезда, сплетничая о соседях…
Анатолий Алексеевич замер, пораженный глубиною суждений так рано повзрослевшей девочки по прозвищу Сократ. А она тем временем с остервенением схватила портфель, как всегда, когда убегала от опостылевших ей разговоров и вздорных ситуаций, и совсем недевичьим твердым шагом удалилась.
Теперь почти каждый день и на переменах, и после уроков приходилось Анатолию Алексеевичу вести с ребятами беседы, которые заставляли его жить в постоянном напряжении и так утомляли и опустошали, что он сваливался без сил, едва добравшись до дому.
— Добро и Истина разные вещи? — без конца задавал свои вопросы Пирогов. — Если счастье заключено в служении Идеалам, так ли необходимо забывать ради них о человеколюбии, всепрощении? Чему я должен служить — Идеалам или Добру?..
Как ответить? Сказать о противоречии двух моралей?.. Но Пирогов будто и не ждал ответа, он размышлял вслух о том, что и самого Анатолия Алексеевича волновало уже давно. Только он задумался об этом гораздо позже, чем мальчик в «терновом» венце из блестящих вертушечек с детской игрушки-флюгера.
Его ученики взрослеют гораздо быстрее, чем когда-то его сверстники, и души их не распахнуты настежь с юношеской откровенностью. Все, что их по-настоящему волнует, они старательно прячут от чуждого, непонимающего взгляда. Ему они доверились, но и с ним из осторожности, ставшей уже привычкой, шутовствуют, когда откровенничают.
— Зачем идти на занятия, если неинтересно? — спрашивает самый хмурый из всех сутуловатый подросток Слава Кустов, нацепив на голову дамский платочек и давясь пирожком с мясом. — Зачем я живу, если я несвободен? Если мне никогда, не только сейчас, не позволят заняться ничем всерьез? Так и будет зависеть мое настроение от особы дамского пола или, того хуже, от начальника?
Чем утешить? И надо ли утешать?..
Должен ли он навязывать им душевное равновесие? Примирять с жизнью, друг с другом, со взрослыми?..
Как-то Анатолий Алексеевич спросил у Киссицкой:
— Почему ты так не любишь Дубинину?
Киссицкая равнодушно пожала плечами, но глаза ее сделались злыми.
— Вы ее не знаете. Я болела, так она тут же перебралась за парту к Пирогову. Я вернулась, говорю ей: «Пересядь, пожалуйста, на свое место». Она согласилась: «Хорошо, пожалуйста». А когда Игорь вошел в класс, она ему говорит: «Игорек, нас просят пересесть». Он и пошел вслед за ней на ее прежнее место. Мы с ним ссорились, он подумал, наверное, что я не хочу с ним сидеть. А она… она на этом сыграла… — И в глазах Киссицкой уже злые, непрощающие слезы.
Тогда он спросил у Дубининой:
— Зачем ты так с Киссицкой?
Олеся в ответ презрительно улыбнулась:
— О-о, вы ее еще не знаете! Идем мы тут как-то из школы с Пироговым. Она ни с того ни с сего подходит и спрашивает у меня: «Ты Сократа читала?» Я даже растерялась от неожиданности. «Читала, — говорю, — не меньше твоего». А она ухмыльнулась язвительно-снисходительно, ну, вы знаете как. И говорит, поглядывая на Игоря: «Интересно, как это ты прочитала Сократа, если он не написал ни строчки?» Я говорю: «Как же ты его прочитала?» А она: «Ну, я совсем другое дело. Я знаю, что у него был ученик, по имени Платон, тоже ничего философ. Так вот Платон постарался сохранить для человечества мысли Сократа». Как вам это нравится? Для Пирогова выставляется! И меня перед ним хочет унизить! Смотри, мол, какая дурочка! Перевернула бы я ее вверх ногами, чтобы вытрясти из головы всю ее мудрость!..
Анатолий Алексеевич видел всего лишь досаду и не предполагал, что дикая мысль станет началом случившейся позже трагедии.
7
Дневник Вениамина Прибаукина, таинственно исчезнувший из его портфеля, не менее таинственно водворился на прежнее место. От этого Вениамину не стало спокойнее. Кто-то все же вытащил из портфеля и читал его дневник и, значит, узнал его сокровенные мысли. Кто же этот злодей?
Приключение с дневником, словно камень, резко брошенный в воду, взбаламутило и без того не похожую на тишь да гладь обстановку в классе. И пошло, пошло кругами.
— Кися, как ты думаешь, — пристал Венька к Киссицкой, — ты у нас такая у-умная, кто бы мог похитить мой дневник?
Киссицкая пробовала отшучиваться, вспоминать про «запретный плод, который сладок и стал яблоком раздора», а потом вдруг обозлилась не на шутку и, чтоб отвести от себя удар, сказала с вызовом:
— Отстань, Веник, не там метешь. Кто взял? Кому больше всех интересно…
— Кися, — одобрил Веник, — ты Цицерон! Только вот что, Цицерон, помалкивай в тряпочку! Словом, лозунг такой: «Цыц, Цицерон!» — И, вытащив из-под стола вечно торчащие длинные ноги, как тигр, нацелившийся на антилопу, метнулся рывком к Юстине Тесли, печально подпирающей стенку в коридоре. — Ю, девочка моя, — сказал он почти ласково, пригвоздив Юстину к стенке длинными руками, — не ты ли невзначай позаимствовала на время мой дневник? Тогда ты знаешь, что я не описывал своих чувств к другой особе, потому что их невозможно описать?!
Мягкое, женственное лицо Юстины сделалось похожим на маску:
— Кому ты нужен, шут гороховый? — Не крик, а смертельная боль вырвалась из Юстининой груди. — Убирайся от меня вместе с твоими мерзкими чувствами! Они меня больше не интересуют! И руки… руки прочь от меня! — Она отпихнула его с силой и вырвалась из окружения.
— Это ты, ты, дрянь, — налетела она на Киссицкую, — донесла ему, что я взяла дневник. Ну и гадина же ты! Кто уговаривал меня только одним глазком посмотреть, что там «эти господа надумали»? А потом сама посмотрела одним глазком, да? И подставила меня? А я… я не такая, как ты… — она не находила слов, — предательница… Я не беру чужого… Слышишь? — В слезах она вылетела из школьного коридора и исчезла.
Киссицкую немедленно плотным кольцом обступили все, кто слышал Юстинины горькие слова.
— Значит, все-таки ты, Цица? — грозно надвигался на Киссицкую Прибаукин. Рядом стояли Дубинина и Клубничкина, Попов и Столбов, которые теперь повсюду таскались за Венькой, и тот чувствовал их молчаливую поддержку. — Придется наказать тебя, детка. В детстве тебя не били по попочке, а?
— Отстань, поганый фанат! Отстань от меня, слышишь? — почти плакала Киссицкая. — Если ты не прекратишь привязываться ко мне, то вылетишь как миленький из этой школы… Понял? Не брала я твоего дневника. Зачем мне читать твои дегенеративные мысли?!
— Что ты сказала, великий философ Цицерон? Повтори! — Венька крепко схватил Киссицкую за нос и подтащил к себе. — Ну, я жду.
— Я не брала твоего дневника, — почти просвистела Киссицкая — нос ее был зажат цепкими Венькиными пальцами, — А ты… ты дегенерат, слышишь? Фанат и шут гороховый… — Она размахнулась и с силой обеими руками шлепнула его по щекам.
— Венька, — крикнула Дубинина, — оставь ее, Анатолий идет. Мы еще с ней посчитаемся…
8
Юстина бежала по улицам, забитым машинами.
Никогда в жизни у нее не было более счастливого времени, чем эта осень. Впервые ее полюбили. Во всяком случае, ей так казалось. Когда Венька смотрел на нее, внутри все дрожало и стонало от радости. Она на все готова была ради Веньки. Он избавил ее от одиночества.
Как-то после школы у нее разболелась голова. Она приняла таблетку и улеглась в постель. Сквозь дрему услышала звонок. Второй. Третий. Неохотно поднялась и, не одеваясь, в длинной прозрачной ночной рубашонке поплелась открывать дверь. Мать иногда забегала днем перекусить.
Но не мать, а Венька неожиданно предстал перед нею.
— У-у-у! Какая ты! — прогудел он, подхватил ее сильными руками и поднял.
Она вырывалась, но тело ее не слушалось, льнуло к теплым рукам, к источающему тепло и радостное волнение человеку. Радость эта пьянила, туманила сознание…
И вдруг нежданно слетела с уст, будто не ею сказанная, фраза:
— Ты с ума сошел. У нас еще все впереди…
Права ли она? Как могла она оттолкнуть Веньку в самый прекрасный момент своей наполненной печалью жизни? Но за что же тогда она осуждает мать? Кто мог ответить ей на эти вопросы? Не к матери же обращаться, когда у них установились ненавистно-отчужденные отношения?! Да и зачем теперь ей ответы, если Венька отвернулся от нее навсегда? Сначала он избегал ее, а через некоторое время принялся ухаживать за Дубининой, так же на глазах у всех, как было это и с нею.
— Зачем ты мучаешь меня? — жалобно взывала Юстина к человеку, который стал для нее самым близким. Но перед ней неизменно оказывался другой, уже не ее, чужой Венька. И она, не узнавая его, застывала от ужаса.
За несколько дней перед тем, как исчез дневник, Венька, сидя на корточках в коридоре, поймал ее за подол форменного платья. Поднялся и навис над нею страшной птицей.
— Не преследуй меня и не вздумай шпионить, поняла, детка? Мне не хотелось бы истерик… Я вдруг прозрел, понимаешь? Что ты можешь мне дать? Для яркой жизни ты не создана. У тебя нет воображения… — И ушел.
Юстина не слышала больше учителей на уроках. Она и дома не могла сосредоточиться на страничках учебников, смысл прочитанного ускользал от нее. Люди мелькали перед нею, как надоедливые комары летом, и все без исключения казались уродливыми. Краски жизни исчезли, превратились в серенький, однообразный туман.
Только ночами, сливаясь с чернотой и непогодой за окном, Юстина чувствовала себя в безопасности и немного успокаивалась. Ежедневные встречи с Венькой в школе оборачивались теперь для нее невыносимой мукой. И на всякий новый урок она шла, как на распятие, чувствуя, что все взоры обращены на нее.
Когда Венька спросил ее про дневник, она, не помня себя от гнева, понеслась навстречу мчащимся машинам. Милиционер, молодой, здоровенный детина, поймав, долго тряс ее, прежде чем она пришла в себя.
— Совсем ошалели! — орал он на Юстину, усаживая в мотоцикл. — Натворила небось чего? Сначала делают, потом думают. Отвезу домой, и чтоб носа не высовывала, пока не опомнишься…
Какие-то слова милиционера застревали в Юстинином сознании, но тупая, ноющая боль дурманила ее по-прежнему, мешала дышать.
Дома, как назло, оказался «голубчик», так называла она новую привязанность матери. Он что-то говорил, путался под ногами, и Юстине показалось, что он прилипает к ней взглядом.
— Прочь! — прикрикнула Юстина на «голубчика», швырнула в него портфелем и спряталась в своей комнате.
«Голубчик» побродил возле ее двери, заглянул, спросил: не захворала ли она? Не надо ли ей чего? Экая любезность! Яростная, незнакомая ненависть ко всем мужчинам, к холеному благополучному «голубчику», окрутившему мать, душила Юстину, заставляя задыхаться от гнева и бессилия.
Юстина, не понимая, что делает, вскочила, выбежала из комнаты, сорвала с себя домашний халатик и застыла в наглой, беззастенчивой позе.
— Ну, — приказала она чужим, развязным тоном, — смотри! Я моложе моей матери. Она ж у меня старушка. Разве она тебе пара?
Позже она не сможет вспомнить ни его лица, ни его слов в ту минуту, ни себя в тот страшный момент отчаяния. Резкий шлепок по щеке на мгновение вернул ее к действительности, но тут же все поплыло перед глазами, и она рухнула на пол.
Первое, что она услышала, когда стала приходить в себя, были возмущенные слова матери:
— Вся в отца, стерва. Недаром завуч предупреждала меня, что она готова с этим Прибаукиным лечь в постель. А я, дура, не верила.
Лучше бы Юстине не приходить в себя! Или там, на улице, нарвавшись на машины, навсегда исчезнуть. Но исчезнуть навсегда оказалось не так-то просто. Для этого требовались мужество и душевные силы, не меньшие, чем для того, чтобы жить.
9
— Кися, пойди поговори с Надеждой, может, мне все же дадут характеристику? — попросила Киссицкую Холодова.
— Ага, как тебя защищать, так беги, Кися! А за меня заступиться некому?
— Да ты, Кися, сама вызываешь огонь на себя. Что ты все стараешься унизить их? Не возвышайся, Кися, над всеми, с вышины тяжелее падать!.. — И больше не стала просить, ушла.
— Князь! — кинулась Холодова к Пирогову, с которым с первого класса была в самых дружеских отношениях. — О бедном товарище замолви словечко, а? Ты все-таки член комитета комсомола…
— Друг мой, — как всегда позируя, завел Пирогов, — видишь ли, какая обостренная обстановка сложилась в нашем мирке…
Холодова не дослушала, фыркнула презрительно:
— Тоже мне деятель!
Тут подвернулся под руку Кустов, посмотрел преданными собачьими глазами, ссутулившись, как старичок, попросил заискивающе:
— Я провожу тебя, ладно?
— До кабинета директора! — обдала его холодом своих ледяных глаз Оля-Сократ. — И не ты меня, а я тебя.
— Я не смогу, — как подстреленная птица, забился в тревоге Славик Кустов. — Я только испорчу дело… Я не умею…
— Не могу… Не умею… Испорчу… Прибавь еще: «Трус я!» — прикрикнула Холодова на влюбленного в нее сумрачного, совсем ссутулившегося Славика Кустова. — Зачем ты тогда нужен?! Зачем ты вообще нужен?! И чтоб не таскался больше за мною! — Она била наотмашь. — Не Кустов ты, а Хвостов. Тебе это больше подходит. Понятно?.. Все! — крикнула она на ходу всем. — Я теперь только за себя. И ни за кого больше! Запомните! — И она поспешила на поиски Прибаукина.
«Вот Веник, — злорадно думала Оля-Сократ, — хоть и скотина, но мужик. Знает, чего хочет. Не то что мой страдалец… Он, пожалуй, заступится».
Вениамин как раз и возник перед нею, словно ее злые мысли обладали магической силой.
— Ну, что скажешь, Сократ? — посмеиваясь, спросил Прибаукин, — Предали тебя твои «господа»? Помнишь, как хорошо ты объясняла нам, что аристократы считали Сократа развязным, а демократы видели в нем своего разоблачителя? Я надеюсь, детка: ты не хочешь погибнуть, как Сократ? Народец попроще, пока не поздно, готов поддержать тебя…
— Сказать тебе, кто взял твой дневник? — с вызовом человека, все же не отказавшегося от превосходства, спросила Холодова.
— О-о-о! Это запоздалые новости, многоуважаемый брат-Сократ! — отразил натиск якобы превосходящего противника Вениамин. — Дневник позаимствовала Виктория, светлая ей память… — Веник наигранно перекрестился.
— А что, с Викторией случилось что-нибудь? — попалась на удочку Холодова.
— Трусишь, Сократишка? А я думал, ты молоток! Железная девчонка. Ну, что случится с нашей драгоценной Викторией? Люди ее склада сляпаны из нержавейки. Поболеет для порядка и очухается на радость школе.
— Так чего ж тебе надобно, старче?
— А-а-а, — протянул, по своему обыкновению, Веник. И Оля заметила, что его длинные волосы потеряли прежний шик, кажутся нечесаными, а красно-белый шарф растянулся и небрежно повис. — Договоримся так: Олеська сразу же после урока истории соблазняет Анатолия… Ну, насчет твоей характеристики. Клубничкина у нее на подхвате… У них с шефом все отлажено. А ты, Сократушка, группируешь Олимп, и вы все стройными рядами голосуете за прием в комсомол Дубининой, Клубничкиной и Столбова… Мне лично этого не надо, а они хотят в институт. И Кисе Олеська, как ты понимаешь, ни за что не уступит. Смекнула?
Холодова посмотрела на Вениамина непроницаемым взглядом.
— Так что? По рукам? — откровенно торговался Прибаукин.
Не отвечая впрямую на вопрос, Оля-Соколя дружелюбно похлопала Веньку по плечу:
— Топай, чтоб нас вместе не засекли…
Вениамин с трудом вынес голову из-под низенькой лестницы, куда они удалились поговорить, и сразу же столкнулся глазами с Киссицкой. Киссицкая прогуливалась поблизости с учебником в руках — проявляла бдительность!..
10
— Пирожок, — сказала елейным голоском Оля Киссицкая, улучив момент, когда Пирогов остался один. — Рассказать тебе сказку по старой дружбе?
Пирогов посмотрел исподлобья. Последнее время он все больше напоминал своего друга Славика Кустова. Такой же замкнутый, хмурый, спрятавшийся от всех внутри самого себя. Игорь посмотрел на Киссицкую отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Но Кися не хотела упускать удобного случая:
— Так вот, жила-была девочка… Ну, обычно, как во всех сказках. А дальше, как во всякой сказке, все страшнее и страшнее… Сначала эта девочка жила-была с Сережей Судаковым. Потом словила в свои сети золотую рыбку — неопытного интеллигентного мальчика, сам знаешь, кого… Делала вид, что была, а сама была-жила с другим мальчиком, более оборотистым, по имени Веник… Но золотую рыбку не отпускала… У нее можно что-нибудь выпросить. Прием в комсомол, к примеру…
— Что ты плетешь? — возмутился, очнувшись, Игорь. — Какие мерзости! Ты совсем того, Кися, сдвиг у тебя по фазе?
— Как хочешь, — дернула плечиком Киссицкая. — После урока истории подойди к «оружейке», послушай и посмотри. Девочка теперь была-жила еще и с Анатолием. Ей это ничего не стоит. «Красоткам» все легко и просто. А у нее к тому же любвеобильное сердце. Оно вмещает всех вас одновременно. — И, криво ухмыльнувшись, она легко полетела по коридору, словно вальсируя, в своем торжествующем полете.
Игорь понимал, что Киссицкая бесится, что она, как и всякий баловень судьбы, не может смириться с тем, что все выходит не так, как она хотела бы. И она ненавидит Олеську… Но все же Кися не станет болтать, не зная наверняка. Явная болтовня тут же выяснится, а Кисе надо, чтоб он убедился в том, какая дрянь Дубинина, и вернулся к ней, добродетельной Кисе.
Игорь много раз думал о ней и об Олеське одновременно. Почему человек должен постоянно выбирать? Почему нельзя все совместить, никому не причиняя боли? Киссицкая по духу, по воспитанию, да что и говорить, по всему была ему ближе, понятнее. Но как только он видел вблизи темные глаза Олеськи и движение ее золотистых волос доносило до него запах осенних листьев, он ничего не мог с собою поделать. Неведомая, неодолимая сила тащила его к этой девчонке. Что он мог объяснить Кисе или даже самому себе?
Кися неплохая девчонка, но как больно умеет она уколоть! И неприятные новости у нее всегда наготове. Нет, он, потомственный интеллигент, не опустится до ничтожных сплетен. А если это не сплетни, а святая правда? И верный друг Киссицкая хочет уберечь его от великих мук? Вон Славка до какого отчаяния дошел! Не случайно же мама внушает ему, что опасно входить в отношения с людьми не своего круга. Может, он еще как-то справится с собою, отойдет в сторону от Дубининой? Но все же Кися врет, пожалуй… Если он проверит, будет ли это так уж низко?..
Он не пошел на историю. Спрятался под лестницей на чердак и думал, думал, пока голова не заболела. А когда зазвенел звонок, ноги сами понесли его к «оружейке».
Олеська пришла туда вместе с Анатолием Алексеевичем. Дверь за собой они не закрыли.
На лестничную площадку верхнего этажа, кроме «оружейки», выходила еще дверь актового зала. Там шла репетиция, со сцены доносились голоса. Пирогов приоткрыл дверь, спрятался за нею, никто его не заметил. Ему хорошо было видно, как Олеська, опершись одним коленом на стул, совсем близко наклонилась к Анатолию Алексеевичу и что-то шептала ему на ухо. Что именно? Он не мог расслышать. Но достаточно было и того, что он видел. Игорю казалось, что Олеська прижалась к Анатолию боком. Он задохнулся от ревности. Захотелось немедленно выскочить из укрытия, ворваться в тесную комнатушку с боевым в прошлом оружием и… застрелить, разорвать на куски Анатолия Алексеевича. Учитель, называется! Другом прикидывался!.. А Олеська?! Хороша девочка!.. Он уже не ручался за себя, не знал, что мог бы сотворить с нею, если бы в этот миг безумия не появились Клубничкина с Прибаукиным.
Без всякого предупреждения, как к себе домой, ввалились они в «оружейку» и как ни в чем не бывало весело переговаривались там с Анатолием Алексеевичем и Дубининой. Выходит, ему померещилось? Померещилось!.. Он ненавидел себя. А еще больше Киссицкую, заставившую его подслушивать и подглядывать. Ненавидел он и Олеську за ее красоту и власть над ним и любил за красоту и необъяснимую власть…
Но вот с Анатолием Алексеевичем остались только Клубничкина и Прибаукин. Олеська помчалась куда-то вниз по лестнице. Он чуть помедлил и понесся за нею, перескакивая через ступеньки.
— Олеська! — поймал он ее почти у самого вестибюля.
Олеська повернулась и, как ему показалось, сразу все поняла. Она была взрослее его, хотя они родились в один год и один месяц. Игоря это мучило. Обычно он прикрывался позой, манерничал, называл всех «господами», сейчас он был подавлен и не успел нацепить привычную маску. Она сразу это увидела.
— Что случилось? — спросила Олеська. — Еще одно колониальное государство освободилось от гнета империализма?
— Олеська, — безнадежно вздохнул Игорь, — ну, в общем… я не могу без тебя…
Он увидел, как она вся сжалась, затихла и невольно отстранилась от него, словно он приготовился ее ударить…
— Ты что? — почти закричал он, чувствуя, что теряет ее навсегда.
— Извини, я не могу… — пролепетала Олеська и с непонятным для него страхом повторила: — Извини…
— Не можешь? — Он страдал, как никогда ему не приходилось. Он тоже был единственным и самым любимым, он тоже не привык к отказу, как и Киссицкая. — Не можешь со мной? А с Венькой можешь? И с Анатолием Алексеевичем можешь? Значит, правильно говорят: была-жила девочка «на троих»… — сказал и сам испугался, отпрянул.
Олеська поникла. Ее прекрасные грустные глаза затянуло слезами. Он приготовился к худшему: к пощечине, к презрению, к грубости, а она до синевы в пальцах вцепилась в лестничные перила и устало проговорила:
— Я не могу, потому что для меня Сережка не умер. Слышишь? Он живой. Ты не поймешь, а он бы понял. Он, может быть, не такой образованный, как ты. И манеры у него не такие изысканные. И он не знает так твердо, как ты, что хочет стать не кем-нибудь, а только государственным деятелем… — Она говорила о Судакове в настоящем времени, словно он действительно был жив. — Но он добрый, очень добрый… И как бы тебе объяснить?.. Один человек не часто видел свою любимую, но он всегда ждал ее. И встречал морем апельсинов. Апельсины на полу, миллион апельсинов и одна свеча… Я хочу окунуться в море апельсинов, раз так бывает… А ты, ты не способен… Извини… Ты не удержишься и съешь апельсины сам, пока придет твоя любимая. Ты подумай и, пока не поздно, не становись государственным деятелем. За государство страшно… — Она откинула золотую прядь с плеча и поплелась вниз по лестнице.
Уже снизу он услышал ее голос:
— И скажи своей Кисе, что я ей этой сказки про девочку, которая жила-была «на троих», не прощу!..
В тот момент, когда Пирогов так неожиданно настиг Олеську на лестнице, она была в хорошем расположении духа. Ей почти удалось убедить Анатолия Алексеевича, что атмосфера в классе сразу улучшится, если Холодовой дадут характеристику, которую по настоянию Виктории Петровны отказались дать, а ее, Клубничкину и Столбова примут в комсомол. Она пообещала даже, что они все вместе навестят завуча. Ребята устали от неприятностей, и Олеське искренне хотелось, чтобы все наладилось. Анатолий Алексеевич обещал помочь, она чувствовала, что он готов пойти им навстречу.
Пирогов вернул ее к неприглядной действительности. Столько сучков и задоринок наросло уже на скрючившемся дереве их школьной жизни, что трудно было проскочить мимо, не зацепившись. Она не пошла искать Холодову, быстро оделась и побежала домой.
Когда Прибаукин, Клубничкина и сама Холодова явились к ней, она передала им сплетни, которые распускает Киссицкая. Ненависть переполняла Олеську.
— Перевернуть бы ее вверх тормашками! Может, утряслось бы все в ее гениальной головке!
— Это можно! — пообещал Венька. Он тоже был ужасно зол на Киссицкую.
Так прекрасно задуманный и разработанный план всеобщего благоденствия неожиданно сорвался из-за Киссицкой. Опять из-за нее! Пора, пора проучить эту умницу, сказать Кисе «брысь»!
— Пора сказать Кисе «брысь»! — произнес Прибаукин вслух.
Но девчонки не обратили внимания на его слова. Они уже обсуждали, как воскресить сорвавшийся план, и Маша уговаривала Олесю успокоиться.
11
Пирогов отыскал Кустова в туалете. Славка сидел на холодном каменном полу, и во рту у него торчала сигарета. Вокруг валялись окурки.
Игорь впервые видел своего друга курящим. И Славкино лицо показалось ему странным, опухшее и тупое лицо, словно он долго плакал, устал и притих.
— Слава! — позвал Пирогов.
Кустов не шелохнулся.
— Славка, ты что? — Игорь тряхнул Кустова за плечи, испугался. — Ты живой?
Кустов, как ватная кукла, подчиняясь рукам Игоря, качнулся, дернулся и принял прежнее положение. Игорь забеспокоился. Послушал сердце — вроде бьется. Поднял за подбородок голову — на него уставились покрасневшие неподвижные глаза. Жутко стало.
С силой выхватил Пирогов изо рта друга сигарету, бросил под ноги и топтал, топтал, пока не превратил в жалкие крошки. Опомнился, кинулся к крану, набрал в ладони воды и, стараясь удержать ее, плеснул в безжизненное лицо. Потом еще и еще раз челноком метался от умывальника к неестественной фигуре на полу, едва удерживая в дрожащих руках воду, прижимая мокрые ладони к Славкиным вискам. Не помогало.
Тогда Игорь схватил под мышки непослушное, отяжелевшее Славкино тело, с трудом оторвал его от пола, поднял, прислонил к стене и задышал в лицо, пытаясь дыханием отогреть, вернуть к жизни. Но и так ничего не получалось.
Поначалу Игорь боялся, что кто-нибудь войдет в туалет и увидит Кустова таким, безумным и ничтожным. Теперь он уже страстно хотел, чтобы хоть кто-то забрел в туалет и помог ему. Но никто не появлялся. Этим туалетом, на первом этаже у раздевалки, пользовались первоклашки, а у них уроки давно кончились.
Игорь опустил Кустова на пол и выскочил в коридор. Вокруг было тихо и пустынно. Во время болезни Виктории Петровны все словно попрятались, замерли. Учителя, он заметил, больше не задерживались, расползались поскорее по домам, а ребята и вовсе не жаждали после занятий оставаться в школе. Не к директору же бежать за подмогой?!
Удрученный всем случившимся, обессилевший от возни со Славиком, Пирогов повернул назад и натолкнулся на ведро у двери. Ведро было грязное. Но теперь ли думать о стерильности?! Игорь несколько раз ополоснул ведро, тщательно протер его под краном руками и наполнил. Поднес к Кустову и резкими движениями стал выплескивать воду в лицо.
Кустов мотнул головой, отряхнулся и с изумлением уставился на Игоря мутными глазами, будто никак не мог освободиться от сна.
— Слава, Славочка, — обрадовался Пирогов и запричитал, как плакальщица на похоронах: — Ну пожалуйста, ну будь другом, ну приди в себя, ну прошу, прошу…
Пусть слабые, но все же признаки жизни появились во взгляде Славы. Игорь похлопал его по щекам, тряхнул легонько, обвил Славкиной рукою свою шею, взвалил на себя бесчувственное тело и поволок на улицу.
Уборщица тетя Таня, как обычно, дремала на своем посту. Ее спокойно можно было вынести вместе со всем школьным имуществом. Сейчас это оказалось как нельзя кстати.
Пирогову повезло. Довольно быстро ему удалось остановить машину, и вскоре они оказались в доме Кустовых.
— Спать хочу, — промычал Славка. — Хочу спать, — и прямо в ботинках повалился на постель.
«Хороший подарочек родителям», — подумал Игорь и представил себе, в какой панике будет изящная, никогда не повышающая голоса, ужасно интеллигентная мама Кустова, когда обнаружит свое дитя в таком состоянии. Он стянул со Славки ботинки, брюки, пиджак, посидел немного рядом и решил ехать домой.
Ездить домой ему теперь приходилось далеко, на другой конец города. Отец согласился на такую отчаянную даль, потому что всю жизнь мечтал о мастерской, вообще об отдельной комнате. А на этой чертовой окраине квартиры строили улучшенной планировки, просторные, с подсобными помещениями. Было куда примостить холсты, кисти, краски и самому спрятаться ото всех.
Дорогой и дома Игорь не переставал думать о Славике. Беспокойство не покидало его. Он хватался то за одно, то за другое, но все валилось из рук. Несколько раз Игорь набирал номер Славкиного телефона, но телефон молчал. Наконец Славина мама подняла трубку, сказала, что сын ее спит. Игорь вроде бы успокоился, но через некоторое время позвонил снова.
— Пойду посмотрю, — пообещала мама Славика, а когда снова взяла трубку, он услышал растерянность в ее голосе:
— Ты знаешь, его нет в комнате. Может, я не заметила, как он вышел за газетами? Прости, кто-то звонит, наверное, он нечаянно захлопнул дверь…
И вдруг ужасный, раздирающий душу стон:
— О, господи, господи! — и страшные, просто нечеловеческие рыдания.
Игорь бросил на рычаг трубку, схватил из ящика тумбочки, где лежали их семейные деньги, десятку и опрометью бросился ловить такси. Он успел раньше «скорой помощи», которую с нетерпением ждали, а она все не приезжала.
Без врачей Славика боялись трогать, и он лежал на полу, нескладный и тощий, с очень бледным, мертвенно-бледным лицом.
…Сквозь дрему Слава слышал, как мама будто ответила кому-то, что он спит. И он понял, что не хочет просыпаться.
«Зачем я живу? Зачем я нужен, если нет настоящего дела и нет любви, которая радует? Зачем…» — эти вопросы преследовали его, не давали спать по ночам и отравляли часы пробуждения, если ему все же удавалось задремать.
Теперь его затягивало в сон, как в болотную трясину. Наконец он все же заставил себя приподняться и ощутил полную апатию и беспомощность. Никогда прежде не испытывал он такого странного состояния безразличия, отупения, душевного паралича. И странно, он видел себя как будто со стороны, маленьким и трусливым, маменькиным сынком, которого вечно гладили по головке, хвалили и извинялись, когда беспокоили просьбами. Он ничего не умеет, ничего толком не знает, он беззащитен и не приспособлен к этой жизни. А другой нет… Другой нет… Так зачем же он живет?.. Зачем?..
Ноги его не слушались. Он едва доплелся до окна, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Внизу торопились куда-то люди. Много людей. «Все куда-то спешат, — подумал Славик, — у всех дела. Всех ждут. Все кому-то нужны…» Мысли путались. Голова кружилась. Ужасно хотелось заснуть…
Его принесли на руках. К счастью, Славик не разбился насмерть. Кустовы жили на втором этаже, и, падая из окна, он приземлился на здоровенную собаку-водолаза, которая шла мимо со своим хозяином. Великий господин Случай!
Врачи, появившиеся наконец, определили, что переломов у него нет, а ушибы не так уж опасны. Собака пострадала больше…
Но никто, кроме Игоря, не догадывался, как страшны его душевные травмы. Игорь видел, что Славкиной маме кажется: как только вернется с работы ее муж, отец двух ее мальчиков, все обойдется, сразу наладится… Что же, блажен, кто верует…
12
Школа занимала все время Виктории Петровны. В чужих детей (своих у нее не было) она вкладывала немалые силы и делала это беззаветно. Без колебаний готова была она приносить себя в жертву ради общей пользы. Но последнее время в ее жертвенности, казалось, никто не нуждался, и, не признаваясь себе в этом, Виктория Петровна потерялась.
Она не требовала ни от учителей, ни от учеников сверх того, что когда-то требовали от нее. Она была уверена, что для школы времена не меняются. И пока существует мир, обязанность младших подчиняться старшим. Таков порядок. Сохранение и упрочение порядка представлялось Виктории Петровне святым делом учителя.
С великим рвением латала она безнадежно устаревшие одежды, испытывая невероятную муку оттого, что молодым учителям и подрастающим детям они не кажутся прекрасными, а напротив, старомодными и несуразными.
Виктория Петровна не могла не признать, что нынешние мальчики и девочки знают куда больше их прежних сверстников, но это не столько радовало, сколько пугало ее. Дети не должны чувствовать себя умнее взрослых, а за теперешними трудно было угнаться.
Иногда ученики, особенно эти умники из самого трудного в школе класса, казались Виктории Петровне бездушными злодеями, машинами, начиненными несметной информацией, но лишенными каких бы то ни было человеческих чувств, а Холодова и вовсе монстром.
Когда Киссицкая позвонила ей и спросила, можно ли ребятам ее навестить, она от неожиданности растрогалась до слез. Киссицкая всегда ей нравилась.
Были в этом классе и другие вполне симпатичные, спокойные и дисциплинированные девочки и мальчики. Но к сожалению, не они определяли тональность в классном оркестре. А Валерик Попов, самый примерный из всех, и это особенно не давало покоя Виктории Петровне, ходил по пятам за верховодом Прибаукиным. Необъяснимо, почему Надежда Прохоровна соглашается дальше терпеть его в школе? Гнать, гнать и гнать его надо! Немедленно! От него все беды!
Виктория Петровна спросила как-то у Попова, что он нашел в Прибаукине. Попов ее не понял:
— Ну что вы, Виктория Петровна, он только с виду развязный и грубоватый, а так вполне занятный. Я у него многому учусь.
— Лучше бы он у тебя научился заниматься, нормально вести себя на уроках и не демонстрировать своих отношений с девочками.
— Ну, что вы, чему я его научу? — почти с испугом проговорил застенчивый Попов, — Он жизнь знает в миллион раз лучше, чем я.
Когда на пороге своего дома Виктория Петровна увидела Вениамина Прибаукина, она глазам не поверила. И все же это ей было приятно. Даже Холодова явилась, потупив взор и стараясь затеряться среди товарищей.
Виктория Петровна всполошилась, поспешила на кухню приготовить чай. В домашнем пестреньком фланелевом платьице она не казалась такой грозной, как в школе, была похожа на добродушную хлопотунью — бабушку, которая беспокоится, чтоб все в доме вовремя оказались накормленными.
— Ой, Виктория Петровна, — воскликнула Дубинина, завязывая тесемочкой свои золотистые длинные волосы, — какая уютная у вас квартирка! Прямо загляденье!
— Да вы не хлопочите, — позаботилась о завуче Клубничкина (ну, просто ангел, а не девочка!). — Вам, наверное, еще нельзя много двигаться?
— Виктория Петровна, — весьма дружелюбно вымолвил Прибаукин, — мы вам тут… это… фрукты принесли. Вы любите гранаты? Говорят, они… это… очень полезны для крови.
И только Киссицкая, которая всегда с ней подолгу беседовала, а после ухода Ольги Яковлевны помогала хоть как-то ориентироваться в бурной жизни класса, на этот раз выглядела расстроенной и непривычно замкнутой, молчаливой.
— Ну, расскажите мне, какие новости? — почти весело, стараясь, чтобы голос не выдавал ее, поинтересовалась Виктория Петровна.
— Все нормально, — быстро откликнулся Прибаукин. — Антонина Кузьминична со мной, ну и там еще с другими… занимается математикой… Попов помогает мне по французскому. — Он внушительно посмотрел на Дубинину и Клубничкину, чтобы помогли ему.
— Ирина Николаевна открыла для всех желающих факультатив. С Кожаевой они помирились, — радостно улыбаясь, вмешалась Маша Клубничкина. — Маша Кожаева не смогла к вам прийти, но просила передать привет. Они с Львом Ефимычем репетируют сегодня «Маленького принца». Кожаева — принц, представляете?! Мы надеемся, вы уже выздоровеете к нашему спектаклю? Ну, что еще?..
— Кустов немного вывихнул ногу, — посмотрев на ребят (не лишнее ли говорит?), продолжила Дубинина. — Он, знаете, задумался и нечаянно вывалился из окна. Хорошо, что они на втором этаже живут. И еще повезло, что мимо как раз проходил человек с огромной собакой-водолазом, Славка на нее и приземлился. Чуть не убил собаку…
— Боже мой, какой ужас! — воскликнула с неподдельной тревогой Виктория Петровна. — Он же и сам мог убиться! Какой кошмар! Разве можно так задумываться?! А сейчас-то он как себя чувствует?
— Сейчас весьма, — заметил Пирогов, который тоже показался Виктории Петровне более молчаливым и хмурым, чем обычно. — Мы уже ездили к Кустову всем ансамблем репетировать. Надежда Прохоровна сказала, что нас просят выступить перед ветеранами.
— А вот Юстины Тесли я что-то не вижу? — обеспокоенно спросила Виктория Петровна и посмотрела на Веньку. — Она здорова?
— Здорова, здорова, — обнадежил Венька и бросил многозначительный взгляд на Киссицкую. — Она прихворнула, но теперь все нормально.
— Я не очень понимаю это ваше любимое словечко «нормально», — улыбнулась Виктория Петровна, — Все у вас нормально. И хорошо, и плохо — все нормально. Как понять?
— Ну, нормально, — начал Венька, поглядывая на дверь, — это нормально. Не хорошо, не плохо, как в жизни… Я думаю, нам не стоит вас переутомлять, все же сердце… — многозначительно заключил Вениамин. — Мы пойдем… А Киссицкая вам все поподробнее осветит. Ладно, Кися? — Он посмотрел на нее так, что возразить было трудно.
— Почему я? — попыталась Киссицкая сопротивляться.
Но Венька, не дав ей договорить, тут же пояснил:
— Ты у нас староста. Ну и Виктории Петровне, мне кажется, всегда приятно поговорить с тобою…
Когда Венька предложил навестить Викторию Петровну, а ребята, ненавидящие ее, быстро согласились, Киссицкая почувствовала недоброе. Отказывалась идти со всеми, но ее упрекнули: «Ты же староста!» Дубинина сказала: «Она у нас на словах активистка!» Не хотелось усложнять отношений.
А Виктории Петровне, видно, наскучило одной. Она подхватила Венькино предложение, обрадовалась:
— Да-да, Олечка, если можно, посиди еще со мною. Я тут одичала без школы.
И Кися осталась, а все быстро собрались и ушли.
— Почему Игорь Пирогов такой грустный? — с сочувствием спросила Виктория Петровна.
— Я о нем больше не хочу думать, вы извините, Виктория Петровна. Он перестал для меня существовать. Правильно говорила Мухина: «Твой Пирожок ни с чем».
Виктория Петровна сразу все поняла и перевела разговор на другую тему:
— И Холодова такая молчаливая…
— Она расстроена. Из-за характеристики.
— А-а, ну будет лучше себя вести, — примирительно сказала Виктория Петровна, — мы не будем возражать, еще не поздно… Пусть едет, поражает мир своей балалайкой…
— Виктория Петровна, — решилась Кися, — они на меня ополчились, думают, я Венькин дневник брала, а я не брала…
— А, да-да, — встревожилась сразу Виктория Петровна, — это на моей душе грех. Честно признаюсь. Но тогда так обострилась обстановка, понимаешь? Столбов исчез. Драгоценности Столбовские исчезли. Никакой ясности. Милиция сигнализирует… Крах фирмы!.. И потом за Тесли, скажу тебе откровенно, я волновалась. Как сейчас-то у них с этим балбесом?
— Я не знаю, — отказалась от пояснений Киссицкая.
Она поняла, что завучу не очень-то можно доверять. А Веньку и всю его компанию она уже побаивалась, решив для себя, что лучше с ними не связываться. Пирогова все равно не вернешь, надо вычеркнуть его из сердца и забыть навсегда. Главное для нее — в конце концов стать человеком. Хватит бузить, пора браться за ум, первое полугодие на исходе…
Разговор не клеился. Ольга пожаловалась на головную боль, Виктория Петровна не удерживала ее. Киссицкая выглядела утомленной, расстроенной, вялой. И они скоро распрощались.
13
У Оли Киссицкой последнее время голова часто кружилась, появилась незнакомая странная слабость. Она думала, что переутомилась, изнервничалась, старалась не обращать внимания на то, как быстро утомляется, а порою вдруг теряет равновесие.
Виктория Петровна жила в центре города, в старинных домах. Киссицкая вышла и побрела пешком, чтобы подышать воздухом перед сном и еще раз обо всем подумать.
Было совсем не поздно. Смеркалось. Накрапывал назойливый мелкий дождик, и ветер подгонял ее в спину, подталкивая к родным бульварам.
…Почудилось, что знакомый, как будто Венькин голос окликнул ее: «Кися!» Она оглянулась. Сзади стоял высокий парень, которого она никогда не встречала. Она быстро отвернулась, хотела идти дальше, но дорогу ей преградили еще двое в длинных красно-белых шарфах.
Широко расставив ноги, они засунули руки в карманы брюк, растопырили локти и нахально ухмылялись.
Оля вздрогнула, на мгновение отключилась и тут же оказалась в глухом каменном дворе, за помойкой.
— Какая у девочки красивая шапочка! — развязно сказал один из парней, — Не поделишься? Вот с ним. — И он пихнул Олю к стоявшему рядом приятелю.
Тот, здоровенный верзила, поймал Олю в объятия и сжал так, что кости, казалось, хрустнули.
— Говорят, девочка любит сказочки? — мерзким, пискливым голосом поинтересовался верзила, дыша прямо в лицо Оле тяжелым табачным духом. — Хочешь, мы инсценируем сказочку про девочку на троих? А? В пионерском отряде ты же научилась инсценировочкам? — И он подтолкнул Ольгу третьему, словно она была мячом в игре «штандер».
Оля попыталась вырваться, закричать, но ее крепко держали, заломив руки за спину. В рот ей сунули платок, запихнули подальше. Она начала задыхаться, ее тошнило. Попробовала отбиваться ногами, но один из парней схватил ее за ноги и оказался на корточках перед нею. Нагло заглядывая ей под подол, он крикнул:
— О, где мы были, что мы видели! Недаром нам советовали перевернуть это драгоценное создание.
Оле сделалось страшно, так невероятно страшно, что спина взмокла от холодного пота. Ненависть к этой мрази, мелькнувшая мысль, что парни в красно-белых шарфах «фанаты» и их подослал Венька и его «дружбаны», породили в Киссицкой сверхъестественную силу. Она резко рванулась. От неожиданности стоявший сзади отпустил ее. Соединив пальцы свободных рук, Ольга ударила по голове того, кто сидел перед нею на корточках. Он, к ее удивлению, неловко покачнулся и стукнулся о помойку. Тогда она кинулась на третьего, заслонявшего дорогу. Это был миг ее торжества. Всего лишь миг. Тут же она снова очутилась в тисках.
— Ну-ну, не рыпайся, девочка! — пригрозили ей, — Хочется, чтобы тебя пожалели? А ты умеешь жалеть? Как же теперь ты станешь трепаться о нравственности?
Они скинули с Оли пальто, шапку, шарф и подняли за ноги.
— Вот так. Повиси немножко. Нам сказали, девочке надо вправить мозги.
Волосами Оля коснулась земли. Почувствовала, как набухают на висках жилы. Ломило позвоночник. Тошнило. Но нестерпимее всего было сознание, что все это подстроил Венька, и не без участия Дубининой. Рыдания душили ее, но рот был зажат грязным платком…
Платье задралось, опустилось к шее. Ноги в тонких колготках обдавало холодным ветром.
— Пощупаем, из какого теста сделаны умненькие девочки? — нагло хихикнул один из парней, стаскивая с Оли колготки вместе с трусиками.
Оля застыла. Голова сделалась чугунной. Ничего уже не чувствуя, оцепенев от ужаса, услышала она странный металлический звук, будто били в набат, и громкий голос. Но потом ей показалось, что голоса звучат рядом:
— Отрываемся!
— Бросай!
— Быстрее!
Оля рухнула в грязь у помойки.
— Очухаешься, стерва, язык попридержи, вырвем! — предупредили ее и побежали, видно испугавшись чего-то.
Оля подумала, что кто-то, спугнувший ее мучителей, поможет ей. Но рядом не было никого, кто мог бы протянуть руку помощи. Только дождь и ветер несли влагу, такую необходимую, чтобы не задохнуться от горя и выжить.
Сколько прошло времени, пока она лежала, не в силах пошевелиться, захлебываясь слезами, Оля не помнила. Но понимала, что все же необходимо подняться. С трудом заставила она себя сначала сесть, потом встать. Машинально поправила одежду, подобрала пальто, шарф, шапку. Парни, лица которых она даже не запомнила, ничего не забрали с собой, кроме радости жить и уверенности в жизни.
Снова страшно болела и кружилась голова. Ее вырвало. Из носа потекла кровь. Болела спина, ноги не слушались. Держась за каменную стену, она едва дотащилась до выхода из двора. Грязная, растрепанная и шатающаяся выползла на улицу.
— Пьяная, что ли? — осуждающе спросил у нее одинокий прохожий, увидев ее неуверенный шаг. — Такая молоденькая, совсем стыд потеряли…
Она слышала укоряющий голос, но ничего перед собою не видела. Все слилось в красновато-черное траурное пятно и заслонило от нее живой и трепещущий мир.
Случайный прохожий все же остановил для нее такси. Сказал что-то таксисту настойчиво и требовательно. И такси понесло ее по городу к маминым «старикам». Она не могла в таком виде вернуться домой.
— Что с тобою? — спросила бабушка.
— Упала, — ответила Оля и не узнала своего голоса.
Она чувствовала, как бабушка усадила ее, раздевает и пытается обмыть из таза, как когда-то в детстве. Вдвоем с дедом они тащили ее в постель, которая всегда ждала ее в этом доме. И вот она проваливается в пропасть. Проваливается и перестает существовать.
На какое-то мгновение вернувшись из небытия, она видит склонившиеся над нею родные и любящие лица шестерых самых близких ей людей, родителей и «стариков». Под этим своеобразным куполом любви, преданности и тепла она выросла и теперь чувствует себя лучше, безопаснее. И тут же клянется себе, что всю правду о случившемся никогда, никому не расскажет.
И завтра же пойдет в школу, и будет улыбаться как ни в чем не бывало. Пусть не радуются Прибаукин и Дубинина!..
14
Утром в школу позвонили из больницы. Киссицкая находилась там в тяжелом состоянии. Врач, не пожелав ничего объяснять по телефону, попросил приехать классного руководителя.
Анатолий Алексеевич немедля отправился в больницу. При встрече врач сказал, что у Киссицкой гипертонический криз. Это случается и в таком возрасте. Но бороться с гипертонией в данном случае сложно, потому что болезнь усугубляется депрессией.
— У нее есть друзья? — поинтересовался доктор.
Анатолий Алексеевич пожал плечами. Доктор посмотрел удивленно, пояснил:
— Чтобы ее лечить, необходимо вернуть ей веру в жизнь, в людей…
Собрав класс, Анатолий Алексеевич говорил кратко, без лишних эмоций. Передавал сказанное доктором и старался рассмотреть их лица, уловить на них хотя бы тень сострадания.
Они стояли молча, не шелохнувшись, низко опустив головы и потупив взоры. И он не увидел ни малейшего раскаяния и не услышал ни единого слова в ответ. Повернулся и пошел прочь…
В назначенный день и час Анатолий Алексеевич поехал в больницу. Сумрачный, ничего не видящий перед собою, подошел к больничным воротам и натолкнулся на мечущихся у входа Клубничкину и Дубинину. Осунувшиеся, с прибранными назад волосами и от этого не похожие на самих себя, они кинулись к нему, словно он, сам всемогущий бог, умел отпускать совершенные грехи.
Молча, говорить с ними ему не хотелось, пошли они больничным парком к корпусу. Сзади услышали шуршание осенних листьев под ногами: Пирогов и Попов поспешно двигались вслед за ними. В вестибюле они увидели Кожаеву и Столбова. А когда поднялись наверх, вслед за ними лифт почти сразу же привез Тесли и Прибаукина. Вместе ли они пришли, случайно ли встретились, торопясь к назначенному часу?..
Анатолий Алексеевич подумал: «Только Холодовой некогда!» И тут же увидел в окно ее угловатую фигурку, стремительно передвигающуюся среди деревьев, теряющих на ветру последние листья.
Почему они пришли?
Потрясение пробудило в них живые человеческие чувства?
Или это всего лишь привычка подчиняться принуждению?
Или их привел страх перед наказанием?
Нет, он не умел их понять…
Из палаты вышел врач в белом халате. Жестом пригласил всех зайти. Киссицкая, как тяжело больная, в палате была одна. Она лежала неподвижно, словно спеленутая, и лицо ее казалось неживым.
— Ты видишь, девочка, — обратился к ней доктор, — тебя пришли навестить. Я думаю, твои товарищи о тебе позаботятся…
На остановившихся, будто застывших, глазах Киссицкой блеснула одинокая слеза.
Ребята подавленно, угрюмо молчали.
Киссицкую нельзя было утомлять, и они, постояв недолго, медленно стали покидать палату.
— Вы заметили? — беспокойно спросил доктор, когда они с Анатолием Алексеевичем вышли в коридор. — У них сухие глаза. Сухие глаза страшнее чумы, это болезнь нашего времени. — И уже взволнованно, но убедительно добавил: — Их надо научить плакать.
Из окна Анатолий Алексеевич посмотрел вслед своим ученикам. Тесной стайкой устремились они за ворота. Туда, где шумела, бурлила и оглушала жизнь…
Что станет с ними?..
15
Ночью, после визита ребят, Виктории Петровне снился странный сон.
Она плыла на прекрасном белом корабле.
Светило солнце, искрились волны, и берег казался близким.
Возле нее ее ученики безмятежно смеялись, радуясь жизни.
Очень хотелось приплыть…
Потом один из учеников с легкостью птицы взлетел с кормы ввысь и вдруг камнем упал в воду. Она бросилась к борту, звала на помощь, но увидела… там, за бортом, его приняла лодка. Легкая, изящная… Лодка ждала его, и он без сожаления покинул корабль.
А вокруг все молчат. Будто знают что-то, но это тайна. Именно для нее тайна…
Виктории Петровне захотелось этот сон тут же стряхнуть, прогнать. Проснуться и обрадоваться: чего не привидится?
Но сон не отпускал Викторию Петровну. Она должна была досмотреть его до конца.
К кораблю плыли лодки. Лодки, лодки, лодки… Все легкие, изящные. Они сковали корабль, как льдины. И вот ее ученики уже там, в лодках, а она одна на корабле. И прямо на нее надвигается крыса…
Корабль начинает расти. Он все увеличивается и увеличивается и становится громоздким и неуклюжим чудовищем. Он не способен плыть. Он трещит и вот-вот развалится. И она не в силах уберечь себя от свирепого скрежещущего треска, спастись от ползущей крысы…
«Крыса — это к беде! — будто наяву обожгла мысль. — Надо открыть глаза, пока корабль не затонул…»
Виктория Петровна еще раз попыталась выскользнуть из ужасного ночного кошмара и снова не сумела перебороть сон.
Тогда она закричала. Она кричала до тех пор, пока не проснулась обессиленная. Болела грудь, тяжело было дышать, сердце отказывало…
С трудом, руки ее не слушались, Виктория Петровна дотянулась до телефона.
Когда «неотложка» уехала, не приняв еще окончательного решения, Виктория Петровна поняла, что в школу она не вернется…
16
Надежда Прохоровна, ожидая Анатолия Алексеевича из больницы, нервничала и с горечью думала о том, что не сумела отвести беду. Не оставалось больше надежды, что все образуется.
Она заранее знала, что произойдет дальше, и знать это ей было скучно и тоскливо.
Скоро, очень скоро школа наполнится людьми, посторонними и безразличными. Приедут районные руководители народного образования, инструкторы райкома комсомола и, не исключено, райкома партии. Непременно появится корреспондент газеты, где все еще «на контроле» находится письмо Клубничкиной. И родители учеников всех классов объединятся и станут шуметь на классных собраниях, возмущаясь школьными порядками и беспорядками. А Киссицкие, вполне вероятно, подадут в суд…
Как же скверно устроена жизнь, если силы и желание вмешаться возникают только тогда, когда уже надо расследовать и наказывать. И совсем редко для помощи и сочувствия?!
В окна светило жаркое солнце. Но Надежду Прохоровну знобило, и щеки горели.
Странная все же выдалась эта осень. То не переставая лили дожди, проносились быстрые злые ветры, то, почти тут же, по-летнему обжигало солнце. Там, наверху, шла не видимая глазу борьба…
Надежда Прохоровна родилась осенью и осень любила больше всех времен года. Осенью издалека приходили ветры. Они несли с собою ощущение простора, пространства, вольности. Появлялось желание натянуть парус…
Этой осенью ветры сплетались и путались, и это только усиливало беспокойство.
Она слышала, как ребята из класса, который доставлял ей столько неприятностей, осуждали ее за то, что она пытается все утрясти, уравновесить, боится действовать, потому что родилась под знаком Весы.
Что же, возможно, дети правы, и мы действительно зависим от знаков Зодиака. Но есть и вполне земные причины ее поведения. Весы в ее душе постоянно колеблются, выбирая между страхом и правдой. И началось это давно, ох как давно, еще в ее школьные годы…
Тогда в одночасье ее подружка, ее Маринка, объявлена была врагом, дочерью врага народа, врача-убийцы, убийцы в белом халате.
Это не укладывалось в голове, от этого можно было сойти с ума. От нее требовали отречься, заклеймить, растоптать. И не было ни жалости, ни пощады, ни защиты, ни пути, чтобы отступить…
Она металась в бреду. Родители спрятали ее в больницу. Уберегли от великого испытания, но не от дальнейшей жизни…
Ужас тех страшных дней юности с неизменным постоянством возвращается к ней во снах, душит по ночам, преследует. Прошлое не улетучивается, не пропадает, накатывает снова и снова.
«Мы упрекаем детей в жестокости, — с беспредельно нарастающим бессилием думала Надежда Прохоровна, — но мы же столько лет возвышали жестокость в подвиг, если нам казалось, что она для пользы дела. Мы требуем от них сострадания, но разве мы не внушали всем, что жалость унижает, и не оправдывали беспощадность во имя великой цели?.. Прошлое мстит нам в наших детях…»
Она встала, прошлась по кабинету, из красной леечки полила цветы и глянула на себя в зеркало на стене. Лицо ее было землисто-серым, под глазами темнели пятна, а руки беспомощно висели вдоль тела…
17
…Возвратившись из больницы, Анатолий Алексеевич нашел Надежду Прохоровну в ее кабинете. После пережитого им волнения его поразило спокойствие директора школы. Она держалась, как всегда, величественно и по-прежнему царственно улыбалась. Нет, по внешнему виду он никогда не мог угадать, что на самом деле происходит с этим человеком. То ли новому директору школы не ведомы внутренние бури, то ли за внешним «все хорошо, ничего не случилось» спрятаны глубоко тревоги и сомнения?..
Надежда Прохоровна почувствовала его немые вопросы, или интуиция подсказала ей его мысли, но притча, еще одна притча, соответствующая моменту, как всегда, была уже наготове:
— В результате аварии девушка застыла в шоке с высоко поднятыми руками. Руки онемели, и ничто, казалось, не заставит их опуститься. И все же нашелся врач, который понял, как избавить девушку от недуга. Он вывел ее перед огромной аудиторией, заполненной студентами, попросил подняться на табурет, чтобы все ее видели. Рассказал о том, что с ней произошло, и… неожиданно резким движением задрал подол ее платья. Девушка вскрикнула и… опустила руки, чтобы придержать подол. Чувство стыда, совестливость, это же воспитывалось веками! Это стало инстинктом, цепью безусловных рефлексов… Мы нарушили эту цепь. Все безусловное мы превратили в условное, в условности… — Она замолчала, потупилась.
В наступившей тишине Анатолий Алексеевич услышал радио. Приемник на стене директорского кабинета никогда не выключался, вполголоса доносил он звуки внешнего мира.
пели звонкие и радостные голоса детского хора, —
А из сознания пробивались иные, ранящие душу голоса:
«Отец прав. Только он и прав. Нельзя жить без веры…»
«Зачем жить, если ничем не заниматься всерьез!..»
«Чему я должен служить — Идеалам или Добру?..»
«Я устал от трудностей. Я хочу жить легко. Петь и танцевать. Я же молодой!..»
«Это я Спящая красавица, позор семьи? Это они, они мой позор! Это они заснули, кто только их разбудит?!»
«Нельзя так зависеть от других людей. Нужно черпать силы в себе. Я верю только в свои силы!»
Анатолий Алексеевич провел рукой по лицу, точно хотел освободиться от тяготивших его раздумий. Надежда Прохоровна заметила это, сказала нерешительно:
— Медицина смелее нас. А педагогика консервативная наука. Она, похоже, бессильна перед быстро бегущим временем. Может, вам, молодым, удастся все лучше, чем нам?..
Ему показалось, что она еще раз таким вот образом настаивает на том, чтобы он взял на себя обязанности завуча школы. Виктория Петровна неожиданно для всех заявила, что ее больное сердце отказывается биться в унисон с новым, для нее непонятным, и собралась на пенсию.
Анатолию Алексеевичу не приходило в голову, что директор школы смотрит на него с надеждой, потому что в нем видит единственную возможность осуществить свои неосуществленные желания.
Молодой учитель не догадывался, что Надежда Прохоровна искренне надеется, что ему, идущему на смену, не придется, как ей, страдая, улыбаться торжественно, на всякий случай. И постоянно застегивать мундир на все пуговицы — от случайных взглядов, стремящихся проникнуть в больную душу…
Они сидели рядом, и каждый думал о своем, но, по существу, оба они думали об одном и том же.
В институте, где Анатолий Алексеевич продолжал учиться в заочной аспирантуре, ему предложили написать диссертацию на тему: «Личность и коллектив в условиях реформы средней школы».
Новому времени нужны были новые идеи и новые люди. Он был молод. Но был ли он новым?..
Он не переставая размышлял о том, что в «новых», молодых, таких как он, и даже его учениках живет, и бог весть сколько будет жить, прошлое. И мечту его ничем не снять, не вытравить. Даже если очень постараться начать новую жизнь с понедельника…
Теперь больше чем когда-либо он нуждался в опоре, в поддержке матери, в ее трезвом и мудром взгляде на жизнь. Но ее уже не было.
В тягостные часы бессонницы он пытался вызвать из небытия ее лицо, ее глаза, не позволяющие лукавить. И однажды всплыл в памяти и прочно обосновался в сознании мамин рассказ о замкнутом круге.
…Хоронили Сталина. С друзьями-студентами оказалась мама на улицах. Улицы были забиты людьми. Люди суетились, бежали, как безумные, догоняя впереди бегущих, чтобы встать в затылок, след в след тем, кто, казалось, ближе к цели.
Менялись улицы, площади, а они все шли и снова возвращались на прежние места. Наконец длинный строй вроде обрел порядок. Шли степенно, в цепи, с надеждой и верой.
Тут у мамы развязался шнурок на ботинке. Она отошла в сторону, и когда подняла голову, то увидела, что люди идут по кругу. По кругу, у которого нет ни начала, ни конца.
Всю жизнь не давал ей покоя этот круг. Ей казалось, что она не сумела из него вырваться…
Анатолий Алексеевич обнаруживал и в себе то же бессилие.
Что принесет он детям, заменив Викторию Петровну?
Что нового скажет своей диссертацией, если не поймет, как выбраться из страшного круга, в котором так тесно переплелись мертвые и живые?..
1985