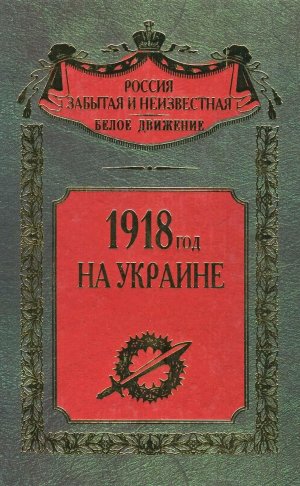
1918 год на Украине
Под общей редакцией предводителя Российского Дворянского Собрания князя А. К. Голицына
Авторы проекта Валентина Алексеевна БЛАГОВО, Сергей Алексеевич САПОЖНИКОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Пятый том серии «Белое движение в России» посвящен событиям 1918 года на Украине – главным образом борьбе русских офицерских добровольческих формирований, которые возникли, как правило, в недрах гетманской армии и впоследствии стали важным фактором развития Белого движения как на юге России, так и на западе и севере страны. События эти известны довольно плохо, а иногда практически неизвестны, и публикация собранных здесь воспоминаний поможет восстановить еще одну забытую страницу белой борьбы в России.
Ситуация, сложившаяся в конце 1917 года на Украине, была крайне запутанной. Здесь находилось значительное число офицеров – как проживавших на этой территории и служивших до войны в Киевском военном округе, так и масса тех, кто застрял на Юго-Западном и Румынском фронтах или не смог добраться до Центральной России. Киев был переполнен русскими офицерами, спасшимися из большевизированных частей. По приказу пришедшей к власти и провозгласившей в начале 1918 года независимость Украины Центральной Рады правом жительства пользовались только проживавшие в городе до 1 января 1915 года. Все остальные обязаны были регистрироваться. В подтверждение выдавалась темно-красная карточка, так называемый «красный билет», послуживший позже предлогом к притеснениям и расстрелам их носителей со стороны большевиков.
Большевики во главе с М.А. Муравьевым, 26 января 1918 года захватившие Киев и ликвидировавшие Раду, истребили там множество офицеров. По сведениям Украинского Красного Креста, общее число жертв исчисляется в 5 тысяч человек, из коих большинство, до 3 тысяч, офицеры. Называются также цифры от 2 до 6 тысяч погибших офицеров. Во всяком случае, это была одна из крупнейших, если не самая крупная за 1917-1919 годы единовременная расправа над офицерами.
Жертвы во время большевистского наступления были и в других городах. В частности, в Полтаве, захваченной большевиками 5-6 января, были перебиты оказавшие сопротивление юнкера эвакуированного туда Виленского военного училища (лишь части их удалось пробиться). Некоторые офицеры в целях самообороны объединялись в партизанские отряды, ведшие борьбу с различными бандами.
С установлением власти гетмана генерал-лейтенанта П.П. Скоропадского положение русских офицеров на Украине изменилось радикальным образом. Если не считать действий петлюровских банд, жертвами которых в числе прочих становились и офицеры, в период с весны до осени 1918 года они находились там в относительной безопасности. Гетманом были даже ассигнованы денежные суммы для выдачи находящимся на Украине офицерам. В это время Украина и особенно Киев превратились в Мекку для всех, спасающихся от большевиков из Петрограда, Москвы и других местностей России. К лету 1918 года в Киеве насчитывалось до 50 тысяч офицеров, в Одессе – 20, в Харькове – 12, в Екатеринославе – 8 тысяч. Как вспоминал генерал барон П.Н. Врангель: «Со всех сторон России пробивались теперь на Украину русские офицеры. Частью по железной дороге, частью пешком через кордоны большевистских войск, ежеминутно рискуя жизнью, старались достигнуть они того единственного русского уголка, где надеялись поднять вновь трехцветное русское знамя, за честь которого пролито было столько крови их соратников. Здесь, в Киеве, жадно ловили они каждую весть о возрождении старых родных частей. Одни зачислялись в Украинскую армию, другие пробирались на Дон, третьи, наконец, ехали в Добровольческую армию». В Харькове и ряде других городов существовали офицерские организации, насчитывавшие по нескольку сот или даже тысяч членов.
Одной из форм самоорганизации офицерства была служба в гетманской армии. Гетманская власть, в отличие от петлюровской, не была на деле ни националистической (лишь по необходимости употребляя «самостийные» атрибуты и фразеологию), ни антироссийской. Это давало возможность даже возлагать некоторые надежды на нее и ее армию как на зародыш сил, способных со временем освободить от большевиков и восстановить всю остальную Россию. Гетманская армия состояла из кадров 8 корпусов, 20 пехотных и 4 кавалерийских дивизий, 6 кавалерийских бригад, 16 легких и 8 тяжелых артбригад. Эти кадровые части состояли исключительно из подразделений старой российской армии (11-й, 12-й, 15-й, 31-й, 33-й, 42-й пехотных, 3-й и 4-й стрелковых, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й кавалерийских, подразделений 4-й, 13-й, 14-й, 19-й, 20-й, 32-й, 34-й, 44-й пехотных, 3-й и 16-й кавалерийских дивизий). Все должности в гетманской армии занимали русские офицеры, в абсолютном большинстве даже не украинцы по национальности.
Все начальствующие лица армии были произведены в генеральские и штаб-офицерские чины еще в русской армии и оказались в гетманской армии в большинстве потому, что стояли во главе соединений и частей, подвергшихся в конце 1917 года «украинизации». Из примерно 100 лиц высшего комсостава гетманской армии лишь менее четверти служили потом в украинской (петлюровской) армии, большинство впоследствии служили в белой армии, часть погибла в ходе петлюровского восстания или эмигрировала, а некоторые оказались в Красной армии. Части гетманской армии и осенью 1918 года обычно представляли собой «украинизированные» в 1917 году части старой русской армии с прежним офицерским кадром. Собственно, все 64 пехотных (кроме 4 особых дивизий) и 18 кавалерийских полков представляли собой переименованные полки русской армии, 3/4 которых возглавлялись прежними командирами. Гетманская армия дала многих офицеров и генералов как Вооруженным силам Юга России, так и Северо-Западной армии генерала Юденича.
Но гораздо более важное значение имела другая форма организации офицерства – создание русских добровольческих формирований. Организацией таковых в Киеве занимались генерал И.Ф. Буйвид (формировал Особый корпус из офицеров, не желавших служить в гетманской армии) и генерал Л.Н. Кирпичев (создававший Сводный корпус Национальной гвардии из офицеров военного времени, находящихся на Украине, которым было отказано во вступлении в гетманскую армию). Офицерские дружины, фактически выполнявшие функции самообороны, впоследствии стали единственной силой, могущей противодействовать Петлюре и оказывавшей ему сопротивление. Формирования эти имели различную ориентацию – как союзническую (считавшие себя частью Добровольческой армии), так и прогерманскую, и их руководители часто не находили общего языка, что усугублялось характерной для того времени атмосферой неизвестности и неопределенности.
При новом же повороте событий, начавшемся осенью 1918 года с подъемом петлюровского движения, уходом германских войск и одновременным наступлением большевиков, ориентироваться в обстановке стало еще труднее. Хаос, царивший на Украине в это время, хорошо характеризуется, например, положением Екатеринослава, о котором сводка в середине ноября 1918 года сообщала: «Город разделен на пять районов. В верхней части укрепились добровольческие дружины, в районе городской думы – еврейская самооборона, далее – кольцом охватывают немцы; добровольцев, самооборону и немцев окружают петлюровцы и, наконец, весь город – в кольце большевиков и махновцев». В боях против петлюровцев и большевиков наряду с другими русскими отрядами приняли участие и небольшие части, формировавшиеся при вербовочных бюро Южной армии в разных городах Украины.
Гетман в последний момент откровенно принял прорусскую ориентацию и пытался войти в связь с командованием Добровольческой армии. Им было издано распоряжение о регистрации и призвании на службу офицеров и дано разрешение на формирование дружин русских добровольцев. Но надежды его не оправдались, было мобилизовано едва 6-8 тысяч человек. Неудача сформирования гетманом своей русской Добровольческой армии была предрешена той враждой и недоверием, которые испытывала по отношению к «Украинской державе» значительная часть русского офицерства. Ситуация в разных местах Украины и судьбы офицерства складывались по-разному – в зависимости от наличия или отсутствия решительных начальников, оружия, численности и степени организованности офицерства и других причин.
Наиболее известна киевская добровольческая эпопея (один из немногих эпизодов Гражданской войны, знакомых советскому читателю благодаря «Белой гвардии» и «Дням Турбиных» М.А. Булгакова). Формирование осенью 1918 года в Киеве русских добровольческих дружин проходило в той же обстановке, как за год до того на Дону. Непосредственно в Киеве были созданы подразделения как Особого, так и Сводного корпусов. В киевских частях Особого корпуса 1-й дружиной командовал полковник князь Святополк-Мирский, 2-й – полковник Рубанов (эта дружина вскоре была влита в состав 1-й). Кроме того, в корпусе при штабе гетманской Сердюцкой артиллерийской бригады формировался 1-й Отдельный офицерский артиллерийский дивизион. К Сводному корпусу относилась Киевская офицерская добровольческая дружина генерала Кирпичева, по численности превосходившая полк полного состава. Дружина имела 5 действующих пехотных отделов, 3 резервных, не успевшие оформиться, один инженерный и конный отряды. Численность русских офицерских дружин при Скоропадском достигала от 2 до 3-4 тысяч человек. Но это было меньшинство из находившихся в ту пору в Киеве офицеров. Большинство так и осталось вне борьбы, что, однако, не помогло ему избежать общей участи после захвата города петлюровцами. Главнокомандующим был назначен граф Ф.А. Келлер, очень скоро обнаруживший полное нежелание подчиняться гетману и 27 ноября замененный князем А.Н. Долгоруковым. Отношения последнего с русским офицерством осложнились и тем еще обстоятельством, что ему пришлось арестовать представителя Добровольческой армии в Киеве генерала П.Н. Ломновского (который издал приказ, предписывающий русскому офицерству, образовавшему в Киеве добровольческие отряды, провозгласить себя частью Добровольческой армии и подчиняться лишь исходящим от нее приказаниям), и, хотя инцидент был быстро ликвидирован после отмены приказа, последствия его еще более ухудшили отношение офицерства к гетману.
Когда немцы отказали гетману в поддержке, петлюровцам, сжимавшим кольцо вокруг Киева, противостояли только русские офицерские отряды, членов которых часто ждала трагическая судьба. Тяжелейшее впечатление произвело, в частности, истребление в Софиевской Борщаговке под Святошином подотдела (взвода) 2-го отдела дружины Л.Н. Кирпичева (из состава которого 5 человек было убито на месте и 28 расстреляно, причем трупы их были изуродованы крестьянами). После падения Киева множество офицеров пали жертвами победителей. В ночь на 21 декабря 1918 года вместе с двумя своими адъютантами погиб граф Ф.А. Келлер. Любопытно, что в петлюровской «Украинской народной республике» смертной казни по закону не существовало, и убийства офицеров происходили «неофициально». Как отмечали очевидцы: «Расстрелы… производились исподтишка, украдкой. Встретят на улице русского офицера, или вообще человека, по возрасту и обличью похожего на офицера, выведут на свалку, пристрелят и тут же бросят. Иногда запорют шомполами насмерть, иногда на полусмерть. Во время междуцарствия, когда Петлюра ушел из Киева, а большевики еще не вошли, было найдено в разных частях города около 400 полуразложившихся трупов, преимущественно офицерских». Защитники Киева были собраны в Педагогическом музее и Педагогическом институте. Сюда же на протяжении недели доставлялись офицеры, взятые в плен на Полтавщине и Черниговщине. По разным свидетельствам, в Педагогическом музее на Владимирской было помещено от 600-800 до 4 тысяч пленных офицеров. Генералов и полковников позже отвезли в Лукьяновскую тюрьму. Значительной части их под различными предлогами удалось позже освободиться, около 450 человек было вывезено в Германию. Эти офицеры попали потом (через Англию) в Архангельск, где приняли участие в борьбе против большевиков на Северном фронте. Группа офицеров бывшей Киевской добровольческой дружины генерала Кирпичева во главе с гв. штабс-ротмистром В. Леонтьевым и ряд других офицеров воевали потом в составе 3-го полка Ливенской дивизии Северо-Западной армии. Однако содержавшиеся в Лукьяновской тюрьме были в начале 1919 года захвачены там большевиками и расстреляны. По-другому развернулись события в Екатеринославе, где стоял 8-й корпус гетманской армии (генерала И.М. Васильченко), офицеры которого были в большинстве прорусской ориентации и враждебны сепаратизму. В городе существовала и офицерская добровольческая дружина. При петлюровском восстании корпус отказался разоружиться. На созванном митинге было решено покинуть город и идти на соединение с Добровольческой армией. Ночью 27 ноября отряд во главе с генералом Васильченко – 43-й и 44-й, Новороссийский конный и артиллерийский полки, добровольческая дружина, бронедивизион, радио- и инженерная части, лазарет – численностью всего около 1000 человек (большинство офицеры) при четырех орудиях тайно выступил на юг (петлюровцы расстреляли некоторых оставшихся в городе офицеров и членов семей ушедших) и, ведя бои с петлюровцами 22 декабря (2 января), достиг Перекопа. Участники Екатеринославского похода (позже для них был учрежден особый знак отличия) составили основную часть имевшихся тогда в Крыму белых войск и сыграли важную роль в борьбе на этом участке фронта Добровольческой армии.
В Полтаве, где стоял 6-й корпус, служило несколько сот офицеров (с призывом офицеров после начала петлюровского восстания их число по меньшей мере удвоилось). Сводный отряд из его офицеров корпуса генерал-майора Н.Н. Купчинского вел бои с наступавшей петлюровской дивизией полковника Болбочана, а потом был распущен (часть его отошла к Миргороду, где присоединилась к отряду капитана 1-го ранга М.М. Римского-Корсакова). В самой Полтаве 27 ноября группа офицеров сдалась после перестрелки в здании губернского правления.
Несколько десятков офицеров Особого корпуса (офицерские русские группы из отпускных чинов Добровольческой армии и добровольцев) во главе с полковником М. Соболевским с 22 ноября обороняли подступы к Полтаве у станции Селещина. После взятия Полтавы большинство Селещанского отряда (с 1 декабря – Отдельный Полтавский добровольческий батальон, 65 штыков) – отказалось сдаваться и вместе с примкнувшими к нему офицерами Особого корпуса с Харьковского направления во главе с подполковником А.К. Корольковым и кадрами 34-го Севского полка решило под командованием капитана 2-го ранга С.М. Ратманова пробиваться на Кременчуг.
Часть бригады полковника Ратманова разоружилась в еще занятых немцами Лубнах, а остальные 22 декабря двинулись на Одессу, но, получив известия о ее падении, вынуждены были капитулировать 27-го у деревни Таганчи. Некоторые были убиты, а большинство вывезено в Германию, откуда после пятимесячного пребывания в лагерях переброшено в Ливенский отряд в Прибалтику, где они послужили ядром 3-го Полтавского полка.
В ряде других городов также были созданы русские офицерские отряды, стремившиеся пробиться на соединение с белыми войсками. В частности, в Старобельске сформировалась офицерская дружина, вскоре переименованная в Старобельский офицерской отряд (102 штыка), которая вместе с 12-м Донским полком двинулась на юг и вошла в состав Донской армии. В Мариуполе после ухода немцев был также образован офицерский отряд, который телеграммой генерала Деникина был зачислен в состав Добровольческой армии.
В Одессе в декабре 1918 года на пароходе «Саратов» под началом генерала А.Н. Гришина-Алмазова из войск 3-го Одесского гетманского корпуса были сформированы офицерские добровольческие части, которые освободили город от петлюровцев. В начале 1919 года генералом Н.С. Тимановским из них была сформирована Одесская бригада, участвовавшая в боях под городом и отошедшая в Румынию, а потом переправленная в Новороссийск. При эвакуации Одессы многие офицеры были расстреляны и убиты местными большевиками еще до полного оставления города. В общей сложности в 1918 году в ходе событий на Украине от рук большевиков, петлюровцев и различных банд погибло до 10 тысяч русских офицеров.
Материалы тома сгруппированы по разделам. В первом из них собраны материалы, посвященные положению на Украине в конце 1917 года и событиям в Киеве в январе 1918 года, во время первого занятия его большевиками, во втором – событиям весны – лета 1918 года, в третьем – обороне Киева от петлюровцев в ноябре – декабре 1918 года, в четвертом – борьбе русского офицерства в добровольческих частях в других местах Украины осенью – зимой 1918 года, в пятом – Екатеринославскому походу и в шестом – событиям в Одессе.
Большинство публикаций приводятся полностью. Из крупных трудов взяты только главы и разделы, непосредственно относящиеся к теме. Авторские примечания помещены (в скобках) в основной текст. Стилистика везде сохранена, исправлялись лишь очевидные опечатки и грамматические и синтаксические ошибки.
С.В. Волков
Раздел 1
СОБЫТИЯ КОНЦА 1917-ГО – НАЧАЛА 1918 ГОДА
КОРНИЛОВЦЫ В КИЕВЕ [1]
В конце сентября корниловцы со 2-м Чехословацким полком, под общим командованием полковника Леонтьева, были спешно переброшены в Киев. Весь Киев бурлил. Сепаратистские течения украинцев-националистов усиливались. «Союз освобождения Украины» дошел до того, что послал приветственную телеграмму австрийскому генералу Пухало с пожеланием «дальнейшего победного напора славной австро-венгерской армии в самое сердце Украины – в Киев, во славу Его Величества Императора Франца-Иосифа». В конце концов украинцы объединились с большевиками и под руководством генерального секретаря Петлюры и большевистского комиссара Пятакова подняли восстание. Правительственный комиссар доктор Леонтьев от имени Временного правительства вызвал к себе на помощь корниловцев и чехов. По прибытии отряда в Киев Чехословацкий полк остался в предместье Киева, а корниловцы должны были разместиться в Константиновском военном училище. Когда Полк шел по городу и проходил мимо арсенала, всех удивило, что около него толпятся вооруженные рабочие. Только в самом училище полковник Неженцев [2] узнал, что арсенал захвачен большевиками. Корниловцы немедленно приняли меры предосторожности и выставили охранение. В ту же ночь большевики повели наступление на Константиновское военное училище, но сразу были отбиты. В течение трех дней большевики повторяли свои атаки, пытаясь овладеть училищем, обстреливали его даже артиллерийским огнем, но были всегда отбрасываемы с большим для них уроном. Здесь был убит командир 10-й роты поручик Григорьев. Украинский Георгиевский полк через парламентеров предложил полковнику Неженцеву сдать оружие, на что получил ответ классической фразой: «Придите и возьмите!» Украинцы пошли в атаку, но потерпели поражение. Были и у корниловцев убитые и раненые. Окруженные со всех сторон корниловцы оказались отрезанными от полковника Леонтьева и от штаба округа. Чехи под влиянием комиссара Макса объявили нейтралитет и уехали обратно. Начальник отряда тоже бросил корниловцев на произвол судьбы. Власть в Киеве окончательно перешла к большевикам в блоке с украинской Радой. Начальник украинского штаба Павлюченко предложил корниловцам перейти в подчинение украинской Рады и стать ее сердюцким (гвардейским) полком. Неженцев только рассмеялся и потребовал или отправить его полк на Дон, или же снова в Чешский корпус. [3] Порешили на последнем. Но, опасаясь расправы украинцев с юнкерами Константиновского военного училища, [4] которые все время помогали корниловцам, Неженцев настоял, чтобы предварительно, до отъезда корниловцев, было отправлено в Екатеринодар все училище. И только когда юнкера со своим начальником училища генералом Калачевым [5] были погружены в эшелоны, Неженцев облегченно вздохнул.
Корниловцы, приехав на свою прежнюю стоянку, немедленно восстановили связь с генералом Корниловым. Сообща с ним был выработан план дальнейших действий для встречи на Дону.
Уверенности у генерала Корнилова, что ему удастся благополучно выбраться из Быховской тюрьмы, конечно, не было, и он на прощанье послал корниловцам образ с препроводительным письмом на имя полковника Неженцева.
В этом письме генерал Корнилов писал: «С твердой уверенностью в непоколебимой верности полка заветам, на основе которых он зародился, я шлю ему образ, которым епископ благословил меня, как старшего из корниловцев. Шлю полку мое благословение на новые ратные подвиги за честь России и Ее Армии и мой сердечный горячий привет вам, всем офицерам и солдатам».
Наконец 25-го из Ставки был получен приказ о переброске корниловцев на Кавказский фронт. Неженцев выехал вперед, а его полк стал спешно готовиться к погрузке на станции Печановка. Уже головная часть полкового обоза подтягивалась к станции, когда оставшийся заместителем полковника Неженцева капитан Скоблин [6] неожиданно получил от генерала Духонина [7] новое приказание о приостановке погрузки. Это приказание капитан Скоблин немедленно разослал с конными по всем батальонам, растянувшимся на походе, а сам еще оставался в штабе полка, в доме священника. Уже темнело. Вдруг все комнаты озарились ярким светом, и в это мгновение разнеслись громовые раскаты. Огромный огненный столб над станцией, небо колыхалось от ежеминутных взрывов. При станции были взорваны громадные склады со снарядами. От станции, от поездных составов и от лежащего вблизи поселка не осталось камня на камне. Охранная рота при складах, станционные служащие и местные жители были убиты. Опоздай капитан Скоблин вовремя остановить полк, не остался бы в живых и никто из корниловцев.
Б. Сырцов[8]
ЧУГУЕВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 1916-1917 ГОДОВ [9]
С объявлением войны 1914 года многие кадровые офицеры военных училищ из патриотических чувств пожелали быть отправленными в действующую армию. Это нанесло большой ущерб училищам, которые теряли таким образом лучших, опытных преподавателей, особенно нужных в это время, когда курс обучения в училищах был сведен с двухгодичного на четырехмесячный. Учитывая это, Ставка Верховного Главнокомандующего отдала в 1916 году распоряжение – пополнять штат военных училищ кадровыми офицерами из частей действующей армии, по выбору и под ответственностью начальников дивизий. В этом порядке я и был назначен курсовым офицером в Чугуевское военное училище. [10]
Я с грустью прощался со своим родным полком, в котором беспрерывно, в течение двух лет, участвовал во всех его боях, но потом я полюбил и Чугуевское военное училище, как родную семью. Небольшой, тихий, заштатный малороссийский городок с одноэтажными домами, палисадниками, садами, весь в цветах, произвел на меня чарующее впечатление. Окраины города с рекой Донцом были также очень живописны. В глубине огромного плаца стояло длинное белое одноэтажное здание солидной аракчеевской постройки. Это и было здание Чугуевского военного училища, которое уже много десятков лет готовило для русской армии тысячи доблестных офицеров. Многие окончившие это училище удостоились высших военных наград, занимали высокие посты, и немало из них пало смертью храбрых на полях брани за Веру, Царя и Отечество.
Недалеко от здания училища находились небольшие одноэтажные домики, предназначенные для начальника училища, инспектора классов и старших офицеров училища. Тут же была канцелярия училища и офицерское собрание 10-го гусарского Ингерманландского полка.
Прибыв в училище, я представился начальнику училища, генералу Врасскому, [11] и его помощнику, полковнику Павлову 1-му, находившемуся тут же, в кабинете генерала. Генерал Врасский принял меня любезно и расспрашивал о положении на фронте. Через некоторое время в кабинет вошли командир 1-го батальона полковник Магдебург, [12] командир 2-го батальона полковник Добрянский и командир 2-й роты подполковник Павлов 2-й, в роту которого я тут же и был назначен. Здесь же я был представлен инспектору классов, академику генералу Зыбину, [13] известному топографу, учебники которого были приняты во всех военных училищах. Встретил я тут и своего воспитателя в Ярославском корпусе, тоже академика подполковника Бауэра, в должности помощника инспектора классов, и своего товарища по корпусу, капитана Руммеля, командовавшего 7-й ротой. Немного позже в кабинет вошли: полковник Мордвинов, подполковник Лоссиевский, подполковник Савченко (все трое – академики), полковник Добровольский, капитан Рощупкин, командир 1-й роты, капитаны Наумченко, Юргенсон и Марков, адъютант училища поручик Дзыбенко, заведующий хозяйством подполковник Кравченко и старший врач, доктор медицины Савин. Оказалось, что к этому времени генералом было назначено совещание.
2-я рота, в которой я состоял курсовым офицером, была в военное время комфортабельно размещена в здании мужской гимназии и имела перед фасадом огромный плац, на котором производились строевые занятия. Для тактических занятий юнкера выходили за город, в поле. В этом отношении Чугуевское военное училище имело большое преимущество перед другими училищами, которые, находясь в больших городах, могли производить полевые занятия только в районе своих казарменных расположений. Старшим курсовым офицером во 2-й роте был капитан Соловьев, младшим – поручик Крюков. В помощь курсовым офицерам в каждой роте было четыре прапорщика из лучших юнкеров, окончивших это же училище. Строгая дисциплина, сознательное отношение юнкеров к своему долгу, выправка и отчетливое выполнение службы произвели на меня отрадное впечатление, и я с увлечением принялся за новое дело. Курсовой офицер не был в то время только преподавателем строя: на него возлагались и классные уроки тактики и фортификации, для чего ему необходимо было сдать соответствующие экзамены. Курсовой офицер вел также занятия по теории стрельбы, изучению уставов, пулеметного дела, инструментальной и глазомерной съемок и т. д. Все это, вместе со строевыми занятиями, налагало на курсового офицера большую и ответственную работу.
В училище принимались молодые люди с законченным средним образованием, и это давало возможность без особых затруднений проводить ускоренный курс. Так происходила подготовка будущих офицеров, пока революционные силы не стали разлагать русскую армию. В памятный, тяжелый для нашей родины день отречения Государя Императора 2-я рота была на полевых занятиях за городом. Стоял крепкий мороз, все было занесено снегом. Вдруг мы увидели бежавшего к нам писаря училищной канцелярии. Со слезами на глазах, не будучи в состоянии что-либо выговорить, он подал мне сообщение об отречении Государя. Сообщение это произвело на юнкеров потрясающее впечатление, занятия были прерваны, и мы вернулись в казармы.
В первое время революция не внесла заметных перемен в классные занятия и в строевое обучение юнкеров. Приказ № 1, отменивший отдание чести, в училище не привился, и все оставалось по-прежнему. Устав же внутренней службы этим приказом был уничтожен. Штрафной журнал сохранился, но наказания налагало не начальство, а ротные дисциплинарные комитеты, составленные из юнкеров под председательством офицера. Эти дисциплинарные комитеты выносили постановления более строгие, чем прежде налагало начальство. Редкие училищные митинги не носили резко революционного характера, касаясь больше вопросов внутреннего распорядка. Покой училища нарушали только частые посещения делегатов Харьковского совета солдатских и рабочих депутатов, который всячески старался расшатать еще сохранявшуюся в училище дисциплину. Однажды в училище приехал для инспекции командующий войсками Московского военного округа Генерального штаба полковник Верховский. На училищном плацу по его приказанию состоялся митинг, на котором полковник Верховский говорил о необходимости «углублять революцию». По окончании речи он предложил задавать ему вопросы и высказать свои пожелания, на что генерал Врасский сказал: «Беспрерывные посещения училища отрывают нас от дела, и мы хотели бы, чтобы нам дали возможность заниматься».
В июле 1917 года, когда на фронте организовывались ударные части, около 150 юнкеров изъявили желание быть отправленными на фронт. Училище экипировало этих юнкеров, и на вокзале их проводы вылились в патриотическую манифестацию.
Проводить отъезжающих собрались офицеры, юнкера училища и много городских обывателей.
К осени 1917 года разложение армии шло полным ходом. Особенно это было заметно в тылу, в запасных частях, в казармы которых свободно проникали темные личности, умело и успешно пропагандировавшие якобы бесцельность войны. Так в городе Бахмуте, Екатеринославской губернии, был распропагандирован запасный пехотный полк, который вышел из повиновения своему начальству, стал бесчинствовать в городе и, находясь под влиянием безответственных хулиганов, разгромил большой казенный винный завод. Солдаты выносили бутыли водки по 10 литров, так называемые «гуси», и тут же их распивали. В этом пьяном разгуле принимала участие большая часть полка. Вслед за солдатами к заводу потянулись и местные обыватели, которые также беспрепятственно уносили водку и лучшие вина. Весть о разгроме винного завода быстро облетела ближайшие окрестности, и со всех сторон в город потянулись повозки за бесплатной «драгоценной» жидкостью. Приходящие в Бахмут поезда были также переполнены желающими поживиться. Город представлял собой жуткую картину разгула. Для наведения порядка местное начальство отправляло в город учебные команды запасных частей, как наиболее надежный в то время элемент, но все эти меры не достигали цели. Присланные солдаты тотчас же спаивались, и порядок в городе не восстанавливался. Тогда было приказано Чугуевскому военному училищу прибыть в Бахмут и навести там порядок. В помощь училищу придавалась батарея и кавалерийский взвод. Командовать этой операцией был назначен георгиевский кавалер полковник Курако, которому было приказано ликвидировать беспорядки.
Первым поездом был отправлен в Бахмут 1-й батальон училища полковника Магдебурга, при котором находился и начальник училища генерал Врасский. На паровозе была помещена пулеметная команда. 2-й батальон был отправлен несколько позже. Приказом полковника Курако начальником гарнизона города Бахмута был назначен полковник Магдебург, я же был назначен комендантом города. По прибытии на место училище заняло наиболее важные пункты города, энергичными мерами навело порядок, и спокойствие в городе постепенно восстановилось. Был водворен порядок и в казармах запасного полка. Казалось бы, что на этом все должно было бы быть закончено, но военный министр отдал приказ разоружить запасный полк. Задача эта была достаточно сложная, так как в запасном полку насчитывалось 5 тысяч вооруженных солдат, в то время как юнкеров было всего тысяча человек. Комитет запасного полка, желая избежать разоружения полка, несколько раз приезжал в штаб полковника Курако с просьбой отменить это распоряжение, но приказ оставался категоричным: запасный полк должен сдать свое оружие.
Выполняя это распоряжение, полковник Курако приказал запасному полку выйти за город, на заранее указанное место, и там сложить оружие. Училищу же было приказано занять позицию совместно с батареей. В приказе полковника Курако было сказано, что если запасный полк не выйдет в полном порядке на указанное ему место в назначенное время, то по полку будет открыт огонь. На наших глазах запасный полк в полном порядке, при офицерах, вытянулся из казарм и занял предписанное ему место, но оружия не сложил. Это была тягостная, жуткая картина, когда братья по оружию могли броситься друг на друга. В конце концов Генералу Врасскому удалось убедить комитет запасного полка подчиниться приказу. Полк сложил оружие и вернулся в казармы. Через две недели после происшедшего приказом военного министра оружие было полку возвращено. Училище вернулось в Чугуев.
Престиж училища поднялся на большую высоту, и с ним стали считаться и Харьковский совет рабочих и солдатских депутатов, и расположенные вблизи воинские части. В это же время состоялся приказ о моем переводе в Александровское военное училище, которое я в свое время окончил, но покинуть Чугуев мне не пришлось. Грянула Октябрьская революция, и по постановлению училищного совета было запрещено перемещать офицеров в какую-либо другую воинскую часть, и мне, будучи уже в форме Александровского училища, пришлось закончить свою службу в Чугуевском военном училище.
Известие о геройском сопротивлении большевикам Александровского военного училища [14] в Москве нарушило жизнь Чугуевского училища, и по этому поводу был созван митинг, на котором генерал Врасский, указав на угрожающее положение страны, предложил обсудить вопрос и вынести постановление о том, «какую позицию займет наше училище». Офицеры и юнкера категорически требовали немедленной отправки училища в Москву на помощь александровцам. Для выполнения этого постановления железнодорожное начальство распорядилось подать специальный поезд. Через несколько часов сборы были закончены, и училище отправилось на вокзал, где юнкера простояли всю ночь и на рассвете вернулись обратно в казармы, так как Харьковский совет отказал в подаче поезда.
Хотя расположенные вблизи Чугуева пехотные и артиллерийские части обещали училищу свою полную поддержку в случае нападения большевиков, но, не доверяя этим обещаниям, генерал Врасский отправил Генерального штаба капитана Шмидта к Донскому атаману генералу Каледину [15] с докладом о положении училища и с просьбой указать, как поступать в дальнейшем и не следует ли училищу перейти на Дон. Взвесив все обстоятельства, генерал Каледин указал, что Чугуевское военное училище морально поддерживает весь Харьковский район и, как только оно двинется с места, коммунистическая волна захлестнет весь край.
И действительно, Харьковский совет рабочих и солдатских депутатов неустанно прогрессировал в своей подрывной работе, разрушая дисциплину в войсковых частях. Днем 15 декабря 1917 года на Чугуевский вокзал неожиданно прибыло несколько поездов с вооруженными коммунистическими отрядами и артиллерией, которые начали окружать город. Училище было поднято по тревоге, и роты вышли на окраины, заняв позицию для боя. Учитывая, что одно училище не сможет занять все окрестности и удерживать их, в ближайшие воинские части было послано за поддержкой. После митингов в этих частях были получены резолюции о полном их невмешательстве.
Таким образом, училище было предоставлено своей судьбе. Наступила ночь, стоял суровый мороз, завязался неравный бой, в котором училище понесло большие потери убитыми и ранеными. Училищный комитет признал бесполезным продолжать сопротивление. Обе стороны пришли к соглашению о том, что училище сложит оружие при условии, что будет гарантирована неприкосновенность личности и что офицеры и юнкера смогут беспрепятственно разъехаться по домам. Но обещанная большевиками свобода личности продолжалась недолго: оставшиеся в городе офицеры были арестованы и под конвоем отправлены, часть – в Харьков, часть – в Москву. Генерал Зыбин, полковник Лоссиевский (ныне проживающий на юге Франции) и я были препровождены в Москву, претерпев в дороге большие мытарства.
Так закончило свое существование Чугуевское военное училище, завершив его на полтора месяца позже других военных училищ, находившихся в Великороссии.
П. Стефанович[16]
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ БОЛЬШЕВИСТСКОГО МАССОВОГО ТЕРРОРА
(Киев – январь 1918 года) [17]
Несмотря на то что большевистское восстание конца октября 1917 года в Киеве не удалось и власть перешла к Центральной Раде, красные не унывали! Киевский военно-революционный комитет, возглавляемый известным большевистским лидером Леонидом Пятаковым, [18] издал приказ всем воинским частям о выборах командного состава и комиссаров и приказал представить ему списки личного состава и оружия. В ответ на это украинская власть в лице атамана Петлюры издала, в свою очередь, приказ о неподчинении Пятакову. 17 ноября после разговора по прямому проводу между Сталиным и представителем Украинской демократической партии выяснилось, что Центральная Рада не соглашается на большевистское требование о передаче всей власти Советам.
Решение это подало повод к расколу между воинскими частями, расположенными в Киеве и его окрестностях.
Весь ноябрь и декабрь Киев «митинговал», и раскол все больше и больше углублялся. Начиная с 1 декабря украинцы, услыхав о предполагаемом аресте Петлюры, стали разоружать большевистски настроенные части.
4 декабря Совнарком, за подписями Ленина и Троцкого, предъявил Центральной Раде 48-часовой ультиматум с целым рядом требований. В частности, запрещалось пропускать без разрешения «главковерха» Крыленко воинские части на Дон и Урал, требовалось содействие в борьбе с контрреволюционерами, приказывалось прекращение разоружений и отдача отобранного оружия и т. п.
Последовавший в тот же день отказ заставил часть Киевского совета рабочих и солдатских депутатов уехать в Харьков, откуда она 9 декабря «объявила войну» Центральной Раде. Несмотря на успехи красных, Совнарком все же еще считал целесообразным открытие переговоров, предлагая даже для этой цели собраться в Смоленске или Витебске. Но боевые действия настолько усилились, что об этом уже в ближайшие дни не могло быть и речи. Сформированный 2 января в Харькове народный секретариат Украинской рабоче-крестьянской республики назначил командующим Восточным фронтом полковника Муравьева, [19] в состав его входили две армии под командой Ремнева и Берзина, с приказанием наступать на Киев. Последовательно были заняты, главным образом из-за предательства целого ряда частей гарнизоны Староконстантинова, Ровно, Лозовой, Бахмача, Екатеринослава и Одессы. Кольцо вокруг Киева все более и более сужалось.
В это время в Киеве недовольство Радой все более и более возрастало… 12 января она объявила независимую Украину, но результат был обратный тому, который она ожидала. Нужно сказать, что большевики представлялись рядовому населению Киева не более опасными, нежели украинские самостийники.
В частности, офицерство, отнюдь не сочувствуя красным, не желало сражаться под желто-голубым украинским флагом из-за прогерманского направления Рады. Независимо от этого нельзя было забыть нанесенных обид всему некоренному населению Киева: по приказу Рады правом жительства пользовались лишь лица, проживавшие до 1 января 1915 года.
Все остальные, в частности офицеры, большинство которых прибыло в Киев после революции и распада фронта, обязаны были регистрироваться. В подтверждение выдавалась темно-красная карточка, так называемый «красный билет», послуживший несколько позже предлогом к притеснениям и расстрелам их носителей со стороны большевиков.
С 15-го по 26 января развивалось генеральное сражение за власть. Обнаруженный труп убитого Пятакова еще больше озлобил красных, и украинский комендант (Шинкарь) 16 января объявил Киев на осадном положении.
Умеренный элемент украинского правительства во главе с Винниченко, [20] чувствуя, что власть доживает последние часы, подал в отставку. 17 января два полка переходят на сторону красных и начинают обстрел центра города. 18-го объявляется генеральная забастовка – население лишалось света, воды и продовольствия. Но уже 20-го чувствуется известная усталость, и городское правление известило население, что борьба окончена, предлагается прекращение забастовки и возобновляется отпуск хлеба и других продуктов «на обычных условиях». Но это было лишь отсрочкой. Большевики, получив подкрепление в виде бронепоезда, начали обстрел города со станции Дарница. Уличные бои, в особенности в районе Арсенала и Педагогического музея, где помещалась Центральная Рада, возобновились с новой силой. 24 января красные перешли Днепр, заняли окраину города Печерска, откуда открыли усиленный артиллерийский огонь по центру города. Держались лишь украинские фанатики и офицерский отряд, сформированный для борьбы с красными, но очень малочисленный по вине, как мы видели выше, украинской власти. 25 января началась самая сильная бомбардировка, принудившая украинские войска оставить город по направлению на Житомир – большевики шли по их пятам. В ночь на 26-е был зверски убит, оставленный всеми, в том числе, увы, и монахами, исколотый штыками, 70-летний старец, митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский).
26 января стрельба окончилась. Уход украинцев не вызвал особого сожаления оставшегося населения, но никто не мог предполагать, что настоящий кошмар только начинается. Жители города, не слыша больше артиллерийской стрельбы, выходили «за новостями» и встречали всюду страшные разрушения. Пылающие и простреленные здания, неубранные трупы, но главное – встречающиеся зверского вида субъекты, часто пьяные, в лице новых хозяев – красноармейцев. Начались повальные обыски и грабеж… Несмотря на успокоительные воззвания, расклеенные с утра в городе, большевистские банды, главным образом под предлогом проверки документов, начали массовые расстрелы, которые производились самым зверским образом. Раздетые жертвы сплошь да рядом расстреливались в затылок, прокалывались штыками, не говоря о других мучениях и издевательствах.
Большинство расстрелов производилось на площади перед дворцом, где помещался штаб Муравьева, и в расположенном за ней Мариинском парке. Проверку производил даже «сам» Ремнев, который, если отдавал документ, отправлял тем самым под арест во дворец. Если же он засовывал бумаги в карман – арестованных отправляли в «штаб Духонина», т. е. расстреливали.
Тела многих убитых, не имевших в Киеве ни родных, ни близких, оставались лежать там по нескольку дней. Со слов свидетелей, картина представлялась ужасной. Разбросанные на площади и по дорожкам парка раздетые тела, между которыми бродили голодные собаки; всюду кровь, пропитавшая, конечно, и снег, многие лежали с всунутым в рот «красным билетом», у некоторых пальцы были сложены для крестного знамения. Но расстрелы происходили и в других местах: на валах Киевской крепости, на откосах Царского Сада, в лесу под Дарницею и даже в театре. Тела находили не только там, в анатомическом театре и покойницких больниц, но даже в подвалах многих домов. Расстреливали не только офицеров, но и «буржуев», и даже студентов. Интересно отметить, что арестованных во дворце (между ними и знаменитый В.В. Шульгин [21]) охранял караул от Георгиевского полка до тех пор, пока их не перевели в городскую тюрьму. Было также много арестованных в доме Городецкого на Банковой улице и пансионе Полония. Но не успела еще земля впитать пролитую кровь, как новая власть организовала 3 февраля, то есть через неделю, с большой помпой гражданские похороны «жертв революции». Хоронили 300 человек, в большинстве неопознанных невинных жертв…
29 января из Харькова прибыл генеральный секретарь Украинской рабоче-крестьянской республики, который наложил на город контрибуцию в 10 миллионов рублей и наметил целый ряд «реформ». Но недолго пришлось большевикам оставаться в Киеве – Брест-Литовский мир позволил украинцам обратиться за помощью к немцам, которые совместно с украинскими частями начали «наступление» на восток.
Если бы не отступавшие в порядке чешские части, не позволявшие немцам быстро продвигаться, киевские большевики могли быть взяты врасплох. Но и так население могло «любоваться» вереницей извозчиков, нагруженных награбленным добром, с важно восседавшими большевиками, разодетыми в найденные в интендантских складах пестрые гусарские мундиры.
Но до последней минуты обыски и грабежи продолжались, причем особенно отличались так называемые «червонные казаки», а народный секретарь по внутренним делам тов. Евгения Бош, когда противник находился в 30 верстах от города, возвещала, что Киеву не угрожает никакой опасности, так как красные получили крупные подкрепления…
16 февраля власть перешла в руки городского самоуправления; и в тот же день на вокзале появились первые немецкие части, а со стороны Лукьяновки передовой отряд «гайдамаков».
Начался новый период в жизни Киева, который продолжался всего лишь одиннадцать месяцев.
По сведениям Украинского Красного Креста (1918 год), общее число жертв исчисляется в 5 тысяч человек, из коих большинство офицеров, – «имена же их Ты Господи веси».
Н. Могилянский[22]
ТРАГЕДИЯ УКРАИНЫ
(из пережитого в Киеве в 1918 году) [23]
14 (27) января 1918 года я покинул, сдавленный тисками большевизма, Петроград, убежденный в том, что кризис, переживаемый Россией, затяжной, что из оппозиции интеллигенции и шедшей, естественно, на убыль интеллигентской стачки ровно ничего не выйдет. Убийство Шингарева и Кокошкина, разгон Учредительного собрания, стрельба по мирной манифестации интеллигенции 5 (18) января явно говорили о том, что узурпаторы власти в своем стремлении удержать эту власть в своих руках не остановятся ни перед чем, что все преступления старого режима детская сказка в сравнении с цинизмом новой тирании.
После почти трехсуточной езды в поезде, где в нашем купе, вместо 4 человек, помещалось от 12 до 14 человек, где выход был возможен только через окно, где грязь была невероятная, вследствие скученности и необходимости тут же питаться, при невозможности вымыть руки, 17 (30) января, на склоне туманного, зимнего, короткого дня, мы подъезжали к Киеву, причем поезд поминутно останавливался, так как станция Киев I не была свободна. При каждой остановке отчетливо слышны были звуки редкой канонады. Угроза большевиков украинским сепаратистам, печатно высказанная в «Правде»: «… через несколько дней мы возьмем Киев», начала фактически приводиться в исполнение.
Это были первые выстрелы по Киеву армии большевиков, под командой Ремнева. Начался первый акт трагедии Киева за многострадальный 1918 год, какого не было в истории его со времени взятия города Батыем в XIII веке.
И все же теплилась какая-то надежда. Думалось: зажиточный, замкнутый, рационалистически настроенный крестьянин-собственник, украинец или малоросс, сильно разнящийся по своей психике от своего брата «русского», устоит непременно пред соблазном «социализации» земли, объявленной не только Лениным, но и не желавшей отстать в области социологического творчества Центральной Радой, возглавлявшейся профессором М.С. Грушевским. [24] Увы! Одинаковые причины повели к одинаковым последствиям и в коренной России, и на Украине. (Происходя и по отцу, и по матери из южнорусских, малорусских или украинских фамилий, я считаю себя русским по культуре, отечеством своим считаю Россию, а родиной Украину, или Малороссию. В понятие «Украина» не вкладываю сепаратистских вожделений, но и не связываю его с «изменой» как необходимым, по мнению многих, атрибутом украинства. - Н. М.).
* * *
Последовали девять суток борьбы за Киев между большевиками и украинцами, девять суток почти непрерывного боя, то врукопашную, как на Щекавице, то в ружейно-пулеметную на улицах и площадях Киева, с броневиками, осыпавшими пулями особенно нижние этажи домов, причем треск ружей и пулеметов заглушался артиллерийской канонадой с уханьем далеких пушек и разрывами 3- и 6-дюймовых снарядов и шрапнелей, рвавшихся над небольшим, по занимаемой территории, городом, перенаселенным сверх всякой меры благодаря войне и последовавшей за нею революции (жил я в это время на Софиевской площади, у самой колокольни Софиевского собора – пункт очень удобный для наблюдения. Изо дня в день я вел запись всего виденного и слышанного. - Н. М.).
Систематический обстрел Киева начался с 18 (31) января вечером. С 4-го этажа дома № 22 по Б. Владимирской, из квартиры В.А. Жолткевича, в 1919 году расстрелянного большевиками, наблюдал я с друзьями трагически-эффектную картину обстрела Печерска из расположенной за Днепром Дарницы. Красноватая вспышка далекого орудия (верст около 6 по звуку) – и через некоторое время яркая звезда разрыва снаряда, на расстоянии двух верст по звуку: жуткая, незабываемая картина!
Трудно было дать себе отчет в том, кто одолевает в уличных боях. Наступление шло на Печерск и на центр с Подола одновременно, бои шли с переменным успехом, ибо в конце четвертого дня получилось впечатление, будто украинцы одолевают. Говоря вообще, самоуверенности у руководителей защиты Киева было очень много, но действия их отличались бессистемностью, разговоры – бахвальством, и в обывателе они внушали мало уверенности в завтрашнем дне. Числа 21-го или 22 января старого стиля вошел в Киев Петлюра с тощими рядами украинских войск. На Софиевской площади я слышал произнесенную им перед войсками речь на тему об украинской непобедимости. Потом оказалось, что он просто бежал от большевиков из-под Гребенки. Канонада большевистской артиллерии не смолкала, и это обстоятельство мало давало веры в оптимизм Петлюры.
До какой степени бессмысленны были военные действия украинцев, можно показать на действиях украинской артиллерии, которые мне пришлось весьма близко наблюдать. Часов около 3 дня 22 января (4 февраля н. ст.) на Софиевскую площадь привезена была батарея артиллерии, и началась пристрельная стрельба по позициям большевиков. Во всем фасаде нашего дома, обращенном к Софиевской площади, вылетели почти все окна, ибо ближайшее орудие стояло шагах в 25-30 от подъезда дома № 22. Жутко было ждать ответного огня «неприятельской» артиллерии, ибо две колокольни Михайловского и Софиевского соборов, а также пожарная каланча Старо-Киевского участка не могли не определить с полной точностью положения батареи украинской артиллерии. Для удобства ночного обстрела предупредительно залита была электрическим светом вся Софиевская площадь: стоящие на горе колокольни, освещенные электричеством, должны были маячить на десятки верст Заднепровья.
Кто и как командовал украинской артиллерией, показывает следующий любопытный эпизод. В подъезд дома, где я жил, входит артиллерийский офицер. «Это Софиевский собор?» – спрашивает он у швейцара. «Да, это Софиевский собор», – отвечает швейцар. «Ребята! Здесь!» – обрадовался офицер и отправился размещать пушки на позициях. Вечером, после описанной пристрелки, он опять потихоньку беседовал со швейцаром: «Где тут дорога на Святошин?» – «Так ведь там, барин, большевики в Святошине», – отвечал швейцар. «А мне не все равно, где пропадать?» – сказал офицер, безнадежно махнув рукой… На другой день, еще до рассвета, солдаты-артиллеристы разыскивали офицера X. Так его нигде и не нашли. Был ли это офицер-большевик или бедняге действительно больше улыбалось погибнуть от большевиков?!! На другой день с утра большевистская артиллерия засыпала снарядами Софиевскую площадь, обстреляв ее правильным веером. В районе Софиевского собора я насчитал 13 снарядов, попавших в колокольню, главный храм и другие постройки в ограде собора; кроме того, мы нашли еще четыре неразорвавшихся снаряда в той же ограде собора.
Испуганное население нашего района бросилось в подвалы, и только немногие, сохраняя полное самообладание, не тронулись с мест. Количество снарядов, выпускавшихся по городу, было очень значительно. В один из дней я записал следующую статистику: начало бомбардировки – 7 ч. утра, конец или, вернее, значительное ее ослабление – 1ч. ночи – итого 17 часов непрерывной бомбардировки. Число снарядов от 6-10 в минуту. Если даже minimum взять за среднюю цифру, то получится в час 360 снарядов, а в 17 часов около 7 тысяч снарядов. В действительности их выпускалось, может быть, и больше.
Население страдало и от недостатка пищи, которую приходилось добывать с опасностью для жизни, и от недостатка света и воды. Кажется, никогда не было сделано попытки подсчитать количество жертв бомбардировки Киева, но они насчитывались сотнями. По ночам, с ослаблением бомбардировки, начинались другие страхи. Безобразничали солдаты – защитники Киева. У жены нашего швейцара отняли хлеб и сало. К нам по ночам систематически ломились в квартиру солдаты с угрозами. Там, где солдат впускали, – пропадали вещи, не говоря уже о превращении квартир в трудноописуемое, грязное, хаотическое состояние. Я видел, что те же солдаты ночью разграбили по соседству небольшую лавочку, взломав замки, и принесли с собой табак, шоколад, чай и сахар, и все это в количестве, превышавшем потребности данного момента. Ни энтузиазма, ни понимания цели борьбы – одно бесшабашное озорство. Никаких разумных надежд на успехи сопротивления в этих условиях быть не могло. Всю ночь на 26 января продолжалась усиленная канонада. Еще утром военный министр Украинской Республики клялся, что положение Киева устойчиво и опасаться нечего, а между 11 часами утра и 1 часом дня вся Центральная Рада, с Грушевским во главе, вместе с правительством Голубовича бежали на автомобилях в Житомир, оставив Киев и его обывателей на произвол судьбы. Около часу дня 26 января канонада стихла совершенно. О взятии города большевиками нас оповестили два солдата из красной армии Ремнева, явившиеся для осмотра квартир и поверхностного обыска. Навсегда в памяти запечатлелись эти два разных лица. Один молодой, юноша лет 18-20, с розовыми щеками и тонким, красивым профилем, весь обвешанный оружием, убеждал нас: «Не бойтесь – теперь все уже будет хорошо». По лицу его я видел, что он искренне и глубоко верит своим словам: в его наивной, детской душе не было места злобе. Совсем другое впечатление оставлял его товарищ – рабочий Путиловского завода в Петрограде, лет 40, уроженец Новозыбковского уезда Черниговской губернии. Этот, накрест обвешанный пулеметными лентами, весь дышал злобой и мщением. Изо рта его, разившего алкоголем, вырывались непрестанно угрозы: «О! Я их всех найду, я их знаю в лицо – офицеров-контрреволюционеров». При этом он выставлял вперед дуло револьвера, целясь в воображаемую жертву. «Поработаем на пользу родины, а потом домой – пахать землю!» Увы! Это не было, к сожалению, простой формальной угрозой, как мне тогда казалось, но об этом будет сказано дальше.
Пока украинские сепаратисты разговаривают с немецкими генералами в Брест-Литовске, опережая Ленина и Троцкого в измене родине и союзникам, мы можем оглянуться на прошлое и в нем поискать корни тех трагических событий, которые разыгрались в Киеве в январе 1918 года и повлекли за собой ряд новых, исторических событий.
* * *
Киев оставлен был на произвол судьбы бежавшими украинскими войсками и властями. Ворвавшиеся в город 26 января большевистские войска, тогда еще скорее похожие на банды, вскоре заставили кошмаром своей «деятельности» забыть кошмар и ужас девятидневной бомбардировки. Зеленые, изможденные голодовкой, бессонницей и пережитыми волнениями, лица обывателей исказились ужасом безумия и тупой, усталой безнадежности.
Началась в самом прямом смысле этого слова отвратительная бойня, избиение вне всякого разбора, суда или следствия оставшегося в городе русского офицерства, не пожелавшего участвовать в борьбе против большевиков на стороне украинцев. Из гостиниц и частных квартир потащили несчастных офицеров буквально на убой в «штаб Духонина» – ироническое название Мариинского парка – излюбленное место казни, где погибли сотни офицеров русской армии. Казнили где попало: на площадке перед дворцом, по дороге на Александровском спуске, а то и просто где и как попало. Так, мой двоюродный брат, полковник А.М. Речицкий, был убит на Бибиковском бульваре выстрелом в затылок при сопротивлении, оказанном им четырем красноармейцам, хотевшим сорвать с него погоны. Герой Путиловской сопки, трагедии под Сольдау, Прасныша, много раз тяжело раненный и контуженный, – он даже пред лицом верной смерти не хотел, несмотря на все убеждения, снять с себя воинскую форму: так трагически пресеклась 37-летняя молодая жизнь, полная героического исполнения долга.
Кроме офицеров, казнили всякого, кто наивно показывал красный билетик – удостоверение принадлежности к украинскому гражданству. Казнили куплетиста Сокольского, за его злые куплеты против большевиков; казнили первого встречного на улице, чтобы снять с него новые ботинки, приглянувшиеся красноармейцу. Начались повальные грабежи в домах «буржуев», обыски и вымогательства, с избиением недостаточно уступчивых и покорных судьбе. Так подвергся избиению известный городской деятель В. Демченко. Кто и когда еще расскажет о всей циничной пошлости этой разнузданной вакханалии произвола, насилия, глумления и издевательства над личностью мирного обывателя?! «Пойдем с нами щи хлебать, буржуйка! – говорит солдат-красноармеец почтенной даме в присутствии всех членов семьи, расставленных у стенки с приказанием не шевелиться во время обыска. – У! Тебе бы все шампанское лакать!..» – продолжает он, угрожая револьвером, приставленным к самому лицу несчастной жертвы надругательства.
Из обывательских квартир тащили все, что попало, сначала наиболее ценное: деньги, золото и серебро, всякого рода ценности. Богатые заведомо дома, конечно, были ограблены в первую очередь. Я зашел к старому другу, профессору К. Человек спокойный, уравновешенный, сидит в кресле совершенно подавленный, молчит и, наконец, с трудом вытягивает из себя такие слова: «Я на все смотрю равнодушно и спокойно… Кажется, если придут и скажут, что перебили всех моих детей! – я не двинусь с места». К К. заходит почтенный земский деятель, бывший полковник гвардии С. Я никогда в жизни не забуду этой безнадежности на окаменевшем лице, в глазах, из которых почти безумие глядит из опустошенного сознания.
Владелец особняка Б., ограбленный большевиками, отсиживается в «бесте» в иностранном консульстве; его жена, больная сердечной болезнью женщина, измучена была вечными обысками и постоянной боязнью за судьбу мужа. Преследованию подвергались одинаково и русские, и евреи, и поляки, и украинцы. Среди комиссаров и других агентов большевистской «власти» доминирующая роль принадлежит великороссам, хотя были и украинские большевики, как, например, сын писателя Коцюбинский; евреи при этом не играли ни выдающейся роли, ни численно не превышали других национальностей. Справедливость требует категорически опровергнуть распространенную легенду, будто весь большевизм питается главным образом еврейскими силами. Происходит это от общей аберрации, а также от слишком обывательского стремления найти виновника обрушившихся грандиозных и невыносимых бедствий.
В городах провинциальных, маленьких, с незначительным численно населением, большевизм переживался весьма различно, в зависимости от личного характера стоявших во главе временной власти большевистских диктаторов, ибо трудно иначе назвать тех местных царьков, которые, в буквальном смысле этого слова, являлись хозяевами жизни и смерти, не говоря уже об имуществе обывателей. Так, например, г. Чернигов в этот первый приход большевиков отделался чуть ли не 50 тысячами рублей контрибуции, которых хватило для того, чтобы верховный комиссар мог день и ночь пить горькую, а наряду с этим г. Глухов пережил трудно поддающиеся описанию ужасы. В Глухове полновластным его владыкой был матрос Балтийского флота по фамилии Цыганок. Неудовлетворенный количеством вырезанных помещиков, он велел перебить и перерезать даже детей, воспитанников местной гимназии, как будущих «буржуев». Потом Цыганок случайно погиб, заряжая бомбу, которая взорвалась у него на коленях, причем, умирая, он завещал похоронить себя в склепе местной помещичьей фамилии и с подобающим торжеством, для чего красноармейцы выгнали весь город для проводов погибшего диктатора. Кровавый кошмар Глухова еще ждет своего историка.
Киев стали грабить систематически. Наложена была пятимиллионная контрибуция, моментально, до срока уплаченная тем самым обывателем, который ни одной копейки не хотел дать на защиту города от большевиков. Началась полная дезорганизация кредитных учреждений, куда назначены были безграмотные комиссары.
По городу в автомобилях и на парных роскошных извозчиках с прекрасными фаэтонами и ландо разъезжали матросы и красноармейцы, часто в нетрезвом виде; они сорили деньгами в кафе, ресторанах и игорных домах, окруженные атмосферой кутежа и всяческого дебоша.
Началось быстрое повышение цен на жизненные продукты, ибо крестьяне перестали вывозить что-либо на городской базар, вследствие риска быть ограбленными по дороге первым встречным, кому это было не лень.
Вскоре, однако, появились смутные слухи о том, что украинцы сговорились с немцами и в Киев идут немецкие войска. Слухи эти находили себе подтверждение в поведении большевиков, которые, не чувствуя под ногами почвы, вели себя как калифы на час: грабили, пировали, разоряли и веселились, хоть день, да мой!
Положение обывателя ухудшалось с каждым днем. Сорганизовались шайки грабителей, которые по ночам грабили обывателей, нападая с оружием на дома и их обитателей. Несчастный обыватель, обезоруженный большевиками, лишен был самых элементарных средств самообороны.
Только тогда, когда дня за два, за три до прихода немцев большевики, нагрузив себя всяким добром, бежали из города, в свою очередь, началась организация самообороны. Картина бегства большевиков была весьма оригинальна: казалось, полгорода обывателей уезжают или переезжают на новые квартиры. Извозчики и подводы, груженные всяким домашним скарбом, подушками, самоварами, перинами, стульями…. и все это мчалось второпях, под охраной одного-двух солдат красной армии, вооруженных винтовками.
Ни одного случая сопротивления. У всех, казалось, была одна мысль: бери все – только убирайся поскорее с глаз!
Начало появляться оружие, которым снабжали обывателя. Кто, где и почему его раздавал, мне узнать так и не удалось. Я лично видел только гимназистов, бегавших таинственно на Печерск и тащивших оттуда новые винтовки, патроны, всякого рода военное снаряжение. Матери знакомых семей были в отчаянии, что мальчики 12-15-летнего возраста превратили свои комнаты не то в музеи, не то в арсеналы; зато восхищение молодежи не знало пределов – каждый чувствовал себя воином, готовым выдержать любую атаку и отстоять свое дело и своих близких. Очевидно, растаскивали какие-то цейхгаузы, оставленные без охраны и без присмотра. Грабежи участились в невероятной пропорции. В борьбе с вооруженными налетами отличалась энергией грузинская вольная дружина, которая по первому же вызову по телефону выезжала на помощь с автомобилем, наполненным вооруженными людьми. Грузинам на помощь явились добровольцы из киевской интеллигенции, и обыватель, замученный и затравленный, вздохнул немного свободнее. Все это происходило около половины февраля 1918 года – 11 -17 февраля старого стиля (24 февраля – 2 марта нового стиля). Трудно поддается описанию горькое существование обывателя Киева в это совершенно кошмарное время. В одну из последних, перед приходом в Киев немцев, ночей зарегистрировано было 176 нападений на квартиры обывателей. Трудно давалась организация защиты. Избраны были домовые комитеты, которые, раздобыв оружие, занялись организацией самообороны. И вот люди, в жизни своей не носившие ружья, иногда почтенные, убеленные сединами киевляне стали чистить и чинить ружья и обсуждать стратегические методы защиты домов и усадеб от нападения разбойников. Кое-где начали появляться уцелевшие офицеры, взявшие, естественно, на себя организацию защиты и команду над домовыми военными дружинами. Все это было бы смешно, если бы не было в существе весьма трагично. Дружиной дома № 22 командовал у нас храбрый и энергичный кадровый офицер, Защитник Порт-Артура и заслуженный герой великой войны, П.Г. Сахновский, [25] летом 1919 года тоже расстрелянный в Киеве большевиками. Наш дом стал быстро центром защиты ряда объединенных домов нашего участка, появился полевой телефон, объединявший шесть окрестных дружин, обязанных являться по первому вызову в угрожаемое место.
Защита давала реальные результаты. Припоминаю одно нападение, сделанное по всем правилам военного искусства. С наблюдательного пункта дали знать, что из-за памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади идет наступление. Подбежав к окну, я увидел, что из-за фонтана на площади ползком движутся цепью вооруженные люди по направлению к нашему подъезду. Началась перестрелка и атака нашего дома. Дверь парадного подъезда, забаррикадированная на ночь дровами, устояла перед напором врага; суматоха в доме была неописуемая, к счастью для нас, вызванная грузинская дружина прибыла очень быстро, через 10-15 минут сражение было кончено. У нас даже обошлось без потерь; говорили, что нападавшие, которых число определялось в 30 человек, унесли трех раненых. Но это лишь слухи… хотя я видел лично падающих людей.
Много мыслей проносилось в голове моей в бессонные ночи, когда, стоя у забора, отделявшего наш двор от сквера вокруг Софиевского собора, с задачей – стрелять по всякому, кто будет лезть через забор, я отстаивал двухчасовое дежурство в холодные звездные февральская ночи. Часто я задавал себе вопросы: что я буду делать, если действительно кто-нибудь полезет через забор? Ведь допустимо, что это будет человек, который будет спасаться от преследования, а не нападающий враг. К счастью для меня, вопрос этот не был поставлен, а остался лишь в теории… Тяжелые воспоминания! От трагизма создавшегося положения до комизма некоторых житейских переживаний и сцен было очень небольшое расстояние, и тяжкие думы, и настроения разрешались часто иронизированием и насмешкой над самим собой. Это все же скрашивало горькие минуты нервных напряжений. Часто, при свете огарка, где-нибудь в подъезде или подвале пили чай и играли в дурачка. Плакали и смеялись, смеялись и плакали поочередно: кошмарное было время даже в воспоминании!
* * *
Придя в Киев, немцы прежде всего вычистили невероятно загаженный при большевиках вокзал. Вычистили, убрали, декорировали и пригласили вечером на танцы тех торговок, что по принуждению помогали в уборке вокзала. За украинскими войсками, вошедшими под предводительством нового военного министра Центральной Рады Жуковского, [26] численно возросшими, благодаря привезенным из германского плена, с иголочки одетым в синие жупаны, новые сапоги и высокие серые папахи, из поддельного барашка, с огромными кокардами украинских цветов, вошли на другой день немцы под командой Линзингена. Продефилировав по городу с музыкой, немцы устроили парад на Софиевской площади и начали устраиваться с обычной немецкой аккуратной педантичностью, порядливостью и неторопливой систематичностью.
В шлемах, при строгой немецкой выправке, размеренным походным шагом враскачку, двигалась зелено-серая масса пехоты в виде не то какого-то чудовища Tarasc'a, как описывал его А. Доде, не то липкой страшной массы гусениц. Тяжкое чувство испытывал я, глядя на низкорослый ландвер, солдата – уже не того исключительного вида schneidiger Militär, который поражал когда-то своими разводами и парадами на Unter den Linden или у гауптвахты возле Brandenburger Tor. Землистые, усталые лица, обношенное, серое, стального цвета платье, много ленточек Железного креста на груди солдат и офицеров – все это указывало на то, что это уже не первой очереди кадровые войска – гордость Вильгельма, что это же также побывавшие в переделках войска, счастливые теперь своим отдыхом на Украине от ужасов продолжавшейся на Западном фронте бойни. Они явились сюда (на Украину) друзьями, а не врагами: здесь можно будет и отдохнуть, и подкормиться. Лица сосредоточенные, дисциплина образцовая, спокойная приветливость и сознание собственного достоинства.
Как же встретил немцев киевский обыватель? Помню, как очень неодобрительно смотрела с балкона на идущих в стройной колонне немцев наша кухарка Поля (я жил у моего друга присяжного поверенного Евгения Ивановича Фиалковского, в доме № 22 по Владимирской улице, т. е. на Софиевской площади. – Н. М.), героически бегавшая под пулями и шрапнелью ежедневно во все время обстрела Киева. Она сказала с чувством упрека, указывая на рослых, здоровенных, усатых украинцев и низкорослых, невзрачных немцев: «Ось що бувае за дурною головою…», тяжело при этом вздохнув. Зажиточный обыватель, так называемый «буржуй», немцев встречал хотя и радостно, но без всякой экспансивности; радость избавления была хотя и искренняя, но без энтузиазма: некоторые дамы совали застенчиво букеты цветов немецким офицерам, но ни подъема, ни восторга мне видеть не приходилось – слишком все устали, да и будущее рисовалось в формах если и не столь ужасных, как только что пережитые, кошмарные дни большевизма, то все же и много неизвестного таило оно в себе. Если найдется кто-нибудь, кто бросит слово осуждения по поводу той радости, которая светилась на отдельных лицах киевских обывательниц больше, чем обывателей, то право на это осуждение принадлежит лишь тем, кто на себе самом испытал прелести соприкосновения с большевиками и все же не пал духом до желания найти во враге, шедшем на помощь, поддержку против врага, угрожавшего жизни и имуществу обывателя ежеминутно и непрестанно. Нет, по совести, не могу найти слов осуждения органическому, властному зову жизни перед лицом небытия, палача-мучителя с занесенным ножом, с кривой усмешкой циничного, наглого бесстыдства. Не дай Бог пережить эти чувства тем, кто их не пережил, а те, кто их пережил, не забудут никогда!
С появлением немцев, как по мановению волшебного жезла, без всяких угроз или угрожающих объявлений, исчезли всякие грабежи и насилия. Обыватель вздохнул свободно. Даже поздней ночью стало совершенно безопасно гулять по улицам. Открылись театры, синема, рестораны, жизнь заиграла быстрым темпом свою вечную суетливую музыку.
Украинцы-патриоты позволили себе роскошь некоторых диких эксцессов, причем, сколько мне было известно, пострадал один студент-еврей, убитый на Подоле при совершенно неясных обстоятельствах. Во всяком случае, не было тех ужасных картин убийств и казней, какими отличался период большевистского владычества, когда, выходя гулять на Владимирскую горку, я каждый день натыкался на новые трупы, на разбросанные по дорожкам горки свежие человеческие мозги, свежие лужи крови у стен Михайловского монастыря и на спуске между монастырем и водопроводной башней, по дорожкам, покрывающим горку сквера.
Немцы, изголодавшиеся дома, висели толпами над витринами магазинов с съестными припасами, где выставлены были жареные поросята, гуси, утки, куры, сало, масло, сахар и разные сладости и где все это можно было приобрести без карточек и по сравнительно тогда еще весьма дешевым ценам. На базарах по утрам немцы особенно охотно покупали сало. Они с жадностью жевали огромные куски вкусного малороссийского сала: велика была, очевидно, потребность организма в жирах, от недостатка которых давно уже страдала вся Германия.
Деятельность немцев, особенно в первый период, проявилась в прокладывании по всему городу телефонного сообщения для своих военно-полевых надобностей.
С утра до ночи лазали они с кошками на ногах по телеграфным столбам, все опутывая своими сетями – ни дать ни взять пауки ткали свои тенета для ловли жирных украинских мух.
Порядок в городе сохранялся образцовый, немецкая каска внушала страх перед той силой, которая, чувствовалось, стояла за ней…
Что же делали оставшиеся у власти украинцы – социалисты, чем проявили они свое творчество в момент, когда руки у них были развязаны, под охраной немецких штыков, быстро угнавших свирепых большевиков за пределы украинской территории? Небольшие отряды немцев проникли к концу марта даже в Крым и создали там правительство из местных русских элементов под председательством генерала Сулькевича. [27] Немцы нигде не встретили никаких сопротивлений. Для мирной оккупации огромнейшей территории им понадобилось всего только около 350-400 тысяч человек.
Как, наконец, сложились отношения между немцами и украинцами? На эти вопросы необходимо дать краткий ответ, чтобы понять дальнейшую цепь событий.
* * *
Я сильно сомневаюсь в том, чтобы сами немцы придавали серьезное значение статьям Брестского договора с Украиной, а потом с Россией Ленина и Троцкого. Для дальновидных людей уже, кажется, не было сомнений в том, что почти не оставалось разумной, обоснованной надежды на окончательную, решительную победу немецкого оружия.
Мне передавали, что известный немецкий генерал выразился так, отвечая на вопрос о положении Германии в связи с войной: «Unsere Lage ist glänzend, aber… hoffnungslos». Если немецкий генерал и не говорил этого, то все же в немецком происхождении этого Witz'a сомнения быть не могло и сущность положения Германии он передавал точно и ясно.
Наиболее соблазнительной для немцев частью договора с украинскими социалистами, подписанного в Бресте, были пункты, по которым Украина обязывалась дать немцам 60 миллионов пудов хлеба (муки) и право каждого солдата, несущего службу на Украине, отправлять на родину ежедневно посылку в 12 фунтов весом. Конечно, были у немцев и другие намерения, и они взялись за их выполнение настойчиво и интенсивно. Первая задача была воспользоваться огромными складами военного имущества, и сюда немцы направили много внимания и энергии. Вторая заключалась в широком грюндерстве, которое должно было опутать прочной стальной паутиной немецкого капитала экономическую жизнь богатейшего края. Такие умные социалисты, как Wiedfeld, знали, что и как делать. Становилось страшно при одной мысли, что этим планам суждено осуществиться.
Но хлеба! Прежде всего: хлеба! С этим Leitmotiv'oм немцы явились в Киев и на Украину вообще. И на этой почве немцы рассорились с кабинетом Голубовича и Центральной Радой, то есть с социалистической сепаратистской властью и украинским «парламентом», страх за хлеб привел к ликвидации немцами и министерства Голубовича, и Центральной Рады. Ибо весьма скоро немцы сообразили, что при хозяйничанье гг. Голубовича и КO с Центральной Радой во главе – хлеба-то именно они и рискуют не увидеть вовсе. Они сразу поняли, что при сохранении в силе универсала о социализации земли, при заготовленных еще заботами «селянского министра» Чернова земельных комитетах, крестьяне, вместо того чтобы пахать и сеять, будут делить землю. А немцам нужен прежде всего хлеб, а никак не социализация земли. Наконец, хлеб нужно закупить, вывезти и доставить по железной дороге. Дезорганизация же, внесенная Центральной Радой и ее министерством во все области управления, в том числе, конечно, и в железнодорожное хозяйство, угрожала в корне подорвать то жизненное начало и дело, из-за которого только и стоило лишить себя 300-тысячной армии, столь необходимой Германии на ее западном фронте. Резервы Германии быстро таяли от непрерывных боев на территории Франции.
Наконец, и это играло не меньшую роль в охлаждении немцев к сепаратистам «самостийникам», немцы, которым нельзя отказать в том, что они внимательно изучали общественную среду и обстановку, прозрели в Киеве насчет «украинизации». В теории, дома, в концентрационных лагерях, – это было одно, в Киеве, на реальной украинской почве, они нашли нечто совершенно другое; они увидели то, что их самих привело в немалое изумление. «Russland – das verstehe ich, Ukraina – das verstehe ich nicht», – повторял убитый позже в Киеве фельдмаршал Эйхгорн, заменивший вскоре Линзингена. Но об этом я скажу далее, теперь же нужно дать себе отчет в том, кто такие были вновь оказавшиеся у власти украинцы, каковы были их силы и творческие способности, каковы были результаты их деятельности и социального строительства.
Совершенно подобно тому, как Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов являлся самопроизвольным парламентом, да еще облеченным исполнительной властью, державшим в плену Временное правительство, так и Центральная Рада состояла исключительно из левых элементов, украинских с.-р. и с.-д. главным образом, избранных с теми же гарантиями и при тех же технических условиях, что и с.-р. и с.-д. в Петрограде. Отличие было лишь в том, что «министерство» вполне отвечало «парламенту» и в психике, и в мировоззрении – оно, правда, и исходило из недр Центральной Рады. До чрезвычайности типично, что с необычайной быстротой устранены были от дел наиболее почтенные и заслуженные деятели украинской идеи, как, например, ее ветеран, глубоко всеми почитаемый педагог, ученый и литературный деятель В. П. Науменко (Владимир Павлович Науменко был расстрелян большевиками, когда они вторично овладели Киевом весной 1919 года. - Н. М.), назначенный Временным правительством попечителем Киевского учебного округа. Другой почтенный украинец, Н.П. Василенко, был в это время товарищем министра народного просвещения при министерстве акад. С.Ф. Ольденбурга. [28] В.П. Науменко, серьезный ученый-филолог и талантливый преподаватель, годами и десятилетиями отстаивавший в своем журнале «Киевская старина» право украинского народа на культурное развитие, заставивший уважать себя даже таких самодуров центральной власти, каким был жандармский генерал Новицкий; человек, который приобрел для украинцев симпатии таких выдающихся деятелей академической жизни в России, как покойные академики А.Н. Пыпин, A.A. Шахматов, и O.E. Корш, и ныне здравствующий С.Ф. Ольденбург. И вот этот человек, живой памятник 50-летия киевской культуры, оказался не ко двору у молодой Украины.
Во главе движения стал профессор Львовского университета, ученик В.Б. Антоновича, русский украинец М.С. Грушевский. Антонович – двуликий Янус, с кафедры университета проповедовавший одно и бывший в дружбе даже с Новицким, у себя дома, в кружке избранной молодежи, проповедовавший другое: ненависть к России.
М.С. Грушевский был последователем Антоновича – домашнего учителя ненавистника России (эти сведения я получил от другого ученика профессора Антоновича, известного педагога в Киеве, летом 1918 г.). Плодовитый писатель, посредственный ученый, привыкший к Австрии и ее конституционному укладу, он примкнул к левым по мотивам непонятным и неизвестным, скорее всего, желая не утратить некоторой своей популярности. А по всему своему существу он был и остается добрым буржуа в буквальном смысле этого слова, любящим комфорт и уединение своей ценной библиотеки.
Дом профессора Грушевского в Киеве, огромное шестиэтажное здание на Паньковской улице, погиб в огне, зажженный снарядами артиллерии Ремнева; в нем, кроме очень ценной библиотеки М.С. Грушевского, погибло тоже ценнейшее собрание украинских этнографических предметов художника-архитектора Кричевского. Пожар дома Грушевского и пожар огромного дома Багрова на Бибиковском бульваре составили одну из грандиознейших картин эпохи бомбардировки Киева, редкой, полной трагизма красоты этого стихийного бедствия. Трудно допустить, чтобы практичный ум М.С. Грушевского разделял увлечения зеленой украинской молодежи в области ее социологических и социалистических экспериментов. Проще допустить, что, дорожа популярностью, он плыл по течению, бессильный оказать ему серьезное идейное сопротивление.
За Грушевским идут три влиятельные в национальных кругах Украины фигуры: В. Винниченко, С. Петлюра и Н. Порш, все приблизительно одного возраста – за 40 лет, все социалисты de nomine и совершенно не схожие друг с другом ни по складу ума, ни по темпераменту. Общее у них одно: сепаратистские стремления, исходящие несомненно из очень различных источников их природы. Винниченко – писатель не без воображения и значительного дарования и таланта, наименее их всех национален, по своей сущности, как украинец. По своей страстности и импульсивности это скорее семит, по мистической сложности своей психики это типичный великоросс, где к идеализму славянина подмешан мистицизм финского знахаря, беспокойный Пэр-Гинт с рефлексией Макса Норда, сложное mixtum compositum кухни современного европеизма. Человек импульсивный, страстный и опасный, ибо у него нет слабой стороны в виде задерживающих центров. Ему приписывают формулу: «Украина не хочет самостийности. Тем хуже для нее – пусть пройдет через чистилище большевизма, если это необходимый путь к самостийности». И он действительно, не смущаясь, шел на соглашение с большевиками.
Симон Петлюра – трагический символ современной Украины, гораздо более национален; это упрямый «хохол», несколько тупой, хитрый, недоучка и самоучка, но человек с настойчивостью, характером и огромным честолюбием, отравленный ядом случайно свалившейся в руки власти. Не теоретик и не мыслитель, он один умеет организовать и действовать. Черты гайдаматчины живы в нем, и немцы знали, кто им может пригодиться в соответствующей момент, ибо Петлюра искусно ориентируется в трудных положениях, умеет влиять на людей и организовать их. Самый умный, рассудительный, расчетливый, наиболее теоретически и политически подготовленный, наиболее дальновидный, скрытный и по-крестьянски себе на уме, хотя и не из крестьянской среды, часто остающийся в меньшинстве и замыкающийся в сознании своей правоты и превосходства, Н.В. Порш раньше других уловил необходимость ориентации самостийников на Антанту, хотя раньше был убежденным германофилом. Другие фигуры украинских самостийников менее ярки и определенны, поэтому они и менее определялись в практической политике и деятельности. Интереснее других А. Мациевич, образованный агроном, В. Леонтович (не социалист), писатель-беллетрист и украинец-индивидуалист, С. Ефремов, публицист и историк литературы, трудолюбивый работник и постоянно шедший вперед мыслитель.
В общем, у власти оказалась молодежь социалистически настроенная: Д. Антонович – прямолинейный националист, способный, но ленивый, А. Шульгин – работящий и способный молодой сепаратист, Ткаченко – украинец англизированной внешности и слабой мысли, Голубович, о котором речь еще впереди, и другие еще менее известные своей деятельностью фигуры и лица.
Из военных сколько-нибудь выдавался, как политически воспитанный, украинец по симпатиям, генерал Оберучев, [29] но это был умеренный с.-р. и не шовинист, и его смыла, так же как и В.П. Науменко, волна левизны и крайнего национализма.
Какие же в этих условиях могли быть плоды мирной работы, общественного строительства? Рассчитанные на успех звонкие фразы, где поносился русский (московский) централизм, – на них делал свою карьеру М.С. Грушевский. Универсал о самостоятельности Украины как плод усилий закулисной деятельности В. Винниченко и его компании. Универсал о социализации земли как легкий и дешевый продукт коллективного творчества. В практической сфере деятельности все это сводилось к жалкой борьбе с безобидными вывесками, которые перекрашивались в национальные цвета – синий и желтый – и переводились на украинский язык. Много и долго возились с красивым, ампирным двуглавым орлом на здании Педагогического музея на Большой Владимирской улице, выстроенном С. Могилевцевым и захваченном Центральной Радой вопреки всякому закону. К зданию в стиле ампир никак не подходил новый украинский государственный герб, так называемый знак Владимира Святого – в виде трезубца: сделали несколько проб и, по счастью, бросили это бесплодное усилие. В существе своем все начинания сводились лишь к крикливым декларациям, выбрасыванью известных флагов, лозунгов, в области же практики и реальных житейских отношений, возьмем ли мы область управления, суда, землеустройства, ровно ничего не было сделано, кроме введения украинского языка в делопроизводство.
Так же, как и в коренной России, социализация земли кончилась грабежом имений, насилиями, издевательствами, иногда убийством помещиков. Так, например, в Черниговском уезде была зверски убита целая семья помещиков Комаровских из 12 человек. Когда тяжко раненные, недобитые несчастные умоляли дать воды, убийцы отвечали: «Подохнешь и так»… В семи верстах от Чернигова убиты были мои родственники, отец и сын Дзвонкевичи. Моему двоюродному деду, старику, было 93 года, а его сыну за 60 лет, причем этот последний более 30 лет своими руками обрабатывал свою землю, пахал, косил, вставал с восходом солнца, словом, целиком жил обычной жизнью заправского крестьянина.
Людей убивали, усадьбы горели и разорялись, а социализация оставалась пустым звуком. Украинские крестьяне, собственники земли, особенно зажиточные, а таких на Украине было весьма много, были поголовно против опасных затей социализации, так же как и против земельных комитетов, но, боясь мести, молчали и не возражали против сознаваемого озорства и безобразий: раздела скота, хлеба, помещичьих экономий и пр. Когда мне лично приходилось беседовать с теми из них, кого я знал с детства, они потихоньку признавались: «Мы бы вам всех их выдали, смутьянов и грабителей, только на одном условии: чтобы они больше к нам не вернулись». Боязнь мести определяла весьма многое в отношении к происходившей кругом анархии.
По моему глубокому убеждению, украинские социалисты во всей области законодательства обнаружили не больше творчества, чем их товарищи большевики в период их сидения в Смольном институте. У них не хватило храбрости быть последовательными до конца на манер большевиков, но все же к чести их нужно сказать, что они не действовали террором, пыткой и расстрелами. Бессильные прекратить анархию, которую они сами вызвали своим наивным «законодательством», они – и в этом их огромное отличие от большевиков – не обагряли еще тогда рук своих ни поощрением, ни одобрением, ни моральным участием в кровопролитии. Но в украинской интеллигенции сказалась общая черта с русской интеллигенцией: партийное доктринерство вытравило всякое представление о реальных жизненных взаимоотношениях явлений, и, упрямо губя свою родину и свое собственное будущее, украинцы, как и русские, создали себе кумиров из сухих формул и лишенных внутреннего содержания форм и трафаретов.
Пользуются ли национально настроенные украинцы доверием широких масс населения, во имя которых они действуют и именем которых так часто злоупотребляют? Пользуется ли «украинизация» симпатиями широких масс населения Украины? Нужно раз хотя бы высказать ту истину, что в той исторической стадии, в какой жило тогда население Украины, оно было более чем равнодушно ко всяким попыткам и затеям украинизации. Украинцы слишком много лгали на эту тему. Городская демократия к украинизации школы, например, относилась просто отрицательно. Как показали грустные события и переживания Киева, Харькова, Одессы, население городов везде имеет явную склонность к большевизму, а деревня везде жаждала одного: земли!
Тот, кто обещал землю, и являлся властителем деревни. И впредь проблема власти остается открытой в той же плоскости: только тот создаст власть и на Украине, и в России, кто укрепит право на землю за крестьянством и создаст гарантию от социализации и всяких видов экспроприации.
Украинские эсеры, составлявшие большинство в той массе интеллигенции, или, лучше сказать, полуинтеллигенции, которая служит в земствах, кооперативах, чиновниками в разного рода правительственных учреждениях и т. п., обещали всю землю крестьянам. Это единственное действительное средство получить голоса деревни. И это нужно иметь в виду для понимания дальнейших развернувшихся событий.
Если еще нужно беспристрастное свидетельство полного провала идеи украинизации и сепаратизма, то следует обратиться к вполне надежному и беспристрастному свидетельству немцев, которые были заинтересованы углублением украинизации для успеха расчленения России. Через два месяца пребывания в Киеве немцы и австрийцы, занимавшие Одессу, посылали обстоятельный доклад в Берлин и Вену в совершенно тождественной редакции. Немецкое высшее военное командование, составившее этот доклад (я имел его в руках только на 1/2 часа и имел возможность лишь бегло просмотреть этот обстоятельный и интересный документ), доносило, что из всех учреждений на Украине единственно стоящее на высоте задачи и имеющее авторитет среди населения – это суд и его деятели, все же остальное далеко не на высоте задачи. Если немного усовершенствовать устаревшие в некоторых областях законы, то, опираясь на суд и военную силу, можно управлять страной. Далее доклад красноречиво доказывал, что существующее правительство не в состоянии водворить в стране необходимый порядок, что из украинизации практически ничего не выходит, ибо население стремится к русской школе и всякий украинец, поступающий на службу, хотя бы сторожем на железную дорогу, стремится и говорить, и читать по-русски, а не по-украински. Общий же вывод был тот, что желательно объявить открыто и легально оккупацию края немецкой военной силой. Это было в 20-х числах апреля 1918 года.
Да и в практике своей немцы мало внимания и уважения уделили украинскому языку: люди практики, они видели, что все население прекрасно понимает русский язык, а потому объявления свои они печатали на русском языке, если учились, то учились русскому, а не украинскому языку и т. д. Пробежав вышеупомянутый документ, я понял, что дни Центральной Рады и министерства Голубовича сочтены.
* * *
Вокруг генерала Павла Петровича Скоропадского [30] сгруппировались все антисоциалистические элементы Украины, начиная от крупных помещиков и кончая мелкими земельными собственниками – крестьянами-«хлеборобами», все политические партии правее социалистов, начиная от кадетов. Это был достаточно сплоченный антисоциалистический блок без партийных разномыслии и без национальной розни. За ним пошли и русские, и евреи, и украинцы, и поляки, и кадеты, и октябристы. Но что бы ни говорили враги Скоропадского, в основе организации «хлеборобов», которая на съезде 29 апреля объявила генерала Скоропадского Гетманом всея Украины, была сильная группа настоящих крестьян-собственников, для которых смертельной угрозой был универсал о социализации земли. Переворот от народной Украинской республики к гетманству мог совершиться, конечно, только при содействии и с согласия немецкой власти, так как какими-либо собственными реальными силами генерал Скоропадский не располагал. Сделано все было чрезвычайно аляповато и грубо: немцы даже не соблюли decorum'a нейтралитета. Дело с внешней стороны обошлось так. В теплый, благоуханный апрельский день, около трех часов пополудни, к зданию, где заседала Центральная Рада, т. е. к Педагогическому музею на Владимирской улице, направились небольшие отряды немецких солдат. Двумя шеренгами солдат, поставленными поперек широкой улицы, отгородили участок против Педагогического музея – первый со стороны Фундуклеевской улицы, второй – от Бибиковского бульвара: подходы к зданию, где заседала Центральная Рада, были отрезаны. Небольшой отряд немецких солдат под командой офицера вошел в здание Центральной Рады. Через час или maximum 1 1/2 из здания Рады был выведен арестованным премьер Голубович и увезен в карете вниз по Фундуклеевской улице. Я наблюдал за этими наружными операциями, стоя на углу Фундуклеевской и Владимирской улиц, в рядах небольшой группы лиц, случайных прохожих и выбежавших из кафе отеля «Метрополь» с противоположного угла по диагонали. Было около четырех часов дня, послеобеденное для киевлян время. Ко мне подошел присяжный поверенный В., бывший очевидцем того, что произошло внутри здании Центральной Рады, так как мой знакомый был в числе публики, присутствовавшей на открытом заседании Рады. Вот рассказ очевидца, постороннего наблюдателя:
«Маленький отряд вооруженных немецких солдат вошел в зал заседания Рады, оставив стражу у всех выходов залы. «Руки вверх!» – скомандовал немецкий офицер. Все подняли руки, кроме профессора М.С. Грушевского, который, смущенный, остался сидеть на председательском кресле. Выпустили сначала публику, проверяя документы, потом членов Рады, задержали только некоторых членов правительства» .
Потом я узнал некоторые подробности. Не обошлось без издевательства. Так, министра иностранных дел – 20-летнего юношу, студента 2-го или 3-го курса, – поставили лицом в угол и велели не двигаться. Был произведен обыск, выемка документов, причем обыску подвергся и стол председателя Рады, профессора М.С. Грушевского.
После увоза немцами премьера Голубовича я поднялся вверх по Владимирской на Софиевскую площадь. Туда скоро хлынула с Крещатика по Софиевской улице значительная толпа народу и скоро подъехал в автомобиле генерал П.П. Скоропадский, только что прокламированный «хлеборобами» гетманом. Он был в черной черкеске с Георгиевским крестом на груди. Его стройная, красивая фигура и красивый, римский профиль производили свой эффект. На площади перед колокольней Софиевского собора отслужен был молебен. Картина была очень красивая при мягких лучах на закат стоящего весеннего солнца. Голубое небо, свежая весенняя зелень… серьезный и торжественный звон колоколов…
Долго не расходились толпы любопытных городских обывателей, среди которых выделялись группы серьезных, настоящих крестьян – «хлеборобов». В настоящих, бытовых своих костюмах, с «вышиваными сорочками» и в «чемирках», они долго еще служили предметом всеобщего внимания.
К ним подходили, их расспрашивали, говорили они настоящим народным, образным, часто полным юмора, украинским языком. Такими же были, наверное, и их переяславские предки, заключившие договор с Россией. Много уравновешенности, спокойствия, привычки к невзгодам и упорному труду выражали эти настоящие хозяева Украины.
* * *
Так чисто и гладко, без единого выстрела с чьей бы то ни было стороны, ликвидирована была Центральная Рада, к общему удовольствию особенно киевлян, которые относились к украинскому парламенту с нескрываемым недружелюбием, ничего путного от него не ожидая. Переворот произошел мирно и без пролития крови. Украинские социалисты бросились к всемогущему, умному генералу Гренеру, умоляя его оставить им власть. Мне пришлось слышать, категорически утверждать этого не берусь, что украинцы вели себя без всякого достоинства, приносили в жертву свою программу, особенно земельную, но генерал Гренер остался неумолим и отвечал украинцам: «Zu spat!»
Переворот, как мы видели выше, вовсе не нуждался в военной организации, об этой стороне дела, почти не требовавшей усилий, позаботились немцы.
Но гражданские силы заговора собирались так открыто и свободно, что у нас в квартале об этом, что называется, щебетали «воробьи на крышах».
Организация власти не давалась в руки неопытным абсолютно в политической жизни провинциальным профессорам, ученым, земцам и разного рода чиновникам.
Долго еще возились на «конспиративной» квартире д-ра Ю.В. Любинского с составлением «министерства».
Наскоро объявленного председателем Совета министров доброго и симпатичного любителя лошадей H.H. Сахно-Устимовича (он был потом расстрелян большевиками) сменил скоро временный премьер профессор Н.П. Василенко, а тем временем послали гонцов разыскивать намеченного в постоянные премьеры известного земского деятеля Федора Андреевича Лизогуба, который очень медлил со своим приездом в Киев. Нескоро, однако, кабинет окончательно сконструировался (первый кабинет был в таком составе: председатель Совета министров и министр внутренних дел Ф.А. Лизогуб, министр юстиции – М.П. Чубинский, министр народного просвещения – Н.П Василенко, министр финансов – А.К. Ржепецкий, министр земледелия и продовольствия – Ю.Ю. Соколовский, министр промышленности и торговли – С.М. Гутник, министр труда – Ю.Н. Вагнер, министр здравоохранения – Ю.В. Любинский, Государственный секретарь – И.А. Кистяковский, военный министр – генерал Рагоза, министр иностранных дел – Д.И. Дорошенко, министр путей сообщения – инженер А.И. Бутенко, министр исповеданий – В.В. Зеньковский. – Н. М.) и приступил к своей работе.
* * *
События развивались с такой фееричной быстротой, что за ними трудно было поспевать мысли и психике неподвижного и не привыкшего к политическому мышлению обывателя, а жизнь требовала решения на каждом шагу.
Как смотреть на coup d'etat, в центре которого стояла фигура генерала П.П. Скоропадского? Идти или не идти работать в создавшихся условиях?
«Немецкий ставленник!», «Изменник России!», «Изменник Антанты!». Не было, кажется, достаточно сильно клеймящих эпитетов в устах непримиримых, прямолинейных российских патриотов. В. В. Шульгин и его единомышленники покинули Киев и уехали на Дон.
Менее прямолинейные подходили к вопросу спокойнее, стараясь оценить объективно сложившиеся обстоятельства и создавшуюся общую обстановку и в них искать выхода в будущее. Рассуждали приблизительно так:
1) Не мы виновны в появлении немцев. Но немецкая оккупация Украины – объективный факт, которого никак не выкинешь из истории Киевской Руси.
2) Немцы согласны на образование местного правительства из умеренных элементов. Они берутся своими силами обеспечить порядок внутри, не допустив разлития большевизма и оградив Украину от его проникновения извне.
3) В случае отказа в сотрудничестве немцы, очевидно, объявят Украину легально оккупированной страной. Мы не в состоянии, совершенно бессильны оказать какое-либо сопротивление иноземной силе. Немцы, как это было в Бельгии и в Польше, вывезут все, что только можно: и в первую голову хлеб и все огромные запасы и склады военного материала и имущества, которым набиты были интендантские склады Украины. И это последнее едва ли в интересах края и будущей России, вера в которую не покидала, едва ли это также в интересах Антанты и незаконченной еще войны, ибо борьба самая ожесточенная и тяжкая на западном фронте еще продолжалась.
Сомнения, как известно, громадным большинством разрешены были положительно, то есть в сторону сотрудничества и поддержки генерала П.П. Скоропадского.
* * *
В каких чертах рисуется нам образ генерала П.П. Скоропадского? Постараюсь в общих, объективных чертах изобразить его портрет, хотя всякий поймет трудность такой задачи.
Потомок стародубского полковника Скоропадского, бывшего гетманом Украины с 1708-го по 1722 год, крупный помещик Черниговской и Полтавской губерний, женатый на дочери генерала П.П. Дурново, воспитанник Пажеского Е. И. В. корпуса – Павел Петрович Скоропадский и по рождению, и по воспитанию, и по службе, и по связям принадлежит целиком придворной русской аристократии, той части русского или украинского дворянства, которая делала карьеру при дворе.
Состояние Скоропадского хотя и уступало по размерам состоянию Сумароковых-Эльстонов, Белашевых, Строгановых, но все же стояло в ряду первых мест, далеко уступая, однако, крупным состояниям известных американских миллиардеров. Несмотря на богатство и знатность рода, П.П. Скоропадский может быть причислен к демократам по взглядам и убеждению: это человек, искренне и глубоко любящий украинское крестьянство, среди которого он вырос, где выросло и окрепло его самосознание как украинца.
Если прибавить к этому его доброту, постоянное и искреннее желание прийти на помощь, приветливость и подкупающую наружность, то станет весьма понятной способность его привлекать сердца и симпатии окружающих людей. Человек личной храбрости, хотя и нервный, это в то же время человек риска и фаталист – таким сделало его, вероятно, военное ремесло.
Нечего, конечно, и говорить о том, что к той роли, какую ему навязал слепой каприз истории, П.П. Скоропадский ни в каком отношении подготовлен не был и уже, конечно, не мечтал о воскрешении из прошлого и отжившего – исторической археологии – гетманства, когда после развала фронта в 1917 году осенью с трудом добрался до Киева. Был лишь один момент, определявший будущее: порученная ему центром украинизация корпуса свела его в украинскую среду, в круг офицерства, националистически настроенного.
Эти сильные переживания были последними впечатлениями, увезенными им с рассыпавшегося фронта.
С другой стороны, тянули связи, привычные отношения с придворной знатью и петербургской аристократией.
Мягкий до бесхарактерности, доброжелательный до легкомыслия, он всем хотел сделать добро и приятное, а потому в жизненных, глубоких противоречиях не умел выдержать строгую и определенную линию поведения.
Если прибавить к этому весьма сложную политическую конъюнктуру, в которой родилась Народная Украинская Республика, вспомнить, что восприемницей гетманства была Германия, то из сказанного ясны будут все те исключительные трудности, какие предстояло урегулировать Гетману «Всея Украины». Тут нужен был исключительной проницательности и широкого политического кругозора ум и специальные дарования, которых недоставало Скоропадскому.
Окруженный льстецами и часто ничтожными людьми, он, привыкши к этой атмосфере, не замечал ее исключительной неуместности в переживавшийся тяжкий момент. И все же всегда и везде он оставался тем, чем был, т. е. совершенным джентльменом в английском понимании этого слова. В не столь сложное, ответственное время он был бы, думается, неплохим конституционным правителем. Если мотивы самолюбия и честолюбия могли играть роль в той исторической драме, где центральной фигурой был П.П. Скоропадский, то мы, конечно, не должны забывать, что покупалось все это недешевой ценой. Не у всех даже хватало и не у многих хватило бы храбрости возложить на свои плечи бремя гетманской власти.
Нельзя поэтому не одобрить тех, кто решил разделить с П.П. Скоропадским бремя этой власти.
Первым за себя и положительно решил этот вопрос профессор Киевского университета Н.П. Василенко, бывший товарищ министра народного просвещения при Временном правительстве в Петербурге, принадлежавший к партии кадетов и умеренный националист-украинец.
Человек в высшей степени честный, спокойный и добросовестный, он много труда положил на формирование первого кабинета министров Скоропадского, куда и вошел министром народного просвещения и временно премьер-министром и министром иностранных дел. Впоследствии председатель Сената, он пользовался все время большим влиянием у Скоропадского и значительным авторитетом в Совете министров.
Человек чистый, лично ничего не искавший, культурный украинец и друг России, он, к сожалению, мало импонировал немцам, не находил достаточно твердости в сношениях с ними. Работал он чрезвычайно интенсивно, спокойно, стараясь создать мирные отношения между украинцами и русскими.
Федор Андреевич Лизогуб, сразу намеченный в премьер-министры, происходил из старой украинской фамилии Черниговской губернии. Земец-октябрист, хорошо знавший земское дало, русский человек до мозга костей, он оказался слабым в руководстве работами кабинета и недостаточно дипломатом для чрезвычайно запутанного и ответственного момента в положении Украины, в ее чрезвычайно деликатных и сложных отношениях с Германией, Антантой и, главное, с Россией. Под его председательством Совет министров больше похож был на земское собрание. Заседали чуть не ежедневно с 9 часов вечера до 2-3, иногда до 5-6 часов утра, тратили много времени на решение элементарных вопросов, но не было никакого плана законодательной работы, как не существовало и определенной, стройной, выдержанной политики ни в области экономической, ни в области внутреннего управления. Каждое ведомство работало по-своему, не считаясь со смежными, законодательствовали случайно, au jour le jour, и, когда накладывали законодательную заплатку на какую-нибудь случайную дыру законодательного кафтана, непрочная ткань его расползалась по соседству.
Так, например, министр юстиции М.П. Чубинский все свое внимание сосредоточил на создании Сената. Сенат и был действительно создан чуть ли не из 3/4 бывшего Сената Российской империи, что для Украины, жившей под иностранной оккупацией, было ненужной роскошью, а на местах не было судебных следователей, и преступность росла и развивалась благодаря безнаказанности преступления.
Целый ряд обвинений сформулирован был Министерством промышленности и торговли против Министерства путей сообщения, которое, по словам доклада В.А. Ауэрбаха, «организацию – первое требование железнодорожного хозяйства – заменило украинизацией» – намек на крайности в этом направлении, практиковавшиеся в ведомстве вопреки серьезным интересам дела. В другом ведомстве, наоборот, хорошим тоном были насмешки над «украинской мовой» (языком). Словом, примеров отсутствия плана и единства в действиях можно было бы набрать сколько угодно.
Если подвести итоги деятельности первого министерства гетмана Скоропадского с мая до половины октября, т. е. за период времени около полугода, то министерство это выступает пред нами со следующими чертами:
1. Министерство это не было сепаратистским или антирусским. Оно жило надеждой на возрождение России и всеми силами хотело помочь России на пути к этому возрождению. (См., например, такой документ, как записка 10 министров от 10 октября 1918 г.) В работе этого министерства принимали участие между многими другими лицами русского происхождения и направления: С.Н. Гербель, Г.Б. Афанасьев, Г.Г. Лерхе, сенатор С.В. Завадский, Сементовский-Курилло, фон Замен, обвинение которых в измене России не только фактически не может быть обосновано, но и просто неумно.
2. Министерство это всеми своими силами старалось поддержать Украину в ее борьбе с анархией и дать простор развитию ее культурных сил. И вместе с тем оно отнюдь не было антиукраинским, в чем его обвиняли с другой стороны. Не следует придираться к частностям. Вообще же было дано много доказательств уважения к украинскому языку и слову. Много доверия было оказано украинским силам, и не вина гетмана Скоропадского и его министров, если Украина оказалась очень бедной культурными силами, необходимыми для созидательной работы. Для ответственной работы требовалось много специальных технических знаний, а потому для занятия некоторых видных и важных постов приходилось по необходимости обращаться к неукраинским элементам. Виновата в этом вся предшествующая история, а никоим образом не Скоропадский.
3. В основе своей направление гетмана Скоропадского и его министерства было либерально-демократическое. Преследовались цели, принимались меры, имевшие в виду благо всей массы населения, всех его слоев и классов. Правда, Министерство внутренних дел иногда прибегало к мерам репрессивного характера, но время было такое, что всякая мягкость (а ее со времени революции было проявлено слишком много, а последствия ее оказались совершенно фатальными) принималась за признак слабости власти и поднимала настроение у тех элементов, которые противопоставляли себя власти. Так, например, демагогические, а не демократические в своей основе городские думы тяжелым камнем фатально, быть может сами того не замечая и не отдавая себе в этом отчета, тянули в пучину большевизма. Обвинения в недемократичности, реакционности, империализме и т. п. у нас распространяются с легкостью поразительной и вместе с легкомыслием, которое в своей наивности было бы еще простительно, если бы часто не было совершенно преступно.
У нас вообще в моде всякого рода обвинения и малообоснованные, огульные суждения. Сколько самых злостных выпадов, обвинений, малообоснованных и часто вовсе недобросовестных, было высказано в печати по адресу генерала П.П. Скоропадского! Я пишу эти строки, отнюдь не имея в виду апологии генерала Скоропадского, сделавшего ряд больших промахов и огромных ошибок, но я предложил бы его обвинителям задать себе следующий вопрос: что приобретал генерал Скоропадский, идя в совершенно исключительно тяжких условиях на роль гетмана? Удовлетворение честолюбивых замыслов? Но это покупалось слишком дорогой ценой.
«Жизнь моя личная была сплошным адом в период гетманства», – писал мне П.П. Скоропадский в начале 1920 года из Швейцарии.
И те, кто видел и действительно умел наблюдать условия жизни в Киеве, скажут, что в этих простых словах нет преувеличения. Скоропадский пошел на шаг, на который другие не рискнули. В этом шаге, что бы ни говорили, был элемент сознательной жертвы.
Рисковать ежеминутно своей жизнью – этому могла научить генерала Скоропадского только 3-летняя война, активным участником которой он был в самых ответственных местах фронта. Обстановка, повторяю, была исключительно трудная.
«Если бы мне пришлось повторить опять всю историю, я, по совести, не мог бы поступить иначе, чем я поступил», – писал мне в другом письме П.П. Скоропадский.
При личном, более близком знакомстве с П.П. Скоропадским, которое относится к концу 1919-го и началу 1920 года, я нашел в нем человека, который:
1) совершенно искренне ненавидел старый режим;
2) проводил идею децентрализации, а не сепаратизма (с тех пор П.П. Скоропадский, к сожалению, эволюционировал сильно в сторону сепаратистских симпатий. - Н. М.);
3) считал совершенно необходимым создать условия для свободного развития украинского народа, ибо он верит в существование, даже в настоящий момент, культурных сил на Украине.
П.П. Скоропадский утверждает, что он все свое личное влияние употребил на радикальное решение аграрного вопроса в пользу крестьян, и он всегда с горечью говорит о тех элементах на Украине, которые оказали оппозицию и противодействие проведению на Украине аграрной реформы в интересах широких масс крестьянства.
Не забудем и того, что период гетманства был временем полной национальной терпимости и признания равноправия национальностей.
Не были ли приняты все меры, чтобы приютить всех бежавших из коренной России от террора большевиков, спасти их имущество и жизнь, сохранить, по возможности, больше культурных сил России?
В Киеве происходило формирование так называемой Южной армии для борьбы с большевиками, поддержанной затем, после соглашения с генералом П.Н. Красновым, и оружием, и деньгами
Наконец, гетманский период не знал вовсе еврейского вопроса, как такового, со всеми его отвратительными чертами: не было ни еврейских погромов, ни каких-либо иных преследований на религиозно-национальной почве. Некоторые дикие выходки украинской прессы гасли в атмосфере, неблагоприятной для культа национальной розни. Наоборот, защита интересов евреев, как равноправных граждан Украины, велась определенно и в очень настойчивых выражениях перед лицом австрийского военного командования, где иногда обнаруживались тенденции к средневековым мерам по отношению к еврейскому населению (в архиве Державной Канцелярии должны были сохраниться по этому вопросу весьма интересные документы. - Н. М.).
Да, Скоропадский взялся за задачу, которая требовала и более сильной воли, и более ясного творческого понимания, и совершенно исключительной твердости в борьбе с малосознательными элементами населения. Не он создал события, а события создали его.
Справедливы ли поэтому упреки, адресуемые Скоропадскому? Этот упрек в равной мере падает на все антибольшевистское движение и все белые фронты одинаково. Внутренняя логика событий, процесс социальный – в ходе русской революции были бесконечно сильнее как усилий отдельных лиц, именами которых возглавлялись местные попытки реакции против большевизма, так и всей идеологии интеллигентной России, которая с негодными средствами пыталась бороться со стихией. Этой стихией владели и овладели одни только большевики, и это потому, что они сразу же влились в ее мощный, разрушительный поток и пошли по течению за стихией и далее, накладывая свой штемпель там, где им того вовсе и не хотелось. Таков, например, Брест-Литовский мир.
Украина и украинский народ слишком мало отличались от России по культурным условиям, а потому так же фатально, как Россия, Украина сделалась добычей большевиков.
Раньше других генерал Скоропадский стал жертвой исторической неизбежности. Часто колеблющийся, неустойчивый, он все же, хотя и разбитый, не заслуживает того морального осуждения, которое на него так охотно возлагают. Primus inter pares в несчастье и неудаче. Ответственность за эту неудачу ложится морально и на всех нас. Последствия ее, как крест свой, мы несем тоже, как и те, кто временно сиял наверху.
В положении Украины были черты, которые не позволяли питать особого оптимизма насчет будущего. В Киеве остался написанный мною в июле 1918 года литературный документ, предназначавшийся для французской прессы, известный группе моих друзей, где на основании анализа положения «самостийной» Украины я предсказывал скорую трагическую развязку и приурочивал ее определенно к моменту победы союзников над немцами на Западном фронте. Отнюдь не с целью подчеркнуть здесь свою прозорливость, упоминаю я об этом, а исключительно для того, чтобы подчеркнуть основную и роковую ошибку в оценке положения деятелями гетманского периода на Украине. Даже такие несомненно умные люди, как И.А. Кистяковский [31] и др., были убеждены непоколебимо в торжестве немецкого оружия. «Немцы в августе возьмут Париж, я в этом убежден», – говорил Кистяковский. И это убеждение, к сожалению, разделялось почти всеми.
Не этой ли атмосферой объясняются известные заявления П.Н. Милюкова, сделанные им в Киеве. А если такой опытный политический деятель и глубокий знаток международных отношений мог ошибиться в оценке политической конъюнктуры, то насколько это простительнее людям менее широкого опыта и кругозора.
Я чувствовал себя глубоко одиноким в своем непоколебимом убеждении в близком, конечном разгроме немцев. И для этого убеждения были несомненно не одни теоретические соображения и выкладки, а и более реальные, объективные признаки. Я внимательно и пристально следил за немцами, их психикой, тем, что и как они делают и что они говорят. Я раньше имел много случаев наблюдать немцев, и теперь я сравнивал то прежнее, что я знал о них, с тем, что я видел в то время в Киеве. Я ясно и отчетливо наблюдал их усталость и какое-то едва уловимое смущение. Даже когда они веселились, с них не сходил какой-то налет глубокой грусти. Если вы долго, серьезно и спокойно развивали им мысль о безнадежности затеи мирового господства, с их уст срывались тонкие фразы: «Unsere innere Lage ist sehr schwep». Мне казалось, что я верно оценивал значение ее: неудачи на фронте (о которых ничего не было известно в Киеве) вызвали опасения за внутреннюю устойчивость империи.
Из указанной выше основной ошибки русских политических деятелей на Украине проистекали ошибочные выводы: 1) Украина может рассчитывать на немецкие войска до формирования своей, новой армии; 2) Украине предстоит длительный период самостоятельного существования, ибо таково направление берлинской политики.
Это иллюзорное сознание обеспеченного спокойствия за немецкими штыками заставляло не торопиться с выработкой сеймового закона. По этой же причине не торопились и с аграрным вопросом и аграрными законами. Оттого тянули скучную канитель мирных переговоров с большевистской мирной делегацией, возглавлявшейся Г.Х. Раковским.
* * *
Каково же было внутреннее положение страны, наводившее меня на самые грустные выводы уже с конца июня месяца?
Прежде всего необходимо констатировать тот факт, что аппарат власти был вконец разрушен на Украине, как и в коренной России. Новый аппарат создавался в невероятно тяжелых условиях. Из элементов, которые всю жизнь свою были в оппозиции правительству и вовсе не были воспитаны к власти, трудно было ее конструировать: они вносили лишь разложение и раздражение, дискредитируя самое власть, как таковую. Новые представители власти не умели, часто при лучших намерениях, подойти вплотную и авторитетно к новому для них делу. Старые же деятели, часто вновь призванные к власти, применяли слишком старые и ненавистные приемы управления.
Такие губерниальные старосты (губернаторы), как, например, A.B. Десницкий (в Мелитополе) из старых земцев, Пищевич (в Херсоне), сразу выдвинувшиеся своей деловой распорядительностью, были большой редкостью.
Выше мы уже упоминали о крайнем недостатке следственных властей и о расстройстве судебных функций. Как курьез можно привести случай, когда ревизия камеры мирового судьи установила такой факт: мировой судья (из новых, назначенных при Ц. Р.) разобрал всего лишь одно дело: о своем собственном разводе со своей супругой.
Анархия сдерживалась одной силой – немецким оружием. Как же держали себя немцы в украинской деревне? Все зависело, конечно, от личного командного состава. Мне пришлось лично наблюдать немцев, бывших на постах в деревне Каневского уезда, Киевской губернии, которые не вызвали раздражения у населения и не оставили по себе дурных чувств. За все те продукты, которые они брали у населения, они исправно платили и ничем население не обижали.
В других же местах – я читал об этом ряд подробных донесений и следственных протоколов – шел прямой, бесстыдный и циничный грабеж. Были случаи во многих местах, когда помещики пользовались немецкой силой для восстановления своих прав и в особенности возврата своего ограбленного имущества (движимости). Это приводило иногда к таким конфликтам, что немцам приходилось пускать в ход артиллерию.
В общем же население подчинялось насилию в сознании своего бессилия.
«Что делать, барин? – говорили явившиеся из деревни крестьяне. – Немцы требуют сено по 1 рублю за пуд, а стоит оно по 8 рублей; берут сало и платят по 1 рублю за фунт, а в городе Чернигове цена пять рублей. Как тут, скажете, быть? Давать или не давать?» Я отвечал: «Вы же знаете, что наши солдаты, в том числе и ваши односельчане, бросили фронт и, несмотря на все убеждения и предупреждения, решили прекратить войну. Немецкие же солдаты пришли вооруженные, они слушаются своих офицеров и команды; если вы им добром не уступите, они возьмут то, что им надо, силой и уже тогда ничего не заплатят. А не будет немцев – придут большевики: те уже, конечно, платить не будут, а возьмут все даром. Когда у нас опять будет армия, которая захочет слушать офицеров, тогда можно будет оказать сопротивление немцам. А без армии мы, конечно, терпим и вперед будем терпеть обиды».
Крестьяне стояли в раздумье, почесывая затылки, – видно, рассуждение это было настолько элементарно и понятно, что возражений не последовало.
Австрийцы были хуже немцев, у них конфликты с населением были чаще, чем у немцев, чаще были и жестокие репрессии, вызывавшие глубокую анархию и разложение деревенской жизни. Но там действовала иноземная сила.
Но еще хуже, разлагающе действовали появившиеся местами добровольческие карательные отряды (офицерские?). 29-30 июня я лично имел случай наблюдать возникновение крупных беспорядков, вызванных действиями карателей, в Каневском уезде Киевской губернии. В селе Б. Букрине в помещичьей усадьбе жила моя семья. Вечером 29 июня я приехал в Букрин и застал свою 15-летнюю дочь страшно взволнованной. Дело заключалось в том, что накануне, за два-три дня, в усадьбу нагрянуло несколько людей в военной форме (офицеров ?), арестовали нескольких крестьян, на которых падало подозрение в грабеже имущества экономии (имевшее место в период господства Центральной Рады), арестованных крестьян связали, били и истязали. Вели себя военные люди чрезвычайно нагло и грубо. Требовали пищи, пили и ели и, конечно, ничего за принесенные им продукты не платили. Со слезами на глазах рассказывала дочь, как на ее глазах офицер (?) побил девочку лет 12, которая принесла ему хлеб и приветливо, с поклоном подала ему.
Офицеры (?) скоро уехали, а в соседнем селе М. Букрине крестьяне, узнав об экзекуции в Б. Букрине, взялись за оружие и образовали вооруженную банду, которая начала свои агрессивные действия против жившей в своей усадьбе семьи помещика Д. Напуганные обитатели убежали в соседний лес, где и провели в страхе всю ночь. На другой день крестьяне того же Букрина, с которыми Д. был всегда в самых хороших отношениях, помогли им, забрав кое-что из имущества, выехать на подводах на пароходную пристань.
Ожидая возможных осложнений и в Б. Букрине, я выехал утром 30 июня на лошадях в Ходоров к пароходной пристани, но туда добраться уже было невозможно, ибо Ходоров оказался в районе военных действий между прибывшим из Канева небольшим военным отрядом с уездным старостой (прежний исправник) во главе и восставшими крестьянами, которых оказалось уже к этому времени около 1000 человек. Шла пулеметная и ружейная перестрелка. Во время этих военных операций был тяжело ранен уездный староста, отряд его был разбит и на лодках бежал за Днепр в Полтавскую губернию. Ходоров был занят повстанцами. Пришлось нам возвращаться обратно и ехать на Переяслав, что и удалось без всяких осложнений.
Обо всем мною виденном и слышанном в связи с этой историей мною был представлен немедленно подробный письменный доклад министру внутренних дел Ф.А. Лизогубу. Мне неизвестно, чтобы были предприняты какие-либо меры для обуздания карателей и против карательных экспедиций вообще. Известно стало, что для усмирения разросшегося восстания вызваны были немцы, а их методы действий в этих случаях бывали решительные, однако едва ли способные внести успокоение в деревню, ибо усмирение это совершалось далеко не мерами убеждения и кротости.
Я передавал свои наблюдения молодому помещику Полтавской губернии К., возмущаясь карателями и бездействием по отношению к ним власти.
«Ничего! Так им и надо… немцы миндальничать не будут, а за грабежи тоже не мешает проучить…»
Я просто остолбенел от такого ужасного непонимания обстановки и грозных перспектив. Увы! Такой случай отношения не являлся далеко единичным или изолированным. Эгоизм, корыстолюбие, желание использовать обстановку в своих личных целях и выгодах были слишком заурядным явлением у помещиков.
Так возникали беспорядки в совершенно мирных уголках. Там, где восставшие брали верх над слабыми отрядами карателей или где восставшим попадали в плен офицеры, даже не принимавшие участия в карательных действиях, повстанцы распоряжались с ужасающей жестокостью, напоминающей гайдаматчину. У нас были донесения, что штопорами вытягивали кишки у несчастных жертв народной ненависти и жестокого самосуда разъяренной толпы.
Я глубоко убежден в том, что, не будь тогда налицо немецкой силы, гетманская власть была бы легко сметена еще в июне – августе 1918 года.
Трудно, конечно, поддается определению роль социалистической пропаганды в организации восстаний, конечно, отрицать совершенно (как многие это делают) ее значения нельзя, но я указал выше на реальные факты и причины крупных волнений и беспорядков, возникавших в весьма мирной обстановке, вне всякой идейной пропаганды.
Я уже упоминал, что мне неизвестно, какие меры принимались против действий карательных отрядов и вообще принимались ли таковые, я упоминал также о легкомысленном, открытом одобрении действий карателей некоторыми помещиками, но я а priori думаю, что власть не имела достаточной силы и авторитета, чтобы бороться с этим явлением. К непрекращавшимся волнениям деревни в конце августа присоединилась еще железнодорожная забастовка, поддержанная, а быть может, даже и организованная на огромные денежные средства, затраченные большевиками. Городская демократия повела атаку на правительство, а национальный украинский блок начал оказывать большое и успешное давление на терявших под ногами почву немцев.
Совет министров гетмана являл в ту пору картину полной неработоспособности. Голоса в Совете неизменно делились ровно пополам, было очевидно, что две половины Совета расходятся между собой в самых основных пунктах и принципах. Положение было катастрофическое. К внутренней неурядице присоединялась напряженная и успешная пропаганда большевиков.
Министром внутренних дел был в этот период уже не безвольный Ф.А. Лизогуб, а И.А. Кистяковский, наиболее яркая фигура во всем министерстве гетмана, умный, талантливый и чрезвычайной работоспособности человек. Он из сил выбивался, стараясь укрепить власть, что отчасти, особенно в провинции, ему и удавалось, но объединить кабинет на единственно спасительной в тот момент политике твердой власти было невозможно, и такие влиятельные министры, как, например, Н.П. Василенко, деловой С.М. Гутник, симпатичный и гуманный В.В. Зеньковский, шли определенно против Кистяковского, увлекая за собой ровно половину Совета министров. Повторялась трагедия власти Временного правительства в Петрограде, и, несмотря на предупредительный, яркий опыт истории, люди упорно держались пути политической маниловщины и невозмутимого прекраснодушия.
Но весьма понятно, что в создавшихся условиях работа министерства не была и не могла быть продуктивной.
В самом начале своей деятельности на боевом посту министра внутренних дел Кистяковский все свои усилия употреблял на привлечение к практической, созидательной деятельности местных национальных украинских деятелей. Но, к сожалению, на этом пути он потерпел почти полную неудачу, ибо все это были в большинстве своем люди, привыкшие к беспочвенной оппозиции и они, за весьма редкими исключениями, оказались неспособными к простой, деловой работе. Как я уже выше упоминал, особенно трудно было наладить аппарат местной власти: с фатальной неизбежностью приходилось возвращать к власти и вербовать для кадров новой власти людей опыта старого времени, которые были к тому же настроены очень озлобленно всеми предыдущими событиями. И люди начинали действовать по-старому, забывая, что изменилась не только обстановка, в которой приходилось работать, но и, самое главное, обывательская психика. Не будучи вовсе реакционером, И.А. Кистяковский быстро создал себе репутацию крайнего реакционера, чем восстановил против себя как русские либеральные элементы, так и украинских националистов. И причина здесь лежала не в существе дела, а в крайней распущенности языка и резкости слов, которыми И.А. Кистяковский кстати и некстати, т. е. без всякой к тому нужды, раздражал имевших с ним дело лиц и целые общественные группы. (Для примера можно привести такой эпизод. После речи Кистяковского в Одессе ему кто-то сказал: «Что же, это возврат к временам Плеве?» – «Передо мной и Плеве, и Сипягин скоро окажутся мальчишками», – не моргнув глазом, ответил Кистяковский. - Н. М.)
Справедливость требует сказать, что словесные злоупотребления были в моде в этот период и их позволяли себе деятели весьма почтенные и уважаемые.
Большой заслугой Кистяковского была прямая, открытая борьба, объявленная им большевикам, причем он храбро брал на себя весь odium за прямые и откровенные средства этой борьбы. Несчастье заключалось в том, что он не умел отфильтровывать чистый большевизм, не сумел создать условия, при которых за ним пошли бы для этой борьбы левые, небольшевистские фракции и партии оппозиции.
Но легко ставить это в вину и во сколько раз труднее практическая работа в данном направлении при условии, о котором я упоминал уже и выше, а именно: теоретики демократии, больше следившие за чистотой своих партийных формул, чем за кричащими, неотложными потребностями дня, а иногда и минуты, левые группы, к сожалению, не могли создать ничего положительного ни в сфере устройства практической жизни – для этого достаточно посмотреть на результаты практической деятельности Киевского и Одесского городских управлений, бывших почти целиком в руках левых дум, ни тем более в сфере организации трудной борьбы с большевизмом. Большевики, не связанные, в сущности, ничем, даже собственными формулами и обещаниями, и действовавшие с грубой, циничной откровенностью, легко брали верх над всякими социал-демократами и социалистами-революционерами.
Их взаимоотношения напоминали больше всего известную сказку Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист». Дело кончалось неизменно по одному, хорошо заранее известному трафарету: все и вся попадало в щучье хайло.
Повторяю, И.А. Кистяковский, оставаясь на немецкой формуле «самостийной Украины», вел совершенно добросовестно борьбу с большевизмом, как интернациональным, возглавляемым Кремлем, так и с большевизмом национальным, возглавляемым Петлюрой и его революционным штабом. Первый, международный большевизм имел своим представителем в Киеве Г.Х. Раковского, стоявшего во главе мирной делегации и занятого совсем не мирными делами. На наиболее вредных деятелей из этой группы и были направлены удары Кистяковского.
Если я говорю о большевизме национальном, то здесь нужна некоторая оговорка. Среди национального союза были настоящие большевики-украинцы, и от них первым был украинский писатель, талантливый и страстного темперамента агитатор В.К. Винниченко. С.В. Петлюра хотя и не был большевиком, но работа его агентов по подготовке восстания против гетманской власти равносильна была отдаче Украины во власть большевиков, что и подтвердили блестяще события ближайших месяцев.
Препятствием, ставшим на пути гетманской власти, в этой борьбе ее с большевиками, стали немцы. Это необходимо особенно подчеркнуть, ибо украинская эпопея была лишь частностью общей картины. Немцы импортировали большевиков в Россию, поддерживали их в течение 1918 года всюду: в Москве, Киеве, Одессе – безразлично. Вспомним, как снисходительно отнеслись немцы к убийству графа Мирбаха в Москве. Немецкий посол на Украине фон Мумм очень нервничал, видя, сколь мало реагировала центральная власть на убийство Мирбаха.
В распоряжении украинского Министерства внутренних дел были материалы, содержавшие неопровержимые доказательства, показывавшие, что члены большевистской мирной делегации ведут усиленную пропаганду большевизма на Украине, не жалеют миллионов «керенок» на организацию железнодорожной забастовки и на организацию вооруженного восстания. В начале октября 1918 года И.А. Кистяковский докладывал Совету министров, что немцы препятствуют ему арестовать известных своей преступной деятельностью опасных большевиков и требуют освобождения других (в архиве Госуд. Канцелярии должен был сохраниться документ – проект заявления Совета министров немецкому главному командованию, написанный мною в самом заседании Совета. И.А. Кистяковский предпочел вести устные переговоры. – Н. М.). И.А. Кистяковский тогда же сделал заявление, что в создавшихся условиях он слагает с себя ответственность за безопасность и спокойствие Киева.
В то же время немцы потребовали освобождения арестованного Петлюры. У меня имеются точные доказательства, что С.В. Петлюра был освобожден гетманом Скоропадским по настойчивому требованию немцев. У меня имеется письмо ко мне П.П. Скоропадского, где на прямой вопрос мой об этом (по поводу письма, опубликованного С.К. Моркотуном в «Cause Commune» осенью 1919 года) П.П. Скоропадский ответил, что он вынужден был освободить Петлюру по настоянию немцев, угрожавших в противном случае освободить его силой.
Есть данные о деятельности С.В. Петлюры еще в качестве председателя земской управы, когда в огромном здании земской управы на Владимирской улице открыто съезжался и работал по организации антигетманской пропаганды весь штаб украинских социалистов-революционеров, штаб будущего восстания Петлюры.
В письмах ко мне П.П. Скоропадский сетует на то, что полиция не могла дать ему в руки материала, достаточно уличающего Петлюру.
Я же весьма склонен думать, что, останься на посту министра юстиции A.A. Романов, материала для обвинения С.В. Петлюры нашлось бы достаточно, даже несмотря на защиту его немцами.
Мне представляется, что вся политика немцев на Украине сводилась к тому, чтобы поддерживать в стране состояние неустойчивого равновесия, для того чтобы в любой момент чашка весов, на которую немцы положили бы гирю своего влияния, могла накренить весы истории туда, куда, по тем или иным соображениям, это желательно было бы немцам. Достаточно в этом смысле обратить внимание на следующую оригинальную, чтобы не сказать более, комбинацию: немцы не только поддерживали материально, но и помогали формированию офицерских отрядов, так называемой Южной армии, [32] и в то же время немецкие офицеры-инструкторы находились в большевистских отрядах, дравшихся против офицеров русской армии.
Немцы как бы сознательно поставили себе цель – уничтожение русского офицерства, и взятие Киева большевиками в 1918 году имело непосредственным результатом избиение русского офицерства. Невольно задаешь себе вопрос: не мозг ли немецкого штаба руководит рукой большевиков в русско-украинской войне начала 1918 года?
Необходимо еще напомнить, что те же немцы постоянно и намеренно путали карты при переговорах Украины с Крымом, чтобы и здесь, как-нибудь невзначай, не было достигнуто какого-нибудь соглашения. Divide et impera было их лозунгом. А русские Украины и Крыма, серьезно вообразив себя двумя государствами, вели таможенную войну между собой, будто кому-то было полезно, чтобы в Крыму гнили продукты, когда в Киеве на них стояли безумные цены. Позорная страница!
Когда немцы стали нажимать на генерала Скоропадского, настаивая на создании левого кабинета с преобладанием националистических элементов, для меня стало совершенно ясно, что немцы, не чувствуя за собой силы удержать далее Украину в сфере своего исключительного влияния, возвращаются к общей своей политике разложения России, ибо сомнения не могло быть в результате работы левых элементов. Этот результат был фатально неизбежен, и резюмировался он кратко: Украина должна быть большевистской. Не могло быть сомнения и в том, что в соответствующий момент немцы предадут и «Гетмана Всея Украины». Если и сомневался, быть может, то не хотел этому верить сам гетман.
* * *
Вообще же немцы играли с Украиной так, как кошка играет с мышью: то придавит, то даст побегать и насладиться иллюзией свободы, зорко следя в то же время, чтобы добыча не ушла от стола хищника-победителя.
В сфере промышленно-экономической и финансовой они все держали в своих цепких руках, опутывая на будущее время Украину густой сетью, расставленной немецким промышленным капиталом с его активным грюндерством, агентом которого был в Киеве небезызвестный Г. Добрый. [33]
Напрасно выбивался из сил, стараясь отстаивать свою финансовую независимость, добросовестный и честный А. К. Ржепецкий. Немцы, конечно, оставались maitres de la position и в душе, конечно, смеялись, когда гетманское правительство заключало самостоятельные договоры с Румынией, недосягаемой в то время Данией и т. п. Теперь документы и материалы, характеризующие промышленные и экономические взаимоотношения Украины с немцами, уже доступны для научного исследования, которое восстановит нам картину этих отношений и пределы самостоятельности Украины в этой основной сфере жизнедеятельности страны, я же здесь ограничиваюсь лишь характеристикой положения.
Другой, дорого обходившейся Украине иллюзией, было создание украинской армии. Наивно увлеченный этой идеей, П.П. Скоропадский из-за этого миража делал такие шаги, как, например, его путешествие в Германию и его свидание с императором Вильгельмом, Гинденбургом и Людендорфом. А между тем путешествие это, хотя бы и вовсе безобидное по своим результатам и содержанию, крайне повредило П.П. Скоропадскому в общественном мнении как кругов Антанты, так и России.
Я никогда не разделял искренней и серьезной веры П.П. Скоропадского в возможность создания серьезной военной силы на Украине. Начать с того, что немцы никогда бы не потерпели создания сколько-нибудь значительной военной силы на Украине, так как фатально и неизбежно она сделалась бы угрозой им самим. Едва ли можно допустить, чтобы немцы не давали себе в этом отчета.
Но, даже допустив на минуту эту мало в общем вероятную возможность, я задаю вопрос: из каких элементов можно было надеяться создать это войско?
Среди офицеров были украинские националисты, среди южнорусского офицерства, даже высших рангов, были федералисты, которые, не будучи ни врагами, ни сепаратистами, тем не менее определенно не сочувствовали и относились отрицательно к восстановлению единой, централизованной России. Значительное число таких офицеров после падения гетмана очутились в Польше: они не захотели пойти за Петлюрой, как завзятым врагом России, но, с другой стороны, они отказались и от вступления в ряды деникинской Добровольческой армии, на знамени которой они не видели даже автономии Украины. Нужно только немного воображения, чтобы представить себе душевную драму этих несчастных жертв капризов истории. В такой бесконечно тяжелой обстановке пришлось им решать вопрос своей совести!
Наконец, на службу в гетманские войска пошли многие русские офицеры для борьбы с большевиками, и недостатка предложений услуг для ролей командиров корпусов, начальников штабов, центральных установлений военного ведомства никогда не было.
Недоставало одного, но зато весьма существенного: солдат. И главная беда была в этом: неоткуда было взять надежных солдат. Призывная молодежь украинская уже побывала в тылах действующей армии, развратилась от безделья и большевистской пропаганды на сходках и митингах, но главное – бездельем тыловой службы и связанного с нею времяпровождения. Создать военные части из этих элементов, или даже из свежих элементов совершенно распущенной деревенской молодежи, было, мне кажется, совершенно невозможно. Куда направлены были мысли и каково было настроение солдат, побывавших в действующей армии, было наглядно продемонстрировано «синими жупанами», о которых мы уже говорили выше.
Надежного войска, особенно при ненадежных командирах, как показала история полковника Болбочана, [34] генерала Гутора [35] и многих других, взять было неоткуда. Я делился этими мыслями с военным министром генерала Скоропадского, глубоко честным и симпатичным, добрым и мягким генералом Рогозой, [36] который разделял мои опасения.
Находившаяся в состоянии анархии деревня, где, как мы выше видели, часто беззастенчиво и жестоко хозяйничали немцы, конечно, легко делалась жертвой пропаганды агентов Петлюры, не вследствие того сомнительного соблазна, который обещала украинизация, а просто потому, что петлюровцы обещали свободу полного ограбления помещиков в пользу крестьян и не противились прямому грабежу всякого добра в помещичьих экономиях.
Как только, под давлением немцев, Скоропадский создал новое министерство с преобладанием левых элементов – стало ясно, что дни Украины сочтены.
* * *
Да и как бы оно могло быть иначе? Должен был прийти тот, кто теперь имел негласную поддержку немцев: он и являлся, по существу, хозяином положения. Это были большевики.
События, достаточно последовательно развивавшиеся затем, были лишь медленной агонией, временем, потребным для искусного машиниста, чтобы переменить декорацию при открытом занавесе. Самые попытки генерала Скоропадского изменить лозунги и иначе ориентировать внутреннюю и внешнюю политику ускоряли логическое развитие событий.
Когда гетман передал власть новому министерству под председательством С.Н. Гербеля, в украинских кругах называемого «министерством русских монархистов», – это целиком развязало руки украинцам-националистам. Они прямо объявили войну гетману как изменнику Украины: 15 ноября они образуют тайную Директорию, где главная роль принадлежит В. К. Винниченко, но в ней фигурирует также и будущий «генералиссимус» С.В. Петлюра.
Небольшие отряды русских офицеров не могли устоять долго под ударами коалиции открыто воюющих украинцев, тайно наступавших с севера большевиков, при весьма подозрительном «нейтралитете» немцев. Вся эта «война» потребовала лишь одного неполного месяца. Отрекшийся от власти гетман П.П. Скоропадский, брошенный всеми, увезен был в Берлин под видом раненого немецкого офицера, благодаря заботам о нем одного германского врача. Только это спасло ему жизнь.
Войска Директории вошли в Киев 14 декабря. Торжество украинцев было, впрочем, недолгое: всего через шесть недель они должны были бежать из Киева, уступив его большевикам.
Об этом событии вовсе умалчивает брошюра, изданная в Париже под заглавием: «Chronologie des principaux evenements en Ukraine de 1917 а 1919». В этой брошюре будущий историк найдет немало интересных деталей событий, относящихся к началу 1919 года, а также некоторые документы, относящиеся к 6-му и 12 февраля и даже марту 1919 года.
Своими собственными руками растерзали живое тело своей «неньки» (матери) Украины гг. Винниченко, Петлюра и их менее знаменитые товарищи, ибо живой и здоровой они хотят видеть ее только «самостийною». Есть, правда, и такой вид патриотизма, о котором поэт Украины Т. Г. Шевченко писал:
Кровью и слезами залили всю Украину Винниченко, Петлюра и прочие украинские патриоты. Объявив в 1917 году ее полную независимость, они исполнили задание немцев, по указке которых Ленин провоцировал украинцев известным уже постановлением Совета рабочих и солдатских депутатов, цитированным мною вначале: они вызвали бомбардировку и взятие Киева большевистскими войсками под командой Ремнева и Муравьева. Брест-Литовским договором они отдали Украину на разграбление немцам и австрийцам. Восстанием против гетмана они вконец разорили Украину, отдав ее вторично в руки большевиков. На этот раз дело осложнилось еще такими аксессуарами, как деятельность разбойничьих банд Махно, Григорьева и других «атаманов» и грандиозными еврейскими погромами, которые затмили собою все, что ставилось в вину царскому правительству России с 80-х годов прошлого столетия и до 1906 года включительно, когда, например, Кишиневский погром 1903 года заставил весь мир содрогнуться от негодования.
Какими детскими сказками представляются теперь кишиневские события в сравнении с деяниями петлюровцев, жертвы которых достигают по неточным еще данным до 100 тысяч человек.
С тех пор до нашего времени страна не выходит из состояния анархии. Страсти, искусственно разожженные в Гражданской войне, вызвали наружу все худшее в человеческой природе, и не видно конца испытанию огнем и мечом, где, кроме жертв человеческой жестокости, сотни и тысячи людей гибнут от голода, холода и развившихся на этой почве страшных эпидемий тифа, холеры, дизентерии и др. И не видно конца этой трудноописуемой трагедии, без исхода, видимого впереди, и без всякого просвета надежды на будущее.
Кто передаст словами то, что пережили города Южной России? Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Екатеринослав, если мы вспомним лишь крупные центры. Перенаселенные города, куда от деревенского террора бежало все могущее бежать из деревень население, переполненные к тому же беженцами военного времени из Царства Польского и прибалтийского края, беженцами от большевистского террора из Центральной России, по нескольку раз переходили из рук в руки, платили контрибуции не только деньгами и имуществом, но и жизнью обывателей, разграбляемых то большевиками, то махновцами, иногда на протяжении нескольких дней. Все это ждет еще своего историка. В этой вакханалии произвола, насилия, разнузданного и утонченного издевательства над человеческой личностью многие впали в мистическое равнодушие ко всему окружающему, другие потеряли рассудок.
Если бы гг. Петлюра, Винниченко и другие господа украинские националисты действительно ценили свою родину и любили ее не через призму своего упрямого, узкого шовинизма, они не пошли бы на восстание против гетмана, ибо после опыта января 1918 года у них не могло быть никаких сомнений в исходе той борьбы, которую они начинали. Будь они не завистники власти, а настоящие патриоты, они всеми своими силами должны были бы поддержать гетманскую Украину, даже в том случае, если не все стороны гетманского режима одобрялись и принимались ими. Как в известном случае Соломонова суда, они бы скорее оставили любимого ребенка живым и целым в чужих руках, чем в своих окровавленных народной кровью в преступной, навязанной народу борьбе. Ибо трудно найти для них другое наименование – они явились несомненно губителями Украины, и как таковые войдут они в историю.
Изменники России, ненавистники всего русского, они надолго засорили дорогу для спокойного, разумного решения украинского вопроса. Многие из тех русских прогрессивных деятелей, которые с симпатией относились к стремлениям культурного украинства, к развитию украинского языка, литературы и национального творчества во всех областях жизни, теперь с ужасом отшатнулись от своих прежних симпатий, увидев бездну человеческого страдания, принесенного в качестве жертвы на алтарь национальной обособленности и розни.
И если Россия будущего, черты которой не вырисовываются еще даже в виде силуэтов, превратится когда-нибудь в федеративное государство типа Северо-Американских Соединенных Штатов, то после пережитых ужасов петлюровщины почва для соглашения страшно засорена и загрязнена. Страсти раскалены добела, и трудно хладнокровно подойти к решению и без того сложной государственно-национальной проблемы.
Трагедия Украины, как и всей России, еще не закончена. Мы видим для Украины единственный разумный выход в мирном соглашении с Россией.
Русские же люди, мы верим, вдумаются в переживаемую трагедию и в опыте ужасных событий современности почерпнут указания для разумной, справедливой политики будущего.
А. Гольденвейзер[37]
ИЗ КИЕВСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ [38]
В митинговой речи, произнесенной в 1919 году в Киеве, Троцкий (как мне передавали) очень картинно изобразил поведение украинской мирной делегации в Бресте. Он рассказал о том, как украинцы, согласно телеграфным инструкциям из Киева, стремились во что бы то ни стало заключить мир, притом возможно скорее. После каждого разговора по прямому проводу с Киевом делегация становилась все уступчивее и уступчивее. Но когда все уже было налажено и предстояло только получить санкцию Рады для подписания договора, телеграфная связь с Киевом оказалась прерванной: в тот самый день Киев заняли большевики, а Рада бежала в Житомир.
Для населения города Киева это первое большевистское завоевание прошло, однако, далеко не так легко и гладко, как могло казаться в Бресте. Мы пережили тогда заправскую артиллерийскую атаку, воспоминания о которой до сих пор живы у киевлян.
Бомбардировка города длилась целых 11 дней – от 15-го до 26 января. Большевистские батареи были расположены на левом берегу Днепра, в районе Дарницы. Оттуда перелетным огнем производился обстрел города. Посылали они к нам попеременно трехдюймовки и шестидюймовки…
Жертв среди жителей было сравнительно немного, но разрушения были ужасны. Думаю, что не менее половины домов в городе так или иначе пострадало от снарядов. Возникали пожары, и это производило особенно жуткое впечатление. Большой 6-этажный дом Баксанта на Бибиковском бульваре, в чердак которого попал снаряд, загорелся и пылал в течение целого дня. Водопровод не действовал, так что пожарная команда и не пыталась тушить. Пламя медленно опускалось с этажа на этаж, на глазах у всего города. От дома остался только голый каменный остов.
Легко представить себе состояние киевлян в эти дни. Пережив затем еще десяток переворотов, эвакуации, погромов и т. п., киевские жители до сих пор с особым ужасом вспоминают об этих одиннадцати днях бомбардировки. Почти все время население провело в подвалах, в холоде и темноте. Магазины и базары, само собой разумеется, были закрыты; поэтому приходилось питаться случайными остатками и запасами, которых тогда никто еще не считал нужным иметь.
К ужасам и страхам, вызываемым непосредственной опасностью от артиллерийского огня, прибавлялись страхи внутреннего порядка. Тогда мы в первый раз увидели, что в Гражданской войне, в момент перехода власти, обе борющиеся стороны одинаково враждебны и одинаково опасны для населения. Завтрашняя власть, естественно, отождествляет его с враждебной ей партией, под ферулой которой оно еще находится; вчерашняя же власть, потеряв надежду удержаться, теряет вместе с тем всякий интерес к населению – к его безопасности, к его пропитанию, к его политическим симпатиям. У нас часто случалось, что отступавшие войска творили больше бед, чем сменявшие их завоеватели. Впоследствии мы неоднократно имели случай убедиться в непреложности этого своеобразного социологического закона.
На этот раз уходили украинцы; и они покидали Киев не так, как оставляют родной город и столицу, а как эвакуируют завоеванную территорию. В центре города, на улицах и площадях, были расставлены батареи; это в некоторой степени и оправдывало с стратегической точки зрения артиллерийский обстрел извне. Город не эвакуировался до последней возможности, хотя никакой надежды удержать его у украинского командования не было. Это, разумеется, только напрасно затягивало обстрел.
Внутри города, как и естественно, царил хаос и сумятица. «Вильное казачество», защищавшее город, чинило всякие эксцессы; во дворе нашего дома расстреливали людей, казавшихся почему-либо подозрительными. В последние дни, уже под обстрелом, происходил министерский кризис: Винниченко ушел, его сменил умеренный с.-р. Голубович. Рада заседала (в подвале Педагогического музея) и рассматривала какие-то законопроекты.
Население города чувствовало себя оставленным на произвол судьбы – жалкой игрушкой в руках безответственных политических экспериментаторов.
Мы сидели по подвалам и нижним этажам, прислушивались к звукам пролетавших снарядов и при каждом ударе обсуждали вопрос: выстрел это или разрыв? За два дня до конца бомбардировки, посреди таких рассуждений, нас оглушил невообразимый грохот. Это уж несомненно был разрыв, притом в самой непосредственной близи. Оказалось, что артиллерийский залп угодил в наш дом. Насчитывали впоследствии около двадцати попавших в нас снарядов. Все стекла фасада вылетели. Снаружи и внутри дома оказалось много повреждений.
Улучив минуту затишья, я с трепетом поднялся на 7-й этаж в свою квартиру, представлявшую весьма благодарную мишень для прицела. Предо мной развернулось довольно непонятное зрелище. Все стекла были выбиты, большое трюмо в передней разлетелось вдребезги. В библиотеке картина была такова, будто в ней похозяйничали домовые или какие-нибудь озорники: толстые фолианты «Свода законов» валялись на полу, среди вещей был заметен беспорядок. Однако непосредственных следов от снаряда заметно не было. Это и придавало обстановке характер какого-то намеренно устроенного беспорядка… Но когда я зашел в свой кабинет, картина совершенно разъяснилась; там была выломана часть стены, обстановка, вещи и книги представляли кучу развалин; воздух был полон густой пылью, как это бывает возле построек, которые сносятся на лом. Очевидно, снаряды попали именно сюда, здесь же произошел и разрыв. Но сотрясение было так сильно, что движение воздуха наделало беспорядок и в соседних комнатах…
26 января, утром, в город вступили большевики. Они пробыли тогда в Киеве всего три недели, и тот первый лик большевизма, который мы увидели за это короткое время, не был лишен красочности и своеобразной демонической силы. Если теперь ретроспективно сравнить это первое впечатление со всеми последующими, то в нем ярче всего выступают черты удальства, подъема, смелости и какой-то жестокой непреклонности. Это был именно тот большевизм, художественное воплощение которого дал в своей поэме «Двенадцать» Александр Блок.
Последующие навыки и опыты подмешали к большевистской пугачевщине оферты фарисейства, рутины и всяческой фальши. Но тогда, в феврале 1918 года, она предстала пред нами еще во всей своей молодой непосредственности.
Разумеется, и 26 января, когда стихла канонада и в город вступили большевики, и в последующие дни нам было не до спокойных наблюдений и параллелей. Эти первые дни были полны ужаса и крови. Большевики производили систематическое избиение всех, кто имел какую-либо связь с украинской армией и особенно с офицерством. Произведенная незадолго пред тем регистрация офицеров имела в этом отношении роковые последствия: многие предъявляли большевикам свои регистрационные карточки, и это вело к неминуемой гибели. Солдаты и матросы, увешанные пулеметными лентами и ручными гранатами, ходили из дома в дом, производили обыски и уводили военных. Во дворце, где расположился штаб, происходил краткий суд и тут же, в царском саду, – расправа. Тысячи молодых офицеров погибли в эти дни. Погибло также много военных врачей – между ними известный в городе хирург Бочаров, который ехал на своей пролетке в госпиталь и показал остановившему его солдату свою регистрационную карточку. Та же участь постигла доктора Рахлиса, недавно только возвратившегося из австрийского плена и схваченного таким же образом, когда он стоял на улице в какой-то очереди.
Тогда же был самочинно, гнусно и бессмысленно расстрелян киевский митрополит Владимир. Говорили также о расстреле генерала Н.И. Иванова, [39] но это оказалось мифом.
Открытых грабежей и реквизиций тогда, насколько я помню, еще не было. Но были случаи вымогательств и шантажа под угрозою расстрела.
Во главе большевистских войск стоял тогда знаменитый полковник Муравьев, участвовавший впоследствии в восстании эсеров и пустивший себе пулю в лоб после его неудачи. При нем был известный кронштадтский матрос Рошаль. Это были вполне подходящие главари для банды, которую представляла собой завоевавшая нас армия, – жестокие и сокрушительные в отношении врагов, строгие и деспотические в отношении своих подчиненных. Тотчас после своего вступления в город Муравьев призвал к себе представителей банков и торгово-промышленного капитала и в самом разбойничьем тоне завел с ними речь об уплате наложенной на город контрибуции. Вскоре после этого он уехал – завоевывать Одессу.
В одном из своих приказов Муравьев писал, что большевистская армия «на остриях своих штыков принесла с собой идеи социализма». Рафес ответил на этот приказ очень смелой статьей под названием «Штыкократия». Это было тогда возможно, так как некоторые остатки прессы существовали при этих «первых большевиках» – сохранились «Последние новости», украинская и еврейская газеты. «Киевская мысль» была не только закрыта, но в ее редакции и на ее бумаге печаталась какая-то большевистская газета. Само собой разумеется, что та же участь постигла и «Киевлянина». В.В. Шульгин был даже арестован большевиками; после предстательства городского головы Рябцева он был освобожден.
Это был, вообще, один из героических моментов в истории нашей городской думы. Большевики с нею, до известной степени, считались. И дума – в частности городской голова Рябцев – делала все, что было в ее силах, для защиты населения и города.
Понятно, за три недели большевики не могли успеть создать свои новые учреждения и органы. В различные учреждения были ими назначены комиссары. Суд был закрыт и адвокатура упразднена. Говорили о предстоящем переезде в Киев харьковского Совнаркома, но он до нас так и не доехал. В опубликованном списке назначенных украинских народных комиссаров не было ни одного известного имени. Комическое впечатление производило назначение г-жи Бош комиссаром внутренних дел. Комиссаром юстиции был назначен какой-то Люксембург; никто ни раньше, ни после ничего о нем не слышал, и мы спрашивали друг друга, сделано ли это назначение в честь Розы Люксембург или в честь опереточного графа Люксембурга…
Во время пребывания большевиков в Киеве заканчивались мирные переговоры в Бресте, и в один прекрасный день мы получили текст подписанных большевиками условий мира. Впечатление было потрясающее. Слухи о том, как разговаривал с русской делегацией генерал Гофман и как он, наподобие Николая I, проводил на картах по линейке черты будущих границ, усиливали чувство унижения и стыда, которое все мы в этот момент испытывали. Театральные приемы, которыми хотела спасти свое достоинство русская делегация, – подписывание не читая и т. д., – производили впечатление жалкой и неуместной комедии.
Помню, как я поднимался по Караваевской улице, читая выпущенную только что телеграмму о мире. «Вот вам и мир без аннексий и контрибуций!» – крикнул мне кто-то с проезжавшего мимо извозчика. Я оглянулся и встретился взглядом с экспансивным д-ром Б.
Итак, сепаратный мир между Германией и Россией был подписан. «Посылкой Ленина в Россию, – пишет в своих мемуарах генерал Людендорф, – наше правительство взяло на себя особую ответственность. С военной точки зрения поездка оправдывалась: Россия должна была пасть».
И она действительно пала.
Текст подписанного мира сообщили нам не полностью, и мы не могли тотчас увидеть, как он отразится на судьбе нашего города. Рада, бежав, из Киева, заседала в Житомире; о ее переговорах с немцами ничего еще не знали. Но уже в ближайшие дни после получения первой телеграммы о мире по городу стали ходить слухи о германском наступлении на Украину. Вскоре стало заметно смущение и у самих большевиков. А еще через пару дней одна из местных газет осмелилась перепечатать приказ одного немецкого генерала, в котором говорилось, что германская армия, по просьбе представителей дружественного украинского народа, идет освобождать Украину из-под власти большевиков.
Наступление немцев шло с фантастической быстротой. Никакого сопротивления им не оказывали. Через каких-нибудь семь дней после подписания мира они были уже в Киеве. При этом вступление немецких войск в город еще было задержано на день или два, пока прошли на восток эшелоны чехословацких полков.
Большевистские власти вели себя в последние дни совсем по-мальчишески. Официозные органы их ссылались на неизбежную помощь со стороны ожидаемой со дня на день всемирной революции. Совнарком воспользовался случаем, чтобы наложить на все население города какую-то новую контрибуцию. Кажется, по этому приказу каждый квартиронаниматель должен был внести в казначейство за счет домовладельца трехмесячную квартирную плату. Домовые комитеты составляли списки и собирали деньги, стараясь придержать их как можно дольше у себя. И действительно, от большинства комитетов большевики не успели получить своей мзды.
Еще в последний вечер пресловутая комиссарша Евгения Бош на митинге в Купеческом собрании с пафосом восклицала, что Киев не будет сдан. А через два часа она, вместе с другими сановниками, промчалась по Александровской улице вверх на особо быстроходных автомобилях, которые доставляли своих седоков на левый берег Днепра…
Последние ночи, как обычно пред сменой власти, были довольно тревожные. Во всех домах дежурила охрана, организованная домовыми комитетами из жильцов. Имел место целый ряд налетов.
Пожаловали незваные гости в эту ночь и к нам. К дому подъехал чуть ли не целый эскадрон в расшитых мундирах одного из гвардейских полков. И вместо того чтобы протанцевать балет из «Пиковой дамы», эти кавалеристы занялись повальным обыском во всех квартирах. Для острастки было выпущено на лестнице несколько зарядов, жертвой которых пал один из наших жильцов. А затем приступили к обходу квартир.
Остальные жильцы, как говорится в газетной хронике, отделались испугом. Была своевременно вызвана охрана, состоявшая из солдат какого-то другого полка. Обе части вели некоторое время переговоры и, кажется, чуть-чуть не поменялись ролями. Но в конце концов, вероятно в предвидении наезда еще какой-нибудь третьей части, объяснили дело поисками оружия и оставили нас.
На следующее утро после бегства Евгении Бош и остальных комиссаров в город вступили довольно мизерные украинские части под командой Петлюры. Немцы из галантности предоставили им честь войти первыми. А в середине дня в городе стало известно, что на вокзале немцы.
С тех пор советская власть в значительной мере интернационализировала население России – по крайней мере, в том смысле, что большинство готово приветствовать иностранцев всех наций, лишь бы они избавили его от большевизма. Но в 1918 году настроение было, разумеется, еще иное. За три недели пребывания у нас большевики не успели настолько досадить киевлянам, чтобы заглушить в них все другие чувства.
Имена Гинденбурга и Макензена вызывали трепет, но не внушали симпатии. И приход немцев, в качестве победителей и покровителей, ощущался как что-то обидное и оскорбительное. Наиболее ярко выразил эти чувства В.В. Шульгин, который в день прихода немцев выпустил прощальный номер «Киевлянина», с полной достоинства передовой статьей, и временно прекратил издание своей газеты. «Киевлянин» возобновился только в сентябре 1919 года, после вступления в Киев Добровольческой армии. Те же чувства, в менее острой форме, разделялись тогда всеми. Но любопытство брало верх, и киевляне массами устремлялись на вокзал, чтобы поглядеть на заморских гостей. Должен сознаться, что побывал в тот день на вокзале и я. 3 1/2 года мы не видели ни одного немца, не слышали немецкого слова, не прочли немецкой газеты. Было уже очень любопытно поглядеть на них, да еще в такой неожиданной обстановке.
Немецкие войска, которые мы увидели на Киевском вокзале, были очень мало похожи на тех молодцеватых манекенов, которые в мирное время занимались шагистикой на улицах Берлина. Вид они имели обветренный, уставший и истощенный. Одетые в однотонно-серый цвет, с серыми мешками на плечах, возле серых повозок и кухонь, немецкие полки производили впечатление какого-то каравана странников.
Впрочем, на следующий день на Софийской площади немецкое командование устроило довольно импозантный парад, который, по словам присутствовавших, уже более напоминал наши прежние впечатления о германской армии.
Раздел 2
ВЕСНА – ЛЕТО 1918 ГОДА
А. Лукомский[40]
НА УКРАИНЕ В 1918 ГОДУ [41]
…Утром 2/15 марта я приехал в Царицын и отправился искать себе помещение.
Нашел за десять рублей в сутки крошечную комнату в очень грязной гостинице. Все приличные гостиницы оказались реквизированными для надобностей большевистских штабов и учреждений.
Я чувствовал, что на мне масса насекомых, а потому сейчас же отправился в магазин, купил смену белья и пошел в баню.
Прожив в Царицыне неделю, я увидел, что положение мое скоро станет драматичным: деньги таяли, а надежды скоро соединиться с армией не было.
Я решил отыскать какую-нибудь работу.
Пошел в контору местного купца Серебрякова и спросил хозяина.
Мне указали на плотного старика, стоявшего в конторе, в пальто и с шапкой на голове.
Я подошел и сказал, что хорошо грамотен, знаю бухгалтерию и прошу дать мне работу. Он молча на меня посмотрел, а затем раздраженным тоном сказал:
«Грамотных теперь не требуется. Да я, впрочем, теперь уже и не хозяин; хозяева – вот эта с…..! – и указал на нескольких юношей, сидевших за столом. – Попробуйте обратиться к ним».
Я повернулся и вышел из конторы.
На другой день, обедая в ресторане, я увидел за соседним столиком адъютанта генерала Корнилова – Толстова [42] и мужа дочери генерала Корнилова – моряка Маркова (как потом я узнал, они приехали из Владикавказа, куда сопровождали из Ростова семью генерала Корнилова. - А. Л.).
По выходе из ресторана меня нагнал Толстов и спросил, когда и где он может меня увидеть.
Я назначил ему свидание у себя в номере через час.
Толстов, придя ко мне и увидев обстановку моего номера, сказал, что он постарается меня устроить лучше, и обещал зайти на другой день.
На другой день, под вечер, он пришел и сказал, что меня просит сейчас же прийти его хороший знакомый X.
Я пошел.
X. принял меня как родного. После всех мытарств я с наслаждением провел время в хорошей обстановке и был накормлен отличным обедом.
На следующий же день X. меня устроил на квартире у своего тестя.
Какое наслаждение было получить хорошую комнату, кровать с чистым бельем и иметь возможность пользоваться ванной! У милых и гостеприимных стариков я и обедал.
Прожил я у них до половины марта. Сообщение с Тихорецкой не восстанавливалось, и я начал терять надежду на возможность соединиться с Добровольческой армией.
Однажды пришел ко мне Толстов и сообщил, что у местного комиссара Минина (он же был городским головой) начальником штаба состоит полковник Генерального штаба К., которого я за скандал, произведенный им в пьяном виде под Новый год в Новочеркасском офицерском собрании, отчислил от штаба Добровольческой армии.
На следующий день я получил сведение, что за мной начинают следить и что мне необходимо немедленно уезжать.
Запасшись от X. рекомендательным письмом к одному из его знакомых в Харькове и взяв у него в долг триста рублей, я в тот же день отправился в Харьков.
Выбрал Харьков потому, что, собственно, больше некуда было ехать и, кроме того, надеялся разыскать там моих детей.
За время моего пребывания в Царицыне я выяснил, что большевиками прекращена была всякая коммерческая жизнь в городе. Местные купцы, домовладельцы и просто «буржуи» были сильно ограблены, и очень немногим из них, путем взяток, удалось сохранить возможность вести сносную жизнь.
Постоянного террора еще не было.
Периодически расправлялись с отдельными лицами, которых считали опасными.
Серьезному же преследованию и расстрелу подвергались лишь те, коих заподазривали в причастности к Добровольческой армии.
* * *
До Харькова я добрался благополучно.
Там я сначала поместился в гостинице, но затем, благодаря рекомендации X., я отлично устроился в богатом доме одной старушки, германской подданной.
Нельзя обойти молчанием, что при бывших в Харькове грабежах и уплотнениях квартир распоряжением большевиков, хотя этот дом был полной чашей, в него ни разу не заглянул ни один большевик.
Как мне передавали, в период первого владычества большевиков в Харькове замечалось их крайне внимательное отношение вообще ко всем германским подданным. Хотя не трогали и швейцарских граждан, но отношение к ним все же не было таким предупредительным, как к германским подданным.
Своих детей (дочь 15 лет и сына 14 лет) я отыскал в Харькове. Устроились они в одном очень милом швейцарском семействе.
Про свою же жену, выехавшую на лошадях из Новочеркасска 10/23 февраля вместе с генералом Ванновским, [43] никаких сведений я не имел.
Она предполагала на лошадях доехать до одной из станций железной дороги Царицын – Тихорецкая и оттуда, через Царицын, пробраться в Москву, чтобы постараться ликвидировать имущество нашей квартиры и спасти свои драгоценности, бывшие в банке.
Испытав на себе все прелести путешествия на лошадях из района, занятого Добровольческой армией, я решил, что моя жена погибла.
Но через 2-3 дня после моего приезда в Харьков одной нашей знакомой, княгиней Голицыной, было получено из Москвы письмо от моей жены. Я успокоился и решил, что в ближайшем будущем она сумеет как-нибудь пробраться из Москвы в Харьков на соединение с детьми.
С января 1918 года я чувствовал себя отрезанным от мира и, в сущности говоря, ничего не знал о том, что происходит вне района, в котором я находился. Будучи в районе Добровольческой армии, окруженной большевиками со всех сторон, а затем оторвавшись от армии и попав в Царицын, я питался лишь слухами, и ничего верного до меня не доходило.
Приехав в Харьков, я, через бывшего члена Государственного совета Н.Ф. Дитмара, связался с группой углепромышленников, которая субсидировала тайную офицерскую организацию.
На квартире одного из членов этой группы я познакомился с полковником, стоявшим во главе Харьковской военной организации, и с командиром офицерского батальона.
В распоряжении Харьковской военной организации имелось три тысячи винтовок с достаточным количеством патронов и около двадцати пулеметов. Была надежда, в случае восстания, получить четырехорудийную батарею; личный состав для батареи был подготовлен.
В батальоне, который, по словам полковника, стоявшего во главе организации, можно было бы собрать в любой момент, числилось около тысячи человек. Кроме того, в списке офицеров, живших в Харькове, числилось около двух тысяч человек. Эти последние не были помещены в существующую организацию. Каждый из офицеров батальона должен был, в случае необходимости, привести 2-3 офицеров, значившихся в списке и лично ему известных.
Такие же организации, но в меньших размерах, существовали в других городах Харьковской и Полтавской губерний.
Познакомившись с организацией дела в Харькове, я преподал некоторые организационные советы руководителям ее и затем указал, что никакие преждевременные выступления недопустимы. Необходимо выждать, пока окажется возможным иметь связь с генералами Корниловым и Алексеевым, [44] и свои действия строго согласовать с указаниями, которые будут получены. При этом сказал, как свое личное мнение, что считаю наиболее правильным, чтобы все офицеры, которые это могут сделать, направлялись на усиление Добровольческой армии. На местах же могут оставаться лишь те, кои, вследствие семейных или других причин, в армию ехать не в состоянии. Эта группа офицеров может взяться за оружие лишь при подходе Добровольческой армии, дабы преждевременным выступлением не губить дела и не подвергать напрасно террору тех, которые сидят на месте.
* * *
В двадцатых числах марта меня в Харькове разыскал моряк, лейтенант Масленников, [45] который служил для связи между генералами Корниловым и Алексеевым и Московским Национальным центром, [46] в состав которого вошли представители всех антибольшевистских кругов от правых до социалистов включительно.
Этот центр, конечно, вел работу конспиративно; хотя, по-видимому, про его существование большевикам было известно, но они, по указке ли немцев, или по своим соображениям, пока его не трогали и на его деятельность смотрели сквозь пальцы.
Масленников рассказал мне, что в Москве назревает восстание, что различные организации объединились и что руководители убеждены в полном успехе. Но что в Москве нет никого из авторитетных военных, кто мог бы руководить военной стороной дела; что членов Московского Национального центра особенно беспокоит вопрос о том, Кому можно поручить направление деятельности военных организаций; особенно важно, чтобы после намеченного переворота было лицо, которое твердо и правильно поставило бы дело и прибрало к рукам все разнообразные военные организации. Что он командирован в Харьков специально ко мне, чтобы, от имени Национального центра, предложить мне немедленно прибыть в Москву и принять руководство военной стороной дела.
Я его спросил, насколько справедливы слухи о том, что Московский Национальный центр раскололся; что часть членов приняла немецкую ориентацию, считая, что спасение от большевиков возможно лишь при соглашении с немцами; что другая часть членов остается верной союзу с Францией и Англией и не допускает мысли идти по пути соглашения с Германией.
Масленников, как мне показалось, несколько смазывал свои ответы.
Он подтвердил, что действительно вопрос ориентации возник, но раскола не произошло; что группа, считающая возможным договориться с немцами, предварительно считает необходимым определенно и ясно поставить вопрос о помощи от англичан и французов, что только при отказе их оказать действительную поддержку они считают возможным начать переговоры с немцами, которые действительно предлагают с ними договориться.
На мой вопрос, кем же он ко мне прислан, он ответил, что A.B. Кривошеиным [47] и Вл.И. Гурко. [48]
– Есть ли у вас какое-либо письмо ко мне или что-либо иное в письменной форме, что подтвердило бы мне, что вы действительно присланы ко мне указанными лицами?
– Нет, у меня ничего нет; мне поручено это передать вам на словах. Вы меня знаете, и мы считали, что у вас не будет никаких сомнений.
– Можете ли вы мне подробно рассказать про существующие в Москве военные организации? Что они из себя представляют по составу, численности, спайке и по обеспеченности военными припасами на период выступления?
– Нет, я этого не знаю.
После этого я сказал Масленникову, что согласием на подобное предложение ответить трудно. Что все это представляется мне довольно легкомысленным. Что ехать в Москву с тем, чтобы сейчас же быть повешенным на фонарном столбе, мне не хочется. Что если мне это суждено, то оно в свое время и случится, но ускорять ход событий я не намерен.
– Передайте A.B. Кривошеину и Вл.И. Гурко, что если они действительно хотят моего приезда, то пусть мне об этом напишут и пришлют вас и какого-нибудь генерала, стоящего во главе одной из наиболее крупных организаций, чтобы он мог дать мне исчерпывающие ответы на все мои вопросы. А на предложение, делаемое в той форме, как делаете вы, я отвечаю определенным отказом.
* * *
Злободневными в Харькове разговорами были слухи и поступавшие сведения о приближении немцев. Киев был ими занят 15 февраля/1 марта.
В начале апреля я с большим интересом прочитал в одной из харьковских газет статью Василия Витальевича Шульгина, перепечатанную из последнего номера закрывшегося «Киевлянина» от 10/23 марта (№ 16):
«Выпуская последний номер «Киевлянина», мы позволяем себе напомнить всем, кому о сем ведать надлежит, что мировая война не кончилась; что жесточайшая борьба будет продолжаться на западном фронте; что уничтожение России есть только один из эпизодов этой войны; что на место России вступила Америка, что русский вопрос не может быть решен окончательно ни в Бресте, ни в Киеве, ни в Петрограде, ни даже в Москве, ибо карта Европы будет вычерчена на кровавых полях Франции, где произойдет последняя решительная борьба. Мы позволяем себе сказать еще, что нынешнее состояние России не есть гибель русского народа, но это есть несомненная гибель «русской революции».
Социалисты воображали, что так называемая контрреволюция прейдет от рахитичных русских капиталистов или от мечтательных русских помещиков, подаривших миру Льва Толстого – гениального Манилова. Во имя этой несуществующей контрреволюции они расстреливали и уничтожали тот небольшой культурный класс, который в России единственно был носителем национальной гордости и готов был подвергнуться всем экспериментам «социализма», лишь бы сохранить независимою свою родину.
Задача блестяще удалась. Людей, любивших свое отечество, смяли и растоптали из страха перед «ней». Но когда это было сделано, «буржуи» уничтожены, тогда-то и пришла «она»…
Пришла сильная, спокойная, уверенная… И все эти жалкие людишки покорно стали на колени и приветствовали ее появление.
Контрреволюция пришла в образе немецких офицеров и солдат, занявших Россию. Тех немецких солдат, у которых «нервы оказались крепче».
Ибо что такое контрреволюция в глазах безмозглых митрофанушек социализма?
Контрреволюция – это порядок, это крепкая власть, это конец безделью, болтовне, конец надругательствам и насилиям над беззащитными и слабыми. Так вот, поздравляем вас, господа революционеры!
Немцы принесли этот порядок на своих штыках… и прежде всего – приводя в действие железные дороги, приказывая вымыть и вымести дочиста наш несчастный Киевский вокзал, эту эмблему современной культуры, которую вы столько времени пакостили во славу демократических принципов.
Чистота и опрятность. Есть ли начало, более враждебное грязью венчанной русской революции?
Ах, господа, вы не хотели отдавать чести русским офицерам…. А теперь с какой готовностью вы отдаете эту «честь» немецким! Почему? Да потому, что они избавили вас от самих себя, что они спасают вашу собственную безумную жизнь, потому, что в звериной ненависти, вами овладевшей, вы перегрызли бы горло друг другу! И вы глубоко благодарны пинку немецкого приклада, который привел вас в чувство.
Но мы, мы немцев не звали. Когда вы расстреливали нас и жгли, мы говорили – «убивайте и жгите, но спасите Россию». И так как мы немцев не звали, то мы не хотим пользоваться благами относительного спокойствия и некоторой политической свободы, которые немцы нам принесли. Мы на это не имеем права. А то, что нам не принадлежит по праву, мы не возьмем даже в том случае, если бы нам его отдали «без выкупа». Мы ведь не социалисты – благодарение Господу Богу!
Мы были всегда честными противниками. И своим принципам мы не изменим. Пришедшим в наш город немцам мы это говорим открыто и прямо.
Мы ваши враги. Мы можем быть вашими военнопленными, но вашими друзьями мы не будем до тех пор, пока идет война.
У нас только одно слово. Мы дали его французам и англичанам, и, пока они проливают свою кровь в борьбе с вами за себя и за нас, мы можем быть только вашими врагами, а не издавать газету под вашим крылышком.
Да, если бы «Киевлянин» стал вновь выходить, то это значило бы, что немцы обеспечили ему безопасность. Даже эти строчки, которые сейчас пишутся, могут быть выпущены благодаря попустительству немецкой власти.
Если бы «Киевлянину» была дана возможность выходить, то это значило бы, что здесь расчет или великодушие.
Расчетам помогать мы не хотим, великодушия принять не можем.
Мы хорошо понимаем значение только что сказанных слов, но и враги наши поймут, что иного выхода для честных людей нет.
Какие последствия будут для нас лично – мы не знаем, но ту часть русского общества, от имени которой мы дозволяем себе говорить, немцы принуждены будут уважать, как они вынуждены презирать тех, кто сейчас пресмыкается перед ними.
И мы хорошо знаем, что, когда наступит время действительного примирения, когда кончится эта ужасная мировая борьба, кончится миром, не постыдным для всех, кто честно боролся за свою родину, тогда честные противники скорей столкуются друг с другом, чем бесчестные друзья».
Статья эта была более чем своевременна.
Немцы планомерно занимали хлебный район юго-западного края и протягивали щупальца ко всем крупным центрам Малороссии, с целью постепенно занять весь юг России и создать себе прочную продовольственную базу для продолжения борьбы на западе.
Большевики отступали перед немцами почти без всякого сопротивления. Но при этом отступлении происходило что-то странное.
Большая часть большевистских сил отступала не на север или северо-восток для прикрытия Великороссии, а на восток – для создания фронта для борьбы с казаками и добровольцами.
Чувствовалось, что для советского правительства немцы как будто не страшны и что между ними существует какое-то соглашение.
Все данные, поступавшие из разных источников, указывали на то, что немцы готовы были прекратить в России большевизм, ими же насажденный. Но, по-видимому, германские правящие круги сами не знали, как будет более правильно разрешить эту задачу.
Несомненно, что были предположения принять меры к прекращению большевизма и воссозданию сильной России. Но для Германии было важно, чтобы эта Россия была для нее союзной или, в худшем случае, нейтральной.
Между тем существование на юге России Добровольческой армии, верной Англии и Франции, которая, при возрождении России, явилась бы естественно ядром русской армии, и существование в России политических групп, которые определенно высказывались за необходимость для России выполнить свой долг в совместной борьбе с союзниками против Германии до конца, заставляло германское правительство поддерживать связь с советским правительством и склоняться в сторону расчленения России и создания самостоятельной и послушной ей Украины.
События между тем на Украине развивались. В Вербную субботу немцы вошли в Харьков и выдвинули авангарды к Белграду и Чугуеву.
Большинство харьковского населения ликовало и благословляло немцев за освобождение от большевиков.
Но через несколько дней многие, с которыми мне пришлось говорить, уже не чувствовали себя так радостно настроенными.
Один из обывателей правильно характеризировал чувство, которое испытывало большинство: «Шкура радуется, что мы освобождены от большевиков, а душа болит, что это сделано немецкими руками».
Интеллигенция и помещики, в своей массе напуганные зверствами и расстрелами большевиков, выбитые из привычной колеи жизни и измученные постоянным ожиданием новых ужасов, новых преследований, готовы были броситься хоть черту на рога, лишь бы избавиться от большевиков.
Для немцев момент был подходящий, чтобы привлечь на свою сторону массу, жаждущую порядка и прекращения наступившей смуты.
Перед Пасхой я встретил в Харькове двух видных общественных деятелей, бывших членов Государственной думы Н.И. Антонова и князя А.Д. Голицына. Оба они лихорадочно занимались подготовкой созыва съезда «хлеборобов» для выбора гетмана.
Немцы, заняв юго-западный край России, естественно, стремились создать в этом районе твердую власть и иметь прочный административный аппарат, который обеспечил бы порядок в стране и дал бы им возможность пользоваться этим аппаратом, чтобы богатый край действительно стал их продовольственной базой и они могли бы получать все предметы продовольствия быстро и без всяких затруднений.
Для немцев было необходимо, чтобы эта власть была им дружественна и чувствовала, что она им обязана своим благополучием.
Правительство, которое немцы застали на Украине, их не могло удовлетворить: социалистическое правительство, с некоторым уклоном в сторону большевизма, а главное, стремившееся провести немедленно земельную реформу с уничтожением крупного частновладения, совершенно не гарантировало скорого водворения порядка, не гарантировало возможности спокойно и планомерно начать вывоз в Германию всего необходимого.
Немцы были хозяевами только по линиям железных дорог и в городах, занятых их гарнизонами. Отсюда они вывозили все, что возможно, и, кроме того, организовали правильную ежемесячную отправку каждым своим солдатом к себе на родину посылок, по полпуда каждая. Солдаты должны были отправлять в посылках съестные припасы, главным образом муку, крупу, сахар, сало и колбасы.
Но этого для немцев было недостаточно; им, повторяю, надо было установить такой русский правительственный административный аппарат, который дал бы им возможность хозяйничать во всей стране, а не только по железнодорожным артериям.
На Украине, кроме крупного помещичьего класса, был недоволен создавшимся положением многочисленный класс довольно крупных крестьянских собственников – хлеборобов, которым проектируемые реформы украинского правительства грозили полным разорением.
Представители германских властей в оккупированном районе вошли в соглашение с видными представителями помещичьего класса и общественных организаций, несочувственно относившимися к намечавшимся реформам, и было решено созвать в Киеве съезд хлеборобов, который должен был выбрать гетмана, и затем старое правительство должно было быть ликвидировано.
Все было обставлено так, что немцы якобы оставались в стороне, не вмешиваясь в то, что происходит.
Время (апрель месяц) для съезда хлеборобов, из-за полевых работ, было неподходящее. Чтобы съезд состоялся, надо было материально хорошо обставить крестьян – участников съезда и не только возместить им расходы, но и дать им некоторую денежную прибыль.
По упорно циркулировавшим слухам, немцы на устройство съезда хлеборобов отпустили пятнадцать миллионов рублей.
Съезд состоялся; съехалось свыше девяти тысяч хлеборобов, и с феерической быстротой, 15/28 апреля, было произведено заранее подготовленное избрание в гетманы Украины генерала Скоропадского.
Во время съезда хлеборобов в Киеве часть этого съезда отказалась от выбора гетмана, и образовалось другое собрание – «спилка».
Но выбор украинским гетманом Скоропадского был признан немцами, и они, объявив об этом, заявили, что гетмана будут поддерживать, а всякие выступления против него они, с целью поддержания порядка в оккупированном ими крае, будут подавлять силою оружия.
Спилка была разогнана, а наиболее непокорная из ее состава часть арестована немцами.
Гетман Скоропадский сформировал правительство и, опираясь на силу германских штыков, вступил в управление краем.
Как показали дальнейшие события, власть, полученная из немецких рук и опиравшаяся на немецкие войска, стала непопулярной для массы населения.
Если бы правительство гетмана Скоропадского было более дальновидно, то, правильно сорганизовав и вооружив крепких земельных собственников – крестьян (хлеборобов), оно, может быть, сумело бы создать такую обстановку, при которой, после ухода немцев, власть сохранилась бы в его руках и большевизм не охватил бы Малороссии.
Но гетманское правительство ничего реального не сделало для поддержания этого единственно надежного класса населения, а стремилось сначала создать крупную регулярную армию, а порядок поддерживать полицейскими мерами.
Полицейских же мер оказалось недостаточно, а создать более или менее прочную регулярную армию не позволили немцы.
Были созданы только штабы, назначены начальствующие лица, а солдат оказалось мало…
В двадцатых числах апреля я со своими детьми приехал в Киев.
Решив оставить детей в Киеве у сестры моей жены, я сам хотел пробраться опять в Добровольческую армию.
К этому времени немцы продвинулись на восток до реки Дона и заняли Крым.
При занятии Крыма немцами произошел интересный эпизод: первоначально германские части наступали на Крым совместно с украинской бригадой, бывшей под командой генерала Натиева; [49] но у станции Джанкой головной эшелон этой бригады был остановлен немцами, а затем они потребовали удаления украинцев из пределов Крыма и заняли его самостоятельно.
Впоследствии украинское правительство неоднократно возбуждало вопрос о присоединении Крыма к Украине, но немцы определенно отвечали, что Крым должен оставаться самостоятельным.
* * *
Приехав в Киев, я через одного моего знакомого попросил узнать, когда гетман Скоропадский может меня принять. В тот же день мне было сообщено, что гетман просит меня к себе на другой день.
К назначенному часу я пошел в так называвшийся гетманский дворец (старый генерал-губернаторский дом).
Гетман сейчас же меня принял и, сказав, что ему хотелось бы со мной подробно поговорить, попросил подождать в кабинете его начальника канцелярии полтора часа, после чего «мы с вами позавтракаем и на свободе, после завтрака, поговорим, ждать же вам не будет скучно, так как здесь есть несколько генералов, ваших старых знакомых, которые хотели с вами повидаться».
Я согласился.
В час дня меня позвали в столовую. За стол село человек двенадцать, в их числе был новый председатель Совета министров Лизогуб и генеральный секретарь Игорь Кистяковский.
Когда уже все сидели за столом, в комнату вошел германский офицер и, извинившись за запоздание, сел на свободное, оставленное для него место.
По манере себя держать и по нескольким сказанным фразам мне стало ясно, что этот германский офицер постоянный гость на гетманских завтраках.
Я спросил у моего соседа за столом: «Кто этот немец?»
«А это известный здесь и очень влиятельный граф Альвенс-лебен».
Германский офицер за завтраком очень мало говорил, но очень внимательно слушал. Разговор шел на русском и частью на французском языке.
После завтрака гетман пригласил меня к себе в кабинет и очень горячо стал мне объяснять, что он согласился быть выбранным в гетманы только потому, что, по его мнению, это был лучший выход из создавшегося положения; что он не «щирый украинец», что вся его работа будет идти на создание порядка на Украине, на создание хорошей армии и что, когда Велико-россия изживет свой большевизм, он первый подымет голос за объединение с Россией; что он отлично понимает, что Украина не может быть «самостийной», но обстановка такова, что ему пока необходимо разыгрывать из себя «щирого украинца»; что для него самое больное и самое трудное – это работать с немцами, но опять-таки и здесь это единственно правильное решение, так как, только опираясь на силу, он может создать порядок на Украине; а единственная существующая и реальная сила – это немцы; что Добровольческая армия силы из себя серьезной не представляет, и немцы никогда не допустят ее усиления: тогда она станет для них опасной. А потому, как бы он ни сочувствовал генералу Деникину, опираться на него не может, а принужден опираться на немцев.
Вот когда удастся создать прочную регулярную армию на Украине, тогда он иначе будет разговаривать и с немцами.
На это я ответил, что немцы все это понимают не хуже, чем он, и создать сильную армию на Украине они ему не позволят.
– Нет, я этого добьюсь; я получил уже принципиальное обещание, что мне будет разрешено сформировать девять корпусов.
– Обещаний немцы подают много, но настоящей армии сформировать вам не позволят.
После этого гетман сказал, что хотя он получил принципиальное согласие немцев на сформирование девяти корпусов, но в действительности ему пока разрешено сформировать три корпуса; но что он надеется вскоре получить окончательное разрешение на сформирование всех девяти корпусов.
Затем он добавил, что все же учитывает возможность задержки в получении этого разрешения и что у него разработан проект сформирования в провинции особых частей для поддержания порядка в уездах; что эти части будут иметь в своем составе значительное число офицеров и, когда потребуется, могут послужить кадром для развертывания в более крупные войсковые части; что для немцев необходим на Украине полный порядок и что они поэтому дадут разрешение как на сформирование новых корпусов, так и на организацию проектируемых им отрядов для поддержания порядка в уездах.
Я пожелал ему успеха, но еще раз высказал сомнение относительно того, чтобы немцы, разложившие русскую армию и выведшие ее из мировой борьбы, позволили ему создать новую армию, которая может обратиться против них же.
Затем гетман Скоропадский, совершенно для меня неожиданно, предложил мне быть военным министром в его правительстве.
– Я убежден, что мы с вами скоро сформируем хорошую армию, – добавил он.
Я категорически отказался, сказав, что возвращаюсь в Добровольческую армию и, кроме того, никогда и ни при каких условиях не соглашусь работать с немцами, которые не в честном бою, а подлыми предательскими приемами погубили нашу армию и продали Россию в руки большевиков, главные из которых евреи, преследующие не русские, а интернациональные цели.
Гетман Скоропадский высказал свое сожаление, что я не хочу с ним работать, и сказал, что он все же надеется, что я не откажу ему в совете, когда он ко мне обратится.
Больше мы с ним не виделись, и ни за какими советами он ко мне не обращался.
* * *
То, что я видел и слышал в этот период в Киеве, убедило меня в том, что политика Германии как в отношении России в целом, так и по отношению к Украине была явно колеблющаяся, неопределенная.
Конечно, в руках у нас нет документальных данных относительно указаний германского правительства своим представителям в России, но о многом можно судить по фактам, по распоряжениям местных германских властей (представителей), по разговорам фельдмаршала Эйхгорна, по словам игравшего заметную роль графа Альвенслебена, а также по разговорам германских офицеров с теми русскими, с которыми они сошлись и подружились. Наконец, политика правительства гетмана Скоропадского и Донского представительства в Киеве отражала в себе колеблющуюся и неопределенную политику Германии.
Прежде всего получалось впечатление, что между военными и гражданскими представителями Германии в России существует различие во взглядах на будущее России.
Маршал Эйхгорн неоднократно высказывал, что для Германии необходимо воссоздать сильную, единую и дружественную Германии Россию; но и здесь отражались колебания центрального правительства: то говорилось о необходимости воссоздать единую Россию, то о создании сильной Украины, независимой от Великороссии.
Что касается политического представителя Германии на Украине барона Мума, то в его словах явно чувствовалось нежелание принять решительные меры для воссоздания не только сильной единой России, но и сильной Украины.
Получалось отчетливое впечатление, что немцы хотят водворить порядок в России, пользуясь последней как своей базой для получения продовольствия и сырья, но, с другой стороны, не верят в то, что Россия превратится в их союзницу и, напротив, опасаются, что водворение порядка в России, в частности на Украине, и воссоздание ими только что разрушенной армии может грозить им опасностью и вновь может создать для них восточный фронт.
Но вместе с этим, не имея восточного фронта, немцы все же принуждены были ввести в пределы России около 600 тысяч человек войска и, по мере продвижения на восток, отлично сознавали, что их положение становится все менее и менее прочным, что требуется новое увеличение войска и что этому нет предела. Растущее против них возбуждение среди населения указывало, что хотя, занимая железные дороги и главные населенные центры, и можно поддерживать в стране сравнительный порядок, но близко то время, когда из глубины страны они ничего не будут в силах получать, близки восстания в отдельных районах и скоро предстоит новое увеличение их войск в оккупированной ими стране.
Получался заколдованный круг: с одной стороны, было опасно дать возможность сорганизоваться новой русской армии из-за опасения вновь создать для себя восточный фронт, а с другой стороны, чтобы пользоваться Россией как продовольственной базой, необходимо было в ее пределах держать сильную армию, ослабляя западный фронт в то время, когда их противники там усиливались и назревали решительные бои, которые должны были решить участь всей борьбы и будущую судьбу Германии.
Что касается отношения немцев к Добровольческой армии, то и оно было крайне неопределенное.
Когда я приехал в Киев, то застал там совершенно открыто функционировавшее бюро записи в Добровольческую армию. Никто не разрешал открывать это бюро, но никто против этого и не возражал.
Запись шла открыто, и офицеры без всяких препятствий и затруднений отправлялись на Дон в состав Добровольческой армии.
В июне отношение к армии резко изменилось: бюро для записей в ее состав распоряжением правительства гетмана (а штаб гетмана указывал, что это сделано по распоряжению немцев) было закрыто, и было объявлено, что впредь всякая пропаганда в пользу отправки офицеров и солдат в состав Добровольческой армии будет строго преследоваться, что виновные будут арестовываться и предаваться суду и что прекращается выдача разрешений на выезд на Дон без ручательства бывшего в Киеве представителя донского атамана, что отправляющиеся на Дон не едут на пополнение Добровольческой армии.
Вместе с этим из немецких кругов через представителей украинского военного министерства широко началось пропагандирование идеи создания особой южной Добровольческой армии для борьбы против большевиков и с открытыми монархическими лозунгами.
На создание этой армии немцы обещали отпустить крупные суммы и широко снабдить ее всем необходимым из запасов бывших Киевского и Одесского военных округов.
В Киеве и в Харькове были открыты бюро для записи в Южную армию; содержание офицерам и солдатам было назначено крупное, в несколько раз превышавшее получавшееся в армии генерала Деникина.
Все, конечно, делалось не непосредственно немцами, а через украинское военное министерство.
Первоначально предполагалось создать две группы этой армии: одну на Дону на Воронежском направлении, а другую в районе Харькова. Но впоследствии остановились на формировании одной Южной армии – в районе Дона (я ничего здесь не говорю про формирования на Дону так называемых Астраханского и Саратовского корпусов. По слухам, эти формирования также производились с благословения немцев и на их средства. - А. А.).
Монархические лозунги и хорошее содержание первоначально привлекли многих, и запись началась очень успешно. Записавшихся отправляли эшелонами на Дон.
Но вскоре пыл создателей этой армии остыл: дело в том, что многие офицеры, не веря немцам и сознавая, что формирование армии, идущее с благословения немцев и на их деньги, может оказаться невыгодным русскому делу, и в то же время встречая серьезные затруднения к отправке в Добровольческую армию к генералу Деникину, скоро нашли способ обходить затруднения. Они записывались в Южную армию, а по прибытии на Дон уходили из состава своих эшелонов и пробирались в армию генерала Деникина.
В Харькове и особенно в Киеве начались серьезные репрессии по отношению к офицерам, которые проповедовали необходимость идти на пополнение армии Деникина; их начали арестовывать и содержали в тюрьме как важных государственных преступников.
Формирование Южной армии задержалось вследствие того, что не могли отыскать подходящего популярного генерала, которого можно было бы поставить во главе ее. Предложения (через военное министерство гетмана или через Донского атамана) делались многим, но желающих не находилось. Отказался граф Келлер, [50] отказался князь Долгоруков. [51] Наконец, на предложение донского атамана Краснова условно согласился бывший главнокомандующий Юго-Западным фронтом – генерал Н. И. Иванов. Он ответил, что первоначально переговорит с генералом Деникиным. Впоследствии он принял эту армию, но к этому времени немцы уже перестали ею интересоваться, она была в полном развале, и генерал Иванов, убедившись в полной невозможности сформировать из нее что-либо крепкое и значительное, по указанию генерала Деникина ее переформировал в особый отряд, который и вошел в состав Добровольческой армии.
Таким образом, из этой затеи ничего серьезного не вышло, но Добровольческой армии был нанесен существенный вред: открытое провозглашение монархического лозунга было слишком заманчиво для большинства кадрового офицерства, которое революцией было выброшено за борт и превращено в париев. Очень и очень многие из хороших офицеров, стремившихся попасть в Добровольческую армию Деникина, пошли в Южную армию или, не идя ни туда, ни сюда, заняли выжидательную позицию, выясняя, какие же лозунги в Добровольческой армии. Это же послужило причиной задержать свой отъезд в Добровольческую армию и для менее устойчивой части офицеров, нашедших предлог и объяснение для неисполнения своего гражданского долга.
Наконец, надо откровенно сознаться, что и в рядах Добровольческой армии формирование «монархической» армии внесло разлад, и некоторый небольшой процент офицеров перешел в ряды Южной армии.
В результате формирование Южной армии безусловно задержало рост Добровольческой армии и внесло разлад в офицерскую среду.
* * *
Очень многие думали, что немцы искренно хотели создать прочную Добровольческую армию, но все их определенное и более чем двусмысленное поведение во весь период формирования Южной армии ясно указывает, что ими преследовались другие цели: внести разлад в среду русских офицеров; затруднить и задержать дальнейшее усиление Добровольческой армии генерала Деникина и, прельстив старое кадровое офицерство заманчивыми для офицеров лозунгами (в результате ничего им не дав), привлечь их симпатии на свою сторону и помешать идти туда, где они могли бы оказаться для немцев вредными.
Многие возражали против этих выводов, говоря, что немцам, если б они захотели, ничего не стоило уничтожить Добровольческую армию генерала Деникина и не было смысла прибегать к сомнительным для их выгоды мероприятиям.
Да, уничтожить Добровольческую армию генерала Деникина, может быть, было сравнительно легко, но обстановка для немцев была так сложна, что предугадать, что вышло бы из этого в результате, было очень трудно.
Нельзя забывать, что немцы рассчитывали получать хлеб и прочее сырье не только из района Украины, но и с Дона и Кубани; кроме того, для них важно было получить связь и с нефтяными районами Грозного и Баку. А для всего этого надо было прежде всего дружественно настроить к себе казачьи области. Иметь их врагами было опасно.
Между тем донские и кубанские казаки были кровно связаны с Добровольческой армией, и открытое преследование последней могло бы вызвать опасные для немцев осложнения в казачьих областях; да и на Украине действия против армии генерала Деникина могли вызвать осложнения для немцев, возбудив против них всех тех, кто сочувствовал этой армии.
* * *
В конце мая я получил известие, что мой отец, живший в Севастополе, очень плох. Без разрешения немцев ехать в Крым было нельзя. Я боялся было, что мне это разрешение не дадут, но я его получил и выехал в Севастополь через Одессу.
В Одессе, в Херсонской и частью Подольской губернии хозяевами были австрийцы.
Картина здесь была иная, чем в Харькове и Киеве; видно было, что австрийские войска совершенно разваливаются и сами становятся опасными для своего командного состава.
Немцы видели, что на австрийские войсковые части рассчитывать нельзя, и стали вкрапливать в гарнизоны городов свои небольшие части. Австрийскому командованию такая опека была неприятна, но оно принуждено было согласиться. В день моего приезда в Одессу туда прибыл батальон германской пехоты.
На пароходе, по дороге в Севастополь, я обратил внимание, что почти все немецкие солдаты, бывшие на пароходе, принадлежали к различным войсковым частям. Я этим заинтересовался и, обратившись к какому-то немецкому лейтенанту, попросил его мне это объяснить. Он прежде всего заметил: «Видно, что вы военный; штатский на это не обратил бы внимания». Затем он объяснил, что у берегов Крыма отличная рыбная ловля, но совершенно неорганизованная; что на это обращено внимание германским командованием и, с разрешения императора Вильгельма, из частей, находящихся на западном фронте, вызваны рыбаки, промышлявшие на берегах Северного и Балтийского морей; что на этом пароходе направляется в Севастополь первая партия рыбаков с сетями и различными рыболовными снастями; что, вероятно, будут присланы еще три такие партии, и тогда будут сорганизованы рыбная ловля и заготовление рыбных консервов, которые будут посылаться в Германию.
Невольно я подумал: трудно вас победить, но все же вы слишком зарвались и будете побиты!
Похоронив отца, я должен был зайти в Севастополе в комендантское управление, так как для получения разрешения на выезд из Крыма требовалась личная явка в комендатуру.
Войдя в комендантское управление, я увидел немецкого офицера, сидевшего за столом с задранными на соседний стул ногами и с сигарой во рту.
Мне сказали, что надо обратиться к нему.
Я подошел и сказал, что пришел за разрешением на выезд из Крыма.
– Как ваша фамилия?
– Лукомский.
Немецкий офицер сейчас же спустил ноги со стула, вынул сигару из зубов и спросил:
– Вы не генерал?
– Да, генерал.
Он встал и, предлагая мне стул, сказал, что разрешение будет немедленно выдано. Он взял мои документы, и я действительно через пять минут получил разрешение на выезд из Крыма.
В Одессе мне пришлось задержаться из-за формальностей по отцовскому наследству.
Зайдя как-то к моему знакомому Андреевскому, я встретил там командующего австрийскими оккупационными войсками. Нас познакомили. Начал он с того, что выразил удовольствие со мной познакомиться, хотя, как он выразился, «встреча с вашей дивизией, когда вы в мае 1916 года прорвали наш фронт и затем, заняв Черновицы, продвинулись в Карпаты, была не из приятных».
Затем он начал ругать с пеной у рта Германию.
– Мы уже почти погибли и гибнут германцы. Их продвижение в глубь России пагубно; это приведет к неминуемой катастрофе. Из-за непонимания Германией обстановки она погибнет сама и погубит окончательно нас.
Бедный старик впоследствии не перенес позора своей родины и в Одессе же застрелился.
В первых числах июля я закончил свои дела и собирался выехать в Киев, но получил телеграмму от сестры жены графини Гейден, что она просит меня задержаться на несколько дней в Одессе.
На другой день в Одессу приехал из Киева Генерального штаба полковник Кусонский и сказал мне, что ему поручено предупредить меня о том, что мне ехать в Киев нельзя; что там идет серьезное преследование и аресты всех причастных к Добровольческой армии и что уже отдан приказ арестовать меня.
Я на это ответил, что в Одессе я не скрываюсь; что если немцы мною интересуются, то, конечно, отлично знают, где я нахожусь, и могут меня арестовать так же легко в Одессе, как и в Киеве, или по дороге в Добровольческую армию, куда я должен скоро ехать. Что я, наоборот, считаю, что в смысле ареста мой приезд в Киев скорей безопасен, так как вряд ли германское командование захочет нашуметь с моим арестом в Киеве, где меня почти все знают.
В Киеве я нашел мою жену, только что приехавшую из Москвы в так называвшемся украинском поезде (в этих поездах перевозили по соглашению между советским и украинским правительствами украинских граждан).
Благополучный приезд в Киев моей жены также показал влияние немцев: Комиссариат по иностранным делам категорически отказал дать ей разрешение на выезд на Украину. Моя жена, через своих знакомых, обратилась за содействием к германскому консулу, и ей не только разрешили выехать, но позволили вынуть из сейфа ее драгоценности, как и другим уезжавшим с украинским поездом.
* * *
В Киеве я узнал о приезде П.Н. Милюкова. Бывшие члены Государственной думы Демидов и В.В. Шульгин сказали мне адрес Милюкова и сообщили день и час, когда он будет дома и будет меня ждать. Я пошел к нему.
Наш разговор носил очень горячий характер. Милюков доказывал, что немцы выйдут победителями из мировой борьбы; что они единственная сила, на которую может опереться Россия; что только немцы, приславшие к нам в запломбированных вагонах руководителей большевиков, могут нас от них избавить; что Франция и Англия в таком положении, что от них помощи ожидать нельзя.
По мнению Милюкова, так как мы справиться с большевиками сами не можем, то должны обратиться за помощью к Германии – победительнице в мировой борьбе, к Германии – нашей соседке, которой должно быть выгодно возможно скорей восстановить в России порядок. Немцы, добавил Милюков, люди практичные, и они поймут, что для их же пользы надо помочь России.
Я со своей стороны доказывал, что Германия будет разбита; что победителями, несмотря на выход из борьбы России, останутся наши союзники; что особенно для Франции выгодно, чтобы Россия была сильной; что соглашение России с Германией повергнет первую в экономическое рабство. Напомнил Милюкову, что до войны Германия всегда стремилась к тому, чтобы мешать у нас развитию промышленного производства. Доказывал Милюкову, что экономическая зависимость от Англии и Франции не так страшна; что они будут вкладывать капиталы в наши производства и этим подымать нашу промышленность; что Германия, в противоположность этим державам, будет почти исключительно пользоваться нашим сырьем для развития своей промышленности, всячески затрудняя ее развитие в России.
Милюков стоял на своем. Так как его лейтмотивом было уверение, что Германия выйдет победительницей из мировой борьбы, то я предложил ему поговорить еще с генералом Абрамом Михайловичем Драгомировым, [52] авторитет которого в военном деле, по-видимому, Милюков признавал.
На другой день я устроил их свидание, присутствуя на нем сам; но из этого ничего не вышло: Милюков упорствовал на своем и не соглашался ни с какими доводами.
В заключение он сказал, что он не приехал немедленно договариваться с немцами, а пока хочет повидаться в Киеве с представителями германского правительства, позондировать почву, на каких условиях можно начать переговоры; выяснить, что именно предложат немцы, а затем, в зависимости от этого, принять окончательное решение.
Насколько мне известно, это свидание не состоялось (германские представители отказались его принять).
* * *
Одновременно с Милюковым вновь приехал из Москвы в Киев лейтенант Масленников.
Масленников не привез мне никаких подтверждений о вызове меня в Москву, и впоследствии я узнал, что предложение, которое он мне сделал в Харькове от имени A.B. Кривошеина и Вл.И. Гурко, не носило столь определенного характера, как мне это было передано Масленниковым.
Я узнал, что Масленникову было лишь поручено выяснить, соглашусь ли я на приезд в Москву и на принятие руководства военными организациями, если обстановка будет складываться для этого благоприятно.
* * *
Начиная со дня моего возвращения в Киев я почти ежедневно стал получать предупреждения о том, что буду арестован. Передавали мне об этом из гетманского штаба, из управления Донского представительства и даже якобы из германского штаба.
Насколько действительно были верны слухи о решении меня арестовать, я не знаю, но следить за мной были приставлены два филера, которых я скоро уже знал в лицо. Одна моя родственница, когда я иногда бывал у нее, смеясь говорила: «Ну, вам пора уходить, а то посмотрите в окно, ваш филер совсем уже измучился, скучает и сердится, сидя на тумбе».
Предупреждения о решении меня арестовать стали, наконец, столь упорны и исходили из столь высоких сфер, что я решил ускорить свой отъезд на Дон. Да и вообще пора было ехать.
Чтобы не случилось какой-нибудь неприятности в дороге, я решил проехать в вагоне, который был предоставлен в распоряжение донского представителя. О том, что я поеду в этом вагоне, знали только представитель Войска Донского и моя семья.
В день моего отъезда мои вещи были отправлены на вокзал вместе с вещами уезжавшей в деревню сестры моей жены, а там перенесены в вагон Донского представительства.
Я же, часа за полтора до отхода поезда, прошел к своим родственникам, у которых часто бывал, а затем вышел оттуда в сопровождении моих детей, и мы пошли по направлению к дому.
Филер, убедившись, что я иду домой, где-то отстал, а я, взяв извозчика, проехал несколько улиц и затем, пересев на другого, отправился на вокзал.
На вокзал я приехал после первого звонка и, пробыв на нем до второго звонка, быстро прошел в вагон.
Никто на меня не обратил внимания, и я без всяких приключений доехал до Ростова, а оттуда проехал в Новочеркасск (Новочеркасск был освобожден от большевиков вслед за занятием Ростова немцами. Новочеркасск был занят донскими казаками и отрядом полковника Дроздовского, пришедшим с Румынского фронта. - А. А.).
Я хотел, прежде чем ехать к генералу Деникину, повидаться с донским атаманом генералом Красновым [53] и вполне ориентироваться в той обстановке, которая сложилась в Новочеркасске.
По дороге на Дон, в Екатеринославе, ко мне подошло несколько офицеров и, жалуясь на то, что они уже несколько дней не могут попасть в поезда, идущие на Дон, просили взять их в вагон, в котором я ехал. Кое-как мы их устроили у себя. В пути я от многих слышал, что немцы всеми способами стараются не пропускать офицеров в Добровольческую армию.
Тяжело было увидеть и на Ростовском вокзале германские каски.
Приехав в Ростов, я узнал, что германцы, достигнув Дона на участке Аксай – Ростов, дальше не продвигаются. На левом берегу Дона ими занимался лишь Батайск (предместье Ростова), и у Аксая (на полпути между Ростовом и Новочеркасском) мосты через Дон охранялись их караулами.
В Новочеркасске жили лишь два германских офицера, являвшиеся представителями германского командования при донском атамане.
В ЗОНЕ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ ВЕСНОЙ 1918 ГОДА [54]
Германская армия к концу апреля прошла победным маршем по югу России вплоть до Ростова, освободив его от большевиков и разных банд, но и оккупировав его. Заняв часть Донской области, немцы, однако, не покусились на полную самостоятельность Дона, так как он добровольно вошел в орбиту германской политики. Они не препятствовали ему формировать свою армию и даже в этом оказывали ему помощь; они не мешали ему и в свободной связи с Добровольческой армией. В большей зависимости от них были Украина с гетманом во главе и Крымская республика. Им дозволено было иметь свои армии, но под полным их контролем.
Жизнь в оккупированных зонах быстро входила в нормальную колею, находя гарантию в силе германского оружия. Но оккупация, отделение от России новых государств и даже начало спокойной жизни не могли удовлетворить национально и патриотически настроенных людей. Мысли их стали направляться к Добровольческой армии. Немцы знали об этом, но беспокоиться им не приходилось: Добровольческая армия для них не представляла ни угрозы, ни препятствий их стремлениям, тем более что они имели союзников в лице украинских шовинистов-«щирых».
Однако кое-какие меры в отношении Добровольческой армии они принимали: по доносам «щирых» арестовывали откровенных противников «Вільной Украины» и сторонников Добровольческой армии. Но главная мера немцев против Добровольческой армии, ее идеи и цели заключались в разложении русских патриотов политически: играя на антибольшевистских и монархических убеждениях и настроениях их, они стали формировать Южную и Астраханскую [55] монархические армии, в которых офицеры получали командные посты и хорошее денежное содержание. И им удалось отвлечь от Добровольческой армии тысячи бойцов.
Между тем командование Добровольческой армии, как только закончился поход на Кубань, стало принимать меры, чтобы снова оповестить русских людей об армии, ее целях, задачах и призвать их к выполнению их патриотического долга в ее рядах. Обстановка этому благоприятствовала: было свободное передвижение по всему оккупированному немцами югу; был и почти свободный, во всяком случае не чреватый расстрелом, путь на Дон.
И от Добровольческой армии по всему югу разъехались ее посланцы. В секретном наказе между прочим говорилось: «Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками»; «Единственно приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых». Посланцы должны были действовать в зависимости от положения и возможностей на местах, но действовать быстро и энергично.
* * *
Станица Каменская в зоне оккупации, но на донской территории. В ней штаб германской дивизии. На видных местах расклеены афиши с широкой «бело-сине-красной» полосой по диагонали, с призывом в ряды Добровольческой армии. Два юных офицера с черными погонами и национальным углом на рукаве записывают добровольцев. В 1-й день их записалось свыше 20 человек, все из тех, которые раньше ехали в Добровольческую армию, но не застали ее на Дону и осели в станице, а с приходом немцев записались в формирующийся донской отряд. Теперь они бросают отряд и отправляются в Новочеркасск и назначаются в 1-й Офицерский полк.
Одесса. Город с десятками тысяч офицеров. Посланник Добровольческой армии, капитан, помещает в газетах объявление о собрании офицеров в оперном театре, на котором будет прочитан доклад о современном положении и судьбе русского офицерства. Явилось около 200 человек. Доклад делал сам капитан. Он говорил о большевиках – врагах народа; об оккупантах, легко одержавших победу; о русских силах, продолжающих борьбу против большевиков, – казаках и Добровольческой армии.
О Добровольческой армии он рассказал особенно подробно: об ее целях и задачах, о вождях, о патриотическом, жертвенном горении добровольцев… о добывании всего необходимого армии «ценою крови». И закончил горячим призывом: «Все на Дон!» Затем отвечал на вопросы. Собрание прошло в полном порядке, и все разошлись с него с глубокими внутренними переживаниями и думами.
Но… в ближайшие дни записалось и выехало в Новочеркасск только 150 офицеров и только 20 доехали; остальные свернули в Южную армию. Через месяц выехала другая партия – 87 человек, прибывшая полностью. Обе эти партии были назначены в 1-й Офицерский полк.
Александровск. На собрание явилось до 150 офицеров. Выехало и зачислено в 1-й Офицерский полк – 30.
В Кременчуге, Бахмуте, Павлограде и других городах собрания не могли быть организованы, но тем не менее эти города дали полку по нескольку десятков офицеров и добровольцев.
Харьков. Ни о каких собраниях при господстве там «щирых» не могло быть и мысли. Однако в нем многие, если не все, были хорошо осведомлены о Добровольческой армии. Разговоры о ней шли и интересовали всех, но одни видели в ней одну «авантюру», другие – задумывались и решали, ехать или не ехать. Сначала на Дон уезжали одиночки и маленькие группы, или тайно, или с ложными документами, чтобы избавиться от насилий и арестов «щирых». Но потом, когда выяснилось благорасположение германских комендантов, не раз выручавших едущих на Дон от ареста «щирых», стали выезжать и большими партиями, вполне организованно и даже с оружием. Харьков мог дать Добровольческой армии десятки тысяч офицеров и добровольцев, но на Дон выехало едва тысячи две.
Екатеринослав дал полку пополнение в 100 офицеров из многих тысяч бывших в нем.
Киев, город со многими десятками тысяч офицеров, дал полку и всей армии ничтожное пополнение. В столице Украины было трудно и опасно развернуть деятельность посланцам Добровольческой армии. Об армии в городе хорошо знали, но ехать не только не решались, но и не желали. «Укрылись» они «постановлением» какой-то тесно связанной группой офицеров, побившим все рекорды непонимания обстановки и лицемерия.
«Мы должны быть в полной готовности, ввиду скорого восстановления неделимой России под скипетром законного монарха силами самого русского народа». И обращение к населению города: «Поддержать, помочь офицерам пережить невзгоды революционного времени и оберечь их, жаждущих подвига во благо Родины, от вторжения их во всевозможные авантюры».
С каким презрением выслушивали подобные разглагольствования те, кто направлялся в Добровольческую армию и приехавшие из армии отпускные и раненые! Эти киевские господа выжидают лучших времен «в полной готовности», «жаждут подвига». Родина будет освобождена «силами самого русского народа», но без их участия. Они просят «поддержать и оберечь от вторжения их во всевозможные авантюры»… – они не способны даже «оберечь» себя! Для них Добровольческая армия – это авантюра. Им дороги собственные жизни, и немногие потом возьмутся за оружие, но только чтобы спасти себя, хотя фактически будут защищать «свободную Украину» от петлюровцев. А затем они будут спасаться, уходя с немцами или убегая в Одессу, куда высадятся союзники России по Великой войне, или зароются в норы с воплем: спасайте нас!
А пока, при немцах и гетмане, масса офицеров и интеллигенции юга устраивала как могла свою жизнь. Мирилась с немцами – «они лучше, гуманнее и культурнее большевиков» – и мирилась со «свободной Украиной», утешая себя мыслью, что в будущем Украина, сформировав сильную армию, послужит делу освобождения России и сольется с ней. Для устроения своей жизни офицерство не гнушалось даже услугами перед немцами в роли официантов и «забвением» русского языка.
Но были сравнительно немногие, которые понимали и чувствовали ненормальность своего положения, и они оставляли и украинскую армию, и монархические отряды, формируемые на немецкие деньги, и всякие службы и ехали на Дон. Большинство же оставались с гордым самоутешением они «мученики» и «страстотерпцы» за Родину. А потом, когда уже не будет ни немцев, ни «Вільной Украины», а придет Добровольческая армия, они вылезут из нор, объявят: «Мы – офицеры!» – и предъявят свои претензии на места, сообразно своим чинам. Естественный вопрос к ним: «Где вы были до сего времени и что делали?» – для них будет оскорбительным. Они никогда не ответят на него открыто и честно.
Герцог Г. Лейхтенбергский[56]
КАК НАЧАЛАСЬ «ЮЖНАЯ АРМИЯ» [57]
Был конец июля 1918 года. В Киеве, где я тогда и проживал с двумя своими старшими детьми, постепенно, под охраной немецких штыков, укреплялось правительство гетмана Скоропадского, организовывалась правительственная украинская власть, водворялись покой и тишина, и экономическая жизнь края начинала возрождаться.
На Дону правил атаман Краснов, и там также нарождалась вооруженная сила и укреплялись порядок и тишина.
На Кубани Добровольческая армия успешно боролась с большевиками и старалась всемерно увеличивать свои силы. На юге России, таким образом, создавалась широкая база для действий против советской Москвы в будущем. Говорю: в будущем, потому что эти разнородные силы – Украину, Дон и Кубань – надо было еще координировать; теоретически координировать их было бы нетрудно одной просто поставленной целью – борьбой с большевизмом, как с мировым злом и мировой опасностью, и восстановлением России. Теоретически большинство деятелей того времени это и понимали, но практически достигнуть соглашения в этом направлении было крайне нелегко: мировая война все еще продолжалась, и Россия, как таковая, выбыла из строя и превратилась в арену междоусобной войны и международных интересов.
На Украине господствовали немцы, и гетман должен был с ними считаться при каждом своем шаге. Своей армии у него еще не было, и неизвестно было, когда-то еще немцы разрешат таковую создать. Пока у него был лишь значительный конвой для личной безопасности.
Добровольческая армия, выкинув лозунг: «верность союзникам до конца», всецело рассчитывала на их, союзников, помощь и, ставя патриотическим лозунгом единую, неделимую Россию, не желала признавать Украину, поневоле считалась с Доном и, что было хуже с практической, русской точки зрения, признавала немцев на Украине своими врагами и всячески это подчеркивала.
Один только Дон, своими собственными силами избавившийся в это время от большевиков, не был связан политически ни с одной из боровшихся еще в то время в Европе коалиций и сохранял свою чисто русскую независимость. Атаман Краснов мог поэтому со спокойной совестью искать материальной поддержки и у немцев, и у союзников, поскольку и те и другие пожелали бы помогать ему в борьбе против большевиков.
Четвертым элементом политической борьбы с большевиками являлись русские люди, бегущие из большевистского рая. Большинство их были монархистами и попадали сперва на Украину, куда было легче пробраться из средней России, а оттуда уже пробирались либо в Добровольческую армию, либо на Дон, в зависимости от личных вкусов.
Многие также беженцы приходили в Киев ко мне и к моему брату, [58] особенно офицеры, от корнетов до генералов, и просили советов и указаний, куда им направляться и что делать. Приезжали чиновники, сановники, помещики, земские деятели и просто «штатские», желающие служить России как из патриотизма, так и из-за хлеба насущного и не знавшие, куда идти, чтобы не войти в конфликт с собственной совестью.
Одни понимали, что нужно всемерно укреплять гетманскую власть на Украине, спасать от большевистского разорения эту житницу России и не отворачиваться от немцев, хозяев положения и вчерашних, правда, врагов, но избавивших край от большевистских безобразий и не менее революционных мероприятий Петлюры и Украинской Рады, – а пользоваться их оккупацией, дабы спасти от разложения хотя бы эту составную часть России, раз вчерашние враги на это шли и пришли на Украину не как враги, а как друзья. Наконец, то обстоятельство, что немцы почерпали якобы из Украины продовольствие и этим удлиняли срок противодействия союзникам, смущало многих. Но ведь занятие ими Украины произошло помимо воли нас, русских монархистов: их призвала социал-демократическая Центральная Украинская Рада, и изменить свершившийся факт мы были не в силах. Немцы все равно выбирали бы из Украины все, что им надо было, и выгоднее было иметь на Украине хоть какую-нибудь, но свою власть, свое правительство, с которым немцам надо было хотя бы и для вида только, но все-таки считаться, чем оказаться на положении оккупированной врагом провинции.
Таким людям я говорил, что, служа гетману, они несомненно служат и России, и они, оглядевшись, обыкновенно и поступали на службу гетманскому правительству, хотя некоторые и находили для себя непреодолимым препятствием требование говорить и писать на украинской «мове» пана Грушевского, что требовалось – но плохо исполнялось за незнанием этого языка – во всех правительственных учреждениях Украины.
Другие «не могли переносить вида немецких касок на улицах Киева» и старались пробираться на Кубань. Особенно офицеры. Таким мы, конечно, всячески содействовали, частенько ходатайствуя им разрешения на проезд у немецких военных властей, с которыми у меня установились хорошие отношения. При этом я должен сказать, что меня часто поражала легкость, с которой немцы отправляли или закрывали глаза на отправку в Добровольческую армию таких офицеров. Вряд ли я ошибусь, сказав, что при таком образе действий ими, по крайней мере их военными властями, руководило убеждение, что Добровольческая армия, по существу своему, монархична, что поэтому усиление ее есть усиление монархического элемента вообще и русского, национального, в частности и что с монархической Россией они легче сговорятся в будущем, чем с большевиками, органически противными им самым существом своим.
Правда, немцам приходилось иногда арестовывать офицеров-добровольцев, слишком уж откровенно ведших свою агитацию в Киеве и на Украине, и притом не только вербовкой офицеров в Добровольческую армию, но и определенным при этом возбуждением офицерства против немцев. В крае, как-никак, а оккупированном немцами, это было по меньшей мере бестактно, и нечего поэтому удивляться, что таких неумелых агитаторов и вербовщиков немцы арестовывали. Однако в большинстве случаев дело кончалось тем, что по ходатайству гетмана или русских видных киевлян этих арестованных либо высылали из пределов Украины, либо отпускали на все четыре стороны, и они возвращались в Добровольческую армию.
На Дон, к Краснову, с которым немцы поддерживали дружеские отношения, они отпускали русских людей и офицеров гораздо легче, и часто офицер, официально ехавший на Дон, отправлялся оттуда на Кубань, и немцам зачастую это было известно заранее.
Третьи, наконец, истые монархисты, не желали ни поступать на службу в Украине, ни ехать к добровольцам, не видя у них определенно монархических лозунгов. И таких, особенно среди офицерства, было много. Они и хотели ехать к Деникину, потому что не хотели признавать «Учредилки» и демократии. На Дон ехать – их там также могли не принять под стягом монархии, и атаману Краснову, несомненно монархисту в душе, надо было проявлять в этом отношении большую осторожность, считаясь с веяниями времени среди казачьего Круга.
Такие люди, как и очень многие другие русские разных сословий, с одной стороны, думали перед приходом немцев: «Вот приедет барин, барин нас рассудит» – и чаяли единственно от них восстановления порядка и спасения России, а с другой стороны, по этим же самым соображениям готовы были организовываться сами, при условии материальной поддержки со стороны немцев.
Лично я, надеявшийся одно время, после разрыва немцев с большевиками в Брест-Литовске, что они пойдут на Москву и Петроград и тем спасут Россию от гибели – а с разложением нашей армии ничего иного ожидать было нельзя, – очень скоро после прихода немцев на Украину убедился из разговоров с ними и из их действий, что надеяться на них нам особенно не приходится: они не понимали ни обстановки, ни психологии народной, ни психологии общественной, и, если военные власти, ближе соприкасавшиеся с населением, правильнее понимали положение и старались действовать сообразно тому, дипломатические представители их во всем им перечили и, где могли, мешали, разыгрывая «демократов» и считаясь с возраставшим влиянием социалистических партий у себя дома.
Таким образом, я знал, что на Украине имеется большой контингент людей, жаждущих организоваться, чтобы выступить против большевиков под монархическим стягом, и я не сомневался, что, если бы такая организация могла состояться и собрать солидные силы, она, вступив на территорию Совдепии, найдет полную поддержку народа. Но как и где организоваться? Вопрос казался неразрешимым.
Тут я как-то узнал от моего брата, ездившего на Дон по приглашению некоторых казаков – он числился казаком и думал найти себе применение в Донской армии, – что атаман Краснов втайне готов предоставить национальной русской монархической армии-организации в виде базы или территории отвоеванные казаками у большевиков Богучарский и части Бобровского уезда Воронежской губернии, защищать которые казаки поэтому могут в один прекрасный день отказаться. Приехавшие к моему брату казаки пытались в это время завести с ним и с местными киевскими русскими организациями, правыми, военными и умеренными, переговоры, но, побывав раза два на их собраниях и увидев их пустословие и бездеятельность, мой брат махнул на них рукой и отстранился от всяческой политической деятельности. Замечу мимоходом, что несколько позже он поехал от атамана Краснова с письмом к императору Вильгельму, был очень любезно принят в главной квартире германской армии, но по политическим соображениям императора не видал и письма передать не смог, после чего подал в отставку и уехал в нейтральную страну.
* * *
В Киеве в одно прекрасное утро мне докладывают: г-н Акацатов. Акацатов? Акацатов? Кто такой Акацатов? Наконец вспоминаю: да, это присяжный поверенный с неприятным лицом, неприятным, резким и хриплым голосом и злым языком, который бывал у нас в Обществе ревнителей истории и про которого мне говорили: «Не обращайте внимания на неприятную внешность его; это очень неглупый, деятельный и честный человек и чисто русский патриот». Совет общества его иногда просил выступать против некоторых строптивых ораторов на собраниях, и он прекрасно умел их отчитывать. Да, вспоминаю. «Просите».
Входит Акацатов, только что прибывший с Дона. Разговариваем о положении дел вообще. Он, оказывается, был с Корниловым; имел и имеет сношения с оренбургским атаманом Дутовым, [59] которого высоко ценил; у него связи с Кругом спасения Дона и с казаками; есть связи с правыми организациями в Одессе и на юге России вообще. «Была бы, говорит, определенная цель и средства, а силы для спасения России найдутся». Все это мне несколько подозрительно, ибо я знаю, как русские люди склонны вообще преувеличивать и увлекаться собственными мыслями и мечтами настолько, что скоро начинают принимать их за реальности.
Беседуем дальше. Все, что говорит Акацатов, серьезно, правильно, основательно и – честно. Называет он мне деятелей Союза русского народа, которые дадут-де крестьян и запасных солдат для армии, называет цифры… Сам он был членом «Русского Собрания» в Петрограде, но взглядов умеренных, ныне конституционалист. В конце концов прихожу к заключению, что, если даже половина только того, что говорит Акацатов, верна, то материал для вооруженной силы получить можно. Офицеры, конечно, найдутся в достаточном числе. «Время не терпит, – говорит Акацатов, – нельзя теперь русским людям сидеть сложа руки, а надо работать. Давайте работать вместе?»
«Я не политик, никогда ни к какой политической партии не принадлежал, на фронте не был и ничем не командовал. Поэтому ни в политических группах, ни в военных сферах никакого авторитета иметь не могу. Партийности, политических программ, политической деятельности не знаю и не знаю, куда же я гожусь, – так приблизительно отвечаю я Акацатову. – Но принципиально я согласен с вашим мнением и ничего против работы с вами, по существу, не имею». На этом мы с ним в этот раз расстаемся.
Через день-другой Акацатов опять приходит. Он уже успел войти в сношения с разными местными и приезжими деятелями и является уже с именами и с более определенными цифрами и данными. Я между тем успел обдумать: действительно, все мы, русские люди, сидим, болтаем, критикуем всех и все, но ничего не предпринимаем. Сам я вынужден бездельничать, и это меня угнетает. Положение мое, однако, выгодное: отношения с гетманом у меня дружеские – по свойству и прежнему полковому товариществу; с немцами также отношения доверительные, ибо, живя в Германии последние десять лет, я там известен, немецкий характер, его достоинства и недостатки знаю, их язык знаю и знаю, как с ними надо разговаривать. Они мне верят, зная, что у меня природной вражды к ним нет. Сам я человек вполне независимый, никакими партийными политическими программами не стесненный и не связанный. Соображаю: Акацатов все это знает. Я ему нужен как вывеска, как лицо, которому немцы поверят, которому поверят и наши монархисты и которое ни те ни другие не заподозрят, по крайней мере, в корыстных целях. Дело, следовательно, слагается так: мое имя будет флагом, под которым будет работать Акацатов и… те, кого он привлечет. Но кто они? Не знаю. Доверить свое честное имя малознакомому человеку? Рискованно. Вспоминаю, однако, отзывы о нем людей, его раньше знавших, о его честности, вспоминаю, что долг всякого русского в это время работать, а не жаться боязливо по своим углам, вспоминаю пословицу: «Волков бояться – в лес не ходить» и… решаю рискнуть идти в лес.
Ясно, что первый же возникающий вопрос: это – откуда добыть средства; и столь же ясно, что дать их, для начала, по крайней мере, могут только немцы. Я, значит, должен ехать с ними разговаривать.
«Хорошо, Михаил Епифанович, – говорю я, – но от чьего же имени я буду с ними разговаривать? Не от себя же лично? Этого им будет мало».
«Надо создать организацию».
«Кто же в ней будет?»
«Да вы, я, найдутся и другие единомышленники…»
«Прекрасно, но нам ведь надо, чтобы хоть в центральном органе были люди если не с громкими, то хоть известными именами, и главное, с чистыми именами».
Акацатов называет мне несколько имен, действительно подходящих, но они все на Дону, на Кубани, или в Совдепии, или определенно антантофильской ориентации. Как мы ни ищем, а налицо в Киеве и на Украине не находится ни одного деятеля, которого мы могли бы сейчас взять в совет нашей организации. Останавливаемся, наконец, на генерале Андрееве, которого я немного, а Акацатов хорошо знает, бывшем генерал-губернаторе Восточной Сибири, который сейчас находится в Петрограде, но которого, по словам Акацатова, легко можно оттуда добыть и вызвать. (В действительности генерал Андреев так никогда и не приехал.)
Все это мне не улыбается, ибо только tres faciunt collegium, но делать нечего, придется пока изображать collegium нам двоим. Понемногу, Бог даст, наберем других еще членов совета. Название нашей новоявленной организации даем: «Союз – наша Родина», и ставим целью – официальной – борьбу с большевизмом и спасение России, ничего больше. О тайной цели – «единой, неделимой» – мы в официально самостийной Украине, конечно, говорить не можем, и гетман не может, понятно, разрешить в управляемой им стране организации, которая явно не признавала бы самостийности. Говорить о монархии официально также нельзя, ибо германское правительство заигрывает с нашими и украинскими «демократами» и даже с социалистами и всячески старается тянуть гетмана влево. Оно, значит, не может поддерживать монархистов в России явно, ибо тогда посыплются запросы в рейхстаге со стороны социалистов, хотя в душе оно, вероятно, понимает, что с русской монархией легче и скорее будет можно столковаться, чем с большевиками, которые уже начали отбиваться у них от рук.
На деле, конечно, всем вступающим в организацию должно быть и будет известно совершенно определенно, что цель нашей организации – свержение большевиков и установление затем в России конституционной монархии, своими, русскими силами, без участия иностранных вооруженных сил. Эта же цель будет столь же прямо и ясно сообщена немцам. Посмотрим, что они скажут.
Еду в немецкое главное командование; объясняю, в чем дело. Подумав, они выражают принципиальное свое согласие и сочувствие нашим целям, обещают помочь деньгами и не мешать нам вербовать офицеров и солдат в пределах Украины. Спрашивают, наконец: «Где же вы собираетесь формировать самые части?» Тогда, зная, что план Краснова им известен, отвечаю, что в Богучарском уезде Воронежской губернии, то есть на территории не ими оккупированной, для них нейтральной, и что я войду на этот предмет в переговоры с донским атаманом. Большевики, таким образом, не смогут быть на них в претензии, так как эта территория им, немцам, неподвластна, и немцы не ответственны за то, что там может происходить; не может и рейхстаг их ничего возразить, – тем не менее, при прощании, они говорят мне: «Только мы вас очень просим, пока что не говорить об этом нашим дипломатическим представителям, а все это дело вести только с нами и тайно».
Заручившись, таким образом, содействием германского военного командования, открываю Акацатову секрет о Богучарском уезде, которого он еще не знал и который привел его в восторг. Решаем, что председателем союза «Наша Родина» будет он, а не я, дабы не давать делу сразу слишком явную окраску; что предполагаемая к формированию армия будет называться «Южная армия», как долженствующая в конечном итоге объединить со временем все вооруженные силы антибольшевистской России на юге; что сила ее предполагается первоначально в составе одной дивизии пехоты военного состава, с соответствующей конницей и артиллерией; что отличительным знаком ее будет нашитый на рукаве угол из лент национальных цветов и бело-черно-желтой, как символа национально-монархического ее характера, и затем Акацатов поехал на Дон, к атаману Краснову, заручиться его согласием и переговорить с ним о предоставлении нашему союзу Богучарского уезда как территории для формирования армии и даже для введения своей администрации. Возвратившись оттуда с благоприятным для нас ответом, он усиленно принялся за работу.
Очень быстро был сформирован «штаб армии», в котором вся тяжесть работы лежала на двух преданных делу, честных русских офицерах, полковниках Чеснакове и Вилямовском, мне тогда совершенно неизвестных, но которых я вскоре научился уважать и ценить. Они работали действительно не за страх, а за совесть, с полным самоотвержением, и я должен признать, что в отношении их выбор Акацатова оказался прекрасным.
Офицеров, желающих поступить в ряды армии, было достаточно. Перед зачислением им открывали монархическую цель формирования, не говоря пока, откуда имеются деньги; тщательно, насколько это вообще бывало возможно, проверяли их политические убеждения и предыдущую службу. При вступлении никаких подписок с них не отбирали, а объясняли, что армия – чисто русская, ни в какую борьбу ни с какими внешними врагами ввязываться не будет и, в частности, ни в коем случае не поднимет оружия против немцев, так как формируется на занятой ими территории и с их ведома, а потому идти против них было бы нечестно, что мы надеемся в будущем действовать рука об руку с Добровольческой армией и с казаками.
Впоследствии недоброжелателями Южной армии распускались слухи, будто руководители ее брали с поступающих какие-то подписки, отдающие их в кабалу немцам, могущие заставить их идти против Добровольческой армии, в случае выступления ее против немцев и т. п. Должен здесь заявить самым категорическим образом, что не только с поступающих в ее ряды никаких подписок нами не бралось, но и сам союз «Наша Родина» никаких письменных обязательств немцам не давал, они ни разу таковой не требовали и ограничились лишь нашим словесным обещанием, что оружие, выдаваемое ими нам, ни в коем случае не будет обращено против них, то есть в том теоретически возможном, но практически маловероятном случае, если бы возникло вооруженное столкновение между Добровольческой армией и ими, Южная армия обязывалась оставаться нейтральной и ограничиться действиями против большевиков; или, в случае нежелания или невозможности оставаться нейтральной, расформироваться и сдать полученное от немцев оружие обратно, причем, однако, личному составу не препятствовалось бы вступить в ряды добровольцев. Такая оговорка была понятна, если принять во внимание, что Добровольческая армия, ее вожди и вербовщики не стеснялись говорить, что они «выгонят немцев из пределов России».
Конечно, при тогдашней численности Добровольческой армии и политической тогдашней обстановке такие угрозы были просто смешны, и мы не предвидели никакого вероятия вооруженного конфликта между нею и германской армией. Но предусмотреть такой случай было все-таки необходимо, и каждый чин Южной армии должен был знать, на что он идет и на что не должен идти. При дилемме: идти против своих братьев-добровольцев за немцев или наоборот – лично каждому предоставлялось решать этот вопрос по влечению совести, и решение это не могло быть сомнительным. Но организованные на немецкие средства и получившие от них оружие части, конечно, не должны были выступать против них, как таковые. Следует признать, таким образом, что германские военные круги показали себя в данном случае весьма честными и благородными.
Чтобы покончить с взаимоотношениями нашими с Добровольческой армией, должен, забегая вперед, присовокупить, что, когда наши формирования начались, я счел долгом написать генералу Деникину письмо, в котором излагал цель формирования Южной армии и выражал надежду на совместные, в будущем, военные действия с находящимися под его начальством вооруженными силами против врагов России – большевиков. Этим письмом я надеялся выяснить генералу Деникину наши цели и рассеять у него всякие сомнения на наш счет. Ответ я получил вежливый, но весьма сухой, который сводился к тому, что мы – добровольцы, совершенно-де самостоятельны, ни в чьей помощи не нуждаемся, а что о совместных действиях можно будет говорить тогда только, когда Южная армия освободится от иноземной зависимости и обязательств. Письмо это, к сожалению, осталось вместе с другими моими бумагами в Киеве, и я не могу привести подлинного его текста, но содержание его врезалось – и очень неприятно – в памяти у меня твердо.
Вожди добровольцев не понимали или не хотели понять того, что так ясно выражал граф Келлер, впоследствии столь гнусно убитый петлюровцами в Киеве, в письме к генералу Алексееву от 20 июля/2 августа 1918 года, в собственноручно снятой им самим копии, лежащем предо мною.
«Единственной надеждой, – пишет граф Келлер, – являлась до сих пор для нас Добровольческая армия, но в последнее время и к ней относятся подозрительно, и подозрение, вкравшееся уже давно, растет с каждым днем… Верят Вам кадеты и, может быть, и то отчасти, группа Шульгина, но большинство монархических партий, которые в последнее время все разрастаются, в Вас не уверены, что вызывается тем, что никто от Вас не слышал столь желанного, ясного и определенного объявления, куда и к какой цели Вы идете сами и куда ведете Добровольческую армию. Немцы это, очевидно, поняли, и я сильно опасаюсь, что они этим воспользуются в свою пользу, то есть для разъединения офицерства…
Боюсь я также, что для того, чтобы отвлечь от Вас офицеров, из которых лучший элемент монархисты, немцы не остановятся перед тем, чтобы здесь в Малороссии или Крыму формировать армию с чисто монархическим, определенным лозунгом. Если немцы объявят, что цель формирования – возведение законного Государя на престол и объединение России под Его державою, и дадут твердые гарантии, то для такой цели, как бы противно ни было идти с ними рука об руку, пойдет почти все лучшее офицерство кадрового состава.
В Ваших руках, Михаил Васильевич, средство предупредить еще немцев (чистым намерениям коих я не верю), но для этого Вы должны честно и открыто, не мешкая, объявить – кто Вы, куда и к какой цели Вы стремитесь и ведете Добровольческую армию.
Объединение России великое дело, но такой лозунг слишком неопределенный и каждый даже Ваш доброволец чувствует в нем что-то недосказанное, так как каждый человек понимает, что собрать и объединить рассыпавшихся можно только к одному определенному месту или лицу. Вы же об этом лице, который может быть только прирожденный, законный Государь, умалчиваете. Объявите, что Вы идете за законного Государя, если его действительно уже нет на свете, то за законного же наследника Его, и за Вами пойдет без колебаний все лучшее, что осталось в России, и весь народ, истосковавшийся по твердой власти…»
То, что так ясно и определенно высказывал в своем письме рыцарски честный и прямой граф Келлер, живший в то время в Харькове, еще ярче ощущали мы, в Киеве, и это-то привело нас к мысли о создании Южной армии, как я говорил выше. Генерал Алексеев не внял словам графа Келлера. Добровольческая армия осталась при своих туманных лозунгах, но продолжала дуться и сердиться на то, что лучшее офицерство вступало в ряды Южной, Астраханской, а позднее и Саратовской [60] армий. Она винила нас, и винит даже, вероятно, еще нас и теперь в том, что мы ослабляли, под влиянием немцев, ее ряды: она признавала себя единственной носительницей Русской национальной идеи, была уверена, на словах по крайней мере, в своей победе, а нас считала чуть ли не изменниками русскому делу.
Если граф Келлер был прав, говоря в другой части своего вышеприведенного письма, что «…не подлежит сомнению, что формированием при немецкой поддержке и на немецкие деньги и Астраханского монархического отряда немцы преследуют ту же цель (разъединения офицерства)», то, как мы видели выше, зарождение Южной армии произошло совершенно независимо от их воли и намерения. И по крайней мере, я и Акацатов узнали о начале формирования Астраханской армии лишь несколько дней по открытии нашего вербовочного бюро.
Эта «Астраханская армия» формировалась якобы под командой атамана Астраханского казачьего войска князя Тундутова, русскими подозрительными агентами, состоявшими на немецком содержании.
Никакой общественной организации за ними в то время не стояло. Кроме того, эти германские агенты повели дело столь неумело, будучи сами личностями более чем двусмысленного характера, кутили и прибегали к таким приемам, что самим немцам вскоре пришлось этих своих агентов уволить и спрятать, а Астраханская армия впоследствии перешла в ведение крайних правых монархических групп.
Допускаю, что создание Южной армии было немцам на руку, допускаю, что она отвлекала от Добровольческой армии часть офицерства, которая в конце концов пошла бы туда, чтобы не бездействовать и… питаться, но большинство офицеров Южной армии все равно туда бы не пошло, по причинам вышеизложенным. Но виною тому была отнюдь не сама Южная армия. Наконец, горделиво звучавшее слово генерала Деникина о независимости Добровольческой Армии было на деле также понятием очень относительным. Снаряды и патроны они получали, правда, от атамана Краснова; правда, эти снаряды и патроны были русские, из запасов, накопленных еще императорским правительством на Украине; правда, в Батайске немцами была учреждена официальная застава, долженствовавшая не пропускать этих снарядов на Кубань, дабы избежать нареканий со стороны большевиков в поддержке их противников. Но столько же правда, что без разрешения немцев и гетмана Краснов не мог бы ни получать этих русских снарядов, ни пересылать их столь нуждавшейся в них Добровольческой армии. Немцы сказали Краснову: «Мы ставим заставу в Батайске, но мы будем закрывать глаза, если вы будете возить снаряды и патроны добровольцам другим путем, из числа уделяемых вам запасов». И каждый день грузовики, в обход Батайска, возили по грунтовым дорогам на Кубань снаряды и патроны, которые доставляли добровольцам Дон и Украина – ими не признаваемые – с ведома ненавистных им немцев. Вожди добровольцев это знали. И казалось бы, не следовало бы им кичиться своей «независимостью», по крайней мере в тайных деловых сношениях со своими соотечественниками, если даже, по политическим соображениям и в целях пропаганды, такое официально непримиримое отношение к остальным русским людям, может быть, и могло иметь смысл.
И глубоко не прав был граф Келлер, когда в своем письме к Алексееву писал, что… здесь (на Украине) часть интеллигенции держится союзнической ориентации, другая, большая часть – приверженцы немецкой ориентации, но те и другие забыли о своей русской ориентации. По отношению к нашей мягкотелой интеллигенции это было, пожалуй, верно; но организаторы и члены союза «Наша Родина» и чины Южной армии именно держались чисто русской ориентации, то есть думали прежде всего о спасении России и столь же охотно, и даже еще охотнее, воспользовались бы помощью союзников, если бы в то время союзники были в состоянии им помочь. Но в то время они не могли этого сделать, даже для Добровольческой армии, а потому, казалось бы, если бы вожди добровольцев имели действительно только «русскую ориентацию», то им следовало бы открыто пользоваться теми ближайшими средствами и источниками спасения России, которые были более доступны и находились, волею судьбы, в руках немцев.
Мы преклонялись перед духовною мощью Корнилова и его сподвижников, мы умилялись над геройством «Ледяного похода», мы восторгались успехами Добровольческой армии, радовались их победам и всемерно им содействовали, – а там отвергали протянутую руку и клеймили нас кличкой едва ли не изменников и предателей России. И конечно, такое слепое и непримиримое отношение Добровольческой армии к остальным русским людям больше удерживало приток к ней офицеров и добровольцев – истинных, а не партийных патриотов, чем создание Южной армии.
* * *
Но, конечно, немцы постарались иметь свой глаз и в нашей армии. Придя как-то в один из первых дней существования нашего «штаба», помещавшегося тогда в двух комнатах гостиницы, я увидал там некоего подполковника Бермондта, [61] коего мне представили, как и остальных чинов штаба, полковники Чеснаков и Вилямовский. Статный, с отчетливой военной выправкой, темноглазый и темноволосый, с черными длинными усами и открытым взглядом, Бермондт производил приятное впечатление. Он был несколько раз ранен германскими пулями на войне, два раза сильно контужен, что отразилось на его нервной системе, и возбуждение его поэтому доходило иногда до границ невменяемости.
Через несколько дней кто-то из знакомых офицеров говорит мне: «А ведь у вас служит немецкий агент, да к тому же и самозванец». – «Кто такой?» – «Бермондт. Он вовсе не подполковник, а корнет и состоит у немцев на службе».
Говорю об этом нашим двум полковникам. Они отвечают: «Мы знаем, что у него действительно хорошие отношения и связи с немцами. Но он безусловно русский человек и монархист; отлично умеет разбираться в политических убеждениях офицеров, говорить с ними, разъяснять им положение и привлекать их в наши ряды; к тому же ненавидит всей душой большевиков, что доказал уже своими действиями, и прекрасно умеет разоблачать их агентов»…
Призываем Бермондта, спрашиваю: «С какого времени вы имеете чин подполковника?» Отвечает: «Я корнет Его Величества». – «То есть как так?» – говорю я. «Да. Я при Государе Императоре был только корнетом. Был представлен к производству в такой-то (не помню уже, в какой именно) чин, а при Керенском к производству в подполковники; знаю, что производство состоялось, но официальной бумаги, вследствие захвата власти большевиками, не получил». Ответ, прямой и честный, меня обезоруживает, хотя, может быть, это все и выдумки. (Я и до сих пор не знаю, правда ли это?) Рассуждаем так: от немцев нам скрывать нечего; выгонять этого человека, в своем роде нам полезного, и из-за этого поссориться, может быть, с немцами нам нет никакого основанная. А глаз за ним иметь будем.
Должен здесь присовокупить, что, если у Бермондта и были недостатки: он любил сорить деньгами, впрочем, не в свою пользу, а для пропаганды и для кутежей с молодыми офицерами, любил с ними выпить и таким путем узнавать сущность их взглядов, то, с одной стороны, в недобросовестном пользовании деньгами в свою пользу мы его упрекнуть не могли, а равным образом в тайных нам вредных сношениях с немцами уличить его не пришлось (да и не было в том надобности, ибо мы действовали совершенно относительно них открыто), и я до сих пор не знаю, был ли он действительно их агентом или нет.
Но каково же было мое удивление, когда, больше года спустя, будучи в Италии или Швейцарии, я узнал из газет, что во главе русско-немецкой армии, организованной фон дер Гольцем, стоит «генерал князь Авалов-Бермондт»!! Пишу друзьям в Берлине, тот ли это самый Бермондт, который был у нас в Южной армии. Оказывается – тот самый. И я, помнится, подумал: «Плохи же дела, если немцам пришлось во главе столь серьезного предприятия поставить такого мелкого человека. Неужели они не могли найти настоящего русского генерала с именем, а должны были прибегнуть к помощи авантюриста, самодельного генерала и бывшего своего, вероятно, мелкого агента?» Впрочем, патриотизм Бермондта мне не внушает сомнения и, при надлежащей опеке, он, несомненно мог быть прекрасным орудием. На первые же роли он, как и показал опыт, непригоден.
В штабе Южной армии его органически не переносил мой старый товарищ по полку и друг полковник A.B. Молоствов. [62] Молоствов, давно бывший в отставке при объявлении войны, попал потом в ополчение и перед революцией командовал ополченской дивизией в Одессе. Человек совершенно не боевой, он был честнейшим и порядочнейшим человеком, добросовестным офицером, отличным администратором и сумел организовать свою дивизию прекрасно, подобрав отличный состав офицеров, в большинстве гвардейских, своих старых знакомых и товарищей, и поддерживать среди них старую дисциплину и бодрый дух. При всем том это был человек весьма скромный.
Выйдя при Керенском в отставку, он приехал в Киев, и мне удалось уговорить его поступить в штаб Южной армии на должность заведующего хозяйственной частью штаба, на что он согласился, мне кажется, не столько чтобы иметь заработок, средств у него не было никаких, сколько из патриотизма, с одной стороны, и, главное, из дружбы ко мне лично и желания мне помочь.
Действительно, получать деньги от вчерашних врагов мне было крайне тяжело само по себе; денег этих было очень мало, надобно было обращаться с ними очень экономно и, главное, следить за тем, чтобы они не пропадали, не расхищались, не шли в карманы частных лиц непроизводительно, словом – не растрачивались зря. Имея на этом деле Аркадия Молоствова, я мог спать спокойно и знать, что никаких злоупотреблений не будет. Так оно и вышло на деле, и я сохранил самую благодарную память Молоствову, этому честному русскому человеку и патриоту, за понесенный им чрезвычайно нелегкий и ответственный труд. Он умер в Киеве, от какой-то болезни, в начале 1919 года, как я позже узнал. Мир праху твоему, добрый друг и честный русский патриот!
Выше я назвал Бермондта авантюристом. Но я должен сказать, что, задумываясь подчас над начатым делом, я тогда сам сознавал, что все дело Южной армии пока что – авантюра. Обещанной немцами суммы было достаточно разве что на содержание штаба, перевозку чинов армии в Богучарский уезд, содержание вербовочных наших бюро в других городах и небольшой воинской части в течение двух-трех месяцев. У нас не было ни популярного начальника, намеченный нами тогда в командующего армией генерал Арсеньев был в Петрограде под арестом у большевиков, и нам так и не удалось его оттуда добыть, не было и начальника штаба. Все это я сознавал, меня угнетало все это, и все-таки я сознательно пошел на эту авантюру, считая, что это лишь пробный камень для определения истинных намерений и желаний немцев. Я полагал, и не без основания, что если дело пойдет успешно, то они дадут и нужные средства, и вооружение, и обмундирование, и снаряжение из русско-украинских складов.
Начальником штаба пришлось взять генерала Шильдбаха, [63] бывшего командира лейб-гвардии Литовского полка и георгиевского кавалера. Шильдбах в то время состоял где-то в Прилуках на украинской службе негласно и собирался поступить в ряды предполагавшейся к созданию украинской армии. Он был офицером Генерального штаба, и я знавал его молодым капитаном в Петербургском военном округе. Никого более подходящего на эту должность в Киеве в то время не оказалось, дело не терпело отлагательства, и мы решили его взять: он был, по крайней мере, не совершенно мне незнакомый человек, а служебный стаж его, казалось, говорил в его пользу. Только после этого я узнал, что он в рядах своего собственного лейб-гвардии Литовского полка был вовсе не популярен и что Георгиевский крест, заслуженный им во главе полка, считался этим самым полком вовсе не заслуженным. С его вступлением в должность начальника штаба дело организации штабов и снабжения армии пошло несколько лучше; но все-таки все вымаливать у немцев приходилось лично мне, и Шильдбах не проявил должной энергии и оказался не на высоте.
Не лучше обстояло дело и с командующим армией. Я сознавал крайнюю важность и для дела, и для впечатления у немцев поставить во главе армии популярного русского генерала, но такового не находил. Был граф Келлер, но он не желал идти с немцами, не веря им; Акацатов находил неудобным брать его из-за его немецкой фамилии, я же, лично не зная его тогда, но зная от других его характер, отдавал себе отчет в том, что он был бы не у места: командующий Южной армией должен был быть человеком гибким, умеющим примениться к обстановке, ладить и с гетманским правительством, и с немцами, и не выбрасывать слишком открыто монархический флаг, дабы не поставить и тех и других в необходимость прекратить поддержку армии. Требовался политический такт. Прямой, цельный характер графа Келлера, конечно, не справился бы с этой задачей. И когда позже мы с ним встретились в Киеве, я ему это совершенно открыто высказал, не желая, чтобы он думал, что я его обошел по каким-нибудь личным соображениям. Позже, после германской революции, уже когда Скоропадский открыто признал русскую ориентацию и дал графу Келлеру почти неограниченные правомочия в организации русских сил, характер графа Келлера очень быстро сказался превышением данной ему гетманом власти и на 5-й уже день Скоропадскому пришлось уволить его от должности главнокомандующего, заменив его князем Долгоруким. [64]
В политических, военных и монархических кругах и кружках Киева нарождение союза «Наша Родина» произвело переполох. Личность Акацатова подверглась нападкам; всевозможные друзья и недруги старались меня с ним поссорить, сделать его в моих глазах подозрительным. В правых политических организациях – в большинстве своем крайне правых – он считался слишком левым, и наша «конституционная платформа» не внушала им доверия; завидно им было также, вероятно, и то, что мы так быстро заручились помощью немцев и что вербовка у нас пошла успешно и скоро дала результаты. Среди них были и антантофилы, и германофилы, хорошие мои знакомые, политические деятели разных окрасок и характеров. Они все не прочь были заручиться помощью немцев, но не умели, по-видимому, обставить это надлежащим образом. Для меня разгадка была проста: из разговоров с немцами, которые я вел долгое время единолично – только уже много позже иногда при этом присутствовал Акацатов или Шильдбах по своим специальностям, – мне было ясно, что наши монархисты, с одной стороны, торговались с немцами о политических платформах и обязательствах в будущем, а с другой стороны, уверяли их в том, что за ними стоят «массы русского народа, сильнейшие народные организации» и т. п. Немцы, конечно имевшие своих агентов везде, не без основания относились к таким заверениям скептически, не доверяли им и тянули.
Я, не будучи вовсе политиком, не говорил немцам, что за союзом «Наша Родина» стоят «широкие массы населения», не скрывал, что наш союз немногочислен пока, но говорил, что у Акацатова действительно есть много связей в разных слоях народа и общества и что мы убеждены, что монархическое движение под открытым лозунгом борьбы с большевиками найдет отклик везде, что офицерский и солдатский состав найдутся. Я предлагал им попробовать и убедиться на деле, правы мы или ошибаемся. Словом, я предлагал им не слова, платформы и программы, а дело. И они на это пошли.
Те же слова и ту же глухую, а подчас и открытую оппозицию я встретил и в среде «Общества взаимопомощи офицеров» в Киеве, в котором главный контингент составляли генералы. Они были «обижены», что мы не обратились к ним за указаниями, советами и рекомендациями личного состава. С нашей же стороны это объяснялось тем, что мы прекрасно знали состав этого общества, знали, что могущие пригодиться для нашей армии лица были определенно союзнической ориентации, а что остальные были более пригодны для зарабатывания денег устройством в собрании Общества азартных игр (чем общество и жило), чем для боевых действий, знали, наконец, что председатель, генерал Веселовский, весьма неопределенных политических убеждений и склоняется к «демократии». Однажды мне, однако, все-таки пришлось пойти туда вследствие открытых нападок со стороны общества на Акацатова и выдержать там двухчасовой «допрос» и «баню». Обвинения против Акацатова были, по существу, вздорные и диктовались незнакомством предъявлявших их с ним и неправильным о нем представлением; они были вполне бездоказательны. Многое мне удалось просто опровергнуть, в другом отношении я не мог отрицать некоторых несимпатичных черт его характера и обращения, но объяснял, что эти его мелкие недостатки всецело окупаются его честностью и, главное, тем, что он не только разговаривает, но и работает не покладая рук. Взбешенный генерал Веселовский позволил себе тут несколько весьма резких выпадов против меня, на которые получил отпор со стороны нескольких гвардейских генералов, знавших меня с молодых чинов и заступившихся за меня. Кончилось это заседание – первое и последнее для меня в этом обществе – тем, что я прямо просил генерала Веселовского, если он сочувствует нашему делу и желает нам помочь, указать мне тут же, из среды членов общества, командующего армией и его начальника штаба, раз они находят генерала Шильдбаха неподходящим (кстати сказать, в данном случае они были правы, но я этого тогда еще не мог выяснить). Но на этот вопрос я ответа не получил и получить не мог, потому что в Киеве тогда действительно подходящего для этой должности лица не было; это заседание, несмотря на его для меня крайнюю тягостность, имело, однако, ту пользу, что открытое изложение наших целей и намерений в среде этого общества рассеяло в глазах честных людей, которых в среде общества было все-таки немало, многие подозрения, недомолвки и неясности, порождаемые в их мнении завистниками и недоброжелателями разных родов и окрасок. Политическая же окраска самого генерала Веселовского мне остается неясной и по сегодняшний день.
Несмотря на эти недочеты и трения, дело вербовки Южной армии продолжалось и развивалось; организовывались вербовочные бюро в других городах, и в конце августа атаман Краснов уже мог смотреть на станции Чертково эскадрон кавалерийского полка, а в городе Богучаре батальон пехоты в 600 человек – первые части, сформированные нами. В штаб армии начали поступать предложения от целых офицерских составов кавалерийских и пехотных полков поступить в ряды Южной армии со своими знаменами и штандартами, спасенными ими в дни революции, и даже с частью старослуживых нижних чинов, при условии сохранения старых наименований их полков. На это мы, понятно, охотно согласились, это нас ободряло и радовало, показывая нам, что мы идем по верному пути, отвечающему желаниям лучшей части нашего офицерства.
Вскоре, таким образом, выяснилось, что у нас будет полный офицерскими кадр не для одной только, а для двух дивизий, которые и были намечены к сформированию. Лично я был против этого, считая, что сперва надо набрать солдатский состав и организовать на деле одну полную дивизию и затем только уже приниматься за другую, но мои сотрудники так настаивали, так были окрылены надеждами и были так уверены, что люди будут, что их можно будет получить по мобилизации в Воронежской губернии, что у меня не хватило духу противиться и я согласился. На практике я оказался прав: нам не удалось набрать состава нижних чинов даже на полный комплект одной дивизии боевого состава. По существу же были правы, я думаю, они, и, не уйди немцы с Украины так скоро, как это случилось в действительности, Южная армия развернулась бы фактически в 2 дивизии и представила бы грозную силу.
Но на деле случилось иное. Центральные государства были разбиты, и в начале ноября произошла германская революция. Понятно, что с установлением в Германии республики субсидии русской монархической армии, даже секретного военного фонда Германии должны были прекратиться. Но затруднения в этом отношении стали ощущаться уже задолго до революции. Ассигнованные нам незначительные суммы приходили к концу. Когда я приходил к немцам просить дальнейших ассигнований, то они мне очень любезно отвечали, что наличных средств у них в Киеве больше нет, что они просят таковых у военного министерства в Берлине, и просят настойчиво, но что там все больше и больше сказывается влияние социалистических партий и что поэтому военное министерство вынуждено обращаться с тайными финансами очень осторожно и т. д. и т. д. Как показало ближайшее затем время, причины эти были основательны; отчасти, впрочем, их не удовлетворяли организаторские способности деятелей Южной армии. Какой из этих двух мотивов преобладал – судить не берусь; вероятно, играли роль оба. Но факт был тот, что впереди средств у нас в виду не было и надо было изыскивать другой способ спасти те русские силы, которые уже были организованы, и продолжать уже начатое дело дальше.
При таком положении дел исход был только один: передать всю Южную армию в ведение и на содержание атамана Краснова, которому она была пока подчинена лишь в военном, строевом отношении. Приходилось отказываться от автономии, и это было многим моим сотрудникам очень неприятно. М.Е. Акацатов, в частности, очень горевал, что ему так и не придется вводить в Воронежскую губернию «свою администрацию» и способы управления. Я же лично считал, что так для пользы дела будет лучше: для успеха нужно было иметь под ногами основательную базу в лице уже организованного района или, еще лучше, государственного образования. В данном случае такими могли быть Украина, или Дон, или, еще лучше, оба вместе.
На деле так и вышло. Я поехал к Скоропадскому, у которого, начав организацию Южной армии, я стал бывать гораздо реже, чтобы не причинить ему неприятных запросов со стороны его украинских социалистов, и объяснил ему положение дел. Он снесся с Красновым, который согласился принять Южную армию на донскую службу – она могла быть ему очень полезной для ведения военных операций вне пределов Войска Донского, и было решено, что штаб Южной армии в Киеве будет переименован и будет исполнять функции лишь вербовочного бюро для армии, давая директивы остальным бюро в провинции, под руководством союза «Наша Родина», а что содержание, вооружение, снаряжение и прочее довольствие армия будет получать от Дона, по соглашению с Украиной. Военный штаб на Дону и начальствующие лица назначались уже не нами, а атаманом Красновым. Но пока все эти переговоры тянулись, наши средства иссякали и нам всем, а мне в особенности, пришлось пережить очень тяжелые дни и нравственные терзания! Ведь выходило так, что мы могли «подвести» честных русских людей, офицеров и солдат, доверившихся нам. Наконец, однако, 20 октября/3 ноября на станции Скороходово состоялось между Скоропадским и Красновым свидание, на котором они заключили между собою союз для борьбы с большевиками и решилась судьба Южной армии. Донской атаман испросил у гетмана на армию 76 миллионов рублей и снаряжение. Это было обещано и скоро начало приводиться в исполнение. 1/14 ноября приказом донского атамана была сформирована новая «Южная армия», во главе коей стал генерал Н.И. Иванов. Ядром этой армии стали уже сформированные нами части нашей Южной армии, вошедшей в новую армию под наименованием Воронежский корпус; части Астраханской армии, формировавшиеся под руководством крайне правых наших русских организаций в Киеве, вошли туда под наименованием Астраханский корпус, и немногочисленные формирования Саратовской армии, руководимые группой земских деятелей Саратовской губернии неопределенного политического направления, вошли туда под наименованием Саратовский корпус. Под опытным руководством атамана Краснова и генерала Иванова новая Южная армия стала быстро развиваться и крепнуть. Но еще до этого переустройства Воронежский корпус не без доблести сражался с большевиками в бою на станции Лиски. Это был единственный плод наших трудов, который нам, инициаторам организации Южной армии, пришлось еще увидеть.
Вскоре последовал разгром австро-германских армий, революции в Германии и Австрии и, как следствие их, частичное разложение австро-германских оккупационных армий на Украине, затем вынужденный уход их оттуда; незамена их союзническими силами; двойная игра союзников с гетманом и Петлюрой; восстание последнего на Украине и падение гетманского правительства.
В этом восстании вербовочные бюро Южной армии в разных городах и формировавшиеся при них некоторые небольшие части ее доблестно боролись с оружием в руках против украино-большевистских банд Петлюры, тщетно надеясь на обещанный приход и помощь союзников, и многие из них погибли в неравном бою, как и другие вооруженные отряды русских людей, надеявшихся еще спасти в лице Украины надежную базу для восстановления России. Союзники не помогли. Власть перешла к Петлюре и украинской «Директории», а русским деятелям на Украине оставалось лишь спасать свою шкуру кто как мог, ибо петлюровцы расправлялись со своими политическими противниками совершенно по-большевистски. Бежали они с тяжелой уверенностью, что союзники совершают непоправимую ошибку, предавая гетманскую Украину, что от Директории до торжества большевиков – один только шаг, и, увы, не ошиблись. Очень скоро выяснилось все бессилие Директории противостоять большевикам; достоянием последних скоро сделались сперва вся Украина, за нею Дон, а потом и Кубань, и Крым… Западноевропейские «демократии» торжествовали по всей линии, нас, «проклятых царистов», пытавшихся открыть им глаза на истинное положение дел в России, не слушали и слушать не хотели. Пусть же пеняют на самих себя, если у них среди русских эмигрантов осталось мало партизан: те, кто видел, что нарождалось на юге России в 1918 году и как все сделанное разлетелось во прах вследствие недомыслия союзников, как исчезали, одна за другой, надежды на спасение России от большевистского кошмара и во что она теперь, вследствие всего этого, превратилась, – те не могут питать сочувствия к тем союзным правительствам, которые допустили весь этот ужас! Теперь эти народы и правительства начинают как будто уже жалеть о содеянном, понимать свою ошибку, понимать, что были не правы, не слушая голоса тех, кто думал прежде всего о своей Родине, о России, а не об «ориентациях». Но не поздно ли?
Раздел 3
ОБОРОНА КИЕВА ОТ ПЕТЛЮРОВЦЕВ
В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1918 ГОДА
В. Хитрово[65]
КИЕВСКАЯ ЭПОПЕЯ 1918 ГОДА [66]
События, разыгравшиеся в Киеве в ноябре и декабре 1918 года, неоднократно описаны участниками, и если я к ним возвращаюсь, то делаю это потому, что мне пришлось быть активным участником драмы, подробности которой почти никому не известны.
* * *
В ночь с 30-го на 31 октября (все даты по старому стилю) 1918 года мы с женой покинули советскую Россию. Переодетые крестьянами, абсолютно без всякого багажа, с транспортом мешочников, отправлявшихся на Украину за сахаром и мукой, проехали мы через нейтральную зону. Пограничный советский пост миновали благополучно, так как начальник его спал, остановивший же нас и собиравшийся обыскивать красноармеец, получив несколько «керенок», не только не стал ничего проверять, но, взгромоздившись на повозку, проводил до околицы.
Дальнейший путь наш лежал через Белгород и Харьков на Киев. В поезде между Белгородом и Харьковом пассажирских вагонов не было, ехать пришлось в теплушках; и первое, что нас поразило, – это большевистское настроение толпы. Разговоры в теплушке не оставляли сомнения в том, что гетману приходит конец и что это не произойдет безболезненно.
В субботу 3 ноября прибыли, наконец, в Киев; и первое, что бросилось в глаза, – это огромные афиши, на которых значилось: «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».
В Киеве положение было следующее. Немцы, только что подписавшие на Западном фронте перемирие, собирались уходить и во внутреннюю жизнь страны больше не вмешивались. Пользуясь этим, Петлюра поднял восстание, понемногу охватившее почти всю страну, и гетман оказался изолированным в Киеве. Своих войск у него не было, и для защиты города пришлось прибегнуть к формированию добровольческих дружин. Последних было много, и перечислить их здесь я не в состоянии, как не в состоянии обрисовать и то чрезвычайно сложное политическое положение, которое застал в Киеве.
Были немцы, располагавшие реальной силой, но умывавшие руки, был представитель Добровольческой армии генерал Ломновский, [67] ничем решительно не располагавший, и был, наконец, гетман, отрешившийся от своей самостийности и поднявший русский национальный флаг, под сенью которого и начали формироваться дружины. Во главе войск стоял генерал граф Келлер.
Одной из самых значительных, вернее, самой значительной, была дружина, сформированная генералом Кирпичевым [68] и носившая его имя. Начальником его штаба был генерал Давыдов. Лев Николаевич Кирпичев, выпуска 1899 года из Константиновского артиллерийского училища, служил в лейб-гвардии Конной артиллерии и вышел в 1914 году на войну, командуя 2-й батареей. За бой 6 августа 1914 года у Каушен награжден орденом Святого Георгия.
К нему-то в штаб, на Прорезную улицу, и направил я свои стопы. Как и надо было ожидать, в дружине его состояли все находившиеся в Киеве офицеры лейб-гвардии Конной артиллерии, начиная с полковника Линевича, [69] который заведовал хозяйством, и кончая капитаном Сахновским, [70] который был начальником авиационного отряда.
Очень трудно с точностью сказать, что представляла из себя дружина по сравнению с частями регулярной армии. По количеству бойцов дружина едва ли превосходила полк, но начальник ее пользовался правами командира корпуса, и у него был многочисленный штаб. Дружина делилась на пять отделов, личный состав почти исключительно – офицеры. Отделы эти расположены были в разных частях города, имея первоначальной задачей охранение внутреннего порядка, и не предназначались для операций вне города. Меня Кирпичев сразу же назначил командиром первого отдела, приказав сменить генерала Иванова, деятельностью которого он был недоволен, считая его недостаточно энергичным. Вторым отделом командовал полковник Крейтон; [71] третьим – не помню кто; [72] четвертым – полковник Винберг [73] и пятым – полковник Гревс, [74] в отделе которого находилось подавляющее большинство входивших в состав дружины офицеров гвардии.
Первый отдел, в командование которым я немедленно вступил, находился в низменной части города, называвшейся Подол и заселенной преимущественно беднотой и евреями. Штаб отдела помещался в большой реквизированной квартире, в которой жила небольшая часть офицеров, входивших в состав дружины, примерно человек сорок, и для них имелся очень хорошо оборудованный дортуар с кроватями, одеялами и постельным бельем. Большинство же дружинников жили у себя на частных квартирах, являясь в указанные часы для несения службы. Да и мы с женой поместились в реквизированной для нас комнате гостиницы «Прага».
Очень прилично оборудованная столовая, в которой дружинники питались даром, помещалась в одной из комнат квартиры того же дома, а для занятий в нашем распоряжении был большой зал какого-то не функционировавшего учреждения.
Вооружение состояло из винтовок с достаточным количеством патронов и нескольких пулеметов. Артиллерии в дружине Кирпичева не было совершенно.
Ознакомившись с личным составом отдела, я увидел, что в нем числится много офицеров значительно старше меня. Вопервых, был адмирал, которого я просил заниматься хозяйственной частью. Были почтенные командиры пехотных полков: Лалевич, [75] георгиевский кавалер, и Колесов. [76] Последнего я просил быть помощником моим по строевой части. Адъютантом у меня остался адъютант генерала Иванова, поручик Лебедев, а через некоторое время пришлось создать должность начальника штаба, вернее, начальника канцелярии, и на должность эту я назначил Каспийского полка подполковника Сергея Семеновича Рябинина, [77] сразу же обратившего на себя мое внимание как своей внешней выправкой, так и безукоризненным отношением к делу.
Сергей Семенович женат был на француженке, находившейся также в Киеве, и этой исключительной женщине я хочу посвятить несколько строк. Парижанка, она в момент объявления войны в 1914 году оказалась в России, проработала всю войну на фронте сестрой милосердия и тогда же вышла замуж. Сопутствуя мужу во всех испытаниях Гражданской войны, она в 1921 году вернулась на родину. В 1927 году овдовела и с тех пор всецело посвятила себя помощи русским эмигрантам. Деятельный член Русского Красного Креста, она регулярно посещала русских в госпиталях, хлопотала за них в различных учреждениях и никому не отказывала в посильной помощи. Вынужденная служить, она часть своего скромного заработка неизменно тратила на помощь нуждающимся русским и делала это скромно и без всякой огласки. С трогательным вниманием относилась она ко всему, что касалось России, и, войдя к ней, никак нельзя было предположить, что живет здесь француженка. Везде царские портреты, фотографии военных, погоны, значки и виды России. Скончалась она в 1960 году и похоронена с мужем на кладбище в Банье.
Через несколько дней после принятия мною первого отдела положение в Киеве стало угрожающим. Петлюровцы подошли к городу почти вплотную, и я получил приказ, оставив на Подоле лишь нужное число офицеров для окарауливания помещения, выступить с отделом. Противник подходил с запада от Фастова, главным образом вдоль железной дороги. Командовал войсками, состоявшими из галичан и называвшихся «сечевыми стрельцами» австрийцев, полковник Генерального штаба Коновалец, [78] и говорили, что в роли начальника штаба состоял при нем Отмарштейн – лубенский гусар.
Добровольческие дружины занимали фронт перед Киевом полукругом, оба фланга которого упирались в Днепр. На крайнем левом фланге расположен был пятый отдел полковника Гревса, мне отводился центральный участок у железной дороги в районе поста Волынского. Моим соседом справа был Петя Воейков, [79] стрелок Императорской фамилии, паж годом старше меня по выпуску. Командовал он отрядом, не входившим в состав дружины Кирпичева. Еще правее располагалась дружина князя Святополк-Мирского. [80] Моим непосредственным соседом слева был полковник Крейтон.
Своих регулярных войск у гетмана не было. Последнее время, наспех, с разрешения немцев, сформированы были какие-то части, называвшиеся «сердюками», но полагаться на них было совершенно невозможно. Эти-то сердюки и занимали участок, на котором мне надлежало их сменить. Но, говоря о боевых действиях того времени, нужно иметь в виду, что они не имели ничего общего с настоящей войной. «Фронта», в общепринятом смысле этого слова, не было. Была Гражданская война, где противник мог находиться за каждым углом и где подчас его нельзя было ожидать.
Выступили мы с Подола вечером в четверг 8 ноября. Путь предстоял длинный. Шли мы пешком. Ночь была ясная и морозная. Адмирала просил я выслать нам наутро походную кухню и впредь заботиться о нашем снабжении. Нужно признать, что с задачей этой он справился блестяще и мы никогда ни в чем не нуждались. В полночь прибыли мы в указанную нам деревню, Большую Братскую, где находился штаб сердюков, которых мне надлежало сменить. Штаб помещался в избе, с тылом связывал его полевой телефон и имелась схема расположения. Сведения о противнике отсутствовали совершенно. Никакого соприкосновения с ним не было, разведка не производилась, да и как было ее производить. В общем, это было сторожевое охранение, могущее в случае наступления противника своевременно уведомить тыл, но совершенно не способное оказать маломальское сопротивление. Резервов в распоряжении Кирпичева не было.
Участок, который мне надлежало занять, совершенно не соответствовал моим силам. У меня была в лучшем случае рота полного состава, деревни же было две, так как кроме Б. Братской, в которой находился штаб и к которой примыкала железная дорога, правее и севернее была еще одна, отделенная от нас лугом шириною около полуверсты. Так что у меня было значительно больше двух верст. Северная деревня называлась Боршаговка. В ней, по словам смененного мною командира сердюков, находились его части, никем не тревожимые, и для занятия этой деревни я назначил 33 офицера, поручив командование полковнику Лалевичу. Лалевич ушел, я же принял от сердюков штаб, проверил телефонную связь с тылом. Смена на ближайших участках прошла безболезненно.
Стало светать, донесений от Лалевича не поступало, и это начинало меня беспокоить, как вдруг в сенях занятой штабом избы я услышал взволнованные голоса, и вслед за этим мне доложили, что от Лалевича прибыл офицер и что там произошло несчастье. Офицер доложил следующее.
Полковник Лалевич со своим отрядом подошел к Борщаговке в темноте, двигаясь без всяких мер охранения, что было понятно, так как он шел сменять свои части. При входе в деревню его окружили вооруженные люди, которых поначалу приняли за сердюков. Они не проявляли враждебности, уверяя, что «свои», и предлагая офицерам бросить оружие во избежание недоразумений и лишнего кровопролития. Лалевич будто бы на это пошел, что показалось мне странным и малоправдоподобным, но когда оружие было сдано, то выяснилось, что это петлюровцы, которые заперли офицеров в сарай с тем, чтобы их потом расстрелять. Докладывавший мне офицер, фамилию которого я забыл, был, по его словам, единственный, которому, пользуясь темнотой, удалось убежать.
Проверить рассказ было невозможно. Ясно было лишь, что Борщаговка занята противником, который в любой момент может беспрепятственно двинуться оттуда в Киев, так как «фронт» наш вытянут был в ниточку и никаких резервов не было. Куда девались занимавшие Борщаговку сердюки, было неясно.
Вызвав по телефону Кирпичева и сообщив ему эти тревожные сведения, я сказал, что немедленно с наличными силами постараюсь вновь занять Борщаговку, пока же надо считаться с тем, что сплошного фронта нет и путь к Киеву открыт. Затем отправился на северную оконечность деревни, где находилась церковь, и, став у ограды, начал рассматривать в бинокль Борщаговку, но, сколько я ни смотрел, никакого движения в ней заметно не было. Стоило мне, однако, выйти на открытое место, как оттуда раздались выстрелы и вокруг нас защелкали пули.
Рассыпав у северной окраины небольшую цепь, я вернулся в штаб и отдал распоряжение для овладения Борщаговкой. Удалось выделить около тридцати человек, начальство над которыми я поручил полковнику Колесову. Последний должен был очень редкой цепью перейти через разделявший обе деревни луг и занять Борщаговку. Для его поддержки установлены были у церковной ограды два пулемета, но огня последним открывать не пришлось, так как Колесов не встретил никакого сопротивления По нему не было сделано ни одного выстрела, и в деревне никого, кроме мирных жителей, не оказалось. Куда же девался противник?
Одной из особенностей Гражданской войны вообще, а в этот ее период в особенности, была полная невозможность отличить своих от чужих по форме одежды, не говоря уже о том, что все военные носили одинаковые шинели, те же шинели носили в деревнях демобилизованные, вернее, самодемобилизовавшиеся солдаты.
Лично я имел, как и большинство, папаху, а вместо шинели у меня была очень теплая зеленая охотничья куртка, на ногах валенки, на шее башлык. Так мог быть одет охотник, помещик и его управляющий, и нужно было очень близко подойти, чтобы разглядеть на папахе кокарду, а под башлыком погоны.
Получив донесение о безболезненном занятии Борщаговки и отсутствии противника, я приказал принять следующие меры. Во-первых, потребовать у жителей сдачи оружия, затем произвести поголовный обыск и арестовать тех, у кого последнее будет найдено. Таковых оказалось два. Осуществить обыск с нашими ничтожными силами оказалось практически невозможно, так как в скирдах и стогах запрятать можно было все, что угодно. Кроме того, выяснилось, что в деревне много мужчин призывного возраста, и во избежание неожиданностей около двадцати человек препровождены были в Б. Братскую и поселены в школе под охраной часовых. Мера предосторожности совершенно необходимая, принимая во внимание напряжение, создавшееся на моем участке.
Около полудня пришло драматическое донесение. За сараем, на северной окраине Борщаговки, найдены тела наших расстрелянных офицеров, причем последние были раздеты, а некоторые настолько изуродованы, что нельзя их опознать. Не только разбиты черепа, но вспороты были животы и вырваны целые куски мяса. Впечатление создавалось такое, что их грызли собаки.
Не считая возможным в такой тревожный момент покидать свой штаб, лично я трупов не видел и Колесову приказал офицерам их не показывать, чтобы, с одной стороны, не подрывать духа, а с другой – не вызывать лишнего озлобления. Сообщил в штаб дружины о трагической находке, и оттуда была выслана санитарная повозка.
Весть о случившемся разнеслась по всему Киеву, как всегда в таких случаях с огромными преувеличениями, и меня стали осаждать просьбами о справках. Убитые офицеры были привезены в штаб Кирпичева, оперативная часть которого помещалась в поезде у поста Волынского, и здесь с них сняты были фотографии. Снимки эти я, конечно, видел, – они были ужасны, но возникало два вопроса: зачем петлюровцы это сделали и когда же они успели?
Тогда я особенно в это не вникал, у меня были другие заботы. Сомнение зародилось тогда, когда недели две спустя неожиданно появился Павловский, один из офицеров, числящийся среди расстрелянных, и рассказал, как он спасся. По его словам, безоружных офицеров продержали в сарае до рассвета, затем стали по четыре человека выводить на «суд» и немедленно расстреливать. Таким же образом вывели и его и в одном белье расстреляли, но ни одна нуля в него не попала, он же нарочно упал и притворился мертвым, а после ухода красных бежал в город. На мой вопрос, почему же он не явился ко мне сразу, Павловский дал чрезвычайно сбивчивые показания.
Ясно было, что здесь что-то неладно. Количество найденных трупов совпадало с количеством офицеров отряда Лалевича, и, сопоставляя все данные, можно было предположить следующее. Часть дружинников смогли скрыться сразу же, после того как их разоружили, и не пожелали вернуться. Остальные попали в плен и были расстреляны, так некоторые убитые были опознаны. Но не все.
Возможно и вероятно, что в том месте, где их убивали, находились тела ранее расстрелянных, кем и когда – неизвестно, и они-то и были изуродованы. Неясным оставался вопрос: каким образом, если это так, о нахождении в Борщаговке изуродованных трупов не знали смененные нами сердюки? Но здесь мы затрагиваем такую область, в которой вообще ничего разобрать нельзя. Кто такие сердюки и на чьей стороне были их симпатии?
В один из последующих дней ко мне в дружину явилось два сердюка, с полным вооружением и с предложением поступить на службу. Откуда они появились, было совершенно непонятно. Их обыскали. У одного из них оказалась записная книжка, подобие дневника, из которого можно было понять, что они уже трижды переходили из одного лагеря в другой и к нам теперь пришли непосредственно от петлюровцев. Пришлось отправить их в штаб отряда.
Убитых офицеров торжественно отпевали в соборе. На похоронах присутствовало все начальство, местные власти и масса народа. Для возложения венка от отдела я командировал делегацию во главе с подполковником Рябининым.
Все это произошло в ночь с 8-го на 9 декабря. В течение последующих дней положение оставалось очень напряженным. Никакого пополнения я не получил, и офицеры стали очень волноваться. Было сильное подозрение, что убийство дело рук местного населения, враг чудился за каждым утлом, и я должен был заявить населению, что находившиеся арестованными в школе двадцать человек рассматриваются как заложники. Кормили их из нашего котла, да, кроме того, они с собой захватили немало провизии. Эта ли мера подействовала – не знаю, – но дальнейшее пребывание наше в этом районе прошло совершенно спокойно.
А несколько дней спустя ко мне нагрянул военно-полевой суд для того, чтобы судить виновников избиения офицеров. С судом прибыл и карательный отряд, человек двадцать офицеров, великолепно одетых, подтянутых, дисциплинированных, и я искренне пожалел, что не могу их оставить у себя. Из разговора с председателем суда я понял, что его задача заключается в том, чтобы покарать виновных и дать удовлетворение общественному мнению. Особенно волновались офицеры, возмущенные произведенными зверствами. А кто виновные и где их искать? У меня имелся список арестованных, но кроме двух, у которых найдено было оружие, определенных улик против других у меня не было. Суд решил опросить всех и после долгого обсуждения вынес приговор четырем, остальных отпустили домой.
В течение последующих дней никаких событий не было. Как-то вдоль линии железной дороги предпринята была попытка наступления, из которого ничего не вышло, несмотря на выезд на передовые позиции главнокомандующего генерала графа Келлера со штабом. Как-то через фронт для переговоров прошел пешком французский консул, местный, учитель французского языка. Но в общем жизнь протекала спокойно. Адмирал аккуратно доставлял продовольствие, а однажды приехал к нам с походной кухней питательный пункт Красного Креста во главе с герцогиней Еленой Георгиевной Лейхтенбергской. [81]
Как-то раз слышу за окном хорошо мне знакомый голос, который называет мою фамилию. Кто это? Оказывается, бывший мой воспитатель в Пажеском корпусе полковник A.A. Бертельс. [82] С мешком на спине пришел он пешком с ближайшей станции, чтобы принести подарки офицерам своего бывшего воспитанника. Я был очень тронут.
Дисциплина отдела моего была на должной высоте. Знаю, что так же было в отделе Гревса и, вероятно, в других отделах дружины Кирпичева, зато разные «отряды», в огромном числе расплодившиеся по инициативе отдельных лиц, были чрезвычайно распущены. Помнится, что мне пришлось очень крупно поговорить с начальником одного «отряда», появившегося на моем участке и устроившего загул с дамами. Но решительных мер принимать не пришлось, так как отряд этот ушел в неизвестном направлении.
Особенное внимание обратил и на несение ночью службы сторожевого охранения, для чего каждую ночь в сопровождении одного или двух офицеров обходил все посты и заставы. Жили же мы все скученно в каком-то большом здании, кажется школе.
30 ноября в деревню мою прибыла и в ней расположилась немецкая кавалерия. Цель ее прибытия заключалась в том, чтобы оградить Киев от вторжения петлюровских банд, что достигалось одним фактом присутствия немцев на линии фронта. Появление на больших сытых конях всадников, прекрасно одетых и вооруженных, произвело на нас большое впечатление, и рядом с ними мы ярко ощущали свое бессилие и бедность нашего вооружения. Расположились немцы в лучших домах, потребовали очищения занятого нами здания и на протесты наши внимания не обращали. Они были хозяева, и нам оставалось слушаться и подчиняться.
Совместная наша жизнь продолжалась, однако, недолго, да и смысла не имела. В памяти моей не сохранилось никаких интересных эпизодов, относящихся к этому периоду. Вскоре мы были отозваны с линии фронта, и я со своим отделом вернулся на Подол.
Здесь, на Подоле, провел я последние две недели киевской эпопеи, и период этот ничем не ознаменовался. Порядок на Подоле не нарушался, и большинство офицеров ночевало дома. Попытки мои получить в свое распоряжение автомобиль успехом не увенчались, а был он мне крайне необходим, как для поездок на Прорезную, так и для объезда вверенного мне района.
Вопрос контрразведки, вопрос ограждения нас от проникновения в нашу среду петлюровских агентов поставлен был из рук вон плохо. Можно сказать, что контрразведки просто не существовало. При принятии мною первого отдела в его составе было несколько штатских, так как в принципе в дружину принимались и не военные, при условии, конечно, проверки их политической благонадежности. Но как было проверить? Кроме того, наличие штатских в нашей среде давало посторонним возможность проникать в наше помещение, не обращая на себя внимания, и я раз застал обедающим в нашей столовой совершенно мне незнакомую личность. Бумаг никаких он предъявить не мог, и его следовало бы арестовать. Но, арестовав, что было с ним делать? И какое предъявить обвинение? Я ограничился тем, что приказал ему убраться. Когда же несколько дней спустя встретил этого типа в штабе дружины, то сообщил кому следует, хотя он, увидав меня, поспешил скрыться, и задержать его не удалось. Когда после занятия петлюровцами Киева часть офицеров оказалась арестованной в Педагогическом музее, эта личность туда явилась и потребовала полковника Хитрово. К нему вывели моего брата Александра. [83] «Нет, – говорит, – не тот». Брат мой, Михаил, [84] тоже оказался «не тем», и их оставили в покое. Мне это стало известно и заставило ускорить отъезд из Киева. Но я забегаю вперед.
С начала декабря положение в Киеве явно ухудшилось, и ухудшение это не было результатом неудачных боев и проигранных сражений. Никто не сражался, Киев же держался потому, что окрестные деревни заняты были немцами, одно присутствие которых исключало возможность боев. Но как-то само собою все разваливалось и окончательно рухнуло, когда немцы вернулись в город. У них тоже существовали уже комитеты, с которыми командный состав вынужден был считаться.
Графа Келлера на посту главнокомандующего сменил генерал Долгоруков, но это ничего не изменило.
13 декабря стало ясно, что дело плохо, и вечером получено было распоряжение выслать в штаб дружины приемщика за деньгами и немедленно выплатить всем жалованье за декабрь. Благодарить за это нужно было Линевича, заведующего хозяйством дружины, благодаря настойчивости которого удалось получить из казначейства нужные средства. Мой казначей засел немедленно за работу и всю ночь выплачивал, так что к утру все без исключения чины отдела получили то, что им причиталось.
Утром 14 декабря по телефону передали приказ – всем отделам стягиваться на сборный пункт в Педагогический музей, находившийся в центре города. Зачем, в приказе не говорилось. И как-то сразу после этого распоряжения связь со штабом прекратилась. Посланный офицер доложил, что в штабе вообще никого больше нет, помещение пусто и на Прорезной в большом количестве валяются брошенные бумаги. Стало ясно, что все рухнуло и нужно принимать какое-то решение. Но какое?
Почти все офицеры первого отдела собраны были на Подоле. Вскоре же мне пришли сообщить, что на площадь прибывают офицеры других отделов и среди них ведутся разговоры о необходимости переправиться по Дарницкому мосту через Днепр и идти походным порядком на Дон. Осуществимо ли это было?
Само собою разумеется, что с тем, чем я располагал, об этом не приходилось и думать. Могло ли осуществить это высшее командование, сказать трудно. Положение было очень сложное, и прежде всего для этого нужно было окончательно сдать в архив самостийность и двигаться на Дон с тем, чтобы, прибыв туда, подчиниться Добровольческой армии и восприять ее идеологию. Способен ли был на это гетман и его окружение? Думаю, что нет. Затем нужно было заранее начать подготовку к походу, чего сделано не было, назначение же сборного пункта не на Подоле, на пути к мосту через Днепр, а в центре города, с несомненностью указывало на то, что вывод войск из Киева не входил в намерение главного командования. И непонятно было, зачем нас туда звали.
По свидетельству одного из участников этих событий, решение стягиваться в Педагогический музей носило чисто случайный характер и принято было в штабе Кирпичева утром 14 декабря по предложению офицеров второго отдела (полковника Крейтона). Констатировав невозможность ухода на Дон, решив, что разойтись по домам, то есть распылиться, невозможно, офицеры этого отдела предложили Кирпичеву собрать всех в какое-нибудь центральное место, после чего начать переговоры через «представителей думы». Так и решили и сборным пунктом выбрали Педагогический музей, куда и пошли.
Всего этого, конечно, я не знал. Нужно было либо немедленно всех распустить по домам, либо идти на сборный пункт, и так как распылиться никогда не было поздно, то я и решил предварительно выяснить, что происходит в музее. День в декабре очень короткий. Пока стягивались к штабу все разбросанные по Подолу посты, пока выяснилась невозможность связаться со штабом дружины и пока достали повозки, на которые погрузили пулеметы, патроны и все имевшееся у нас имущество, стало смеркаться.
С мерами охранения, с головным отрядом, дозорами и небольшим арьергардом двинулись мы в путь. В гору поднялись благополучно. Настроение нервное. Кто-то из идущих впереди выстрелил и ранил своего же. При подходе к одному из перекрестков, недалеко от музея, дозоры остановились. Я вышел вперед посмотреть, что случилось. Темно. На перекрестке горит костер, около которого грелись какие-то люди. Присматриваюсь, вижу: солдаты. «Кто такие?» – «Сечевики!», иными словами – петлюровцы. «А вы кто такие?» – «Свои». Но, сказавши это, я поспешил отойти дальше. Разведка, высланная в разные стороны, с несомненностью выяснила, что весь город занят петлюровцами и мы являемся единственной добровольческой частью, не сложившей оружия и не попавшей в музей. Идти туда бессмысленно и едва ли возможно. Оставалось разойтись по домам, что мы и сделали. Должен признать, что к моменту принятия этого решения в строю оставалось ничтожное количество офицеров. Отдел понемногу растаял.
Последующие дни нам с женой пришлось скрываться, постоянно меняя квартиры. Сшил я себе штатское платье и днем не выходил. Знал, что меня ищут, что граф Келлер вместе со своим адъютантом полковником Пантелеевым [85] убиты на следующий день после прихода петлюровцев, что в Педагогический музей брошена была бомба и что только присутствие немцев спасло находившихся там офицеров от самосуда. Благодаря самоотверженной работе Красного Креста, а также жен и сестер арестованных их понемногу удавалось освобождать, и они спешили покинуть Киев.
Нужно было и мне уезжать, и так как едущим в Одессу чинили большие затруднения, то я решил ехать в Екатеринослав, раздобыв удостоверение киевской городской управы о том, что я техник, командируемый для закупки нефти, мазута и других материалов для нужд города Киева.
До Екатеринослава добрался благополучно, но на следующий день город оказался во власти Махно и в моей гостинице матросами был произведен поголовный обыск. Спас меня паспорт, выданный 11 октября в управлении орловской городской милиции. В графе, касающейся воинской повинности, значилось: «Уволен вовсе от военной службы», фраза вполне матроса удовлетворившая.
Махно правил недолго и через несколько дней изгнан был «атаманом» Григорьевым, при котором начали ходить поезда, и я перебрался в Никополь, где оказался в одной гостинице с известным табачным фабрикантом Богдановым. Он с семьей пробирался, как и я, в Крым, и мы решили продолжать путешествие на лошадях.
Наняли две подводы, переправились через Днепр на пароме и двинулись на Мелитополь. Произошло это утром 4 января 1919 года. Путешествие представляло некоторый риск, так как нас предупреждали, что в Северной Таврии полное безвластие и что на степных просторах «пошаливают» разбойники. О том, где начинается сфера Добровольческой армии, никто понятия не имел.
Сошло все совершенно гладко. По местности, ровной как стол, катили мы беспрепятственно и, переночевав в каком-то большом селении, к вечеру 5 января приехали в Мелитополь и отправились на вокзал. Я не верил своим глазам. В форме, с погонами и оружием, ходили офицеры. Но еще больше я был удивлен, когда узнал, что в городе расположен Сводно-гвардейский полк Добровольческой армии, которым командовал генерал Тилло. [86] В штабе последнего я почувствовал себя дома. Офицеры почти все знакомые, и среди них много бывших пажей. 6 января генерал Тилло, для того чтобы легализировать мое положение, зачислил меня в списки полка и выдал соответствующее удостоверение за № 58, которое каким-то чудом у меня сохранилось.
М. Нестерович-Берг[87]
В КИЕВЕ В КОНЦЕ 1918 ГОДА [88]
Тревожно было в Киеве. Поговаривали о наступлении Петлюры, об увеличении его армии: к нему присоединились и крестьяне, и все городские низы. Открыто говорили о том, что недурно будет пограбить собравшихся буржуев. Кто защитит Киев – никому не было известно.
Как-то, отправившись во дворец к гетману, я случайно встретила там добровольца полковника Святополк-Мирского. Он занимал должность помощника командира Георгиевского полка.
– Вот счастье! Ведь мы не виделись после Новочеркасска. Как раз вы-то нам и нужны. Приезжайте сегодня в штаб на Львовскую улицу.
– В какой штаб? – удивилась я.
– Да в штаб 1-й офицерской добровольческой дружины. Я – командир.
И все-таки я не могла понять, что это за добровольческая дружина… вечером поехала на Львовскую. И как только вошла в помещение, все стало ясно. Все и всё напомнили мне Новочеркасск и Барочную. Полно офицеров, юнкеров, гимназистов… Значит, опять «позиции», опять польется офицерская кровь…
Офицеры разошлись, мы остались с Мирским вдвоем.
– Не напоминает ли вам это помещение Барочную?
– Даже очень.
– Так скажите: что все это значит?
– Ввиду наступления на Киев Петлюры мы сорганизовали две дружины для защиты города: вторую офицерскую добровольческую дружину, которой командует полковник Рубанов, и первую дружину, которой командует ваш покорный слуга. Очень рад, что вас встретил. Возьмите в свои руки благотворительную часть. Германское правительство разрешило нам сорганизоваться.
– Что? Разрешило?! Да немцы должны вас благодарить. Их же будете спасать…
Опять непонятно было все это. Почему Киев должны защищать добровольцы-офицеры? Куда же девалось все мужское население Киева? Почему всем мужчинам не защищать Киев? Я хорошо знала полковника Святополк-Мирского, отличного офицера и честнейшего человека, общего любимца. На его предложение я согласилась. Но откуда добыть денег?
На следующий день я получила удостоверение за № 34 с подписями, уполномочивающее меня на денежные сборы, и сразу приступила к работе. Из штаба гетмана мне также прислали бумагу за № 402. Назначение мое состоялось 15 ноября 1918 года. Я долго соображала, с чего бы начать, как изловчиться, чтобы достать средства?
Опять судьба приказывала гонимому, истерзанному офицерству защищать Киев, опять должны были пролиться потоки офицерской крови. Наступал тупой и кровожадный атаман Петлюра. Доверив случаю всех близких и любимых, истинные сыны России готовились отстоять грудью Киев…
Ну а самый город? Как чувствовал себя киевский обыватель? Обыватель веселился – пир во время чумы. Пусть где-то сражаются, нас это не интересует нимало, нам весело, пусть потоками льется офицерская кровь, зато здесь во всех ресторанах и шантанах шампанское: пей, пока пьется. Какой позор эти кутившие тогда весельчаки! Припоминались вновь слова атамана Каледина: «Пропащая страна Россия. Отдали на растерзание детей своих»…
Опять взяла я кружку и пошла побираться к пьяной толпе. Было уже поздно, когда я вошла в один из ресторанов на виду. Шум, гам, пестрая толпа, цветы, женщины, музыка, заглушающая смех и говор. Глядя на эту Россию, становилось жутко. Когда настал перерыв в оркестре, я собрала все свои силенки и крикнула в толпу, сама испугавшись своего голоса:
– Тепло вам здесь и весело. Все сыты. Льется вино. А в нескольких верстах за Киевом начались бои. Дерутся офицеры. Льется кровь защитников ваших. Слышите? Они защищают вас своей грудью, они проливают кровь, чтобы вам здесь никто не помешал, чтобы вам было весело.
Я почти криком кричала, насколько хватало голоса!
– Они дерутся за вас, бросив на произвол судьбы своих детей. Я прихожу к вам, помогите накормить детей защитников Киева. Если не хотите взять оружия в руки и исполнить свой долг в окопах, рядом с офицерами, исполните его здесь, в тылу!
Толпа постепенно умолкала. Стало совсем тихо. Я прошла с кружкой. Кто-то заметил: «Она ненормальна». Но сказанное мною произвело на веселую толпу должное впечатление. Я собрала тогда около 12 тысяч рублей.
На другой же день была открыта бесплатная столовая для офицеров 1-й и 2-й добровольческих дружин имени генералов Алексеева, Корнилова и Маркова, [89] на Столыпинской улице. Давали в ней хорошие бесплатные обеды и ужины офицерам-добровольцам и их семьям. Число обедающих увеличивалось с каждым днем перед падением Киева.
Сборы наладились. Скоро по всему городу были расклеены большие плакаты дружин с призывом к населению о помощи мне всеми мерами: начались бои, число вдов и сирот возрастало, был мороз, шел снег, а герои офицеры дрались полуодетые…
Святополк-Мирский просил меня достать теплой одежды. Мне указали, что на Подоле можно купить дешево. Действительно, в еврейских лавках я нашла целые интендантские склады: столько всего, что смело можно было бы одеть и обуть армию. Купила за грош сорок полушубков и привезла на двух извозчиках на Львовскую. И не сказать, как обрадовались дружинники. Я обратилась в редакцию «Киевлянина». Мне назвали сестру В. Шульгина, П.В. Могилянскую. Милейшая женщина! Без нее ничего бы я тогда не сделала; всем, что мне удалось, я обязана исключительно П.В. Могилянской… Так хотелось бы сейчас, чтобы она почувствовала всю мою благодарность – благодарность от имени тех тысяч офицерских семей, которых она накормила, спасла от смерти, благодарность и за те деньги, которые я от нее получала на помощь офицерам…
Начали формироваться разные благотворительные комитеты, крупнейшей была организация комитета землевладельцев, с графом Гейденом во главе. В комитете самообложения граждан Киева было собрано 3 миллиона 900 тысяч рублей. Этими деньгами, если не ошибаюсь, распоряжался А. Пиленко. За мною прислали из комитета землевладельцев (по Лютеранской ул.). Принял меня граф Гейден, предложил работать с ним. До тех пор я работала исключительно с редакцией «Киевлянина». Могилянская давала деньги на пособия и столовую, дружина проверяла денежные отчеты и удостоверяла правильность расходов. Согласившись работать у графа Гейдена, я просила дать мне полную свободу: нельзя было в те дни работать продуктивно по трафаретам мирного времени. Граф Гейден согласился. Тогда же вечером на заседании комитета выбрали меня председательницей. Я дала согласие только на время, так как была моложе всех.
Членами-учредителями являлись: Вл. Серг. Полянский, А.Н. Ратьков-Рожнов, М.В. Кочубей, граф Д.А. Гейден, Елиз. Меллер-Закомельская, С.В. Гревс, М.Н. Гессе.
На следующий день я пришла в комитет и принимала официально. Двери не закрывались. Деньги в комитете были, кажется, от сахарозаводчиков, столовую финансировала г-жа Могилянская из «Киевлянина»; все, что выдавали в комитете, записывали в книги; кроме, меня всегда дежурили два-три члена.
Больше всего работала я с княгиней Ел.Ал. Голицыной. Офицерские просьбы исполнялись немедленно. Я радовалась, что наконец наладилась правильная работа, что не нужно ходить и клянчить без конца, протягивая руку.
* * *
Киев поразили как громом плакаты с фотографиями 33 зверски замученных офицеров. Невероятно были истерзаны эти офицеры. Я видела целые партии расстрелянных большевиками, сложенных, как дрова, в погребах одной из больших больниц Москвы, но это были все – только расстрелянные люди. Здесь же я увидела другое. Кошмар этих киевских трупов нельзя описать. Видно было, что раньше, чем убить, их страшно, жестоко, долго мучили. Выколотые глаза; отрезанные уши и носы; вырезанные языки, приколотые к груди вместо георгиевских крестов; разрезанные животы, кишки, повешенные на шею; положенные в желудки еловые сучья. Кто только был тогда в Киеве, тот помнит эти похороны жертв петлюровской армии. Поистине – черная страница малорусской истории, зверского украинского шовинизма! Все поняли, что в смысле бесчеловечности нет разницы между большевиками и наступающими на Киев петлюровскими бандами. Началась паника и бегство из Киева. Создалось впечатление, что тех, кого не дорезали большевики, докончат «украинцы».
Я продолжала мою работу в комитете. Как-то утром прибежала моя покойная сестра Галя. Со мною была княгиня Голицына.
– Знаешь что? Петлюровцы вошли в Киев со стороны Печерска, гетмана вывезли немцы, а его главнокомандующий, князь Долгорукий, бежал, не оставив никаких распоряжений.
Пришедший гр. Гейден подтвердил страшное известие.
Ликвидировав все, что можно было, в комитете, я вышла на улицу. Куда деваться? На квартиру Галя идти не советовала. Отправилась я к знакомому рабочему, который и приютил меня с мужем. Опять повторилась старая история: с Печерска вошли петлюровцы, а на Волынском посту удерживали еще фронт офицеры… Ночью же производились уже аресты и расстрелы. Много было убито офицеров, находившихся на излечении в госпиталях, свалочные места были буквально забиты офицерскими трупами. Мое положение становилось опаснее с каждым днем, бегство из Киева предуказывалось событиями.
На второй же день после вторжения Петлюры мне сообщили, что анатомический театр на Фундукулеевской улице завален трупами, что ночью привезли туда 163 офицера. Я решила пойти и убедиться «своими глазами». Переодевшись, отправилась я в анатомический театр… Сунула сторожу 25 рублей, он впустил меня.
Господи, что я увидела! На столах в пяти залах были сложены трупы жестоко, зверски, злодейски, изуверски замученных! Ни одного расстрелянного или просто убитого, все – со следами чудовищных пыток. На полу были лужи крови, пройти нельзя, и почти у всех головы отрублены, у многих оставалась только шея с частью подбородка, у некоторых распороты животы. Всю ночь возили эти трупы. Такого ужаса я не видела даже у большевиков. Видела больше, много больше трупов, но таких умученных не было!..
– Некоторые еще были живы, – докладывал сторож, – еще корчились тут.
– Как же их доставили сюда?
– На грузовиках. У них просто. Хуже нет галичан. Кровожадные. Привезли одного: угодило разрывной гранатой в живот, а голова уцелела… Так один украинец прикладом разбил голову, мозги брызнули, а украинец хоть бы что – обтерся и плюнул. Бесы, а не люди, – даже перекрестился сторож.
Окна наши выходили на улицу. Я постоянно видела, как ведут арестованных офицеров. Утром узнала, что расстреляли графа Келлера, бывшего главнокомандующего обороной Киева. Прятался он в Михайловском монастыре, откуда знакомый монах прислал мне записку. Советовал немедленно бежать из Киева; в монастыре я часто бывала, там петлюровцы меня искали и грозили «сделать из меня котлету». Место ночлега пришлось переменить, враги были почти на моем следу, было объявлено командиром осадного корпуса, что арестовавший меня получит 100 тысяч карбованцев награды.
В этот же день муж мой благополучно бежал в Бердичев. На следующий день, с документами на имя курсистки, бежала и я. Но в Бердичеве тоже было небезопасно. Надо было как можно скорее пробираться в Одессу.
С большим трудом доехали мы до Знаменки. Дальше поезд не шел. Наступал атаман Григорьев. Этот разбойник дрался в то время с немцами и с петлюровцами. В поезде ехало много переодетых офицеров по подложным документам.
Я вышла на площадку вагона, вокзал был полон вооруженных людей: солдат, рабочих, матросов и просто пьяных мужиков. В нашем вагоне ехали исключительно переодетые офицеры. Из женщин были только я и моя подруга детства, необыкновенной красоты женщина. Она ехала в качестве жены моего мужа, а я просто как курсистка. Жизнь каждого из нас зависела от простого случая, висела, что называется, на волоске.
Подходит патруль григорьевцев проверить документы: жизнь или смерть?
– Здесь только что проверяли, – говорю спокойно.
– Добре, – и прошли мимо.
Слава Богу, удалось; не обратил внимания атаман Григорьев. Боже, что за тип! Высоченный, в огромной папахе, в длинной, до полу шубе, с винтовкой за плечами, ручные гранаты, два нагана и нагайка за поясом, в руках попросту дубинка, «украинская булава», – для разбивания голов несчастным жертвам. Пьян, еле на ногах стоит.
В то время невозможно понять было, кто с кем дерется и где какая власть. По пути всюду встречались немецкие эшелоны, возвращающиеся в Германию. Немцы были прекрасно вооружены, и это спасало, конечно, больше всего и нас всех от массовых расстрелов и зверств.
Поезд наш тронулся. Нигде на станциях не было ни стрелочников, ни начальников станций. Все в панике бежали, спасая жизнь. От Бердичева до станции Выгода, 350 верст, ехали мы одиннадцать дней! В Выгоду приехали в 2 часа ночи. Было холодно. Декабрь стоял морозный. Крохотная станция, еще какие-то поезда, «обыск», «проверка документов»… В вагон ввалились солдаты, подошли к моему мужу, документ у него был на имя Белкина-Белиновича. «Выходи», – раздался грозный голос.
Я сидела спокойно, пока не услышала этого «выходи». Муж вышел на темный перрон, а с ним сопровождавшая нас дама, я – за ними. На перроне стояли группами люди, окруженные гайдамаками, все это были переодетые офицеры, пробиравшиеся, как и мы, в Одессу, и всех высадили из вагонов. Я подошла к украинцу и спросила, что с этими людьми сделают.
– А кто знает? Что скажет комендант. Расстрелять нужно. Все – гетманцы, стоят за Скоропадского, а мы за Петлюру.
Я предложила моей подруге бросить играть роль жены моего мужа и поменяться со мной документами. Но, к нашему удивлению, она тотчас пошла к коменданту и через каких-нибудь 20 минут вернулась в сопровождении его самого за мною, будто бы кузиной, и мужем. Мы отправились в комендантскую комнату… пить чай. Комендантом оказался поручик из Львова, студент-политехник, ярый украинец. Во время чая, который не шел в горло, завязался разговор.
– Видите ли, – говорил украинец, – мы всю Украину очистим, а потом при помощи мужиков заведем порядок. Галиция, все земли от Львова до Одессы – все будет наше. Мы ляхам зададим перцу. Даже если бы пришлось во Львове камня на камне не оставить, всех ляхов до единого вырежем!
Жутко было слушать этого фанатика. Но украинские чувства свои передавал он правдиво. Тогда этой расправы с поляками все действительно жаждали, но не рассчитали малого, ошиблись: Львов – не Киев…
Оборона Львова – поистине золотая страница в истории Польши. Юных героев – защитников Львова никто не мобилизовал, никто им не приказывал идти умирать. Сами пошли, потому что в отроческих сердцах их горела любовь подлинная к отечеству. Детям Львова родина оказалась дороже всего на свете. У всех вырвался один крик из груди: «Отечество в опасности, все за оружие, все на улицу, умрем с честью». И случилось то, что в таких случаях случается. Победили, хотя умерли. И будут вечно жить в памяти польского народа эти герои-дети, «орлята Львова». Враг дрогнул, покинул город, утихли орудия, и, преклонившись перед патриотизмом юношей, которые оказались сильнее орудий, враг отступил. А потом повезли их на братское кладбище, отдали навеки той земле, которую они так безгранично любили…
Честь вам, орлята Львова! Не только Польша, но вся Европа должна преклонить перед вами колени. Пусть послужит подвиг ваш примером всей молодежи культурного мира. Честь вам, польские дети! Герои! Ах, если бы так было в Киеве и вообще в России, не торжествовало бы там сегодня зло!
Возвращаюсь опять к разговору с комендантом.
– Вы в Одессу не проедете, – говорил он, – всюду по пути разосланы о вас телеграммы: узнают и арестуют.
Опять пришлось вернуться в Знаменку. Боже, что это было за путешествие в тисках пьяной, разбойной толпы.
Из Знаменки мы пробрались с немецким эшелоном в Николаев, где взяли нас под свою защиту англичане. В Одессу с большим комфортом мы прибыли на английском корабле. Приютил нас известный одесский священник, у которого оба сына были добровольцами. В то время Одесса кишела оккупационными войсками, главным образом французскими. Я ничем больше не занималась, никуда не ходила, последние скитания окончательно подорвали мои силы.
Как-то приехал из Киева на паровозе, в роли кочегара, генерал Фрейденбург, начальник 53-й пехотной дивизии. Узнав мой адрес в Одессе, он зашел поговорить.
– Какое ваше впечатление об Одессе? – спросил он.
– То же, что и везде. Несмотря на оккупацию союзных войск, настроение тяжелое, как было в Киеве перед Петлюрой. В гостинице «Лондонской» льется шампанское, а на окраине мобилизуются массы рабочих, им раздается оружие, в то время как офицерство, исполнившее свой долг, голодает…
И у союзников было нехорошо: фронт еле удерживался, тяжелое впечатление произвел бунт на корабле «Мирабо». Становилось все очевиднее, что придется бежать и из Одессы, и скоро.
Помощь иностранцев только отсрочивала катастрофу. Пришли греческие войска, после выгрузки сразу ринулись на фронт. Дрались храбро, потери были большие.
В Одессе был тогда и Польский легион из армии генерала Желиховского… Было также и нечто вовсе несообразное: сформировалась «Еврейская студенческая дружина». Последним обстоятельством я была глубоко поражена. Кто и зачем разрешил формироваться этой дружине? Я сказала генералу Фрейденбургу:
– Что это? Готовая большевистская часть в Одессе? (Мое предсказание, увы, оправдалось.)
Встретила барона Меллер-Закомельского, [90] который дал мне 500 рублей, прося устроить обеды беднейшему офицерству.
Жена его рассказала мне курьез: в Киеве какая-то особа называла себя мною и шантажировала некоторых лиц, не знавших меня в лицо…
Открыла я столовую на Тираспольской улице. Обеды давались бесплатно. Столующихся было много, а средств почти никаких. Написали в газетах о моей бесплатной столовой, г-жа Шварц прислала 5 тысяч рублей, но это была капля в море. В столовой получали обеды не только офицеры, но и безработные, которых тогда насчитывалось до 35 тысяч человек.
Положение Одессы становилось все хуже и хуже. Враг стоял под самым городом. Началось бегство. Прежде всего исчезли извозчики, попрятались, чтобы не дать буржуям уехать. Часть Одессы уже заняли большевики. Каждый старался попасть в полосу, занятую союзниками.
Начались расстрелы… Первых же заложников расстреляла… Еврейская студенческая дружина, которая потом называлась отрядом особого назначения при чрезвычайке. Мое предсказание оправдалось полностью. На рынке эта же дружина расстреляла нескольких офицеров из Польского легиона.
Чудом, в последнюю минуту, мы добрались до порта. Что там творилось! Все корабли набиты беженцами, люди стоят стеной, у всех одна цель – Крым, где удерживалась Добровольческая армия. Много русских пароходов. У мола огромнейший океанский «Кронштадт». На нем мы и устраиваемся. Но на «Кронштадте» ни капитана, ни матросов. Собрали офицеров и решили собственными силами добраться до Крыма. Между нами нашлось несколько морских офицеров. Всего было не менее 4 тысяч пассажиров, множество детей: эвакуировались кадетские корпуса, женские институты, гимназии. Присоединились к ним, конечно, все несчастные люди, которым красное знамя грозило смертью, и в первую очередь – бесправные, гонимые офицеры и их семьи.
«Кронштадт» вышел в море. Я устроилась в нижнем трюме, где были только офицеры и их семьи, и улеглась спать на полу. Ни к чему другому от усталости я не была способна.
Когда я проснулась, удивила меня паника на пароходе. Я вышла на палубу и убедилась, что мы стоим на мели в 30-40 шагах от берега, а причиной тревоги большевистская артиллерия, расположенная по берегу от румынской границы, – недвижный, наклонившийся на бок «Кронштадт» служил для нее отличной мишенью. Позже я узнала от офицера, что на пароходе находились большевистские агенты (из пассажиров). Два раза в машинном отделении был выпущен из котлов пар, что кончилось бы взрывом, если бы не заметили вовремя. Не было никакого исхода. Союзные эскадры проходили равнодушно мимо, покидая Одессу и оставляя без малейшего внимания наши SOS. Мы послали по радио телеграмму в Одессу о нашем бедствии (хотя часть путешественников была против: могли перехватить большевики!).
Часа через два пришел военный французский корабль, но все его попытки сдвинуть нас с места не увенчались успехом. Французы объявили, что ничего сделать не могут, и скрылись. Выручил военный английский крейсер. Капитан и человек десять индусов подплыли к нам в лодке и молниеносно, не говоря ни слова, побежали в машинное отделение. Капитан вскоре вышел и объявил публике, что предотвратил страшную катастрофу – взрыв котлов. Тут же вытащили из машинного отделения четырех большевиков, которые там орудовали. Англичане забрали этих большевиков в порт и расстреляли. Капитан предложил нам вернуться в Одессу, так как в трюмах было полно воды, ее не успевали выкачивать бессменно работавшие у помпы офицеры. Он указал, что мы все равно далеко не дойдем, а потонем в открытом море: пароход сильно пострадал во время войны. Англичане ушли, обещав сообщить о нас в порту и оставив в машинном отделении «Кронштадта» двух индусов.
Мы стали медленно возвращаться в Одессу. Было темно и совсем тихо. Молчание прерывали только орудийные выстрелы и пулеметная пальба где-то на берегу. Вдали небо ярко освещалось пожарами. Зарево было так велико, что казалось, горит вся Одесса. Было непонятно: с кем же воевали большевики? Никого ни в Одессе, ни около Одессы уже давно не было… Что с нами будет? Что ждет нас? Я ушла в трюм и опять заснула.
Часа в три ночи меня разбудили:
– На палубу!
Я вскочила, догадавшись, что ничего доброго этот возглас не предвещает. Вошел военный летчик и спокойно заявил:
– Капитан парохода просит всех на палубу.
Не успел он договорить, как вбежал другой летчик и громко крикнул:
– Все вставай, все на палубу, тонем!
Не забуду этих минут. Мгновенно все выскочили наверх. Творилось там что-то невообразимое. Дети, особенно институтки, громко рыдали. Крики, стоны. Толпы бросились к лодкам. Пароход накренился вправо. И вдруг – о, ужас! – потухло электричество. Мы поняли: большевики перерезали провода. Паника усилилась. Внезапно пароход головокружительно быстро качнулся с правого борта на левый. Чемоданы, как горох, посыпались в море. Кто-то кричал: «Шесть, шесть с половиной, семь, семь с половиной, восемь». Это последнее, что я слышала…
Когда я очнулась, я находилась уже на английском корабле «Катория». Первое мое впечатление было улыбавшееся надо мной лицо индуса, который говорил по-русски: «Чай, чай», подавая мне чашку с чаем.
Оказалось, что в самую критическую минуту к «Кронштадту» подошли два корабля: английский «Котория» и русский – под французским флагом и с французской командой – «Князь Михаил».
Итак, спасли нас англичане и доставили в Батум; в то время на Кавказе была английская оккупация. Куда девали французы других, не знаю. Сам «Кронштадт» на цепях привели в Константинополь. В Батуме разместили нас в чудесном дворце Фесенки и там кормили. Относились англичане к нам в высшей степени заботливо.
Пока я как следует не оправилась, я казалась совсем нервно расстроенной. Но чудесный дворец, роскошный парк и вид на море постепенно вернули мне силы. Понемногу я стала забывать пережитое. Англичане делали все возможное, чтобы улучшить нашу участь. Губернатором Батума был в то время полковник Кукальцов, вице-губернатором – Гаррисон.
И. Бобарыков[91]
КИЕВ-СЕВАСТОПОЛЬ VIA ГЕРМАНИЯ-АНГЛИЯ
1918-1919 [92]
Последнюю неделю существования гетманской власти наша батарея (1-го отдельного артиллерийского дивизиона Русского корпуса) была в резерве и стояла в зданиях Николаевского артиллерийского училища в Кадетской Роще. Состав батареи на 95 процентов состоял из офицеров царской армии, большинство которых прошли курс в этом училище, остальные 5 процентов были юнкера, студенты и т. д. На весь дивизион был только один солдат – старший писарь дивизиона. Командовал батареей бывший курсовой офицер Константиновского и Николаевского артиллерийских училищ гвардии капитан Л. В. Спекторский. [93]
Уже более недели мы стояли в этом училище, ожидая, что нас пошлют на поддержку какой-либо части, находившейся в первой линии обороны. Положение с каждым днем ухудшалось, и начались разговоры, что удержать Киев не удастся и что мы уйдем на Дон. В последний день обороны мы с утра ждали приказа о выступлении и все было готово к далекому походу. Около 5 вечера в управление дивизиона возвратился адъютант, ездивший в штаб и в казначейство, и сообщил, что в город вступают петлюровцы, что начальство все исчезло, а гетманский главнокомандующий генерал князь Долгоруков издал приказ об окончании обороны, заканчивающийся словами: «Всякий офицер и солдат знает, что ему делать».
Пока казначей раздавал жалованье, адъютант с писарем писали удостоверения личности: «Предъявитель сего мобилизованный канонир или бомбардир…» Когда окончилась выдача удостоверений и жалованья, было совсем темно. Чтобы пройти в город, нужно было перейти сначала пустыри подле училища, а затем предместье Шулявку, полную прокоммунистами. Перед теми, кто за ненадобностью оставил дома свои гражданские документы, встал вопрос, можно ли с удостоверением «канонир» благополучно добраться до города и домой, будучи одет в военную форму и с неподходящей для солдата внешностью. После небольшого обсуждения большинство решило остаться в училище, считая, что, оставаясь большой группой, больше шансов избежать самоуправной расправы. Оставшихся оказалось 52 человека. Узнав о нашем решении, к нам присоединились командир дивизиона подполковник П.Н. Мартынов [94] и командир батареи гвардии капитан Д. В. Спекторский, которые имели квартиры в здании училища и без особого риска могли уйти домой. Вечером к нам присоединилось два пехотных офицера, пробиравшиеся в город из передовых частей.
Все мы собрались в управлении дивизиона и ждали дальнейших событий. Около 7 часов вечера капитан Спекторский вызвал желающих пойти на конюшню разамуничить лошадей, дать им сена и напоить. В 7 часов вечера в воротах конюшни появились петлюровцы, которые потребовали сдачи оружия и нас арестовали. Часа через три мы были переведены в помещение дивизиона, где были собраны все остальные.
Здесь капитан Спекторский рассказал нам, как произошло занятие училища петлюровцами. Одновременно с занятием конюшни появились петлюровцы и в батарее. Из их разговоров выяснилось, что на нас вышел 3-й гайдамацкий кош, о котором много говорилось во время суда над убийцей Петлюры. Вскоре показалась группа командиров – атаман Орел, командир коша, и его штаб.
Атаман Орел обратился к задержанным с вопросом, кто здесь старший. Капитан Спекторский вышел вперед, и тут произошел краткий диалог: «Якый чин маете?» – «Гвардии капитан». – «Яку посаду малы?» – «Командир батареи», – «Де ваши гарматы?», – «Тут в саду в 10 саженях от дома», – «Пидемо, и вы мени покажете их» – и направился к двери. Свита атамана хотела сопровождать его, но последний остановил их словами: «Оставайтесь здесь, я один пойду с капитаном».
Когда они отошли саженей 50, атаман остановился и обратился по-русски к капитану Спекторскому со словами: «Господин капитан, разрешите представиться – штабс-ротмистр 9-го гусарского Киевского полка» – и назвал свою фамилию. Теперь я ее не помню, но это была фамилия одного из старых московских дворянских родов. Далее, до возвращения в помещение, разговор шел на русском языке. Благодаря этому атаману наше сидение вне города закончилось благополучно.
На следующий день утром нам пришлось пройти через суд. Председательствовал на суде сотник Яденко. По всей вероятности, псевдоним. У него было два ассистента. Нас по очереди вызывали и на местном языке задавали вопросы – откуда родом, где постоянное местожительство и т. д. Главное – нужно было понимать местный язык. Сообразно с ответами Яденко ставил допрашиваемому отметку – крестик или вопросительный знак. «Вопросительные знаки» отводились обратно, а «крестики» изолировались в соседней с судом комнате. Главное было знать местный язык. Киевский присяжный поверенный поручик Нюренберг получил крестик с сентенцией – «25 рокив живете в Киеве, а не знаете нашей мовы». Всего было отобрано 14 человек вместе с командиром дивизиона подполковником П.Н. Мартыновым.
Мы очень беспокоились об ихней судьбе. Вдруг около 7 часов вечера их привели в помещение нашего караула и оставили там, запретив всякие сношения с нами. Когда караул сменился, мы получили возможность переговариваться и узнали, что, когда «суд» закончился, сотник Яденко спросил одного из присутствующих гайдамаков, запряжена ли повозка, и получил ответ «на щоа». «А що ж лопаты с кладбища мы сами будем нести?» Пошли запрягать повозку. Когда повозка была готова, стали выводить осужденных. На площадке лестницы встречает их атаман. «Куды це?» – был вопрос. «Расстрелювать». – «Нема часу – треба иты своим подпомоч, ще гетманцы у Дарныци бьются», – приказал атаман, и всех «крестиков» отвели в наш караул, где они благополучно просидели до отвода в город.
Три дня мы сидели в училище, не зная, чем это все кончится. Вечером третьего дня нас стали поодиночке выводить во двор. Оказывается, для нашего перевода в город в училище была прислана часть наиболее дисциплинированного в петлюровской армии Черноморского коша. Когда все вышли во двор, нас повели к воротам под улюлюканье гайдамаков, которых заранее уверили, что нас поведут на Шулявское кладбище для расстрела.
В действительности же, когда мы вышли со двора училища, нас повели в город, и около полуночи мы пришли в Педагогический музей цесаревича Алексея Николаевича, расположенный в центре города. Музей был переполнен – в нем уже было собрано 1500 офицеров. Для нас освободили отдельную комнату, расположенную в rez-dechaussee подле вестибюля, в котором находилось два караула – немецкий и украинский.
Через несколько дней были разрешены свидания с родными. Меня навестила сестра, которая рассказала, что немецкий капитан, служивший в штабе немецкого главнокомандующего и для которого была реквизирована квартира в доме моей тетки, успокоил моих родных. Он сообщил им, что для предупреждения всякого покушения, невдалеке от музея в одном из соседних дворцов находится дежурная пехотная рота и также бронеавтомобили, которые в случае чего-либо должны были обеспечить нашу безопасность.
Действительно, когда украинцы бросили в музей бомбу, он моментально был изолирован немцами. Окно комнаты, в которой мы сидели, выходящее в парк, уцелело, но дверь, выходившая в коридор подле вестибюля, открылась. Сразу после взрыва мы услышали немецкие команды и трехэтажную русскую ругань, которой украинский караульный начальник старался привести в порядок своих подчиненных. Впоследствии стало известно, что это покушение было организовано крайними сепаратистами украинцами с целью во время вызванной им суматохи истребить арестованных. Быстрое появление немецких дежурных частей сделало такое нападение невозможным.
В первые же дни сидения украинцы выделили всех полковников и отправили их в Лукьяновскую тюрьму. Постепенно начали освобождаться из музея те офицеры, родные которых имели какую-нибудь связь с главарями петлюровцев или знали, кому дать взятку.
Наконец, в один прекрасный вечер всех оставшихся в музее, около 450 человек, вывели на улицу и повели к находящемуся по соседству Оперному театру, подле которого было приготовлено около 15 трамвайных вагонов. Нас погрузили в эти вагоны и отвезли на пассажирский вокзал, где уже был приготовлен эшелон теплушек с двумя классными вагонами.
В одном классном вагоне поместился околоток с сестрой милосердия и больными, в другом – немецкий и украинский караулы, нас же развели по теплушкам. Рядовые петлюровцы, шатавшиеся по вокзалу, поругивали нас и говорили, что мы дальше поста Волынского, разъезда в 6 верстах от города, не поедем. Там нас, мол, выгрузят и расстреляют, но эти выкрики на нас особенно не действовали. Когда погрузка окончилась и поезд ушел, как впоследствии выяснилось, нас везли на пограничную с Польшей станцию Голобы. Наше путешествие длилось более суток. Все большие станции, во избежание недоразумений, проходили полным ходом. За весь путь были две или три остановки на небольших станциях, где мы могли купить хлеба и сала. Наконец, около 3 часов следующей ночи, мы прибыли на конечную станцию украинских железных дорог Голобы. На этой станции довольно сильный караул украинского пограничного полка, осмотрев эшелон и узнав, что везут офицеров, удалился, пообещав утром расправиться с нами. По их уходе немецкий комендант поезда прицепил паровоз и увел эшелон на немецкую перевальную станцию, которая была расположена в нескольких верстах по ту сторону границы.
Там нас пересадили в эшелон вагонов 4-го класса, приспособленный к европейской колее, и немецкий комендант успокоил нас, говоря, что нас через Германию повезут в Марсель для отправки в южную добровольческую армию.
Наше путешествие до Берлина тянулось несколько дней. В это время в германской Польше происходило, как нам говорили, восстание кашубов и нам пришлось несколько раз стоять три, четыре часа на небольших станциях, пока путь не был свободен.
В первый же день нашего путешествия за границей старшие чины эшелона решили, что для большего нашего удобства и защиты наших интересов нужно сорганизоваться в форме батальона. В составе эшелона находилось несколько подполковников, между которыми начались бесконечные споры о старшинстве. Кандидаты на место командира батальона никак не могли установить, кто из них имеет больше права стать во главе. Этот вопрос неожиданно был разрешен скромным штабс-капитаном, который, подойдя к спорящим, заявил: «Господа! Вы спорите бесцельно, я старше вас всех, я полковник лейб-гвардии Конного полка A.A. Клюки фон Клугенау, [95] вот мои документы». Действительно, полковник Клюки фон Клугенау, когда петлюровцы составляли список сидящих в музее, назвался штабс-капитаном, благодаря чему избежал отправки в тюрьму.
С этого момента наш эшелон принял военную организацию. Он превратился в батальон, состоящий из четырех рот. Штаб батальона состоял из трех офицеров: двух братьев Артамоновых [96] лейб-гвардии Конного полка и лейб-драгуна Энгельгардта. [97]
Мы подъехали к Берлину как раз в дни, когда дивизия Носке ликвидировала в нем коммунистов. Перед прибытием в Берлин немецкий комендант обошел все вагоны и предупредил, чтобы никто не показывался в окнах, так как поезд будет проходить по местам, занятым коммунистами. И действительно, когда поезд шел по берлинской круговой железной дороге, мы видели на некоторых станциях персонал и солдат с красными повязками на рукавах, на других – с белыми. В одном месте, где поезд шел по высокой насыпи, мы увидели на одной площади перестрелку красных и белых повязок и перебежки цепей. Как мне потом рассказывали пленные солдаты в Cellelager, наши «земляки» в эти дни ходили в Берлин на заработки. Коммунисты платили пленному стрелку за работу несколько марок в день, пулеметчик же получал вдвое.
Объехав Берлин, мы высадились невдалеке от Шпандау и были отведены в Soldatenlager Doeberitz-waldow. Это был огромный солдатский лагерь, превращенный в это время в этапный лагерь для пленных нижних чинов союзных армий, возвращавшихся на родину. В нем собирались с работ небольшие команды, их одевали, составляли большие эшелоны и отправляли домой. Лагерь состоял из бараков, представлявших собой огромные сараи с двухэтажными нарами. Каждый барак был разделен поперечной стеной на две части. Первые дни нашего пребывания в этом лагере вторую половину нашего барака занимали итальянцы, которых было свыше 500 человек. Они нас сильно изводили, так как уже в 5 часов утра у них начиналось пение. Пело большинство полным голосом и каждый свое. Получалась отличная какофония, которая не давала спать.
В Doeberitz мы пробыли около двух недель, пока в одно прекрасное утро нам не было объявлено, что нас переводят в офицерские лагеря. Действительно, на вокзал был подан железнодорожный состав из вагонов 2-го класса, и мы отправились в глубь Германии.
Оказалось, что немцы решили нас перевести в три офицерских лагеря: Klausthal-Zellerfeld, Altenau в горах Гарца и Blenchorst. В первом лагере, самом большом, были помещены две наши роты – всею около 250 человек, в Altenau и Blenchorst остальные две – около 200 человек. Было ясно, что поездка через Марсель на юг России более чем проблематична и нам придется провести в Германии неизвестно сколько времени.
Хотя немцы к нам хорошо относились, все же они установили для нас почти такой же режим, как и для военнопленных офицеров, с той только разницей, что мы легко получали пропуск в город и шли без сопровождающего. Впоследствии даже выдали постоянное удостоверение – ausweis под условием возвращения в лагерь до полицейского часа.
В один прекрасный день меня вызвали в канцелярию батальона, где Энгельгардт подает мне предписание военного представителя Добровольческой армии отправиться в распоряжение английского военного агента; приказ последнего о назначении меня в междусоюзную комиссию о военнопленных в Diepholtz, бесплатный билет для проезда в этот город и несколько десятков марок подъемных.
Я был этим очень удивлен и хотел отказаться, но Энгельгардт показал мне бумагу, полученную от военного представителя Добровольческой армии в Берлине, как мне помнится, генерала Потоцкого, [98] с предписанием представить список офицеров, знающих языки и умеющих держать себя в обществе, для командирования их в распоряжение английского военного агента, и сказал: «Полковник Клюки фон Клугенау полагает, что вы, как чиновник царского Министерства иностранных дел, вполне удовлетворяете этим требованиям. Отказ же от командировки ставит в неловкое положение не только полковника, но и нашего военного представителя. Вам нужно поехать по назначению, а затем через несколько дней, если захотите, подать рапорт об отчислении для возвращения в батальон».
Мне пришлось согласиться, и на следующий день я отправился по назначению. Diepnoltz оказался небольшим городишком, расположенном в торфяниках на полдороге между городами Оснабрюк и Бремен. В километре от него находился небольшой лагерь русских пленных, которые во время войны добывали торф. В нем в это время было около 600 человек. При этом лагере находилась междусоюзная комиссия, состоящая из двух английских офицеров, одного русского прапорщика Булычева и трех сержант-майоров. Главой комиссии, по английской номенклатуре – старшим офицером, был лейтенант Лемон, который не знал ни одного языка, кроме английского, так что мне сразу пришлось превратиться в его адъютанта и переводчика – вести все разговоры не только с русскими, но и с немцами.
Прапорщик Булычев считался лагерным офицером, обязанностью которого было наблюдать, чтобы немцы выдавали на кухню доброкачественные продукты и хлеб, и вообще заботиться о лагере и его обитателях.
Официальная задача комиссии была проверка положения пленных во время войны; опрос и проверка правильности осуждения остающихся в немецких тюрьмах союзных военнослужащих и т. д. Мне кажется, что были еще какие-то задания, так как после каждой моей поездки по железной дороге меня очень подробно расспрашивали, что я видел по пути. Ездить же мне пришлось много, так как Булычев избегал отлучаться от лагеря, а нужно было почти каждую неделю побывать в Ганновере по делам комиссии и сделать также доклад старшему русскому офицеру.
В английской зоне было разбросано 29 таких междусоюзных комиссий. Центральное управление этих комиссий находилось в Ганновере. Генерал Потоцкий устроил в этом управлении полковника артиллерии Вис. Андр. Богуславского [99] в качестве старшего русского офицера и таким образом начальника и руководителя русских офицеров, прикомандированных к междусоюзным комиссиям английской зоны. Полковник Богуславский давал нам все указания, как по вопросам борьбы с пропагандой коммунизма, так и относительно вербовки солдат в белую армию.
В это время, по сведениям союзников, в Германии находилось около 3 тысяч пленных русских офицеров и 300 тысяч нижних чинов, не успевших, в смутные дни германской революции, самотеком возвратиться в Россию. Все пленные солдаты были сняты с работ и сосредоточены в специальных лагерях. Поговаривали, что Георг V английский взял русских пленных под свое покровительство. Действительно, в 1919 году англичане оказывали большую помощь русским пленным как в продовольствии, так и в исподнем белье и одежде.
Приходится отметить, что в Англии лучше, чем у других союзных держав, была организована помощь пленным. Как мне рассказывали офицеры, всякий англичанин, попав в плен, при первой возможности должен был послать в штаб своего полка, остававшийся на мирной стоянке, открытку с сообщением, что он взят в плен и находится в таком-то лагере. Штаб полка немедленно сообщает об этом его родителям или кому было указано с запросом – в состоянии ли они еженедельно посылать своему пленному стандартную посылку, содержащую известное количество мясных и рыбных консервов, галет и печенья, сахару, табаку и т. д., добавляя то, чего захочет пленный, в общем около 3-4 кг. Если же родственники были не в состоянии это делать, они были обязаны немедленно сообщить об этом в полк, который поручал заботу об этом пленном специальным благотворительным обществам.
Передача этих посылок была возложена на Международный Красный Крест. Этот способ пересылки был нерегулярен, требовал много времени, почему на каждого англичанина всегда в пути находилось много посылок. Как много посылок не успело дойти по адресу, можно себе представить, если учесть, что 3 тысячи пленных и свыше 1 тысячи интернированных офицеров и около 300 тысяч солдат получало по посылке в неделю в течение чуть ли не года. Господа офицеры получали посылки на руки. Солдатам же посылки, во избежание продажи продуктов немцам, на руки не выдавались, а шли в общий котел. Посылки вскрывались в лагерном складе английским магазинером сержант-майором (подпрапорщиком), и продукты под нашим надзором выдавались на кухню для приготовления пищи. Табак, галеты и печенье, по вскрытии посылок, равномерно распределялись между солдатами. Эти посылки позволили значительно улучшить довольствие солдат, так как немецкий паек военнопленного солдата, с которым мы познакомились в Doeberitz-Waldow, был более чем недостаточен.
Приблизительно каждые две недели приходил транспорт белья, обмундирования и обуви. При известии о его получении барачные старшие опрашивали всех в своих бараках и докладывали лагерному офицеру, указывая и степень нужды. Руководясь этими сведениями, сержант-майор каптенармус раздавал полученное под надзором дежурного русского офицера. При этом особое внимание было обращено на предотвращение черной биржи, ибо первым условием этой помощи было: «ничто не должно попасть в руки немцев».
Порядок службы в комиссии был точно определен. В 8 часов утра все офицеры, как английские, так и русские, должны быть в «месс»-собрании и с приходом старшего английского офицера садились за breakfest – первый завтрак. После завтрака дежурный русский офицер шел наблюдать получение из немецкого лагерного магазина хлеба и других продуктов. Он являлся первой инстанцией разрешения недоразумений приемщиков с немцами. В серьезных случаях он немедленно докладывал старшему английскому офицеру, который и разрешал вопрос.
Свободные же от дежурства русские офицеры занимались тем делом, которое им было поручено. Служба тянулась до 1 часа дня, когда все собирались в «месс» для «lunch» – 2-го завтрака, после которого был перерыв службы до четырехчасового чая. После чая до 7 часов вечера шли служебные занятия, а затем все снова собирались для обеда. Повара и прислуга в собрании были русские пленные. Вся пища готовилась из консервов, за исключением картофеля, который приобретался у немцев.
Так как по обычаю английской армии принятие пищи является служебным временем, то пропустить какую-нибудь еду без разрешения старшего английского офицера, ни встать раньше из-за стола было невозможно. В одно прекрасное утро я проспал и явился в собрание хотя и вовремя, но не успев побриться. Старший офицер сделал мне замечание, и пришлось спешно идти бриться.
В лагере Diepholtz мне мало приходилось иметь дело с солдатами – это лежало на обязанности лагерного офицера. Во время дежурства для разговоров было мало времени. Правда, несколько раз, по просьбе лагерного офицера, мне приходилось подменять его и вместо него выводить пленных из лагеря на прогулку. Эта прогулка была установлена по соглашению с немецким комендантом. Русский офицер по счету выводил людей из лагеря и по счету их сдавал по возвращении.
Во время этих прогулок все время шла беседа. Так как я не скрывал, что я не пленный, а забран немцами на Украине, они усиленно расспрашивали, что делается в России, как обстоит дело с землей и когда, наконец, их повезут домой. Вероятно, наши разговоры произвели на них некоторое впечатление, так как в Страстную субботу в канцелярию комиссии явился один из барачных старших – вольноопределяющийся, бывший семинарист, и доложил: «Сегодня Страстная суббота, и ребята желают помолиться вечером, как на заутрене, и просят вас возглавить эту молитву». – «Как же я могу это сделать? Я ведь не священник» – был мой ответ. Но он продолжал: «Это ничего не значит. Богослужение, как семинарист, я хорошо знаю и составил порядок общей молитвы, так что можно помолиться без священника, хор уже все разучил, и вам придется в момент, который я подскажу, возгласить «Христос воскресе!». Пришлось согласиться. Действительно, в 11 часов вечера вольноопределяющийся явился в собрание и пригласил меня в лагерь. Лагерь уже принял праздничный вид. Все пленные, по мере возможности, привели себя в порядок, приоделись и собрались на плацу, барачные старшие впереди своих бараков, хор сбоку. Вольноопределяющийся был одновременно псаломщиком и регентом хора. Он управлял пением и в промежутках читал соответствующие молитвы. В известный момент по его знаку я трижды возгласил «Христос воскресе!» и после пения тропаря поздравил их с праздником и похристосовался со старшими.
Во время моей службы в Diepholtz мне пришлось, сопровождая старшего английского офицера, объездить всю округу, находящуюся между железной дорогой Оснабрюк-Бремен, Северным морем и голландской границей. Здесь во время войны было много небольших солдатских лагерей. Требовалось разузнать, нет ли в немецких тюрьмах арестантов – союзных пленных, и в случае нахождения принять меры к их освобождению.
Приблизительно за две недели до подписи Версальского мирного договора комендант получил известие, что лагеря этого района расформировываются и пленные переводятся в лагеря, расположенные подле польской границы.
Одновременно пришел из Ганновера приказ отправить обратно 15 вагонов посылок, которые мы получили дня за два перед этим. Медлить с выполнением этого приказа было невозможно, так как для перевозки на станцию и погрузки в вагоны требовалась рабочая сила, а немцы в любой момент могли прислать пустой эшелон для перевозки пленных.
Чтобы получить необходимые для этого вагоны, мне пришлось сопровождать старшего английского офицера на железнодорожную станцию. Начальник станции отказывался подать их раньше, чем через неделю. Угроза англичанина телеграфно пожаловаться маршалу Фошу произвела такой эффект, что вагоны были поданы на следующее утро.
Наша комиссия была расформирована, и я был переведен в комиссию при Cee-Lager. При отъезде старший английский офицер дал мне небольшой чемодан, наполненный бумагами, который я должен был сдать в Ганноверскую центральную комиссию. Я был немного удивлен маршрутом. До сих пор всякий раз, когда мне нужно было ехать в Ганновер, я получал бесплатный билет 2-го класса по кратчайшему расстоянию через Оснабрюк.
Теперь же мне был дан билет 1-го класса через Бремен и Гамбург, причем в Гамбурге нужно было ожидать ганноверский поезд около двух с половиной часов.
В Гамбурге, когда я выходил из вагона, ко мне подходит какой-то штатский и говорит: «Здравствуйте, Иван Иванович!» Я с удивлением спросил, откуда он меня знает. Тот отвечал, что, увидев русскую форму, он назвал мое имя как самое распространенное, что он гражданский пленный, студент, теперь работает в Гамбурге, очень соскучился по русскому языку и очень рад возможности поговорить по-русски. Все время ожидания моего поезда он не отходил от меня и, когда поезд пришел, проводил до моего вагона.
Впоследствии в Англии, когда мы были в Офицерской школе, мои сотоварищи по комиссии рассказывали, что всякий раз, когда по службе им приходилось проезжать через Гамбург, их встречал некто в штатском и обращался к ним, как ко мне, по имени и отчеству, хотя бы оно было «Константин Карлович». Чей это был агент, так и осталось неизвестным.
Приехав в Ганновер, я сдал порученный мне чемоданчик по назначению и явился к полковнику Богуславскому, которому и доложил, что лагерь Diepholtz расформирован, также и комиссия, и что я переведен в Cee-Lager, подле г. Celle, на железнодорожной линии Ганновер-Гамбург, и что мой поезд идет через два-три часа. В ответ полковник Богуславский приказал мне остаться в Ганновере на два-три дня, а если в Celle английский старший офицер сделает мне замечание, сказать ему, что это полковник Богуславский меня задержал.
На следующий день после полудня я явился в канцелярию полковника, который встретил меня словами: «Хорошо, что пришли. Сегодня же отправляйтесь в Celle-Lager и там передайте от меня старшему русскому офицеру поручику Горожанкину, что все улажено. Русские офицеры, служащие в междусоюзных комиссиях, приравнены в правах к союзным и в случае возобновления войны покидают Германию вместе с ними в дипломатических поездах».
Позже в Celle-Lager я узнал причину моей задержки в Ганновере. Оказывается, английский военный представитель в Германии генерал Yvert, учитывая все усиливающееся недовольство немцев условиями Версальского мира и возможность отказа от подписи договора, а следовательно, связанного с этим отказом возобновления войны, отдал специальный секретный приказ, в котором было сказано: все английские воинские чины, состоящие в Германии в различных комиссиях, имеют дипломатический статус и поэтому должны свободно покинуть Германию.
Для англичан, находящихся в английской зоне, такой дипломатический поезд будет приготовлен на вокзале Ганновер, откуда отойдет в 2 часа пополудни, поэтому:
1) всякий английский военнослужащий, где бы он ни был и из какого бы источника он ни узнал об отказе подписать договор, должен прибыть на станцию Ганновер, безразлично какими средствами, до отхода этого поезда;
2) документы категории «А» уничтожить, документы категории «В» взять с собой, категории «С» сдать под расписку на хранение немецкому коменданту;
3) этот приказ ни в коем случае не должен быть известен русским офицерам, которые у нас на службе.
Словом, все русские офицеры, находящиеся в междусоюзных комиссиях, должны остаться в Германии и, следовательно, возвратиться в лагеря военнопленных, где их положение значительно бы ухудшилось, так как немцы видели бы в них своего рода сотрудников союзников.
В Celle мне рассказали, как русские узнали там об этом приказе. Комиссия при Celle-Lager состояла из 5 английских и 7 русских офицеров. Среди английских офицеров был один русский лейтенант Петерсон, сын российского генерального консула в Гааге, прослуживший всю войну в английской разведке.
Старший английский офицер подполковник Шотландской гвардии Мак-Грегор, ознакомившись с этим приказом, вызвал в свой кабинет поручика Горожанкина и лейтенанта Петерсона. Петерсон получил приказание прочесть этот приказ Горожанкину. Когда приказ был прочтен, Мак-Грегор задал два вопроса: «Понял ли Горожанкин этот приказ?» и «Понял ли он, что этот приказ ему не сообщали?». Получив утвердительный ответ, Мак-Грегор успокоился, а поручик Горожанкин немедленно командировал офицера в Ганновер к полковнику Богуславскому с донесением об этом приказе.
На следующий день у полковника Богуславского собралось 21 офицер из 21 комиссии с идентичными донесениями. Словом, только в двух комиссиях секрет был сохранен. Очевидно, английское офицерство нашло этот приказ не джентльменским и постаралось предупредить русских. Полковник Богуславский в тот же вечер отправился в Берлин к русскому военному представителю с докладом об этом приказе и с просьбой поднять вопрос у военных представителей союзников о приравнении в этом отношении русских офицеров с союзными. Этот вопрос был быстро разрешен, и мы, служившие в английской зоне, должны были покинуть Германию вместе с англичанами.
Прибыв в Celle-Lager и представившись старшему английскому офицеру подполковнику Мак-Грегору и русскому старшему поручику Горожанкину, я был назначен начальником 3-го батальона.
Celle-Lager по сравнению с Diepholtz'ом был огромным – в нем во время войны содержалось 40 тысяч пленных солдат. Он представлял собой четыре квадрата бараков, расположенных вдоль двух широких, пересекающихся крестом улиц. Между воротами лагеря и бараками находился большой плац, на котором можно было свободно выстроить весь лагерь. В каждом квадрате – «батальоне» при мне находилось до 2500 пленных. Так как бараки были рассчитаны на несравненно большее число людей, они имели достаточное жилое пространство. Старший барака, обыкновенно фельдфебель или подпрапорщик, был ответственным за порядок и чистоту барака. Всего в это время в лагере находилось 10 тысяч пленных. При лагере находился лазарет на 200 коек, небольшая лаборатория и аптека. Лазаретом ведал пленный военный врач 144-го Каширского полка д-р Осиновский, при мне были прикомандированы два врача украинской гетманской миссии.
В этом лагере мое положение было иным, пришлось не только нести дежурство по приемке продуктов для лагеря, но и постоянно находиться в служебное время в лагере, так как был ответственным за порядок, чистоту и санитарное состояние своего батальона. Поэтому общение с солдатами было более широкое. Они знали от вестовых, что я недавно в Германии, и постоянно завязывали разговор о том, что происходит в России. В этих разговорах нам приходилось быть очень осторожными, так как они кое-что слыхали от немцев о Гражданской войне, кроме того, как в Diepholtz, так и в Celle-Lager находилось несколько прокоммунистов, которые при каждом удобном случае проводили известную агитацию. В массе же пленные полагали, что это простой народ борется с господами. Поэтому к словам офицеров они относились очень недоверчиво и всеми способами старались выяснить истинное положение и цели борющихся сторон и в особенности интересовались вопросом о землице. Наше положение во всех этих разговорах было довольно затруднительно. Английское начальство строго запрещало всякую политическую пропаганду среди пленных, и с этим запрещением приходилось считаться. С другой стороны, русское начальство нам твердило: набирайте солдат для армии.
Наши разговоры с солдатами выяснили, что громадное большинство солдатской массы только и думает, как быстрее возвратиться домой, чтобы не опоздать на раздел помещичьей земли. Кроме того, нам приходилось опасаться, что люди могут додуматься до того, что будут записываться в белую армию, только чтобы, возвратившись в Россию, перейти к красным.
Все эти соображения побуждали нас действовать очень осторожно и стараться заранее хорошо изучить всякого возможного кандидата. Только тогда, когда создавалась полная уверенность в его искренности, старший русский офицер заносил его в список добровольцев и, когда их набиралось известное число, доносил русскому военному представителю, которым присылался из Берлина офицер для сопровождения партии добровольцев по назначению. По приезде этого офицера все записавшиеся поздно вечером вызывались из бараков, переводились в малый карантинный лагерь, где утром получали от англичан белье, обмундирование и сухое продовольствие на несколько дней и отправлялись по назначению.
Как мы ни старались проверять этих добровольцев, все же не было полной уверенности в их искренности.
За все время работы комиссии в Celle-Lager из него нами было отправлено всего только 300 добровольцев, то есть менее 3 процентов состава. Некоторые из них происходили из богатых крестьянских семейств, как мой вестовой, отец которого имел 150 десятин земли в Балтском уезде Херсонской губернии и держал в Одессе две извозчичьи биржи. Он долго расспрашивал, что и как происходит в России, прежде чем попросил послать его в белую армию. Но среди отправляемых попадались и такие, которые мало были заинтересованы в победе белых.
Служить в Celle-Lager было несравненно труднее, чем в г. Diepholtz. Справиться с массой солдат, не имея дисциплинарной власти, было очень трудно, тем более что самый незначительный предлог мог вызвать серьезные волнения. Так, в солдатский лагерь Soltau, где находилось 10 тысяч солдат, кто-то из английских интендантских офицеров отправил 1 процент вагонов куриных консервов и сардинок. Дней через десять в лагере началось серьезное волнение с претензией: «Все курица да курица, срединки да срединки, а мяса не дают».
Однажды в Celle-Lager я около полудня возвратился из командировки в Ганновер и, несмотря на служебное время, нашел всех русских офицеров в собрании. Меня предупреждают, что накануне пленные взбунтовались и что никто из русских офицеров сегодня в лагерь не входил. Иду в канцелярию дать отчет о командировке старшему английскому офицеру. Оказывается, он, несмотря на волнение, пошел внутрь лагеря. Мое положение пиковое – не пойти в лагерь, как в этом случае должен был нормально сделать, это показать, что трусишь, и в результате потерять лицо перед англичанами. Я решил рискнуть. Вошел в лагерь и благополучно дошел до своего батальона, где спросил встречного солдата, не видел ли он старшего английского офицера. Получив невежливый ответ, я его подтянул и тем заставил вежливо повторить ответ.
Прошло около трех месяцев моей службы в Celle-Lager, как мы узнали от немецкого коменданта, что военное министерство решило расформировать Celle-Lager и перевести пленных в Soltau. Когда в конце недели я был с очередным докладом у полковника Богуславского, я ему об этом доложил. Последний мне предложил по расформировании Celle-Lager поехать на подобную службу в Восточную Пруссию, но ввиду того, что от этого назначения я решительно отказывался, было решено, что меня командируют в английскую Офицерскую школу для прохождения курса и дальнейшей отправки в Добровольческую армию. За несколько дней до расформирования Celle-Lager я получил от полковника Богуславского предписание явиться к первому сентября в офицерский лагерь Гельмштедт, который был сборным пунктом партий офицеров, отправляемых в Офицерскую школу в Англии.
К указанному дню я прибыл в Гельмштедт, где пришлось прожить около недели, пока собралась вся партия. Она состояла почти из 60 человек. Большинство из них провело в плену много лет, так как были взяты в армии генерала Самсонова или в Новогеоргиевске. Все они служили в междусоюзных комиссиях английской зоны и были освобождены от службы, так как немцы переводили пленных на север Германии.
Когда все были в сборе, старший партии Генерального штаба подполковник Клеменс получил все необходимые документы, и мы отправились в Ганновер, где вступили в распоряжение английских военных властей. Английский военный комендант станции прицепил наш вагон к первому поезду, идущему в Кельн, где мы должны были пересесть в прямой английский военный поезд, идущий в Лондон. На вокзале Кельна нас встретил комендантский офицер, который, предупредив, что нам вследствие железнодорожной забастовки в Англии придется провести в Кельне несколько дней, разместил нас в гостинице «Кронпринц» на вокзальной площади и зачислил на довольствие в офицерском собрании на вокзале.
Мы провели в Кельне около двух недель, осмотрели все достопримечательности города, побывали во всех театрах. Наконец в одно прекрасное утро дежурный комендантский офицер объявил, что забастовка окончилась и что военный поезд в Лондон уходит в этот же вечер.
Действительно, после обеда нам выдали по четыре с половиной фунта месячного жалованья, посадили в поезд и мы отправились в дальнейшее путешествие. По пути поезд останавливался только в Аахене и Брюсселе и ранним утром прибыл в Булонь. В Булони поезд перевели на «ферибот», который и перевез нас в Дувр. При подходе к Дувру мы были поражены заграждениями входа в порт для защиты от подводных лодок. Эти заграждения, сделанные из толстых бревен, оставляли свободным только узкий проход, который легко можно было совершенно закрыть.
Поезд покинул «ферибот» и через два часа пришел в военную часть большого лондонского вокзала, если не ошибаюсь, Ватерлоо, где для всех приехавших был сервирован утренний завтрак.
После этого завтрака мы были отправлены в Нью-Маркет, город в 150 км от Лондона, где находилась Офицерская школа. В этой школе английские офицеры военного времени, пожелавшие остаться в армии, проходили дополнительный курс военных знаний. Нужно отметить, что в Англии все производства в чины во время войны имели прибавку слова «временный».
Поэтому при переходе армии на мирное положение военное министерство, руководясь какими-то основаниями, уменьшало на две-три степени чин офицера, пожелавшего остаться в кадре мирного времени. Так, в конце нашего пребывания в школе инструктор по строю и гимнастике первый лейтенант (поручик) явился на занятия в погонах майора.
Мы начали поздравлять с производством, он же нам объяснил, что кончил войну в чине майора, носил лейтенантские погоны, так как остался в кадре. Теперь он вышел в запас и ему вернули чин майора. Позже мы узнали, что начальник школы полковник Томсон по ее закрытии возвратится в индийскую армию с чином капитана.
В этой школе русские офицеры, бывшие в Германии и выразившие желание присоединиться к белым армиям, проходили ее курс с добавлением подробного изучения английского оружия. По словам Генерального штаба полковника Гаслера таковых было около 2 тысяч человек.
В школе, как и в междусоюзных комиссиях, у нас было своего рода двойное подчинение и поэтому двойное начальство: в строю и на занятиях английское, вне занятий и во внутренней жизни – русское.
Нам рассказывали, что летом начальник школы решил закончить занятия одного выпуска своего рода маневром – сражением двух почти равных по численности частей – роты русской и английской. Вся округа съехалась посмотреть на это зрелище. В решительный момент маневра английская сторона выпустила слезоточивые газы. Английские офицеры, которые командовали русскими, вышли на маневр без газовых масок. Они были принуждены, покинув своих подчиненных, спасаться бегством. Соответствующие русские офицеры вступили в командование и довели маневр до конца. Такой маневр больше не повторялся, так как легкий ветерок понес газы на шоссе, где собралось много зрителей, большей частью приехавших на лошадях. В то время как пешеходы тоже пытались спастись бегством, лошади, почуяв газы, начали беситься и довели беспорядок и суматоху до крайнего предела.
При нашем прибытии в Нью-Маркет мы были встречены русским представителем Генерального штаба полковником Гаслером, который представил нас английскому начальству и ввел во внутренний распорядок жизни в школе.
В первые же дни нашего там пребывания нам было выдано все то имущество, которое получали английские юнкера при производстве в офицеры, а именно все строевое обмундирование, коричневые ботинки, белье, включительно до маленького несессера с иголками и нитками, полевой бинокль, компас и револьвер. Только длинные брюки пришлось заказать за свой счет. Мы также узнали, что все время пребывания нашего в школе будем получать по четыре с половиной фунта чистого жалованья.
От англичан мы отличались только тем, что на фуражке была русская кокарда, а на погонах вместо английских цветов полка русская национальная ленточка. Это так мало отличало нас от англичан, что, когда я осматривал лондонский Tower, один капитан подошел ко мне и спросил: какого я полка, говоря: «Знаю все отличия полков, а вашего, оказывается, не знал».
Нас сразу предупредили, что выходить за пределы школы можно только в желтой или коричневой обуви и обязательно с соответствующей палкой.
Сама школа во время войны была военным училищем. Она представляла собой несколько больших зданий барачного типа, в которых помещались: управление, классы, цейхгаузы, большой танцевальный зал со сценой и большим вестибюлем и офицерский клуб, где во внеслужебное время можно было выпить спиртные напитки, начиная от пива и кончая портвейном и виски.
Слушатели же помещались в небольших бараках на 12-14 человек. Два таких барака составляли группу слушателей, которые вместе слушали теорию и проходили практические занятия.
Все занятия велись прикладным методом, причем инструкторы старались в изучение разных вопросов ввести спортивное чувство соревнования. Изложив какой-нибудь вопрос, они делили класс на две группы и заставляли эти группы наперегонки производить указанное упражнение, например разборку и сборку пулемета с завязанными глазами. Сначала мы к этому методу были равнодушны, а затем увлеклись и быстро научились преодолевать уставное время.
Каждую субботу школа устраивала большой бал, на который приезжало много барышень и молодых дам из города и из окрестностей, приезжал и местный лорд со своими родственниками. Очень часто бывали лондонские гвардейские офицеры, изучавшие русский язык у барона Мейендорфа, бывшего товарища председателя Государственной думы. Английский офицер, знающий русский язык, получал жалованье, увеличенное на одну треть. Хозяевами этих балов считались по очереди русские и английские офицеры.
Первые субботы нашего пребывания в школе адъютант русского полковника, считавшегося нашим ротным командиром, перед началом бала обходил бараки и принуждал идти в бальный зал, говоря, что полковник требует нашего присутствия.
Наше положение было пиковое. Новых танцев, которые были в моде в Англии, мы не знали, да и не было желания ни заводить знакомства, ни танцевать. Поэтому мы, глядя на танцующих, просиживали истуканами до двух часов ночи. В первую же субботу майор Уелз, хозяин собрания, подошел к нескольким сидящим с вопросом, почему они не танцуют. Ответ был один и тот же – «не знаем английских танцев». Это же повторилось и в следующую субботу.
В первый же после этой субботы вторник наш адъютант после чтения приказа в школе заявил: «Ввиду того, что русские офицеры не знают английских танцев, жена нашего английского командира роты капитана Кея любезно предложила обучить нас этим танцам. Уроки будут происходить по понедельникам, средам и пятницам. Начало в 9 часов вечера, – и добавил: – Полковник сказал, чтобы желающих было побольше».
На следующий день адъютант после обеда обошел наши бараки, напоминая, что пора готовиться к уроку. Через четверть часа он снова идет по баракам и, видя, что никто не переодевается, объявляет, что все вновь прибывшие должны явиться в танцевальный зал за пять минут до начала урока. Перед самым уроком он снова обошел бараки и забрал всех тех, кто там оставался.
Г-жа Кей и еще две военные дамы явились точно в указанное время и до половины двенадцатого ночи показывали нам различные танцы. На четвертый и пятый уроки с дамами пришел и хозяин собрания майор Уелз и все время урока присматривался, кто и как танцует.
На следующий день в субботу снова почти все русские уселись на своих стульях. Как только начались танцы, майор Уелз, занимавший вместе с начальником школы на сцене место местного лорда и других именитых гостей, спускается в зал, подходит к ближайшему русскому офицеру, обменивается с ним несколькими словами, берет под руку и подводит к даме, оставшейся без кавалера. Это повторяется и с другими сидящими русскими. В результате все предпочли идти танцевать, не ожидая прихода майора.
Вскоре после нашего прибытия в школу была отправлена на Дальний Восток в армию адмирала Колчака партия офицеров числом около ста человек.
В ноябре мне пришлось сопровождать одного больного капитана, не говорившего по-английски, в большой военный госпиталь в Кольчестере. Когда мы подъехали к госпиталю, мы увидели у ворот группу солдат и нескольких офицеров с прикрепленными к френчу на груди довольно большими квадратами, на которых была напечатана одна крупная буква. Сдав больного, я спросил у врача, что обозначают эти квадраты. Оказалось, что во избежание распространения венерической болезни каждый больной обязан носить такой квадрат с первой буквой его болезни. Квадрат прикрепляется в момент обнаруживания болезни и до полного выздоровления, даже идя в отпуск, он не имеет права его снять.
Рождество мы праздновали два раза. На английское – англичане-хозяева приветствовали нас традиционным английским рождественским обедом с огромным ростбифом, плюмпудингом и первым тостом за здоровье короля, который пьется только портвейном. На наше Рождество мы в свою очередь угощали англичан русским меню. Но гвоздем нашего праздника был рождественский бал. Танцевальный зал и вестибюль были совершенно преобразованы. До этого дня они были украшены всякой мишурой вроде цепей из цветной бумаги. Все эти украшения были сняты. Из Шотландии был выписан вагон еловых ветвей, из которых были сделаны гирлянды. Наши художники, а их было несколько человек, получили заказ нарисовать для украшения бальных помещений картины из русской жизни и природы. Было нарисовано около двух десятков картин довольно большого размера, которые и были помещены на стенах Зала и вестибюля и окружены как бы рамой еловыми гирляндами. Промежутки между картинами тоже были украшены гирляндами. Эти украшения придали залу иной, более строгий вид. Слухи о русских приготовлениях не только проникли в город, но и достигли Лондона. В результате гостей было в два раза больше, чем обыкновенно, а из Лондона приехало довольно много английских офицеров. Они уверяли нас, что наш бал перещеголял лондонские балы.
В декабре, в связи с неудачами армий адмирала Колчака и генерала Деникина, парламентская оппозиция стала сильно нападать на правительство за поддержку белых армий. Левые же газеты особенно подчеркивали наличие русских офицеров в школе Нью-Маркета. Начальство рекомендовало нам быть осторожными в разговорах с незнакомыми людьми и особенно остерегаться расспросов репортеров.
В январе наши занятия закончились, и мы стали ожидать отправки на юг России. Так как день отправки бил неизвестен, в последние дни января я взял недельный отпуск для осмотра Лондона. Но обстоятельства сложились иначе. Вечером на третий день отпуска, возвратившись в гостиницу, я нашел телеграмму с приказанием немедленно возпратиться в школу, так как наша отправка назначена через четыре дня.
Пришлось спешно возвращаться в Нью-Маркет, чтобы спокойно собраться в дорогу. В день отъезда выяснилось что около пятнадцати офицеров исчезли из школы. Обстановка на юге России складывалась настолько плохо что англичане считали дело белых окончательно проигранным. Школьные курсовые офицеры находили пашу отправку бессмысленной и открыто предлагали свою помощь желающим остаться в Англии.
В день отъезда на вокзал Нью-Маркета собралось много горожан. Проводы и прощание были очень трогательные, и у многих англичанок показались слезы на глазах, когда перед самым отходом поезда в открытые окна вагонов полились звуки песни «Плачьте, красавицы в горных аулах, правьте поминки о нас», смысл которой они знали от своих бальных кавалеров.
Поезд доставил нас в Тильбери морской порт, расположенный, насколько помнится, в 20 милях от устья Темзы, где мы погрузились на военный транспорт «Фельдмаршал», приспособленный для перевозки войск на далекие расстояния. Этот транспорт шел в Константинополь с военным грузом и небольшим числом офицеров и их семейств, возвращавшихся из отпусков в английский оккупационный корпус в Турции.
Нам было отведено большое помещение на корме иллюминаторы которого находились невысоко над поверхностью моря. Спать пришлось на морских койках, подвешиваемых каждый вечер на крюки, вделанные в потолок. Ресторан в котором мы питались, был этажом выше.
Под вечер корабль покинул порт и пошел вниз по Темзе. Спускаясь по реке в Северное море мы довольно долго любовались массой огней рассеянных по обоим берегам. Как и можно было ожидать в этот сезон транспорт выйдя из Ла-Манша в Атлантический океан, попал в сильную бурю. В течение более чем трех суток корабль немилосердно трепало. Англичане не выходили из своих кают. В кают компании и на палубе появлялось всего два три человека. Мы меньше страдали от морской болезни, так как у нас заболело всего три человека.
При приближении к Гибралтару буря прекратилась и мы могли полюбоваться далекими, покрытыми снегом вершинами Атласа, сверкающими под лучами солнца. Гибралтар прошли ночью так что видели только огни на обеих сторонах пролива. Пройдя Гибралтар «Фельдмаршал» направился на Мальту где и вошел в порт Ла-Валлетты ее главного города. Этот порт находится в глубине бухты с высокими обрывистыми берегами совершенном подобии фиорда. Несмотря на начало февраля, было настолько тепло, что мальчишки купались в море. В Ла-Валлетте мы простояли два-три часа пока не сошли приехавшие пассажиры и не выгрузили их вещи. Когда выгрузка закончилась «Фельдмаршал» вышел в море и направился прямо на Константинополь. В Эгейском море на нас налетела буря. Волна была такая что заливала всю палубу а брызги летели до середины мачт. Транспорт до полутора суток кружился перед входом в Дарданеллы, так как капитан, опасаясь мин не рисковал при большой волне войти в пролив.
В Константинополе нас перевели на пароход Лиги Наций «Барон Бек», шедший в Севастополь и Новороссийск, и на следующее утро мы пришли в Севастополь.
Вскорости на пароход прибыл офицер комендантского управления, который передал приказ коменданта все прибывшие, кроме уроженцев Кавказа, должны высадиться в Севастополе. Офицеры приехавшие из Англии должны немедленно отправиться в распоряжение командира 3-го армейского корпуса генерала Слащева. [100]
Поэтому всех нас перевезли непосредственно на железнодорожную станцию Севастополь, и мы должны были отправиться с первым же поездом в Джанкой, где стоял штаб 3-го армейского корпуса Добровольческой армии. Так закончилось наше более чем годовое путешествие из Киева в Севастополь через Германию и Англию.
Р. Гуль[101]
КИЕВСКАЯ ЭПОПЕЯ
(ноябрь-декабрь 1918 года) [102]
Был октябрь 1918 года… Наш поезд переехал границу Всевеликого войска донского и тихо потащился полями Украины. Мелькают в окнах вагона белые хаты с облетевшими садами, убранные поля с торчащим рыжим жнивьем, над которым носятся стаи птиц… Едем медленно, останавливаясь подолгу на станциях и полустанках. На каждом вокзале – немецкий караул. Словно замерли на часах подтянутые, чистенькие немцы. А невдалеке от них можно увидеть кучки серых, рваных людей, злобно смотрящих на незваных иноземцев…
На каком-то разъезде поезд стоит целый час – у следующей станции произошло крушение…
– Пассажирский разбился… Рельсы разобрали… – рассказывает железнодорожник.
– Да кто же это? – волнуется дама из второго класса.
– Кто? Разве мало здесь… – тянет железнодорожник. – Целые отряды теперь ходят, с оружием… Хлеб убрали и пошли…
– Так их половить всех! – горячится дама.
– Немцев послали туда… Да разве всех переловишь, – флегматично отвечает железнодорожник.
Поезд рванулся, запищали вагоны. Тихо тронулись… Через несколько верст замедляем ход и еле-еле продвигаемся. Рядом с линией лежит, как мертвый титан, разбитый пассажирский поезд, кругом расставлены пулеметы, ходят немецкие солдаты…
– Что, никого не поймали? – спрашивает будочника пассажир из окна.
– Никого… Была перестрелка… Никого… – отвечает равнодушно будочник.
Поезд ускоряет, пошел полным ходом.
Люди в вагонах мало разговаривают. Как будто все чем-то недовольны, чего-то ждут… Держу в руках газету – читаю о восстании крестьян и войне их с немцами.
Уже полдень. Мы подъезжаем к Киеву… Зашумел поезд по железнодорожному мосту – и перед нами, за синим, серебрящимся Днепром, на покатых горах, с золотыми куполами, красными, горящими на закате крестами, столица Украины.
* * *
Я несколько дней живу в Киеве. Хожу по улицам – наблюдаю жизнь. И тяжело, и неприятно становится от этих наблюдений… Киев – переполнен. Особенно много беженцев из Совдепии. Шумящие улицы пестрят шикарными туалетами дам… Элегантные мужчины, военные мундиры… Битком набитые кафе… Переполненные театры, музыка, гул, шум… Проститутки, спекулянты… Но в этом чаду ощущается какая-то торопливость, предчувствие неминуемого конца. Как будто веселящиеся люди чувствуют за собой погоню и спешат провести «хоть час». На фоне кутящей, пьющей, обдуряющейся толпы мелькают серые мундиры чопорных немецких офицеров и каменных солдат – это те, кому обязана толпа своим весельем.
Уверенность в близкой опасности разделяется всеми… Ее реально видят, понимают и сегодняшние правители Украины, но у них нет «своей» силы, на которую можно было бы опереться. А чужая, немецкая, после революции с каждым днем становится ненадежнее.
И вот в поисках «силы» гетман издал приказ о мобилизации офицеров.
Я иду к воинскому начальнику… Двор и улицы около здания запружены бывшими офицерами. В военных шинелях, без погон, без кокард. Усталые лица. Большинство молчат.
Только некоторые что-то горячо рассказывают. Их обступили кучками… «Да вы бы расспросили хорошенько», – возражает кто-то рассказчику… «Расспросили – он не желает по-русски говорить… Расспросите его…» – «Господа, а не читали в сегодняшней газете – можно в русские дружины поступать, по охране города», – говорит кто-то из кучи, показывая газету…
Верно: дружина генерала Кирпичева – по охране города… Совсем хорошо. Избавляешься от службы в войсках гетмана, и охрана города действительно имеет смысл и необходима.
Иду на Прорезную улицу – в штаб дружины… Небольшие комнаты полны пришедшими офицерами. Здесь волнение, шум… Все хотят узнать об условиях службы, освобождает ли она от украинских войск и т. п. Красивый, худой брюнет – полковник Рот [103] – предупредительно вежливо отвечает на расспросы… «Господа, служба только по охране города… Жалованье 500 карбованцев в месяц… Будет общежитие… Довольства… Суточные… Поступление в дружину освобождает от общей мобилизации… Но при поступлении вы должны представить рекомендации двух лиц – общественных деятелей или военных»… Офицеры довольны. Ведь все из них уже поголодали, узнали безработицу. А тут хорошие условия и «охрана города» – необходимая при всяком правительстве…
Наутро, достав солидные рекомендации, я записываюсь в дружину у звенящего шпорами, картавящего гвардейца-адъютанта. И по своему району получаю назначение во 2-й отдел дружины, на Бульварно-Кудрявскую улицу – дом Вагнера.
Через день являюсь на место службы. Начальник отдела гвардии полковник Крейтон разбивает собравшихся человек 60 офицеров на четыре подотдела. Я попадаю во 2-й, начальником которого – гвардии полковник Сперанский.
Но пока что весь отдел, вместе, несет службу в доме Вагнера… Дом-особняк реквизирован для военных целей. Раньше здесь помещалось какое-то ученое общество, но теперь ему отвели одну маленькую комнату, а в остальных расположилась «охрана города». Настелили соломы, принесли винтовки, патроны, пулеметы, защелкали затворами, затопали сапогами… Напрасно член ученого общества, глубоко штатский человек с длинными волосами, просит «хоть еще одну комнату, нам это совершенно необходимо», – уверяет он полковника. «В Совдепии вы бы так не разговаривали», – зарычал полковник, и глубоко штатский человек скрылся за скрипнувшей дверью…
Собравшимся офицерам дел нет. Помощник начальника отдела полковник Кондра читает лекцию, как офицеры должны вести себя, как серьезен момент и что очень скоро придут союзники. А с их приходом положение окончательно укрепится. Нам же надо пока что поддержать порядок «до их прихода»…
В городе также кутит, пьянствует веселящаяся толпа. Также мелькают немецкие мундиры. Но с каждым днем тревога среди обывателей увеличивается. В рабочих кварталах все чаще собираются на улицах темные кучки, толпясь, наклоняясь близко лицами, о чем-то говорят и, завидя взвод офицеров, расходятся, оглядываясь злобными, двусмысленными улыбками…
Нам приказано каждую ночь быть в отделе, в полной боевой готовности. Всю ночь мы несем службу. По улицам ходят дозоры. В саду, за особняком и у ворот стоят часовые.
Стоя на часах, прислушиваешься, как то там, то сям в городе трещат выстрелы.
Людей в отделе мало – человек 60, и, несмотря на приказы о дальнейшей мобилизации, – число не увеличивается. Бессонная служба – почти без смены – утомительна. Весь день сидят, дремлют офицеры – на соломе в особняке. В один из таких дней приехал генерал Кирпичев с каким-то штатским господином. Всех подняли, выстроили, и генерал обратился с речью:
«Господа, теперь мы вошли в состав армии генерала Деникина. Нам предстоит важная задача: поддержать порядок до прихода союзников, которые уже близко… За нашего вождя, генерала Деникина, ура!.. Организатору и инициатору офицерских дружин Игорю Александровичу Кистяковскому ура!..» Кричат «ура», и штатский господин приветливо снимает шляпу. Это министр Кистяковский.
«Вхождение» в состав армии генерала Деникина многих удивило, но никто не мог подумать, что генерал Кирпичев и Кистяковский заведомо лгали.
Дни идут в бессменном несении караулов. Настроение становится нервное, тревожное. В одну из ночей дозоры принесли сорванное с дома воззвание Винниченки и Петлюры с призывом к восстанию. А на следующий день стало известно, что дружина Святополка-Мирского куда-то выступила.
Наш 2-й подотдел перевели на Львовскую улицу в приют «Ясли». Здесь такой же беспорядок и сумятица. Опять приказано быть все время в здании и в полной готовности. Но это уже становится трудным, так как штабы дружин, отделов, подотделов переполнены, а строевых офицеров – горсть. Ежедневно приходят сведения о готовящемся восстании в городе. Нас рассылают по улицам. Тревога заметно усиливается…
* * *
Поздним вечером 19 ноября в приют «Ясли» приехал начальник 2-го отдела полковник Крейтон. «Господа, вы должны выступить на вокзал… Там положение ненадежное. Надо разоружить какую-то дружину…» Полковник Крейтон что-то путает, но сознание дисциплины не позволяет сомневаться. Надо выступать. Собираемся. Подотдел должен был бы идти вместе со своим начальником, но полковника Сперанского – нет. Его не было ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. Его мы почти не видим. Выступаем без него. За старшего – капитан… Темная ночь. Колонной по отделениям, четко отбивая шаг, идем городом… Пришли на вокзал. Здесь еще какие-то части… Волнение, сумятица… Больше всех бегает, кричит полный генерал… Это – Канцырев. [104]
Но вместо разоружения «какой-то дружины» генерал объявляет нам приказ: мы должны ехать на пост Волынский и поступить там в распоряжение начальника участка. Мы удивлены. Нам объясняют задачу: с Белой Церкви наступают банды Петлюры; дружина Святополка-Мирского уже имела с ними бой, но неудачный; мы должны идти ей на помощь.
Среди офицеров волнение, недовольство… Стало быть, полковник Крейтон лгал о разоружении «какой-то дружины»! Вместо «разоружения» нас, городскую охрану, вывозят за город!.. Но рассуждать поздно. Уже поданы вагоны. Кто-то подходит, рассказывает, что дружину Святополка-Мирского разбили вдребезги, раненых не успели подобрать, петлюровцы идут «тучами». Рассказ еще больше понижает настроение. Все чувствуют обман, но та же самая «дисциплинированность» заставляет молчать… Садимся в темные вагоны, звенят штыки сцепившихся винтовок… Поезд едет к посту Волынскому. Остановились… Кто-то пошел на станцию доложить о прибытии. В вагонах меж офицерами снова поднимается волнение… «Зачем?! Куда нас вывезли! С нами нет ни одного начальника, все остались в Киеве…» В полутемных вагонах шум, крепкая ругань… Но достаточно одного, сдержанного замечания: «Что вы, господа, солдаты, что ли, митинговать вздумали» – и крики затихают.
Уже ползет в окна серый рассвет. В нетопленых вагонах холодно. Большинство задремало, склонясь на винтовки… Рассвело. Вышли на пути. Узнали, что мы стоим в резерве и командует нами генерал Канцырев.
День проходит в разговорах. Большинство офицеров примирилось с положением и успокоилось. Но некоторые бесследно скрылись.
Пришел поезд с офицерами дружины Святополка-Мирского. Они только что из боя под Мотовиловкой. Возмущенно рассказывают: «Пошли мы без разведки, нам говорили, что петлюровцев тут очень немного, банды какие-то… А мы налетели на их главные силы, на сечевиков… Почти в кольцо попали… Потери понесли страшные, раненых побросали… Сердюки с нами были – разбежались…»
Бой под Мотовиловкой обсуждается и комментируется под крепкую ругань начальства. Снова подымается возмущение, но та же дисциплинированность заставляет замолкать.
Вечер. Темно. Мы получили приказ выступать. Из темных вагонов выпрыгивают люди. Выстроились. Пошли по талому снегу, путаясь в рядах.
«Куда мы идем?» – спрашивают по рядам. «Черт их знает, – говорят, – на окраину Жулян, что ли…»
Вошли в село. В маленьких оконцах кое-где мелькают желтые огоньки. Белые хатки уснули под соломенными снежными крышами… Хлюпает под ногами дорога, звякают штыки… Отряд растянулся по темной улице… Село кончилось. Остановились.
«Ну, куда же?» – спрашивают по рядам. Впереди полковник. Его окружили. «Господин полковник, куда же мы идем? Где у нас противник?» – недовольно спрашивают. «А черт его знает, я сам не знаю – не то там, не то там», – раздраженно отвечает полковник, показывая в противоположные стороны. «Вот что, господа, часть в 10 человек пойдет с пулеметчиками в Красный Трактир, вы поведете, полковник Крамарев, [105] а вы расположитесь здесь; наутро увидим, в чем дело», – приказывает полковник.
Красный Трактир.
Я иду, в числе 10 человек, в Красный Трактир. Старшим у нас – молодой, энергичный полковник с Георгиевским крестом – Крамарев. Он идет и без умолку разговаривает, критикуя штабы. «Черт знает – у нас везде так. В штабах сидят олимпийцы какие-то. Тыкнут пальцем – вот участок, вот направление, найдете то-то и то-то. А тут ни частей наших нет, ни связи никакой! Черт знает!» – «А что мы будем, господин полковник, в этом Красном Трактире делать?» – «Там наш полк стоит конный – Лубенский. Он охраняется разъездами на 8 верст вперед. А мы в селе с пулеметами станем».
Впереди неуверенно вздрогнул огонек. Это Красный Трактир. Дошли. Идем улицей. От большой хаты отделилась фигура часового.
«Кто идет?» – «Свои». Пропуска часовой не спрашивает. «Здесь штаб Лубенского полка?» – «Здесь». Вошли в комнату. Тяжелый воздух. Пол устлан людьми. «Где командир полка?» – спрашивает Крамарев, расталкивая уснувшего телефониста. «Там, напротив, в хате», – бормочет спросонья, не вставая, телефонист.
«Ничего тут не добьешься! Все спят!» – волнуется Крамарев. Вышли на улицу. «Вот что, господа, занимайте халупы и располагайтесь. Утро вечера мудренее». – «Господин полковник, не выставить ли на всякий случай пост!» – замечает кто-то.. «Э, пустяки. От кавалеристов же разъезды на 8 верст ходят. Ложитесь, господа…»
С трудом достучались в дверь хаты. Насмерть перепуганная старуха не пускает, боится. Наконец под причитания и аханья хозяйки легли на узких скамейках, заснули мертвым сном. И только ранним утром вскочили от испуганного крика вбежавшего офицера: «Господа! Мы пропали! Деревня занята петлюровцами! Всех наших схватили!»
Вскочили! Схватили винтовки! Но что делать? Надо полковнику сказать. Побежали в соседнюю хату. Полковник ничего не знает, не верит. С ним, вшестером, вышли из хаты на улицу… Где-то недалеко – выстрелы… По улице, вдали, ходят вооруженные фигуры, видны верховые… Кто это? Наши? Нет? Не понять. Но только что мы отделились от хат – как нас окликнул вооруженный человек. Он стоял шагах в шестидесяти. «Идите сюда! Сдавайте оружие! Все равно все здесь!» – кричал он по-украински. Крамарев взволновался. «Господа, это наш! Надо пойти к нему. Это ошибка». – «Да не ходите, господин полковник, это петлюровец». – «Нет, не может быть. Это недоразумение, господа. Идемте вперед, сейчас все выясним», – волнуется Крамарев. С винтовками наперевес мы идем по селу к копошащимся черным фигуркам. В голове одна мысль: наши? Или нет? Если нет, сколько их? Отобьемся ли?
Вот мы уже дошли до штаба Лубенского полка. Около хаты толпятся молодые, краснорожие сердюки и лубенцы. С равнодушными лицами, как будто ничего не случилось, они выносят из хаты оружие. «Зачем, куда вы оружие несете?» – спрашиваю я здорового, румяного сердюка. «Та я не знаю – приказали сносить вон туда», – равнодушно отвечает он. «Кто приказал?» – «Та я не знаю…» Стало быть, они сдались? Ничего не понимаю. «Господа, стойте здесь, не двигайтесь с места. Я один пойду и все узнаю», – говорит Крамарев. «Не ходите, господин полковник, один». – «Оставайтесь здесь», – приказывает он и пошел к стоявшей вдали кучке… Мы встали около хаты с винтовками наготове. Глаза впились в удаляющуюся фигуру полковника в зеленой бекеше и высокой шапке. Вот он подошел. Разговаривает с высоким человеком в поддевке. Ничего. Но вот Крамарев отпрыгнул от него, побежал. А высокий в поддевке приложился к винтовке. Крамарев бежит. Тот целится… Выстрел. Промах. Бежит. Выстрел… Крамарев вскрикнул, упал, протянув по снегу руки, и не подымается.
«Убил!» – закричал кто-то.
Сердюки, лубенцы бросились к винтовкам. Мы отскочили за хату. По нас затрещали выстрелы, засвистали пули. Мы бросились в улицу. За нами метнулись какие-то фигуры. Свистят пули… Мы отстреливаемся и отступаем в поле. Глубокий снег – трудно идти. Рассыпались цепью… Но куда же отступать? На душе тяжелым камнем лежит только что виденная смерть Крамарева. Красный Трактир занят петлюровцами.
Наш ли пост Волынский? Неизвестно… Лезем по снегу – наугад к посту. Где-то недалеко бьет артиллерия. Вдали показалась какая-то цепь. Ничего не понять… Где наши? Где противник? Куда отступать?..
«Господа! Да куда же мы идем! Вправо деревня какая-то! Надо обойти ее!» – начинаются споры о дороге. «Я поведу». – «Да вы не знаете дороги! Куда вы ведете!» – «Господа, как же мы бросили полковника! Мы не должны были этого делать», – говорит один. «Ну, об этом – поздно», – отвечает другой…
Лезем оврагом по глубокому снегу. Вылезли на равнину. «Смотрите! Конный! К нам едет!» Кто это? Наш? Их? «Господа, кто-нибудь один навстречу идите». Офицер идет навстречу приближающемуся конному. Другие остановились затаив дыхание… «Наш! Наш!» – кричит он. Все побежали.
Подъехавший офицер-артиллерист взволнованно расспрашивает: «Кто вы такие? Стало быть, Красный Трактир занять?.. Господа, ради Бога, идемте к нам на батарею. Связь порвана. Никаких частей кругом нет. Наши сердюки ненадежны. Ради Бога, господа. Не знаем, что делать. Прикрытия нет. Только при сердюках не говорите о Красном Трактире. Черт их знает – ненадежные. Разбегутся». – «А по чем вы стреляете так часто?» – спрашивает один из нас. «Да ни по чем. Так, для ободрения», – отвечает офицер.
Пришли на батарею. Около орудий сидят здоровые, красные парни – сердюки. Меж ними похаживает закутанный башлыком офицер. Наш провожатый доложил закутанному башлыком капитану – командиру батареи. Он ведет нас в халупу.
«В чем же дело, господа?» Мы рассказали. «А ваше положение каково, господин капитан?» – «Наше такое же, как ваше. Не могу ни с кем связи наладить. Где петлюровцы? Где наши? – не понимаю. Пожалуйста, господа, оставайтесь при батарее… Вы, наверное, голодные. Я сейчас прикажу дать консервов, водки…»
Мы закусываем. Окна дребезжат от выстрелов. Батарея стреляет «для ободрения».
Через несколько часов в хату вошел капитан и рассказал, что связь с постом Волынским налажена, на Красный Трактир пошли наши части, а вправо от батареи уже есть наша цепь. Но не успел он докончить своих слов, как в хату вбежал вестовой и быстро, испуганно доложил, что на батарею наступает какая-то цепь и уже совсем близко… Все выскочили из хаты. Шагах в 200, путаясь, мешаясь, на батарею двигалась цепь. Люди в ней что-то кричали, махали руками… Если это противник? Странно… Они никогда бы не шли так шумно… Наши? Зачем же они цепью идут на батарею… На всякий случай все защелкали затворами…
К цепи подскакали какие-то верховые. Цепь сгрудилась в кучу. Слышны крики; шум… Одиночный выстрел. Как будто кто-то упал… Цепи расходятся и двинулись в обратную сторону.
Посланный узнать солдат доложил: сердюцкие цепи поднялись с позиций, «не хотели воевать», но офицер застрелил главного агитатора – унтер-офицера – и повернул цепь обратно…
* * *
Простояв день в прикрытии батареи, мы присоединились к своему отряду, который занял окраину Жулян. Расположились по хатам. Офицеры, второй раз занимавшие Красный Трактир, рассказывают, как они захватили петлюровский обоз. Крестьяне везли петлюровцам яйца, сало, хлеб, мясо, масло, водку… «Вот смотрите, – комментирует рассказчик, – все сами везут, а тут ни до чего не докупиться: нема да нема».
С вечера уходим в дозоры. Моя очередь в полночь. Я и штабс-капитан Гарц должны обойти линию фронта от Жулян до Красного Трактира, побывать в нем и вернуться назад… Ночь темная – ни зги. Все черно – еле сереет снег. Идем по окраине села. Здесь – фронт на расстоянии 1 1/2 – 2 верст – стоят часовые. Переходим от поста к посту, опрашиваем – все спокойно.
Пошли к Красному Трактиру. На белом снегу виднеются очертания хат. Тихо подошли. Никто не окликнул. Идем узкой улицей. Впереди шаги. Какая-то часть… Наши? Или нет? Может быть, опять петлюровцы? Прижались к воротам. Идут разговаривают. Наши. Вышли. Это школа старшин. Поговорили с начальником: все спокойно, только жалуется на отношение жителей.
Наутро наш отряд уходит в резерв на пост Волынский. Заняли пустые вагоны 3-го и 4-го классов. Расположились отдыхать… Здесь на посту Волынском штаб командующего участком, командующий отрядом, штабы полков, дружин, отделов, подотделов. На путях стоят вагон-салоны с кухнями и поварами, вагоны 1-го, 2-го и 3-го классов. Около них толпятся, суетятся штабные хорошо одетые офицеры… Изредка долетают и рвутся у путей тяжелые снаряды противника.
В вагонах строевых – полное отдохновенье. Выдана четвертями водка, больше бутылки на человека, продукты, деньги. Усталые офицеры только что прочли приказ командующего войсками генерала Келлера: «Если не можешь пить рюмки – не пей; если можешь ведро – дуй ведро» – и, конечно, «дуют ведро», закусывают и неистово ругают матерными словами переполненные штабы и своих начальников. Пьяны почти все. Повалились. Заснули. Ночь. Тревога! Крики: «Пожар! Всех вызывают». Загорелись аэропланные гаражи. Но из 27 человек нашего подотдела только шесть в состоянии выйти. Остальные пьяны. Из вагонов выбегают люди. Все небо охвачено громадным заревом. Огненные клубы дыма подымаются тучами. С аэропланных гаражей огонь перекинулся на бараки и вагоны. Со всех сторон к пожару бегут красные фигуры людей. Шум. Крики. Нельзя понять, что надо делать…
«Стой! Стой!» – кричит нам какой-то полковник. Мы остановились. Полковник пьян, качается… «Становись! Я беру инициативу в свои руки!» – бормочет он. Не обращаем внимания на полковника, бежим дальше, начали ломать соседние здания, лезут на крыши. Шум, треск ударов, крики. Ломают что надо и что не надо… Наконец кругом горящих ангаров – все сломано и пожар потухает… Люди разошлись.
Пробыв день на отдыхе, мы снова отправляемся на фронт в Жуляны…
Сегодня с нашей стороны предполагается наступление. Вышли перед рассветом. Мороз крепкий. Темное небо синеет, розовеет с краю. Под ногами хрустят замерзшие лужи. Дошли до окраины Жулян. Здесь нам – 10 человекам – дан участок версты в 3, на котором приказано держаться «во что бы то ни стало».
Десять человек рассыпались в цепь. Под утро мороз крепчает. На снегу холодно. Руки замерзли – не действуют, а со стороны противника, из лесу слышится какой-то гул, как будто происходит наступление.
Настроение напряженное. Но уже светло: сейчас должны идти в наступление сердюки. С краю пурпурового неба выкатилось красное солнце. Справа долетели шумы, говор людей. Это сердюки. Вот закричали «Слава!». Запели украинскую песню. И от хат отделились фигуры людей. Цепи наступают с песнями.
Уже прошли далеко вперед по полю. Сзади них вылетела, карьером понеслась батарея. Стала под бугром, отъехали передки. И в утренней бодрой тишине громыхнули первые орудия. Впереди затрещали винтовки. Сошлись.
Гремит артиллерия с нашей стороны. Долетают, со звоном рвутся на мерзлой земле их снаряды. Трещат винтовки. Бой в разгаре. Уже несут раненых. Они рассказывают, что столкнулись с сечевиками и те не отступают, «здорово дерутся» .
Бой кончается к вечеру – безрезультатно. Потери, понесенные сердюками, напрасны. Кроме потерь – половина сердюков куда-то разбежалась.
Опять отходим на пост Волынский. Здесь тот же беспорядок, путаница. Рядовых офицеров помещают в нетопленые бараки. Все же составы заняты не особенно трезвыми штабами.
Наутро всех облетела весть: из Софиевской Борщаговки привезли вагон с 33 трупами офицеров. На путях собралась толпа, обступили открытый вагон: в нем навалены друг на друга голые, полураздетые трупы с отрубленными руками, ногами, безголовые, с распоротыми животами, выколотыми глазами… Некоторые же просто превращены в бесформенную массу мяса.
Это жертвы крестьян Софиевской Борщаговки. Получив сведения из штаба, что деревня свободна, и приказ занять ее – отряд офицеров вошел в Софиевскую Борщаговку. На расспросы крестьяне отвечали, что никого нет. На самом же деле деревня была занята петлюровцами. Отряд разместился по хатам. Их захватили. И расстреляли. А крестьяне вылили свою ненависть к «гетманцам» в зверском изуродовании тел…
Окружавшие вагон офицеры возбуждены, негодуют. Слышны крики: «Сжечь деревню к черту!», «Перестрелять десятого!». И кроме этого сыплется ругань по адресу штабов, посылающих людей наобум.
Уже больше двух недель, как мы выехали из Киева. Нас бросают с участка на участок. Каждая ночь проходит в дозорах, караулах. Из 25 человек выехавших осталось 10.
Мы просим отпуска или смены, но ни того ни другого не дают. Ответ один: нет людей.
И, переночевав на посту Волынском, мы отправляемся на новый фронт – в Михайловскую Борщаговку. Здесь мы должны сменить сердюцкий «полк». В «полку» этом 80 сердюков, и те с каждым днем разбегаются.
Совместно с другим отрядом сменили и заняли участок версты в 4. Далеко друг от друга стали караулы с пулеметом – и это «фронт». Таким фронтом опоясан весь Киев.
Опять караулы, дозоры – каждую ночь. Служба становится невыносимой. Каждый понимает, что противостоять малейшему наступлению мы не в состоянии, а тут кроме ненужной и непосильной службы надо еще зорко следить за недовольными, неприязненно настроенными крестьянами. 33 трупа у всех живы в памяти.
Простояв несколько дней и бессонных ночей в Михайловской Борщаговке – мы получили приказ перейти на окраину Софиевской и Петропавловской Борщаговок. Перешли, сменили прежнюю часть в 20 офицеров. Фронт этого участка – верст 5-6. На нем встали 3 караула с пулеметами. Смененные офицеры рассказывают, что прошлую ночь петлюровцы пробовали наступать. Подъехали на телегах. Но караулы отбили пулеметами. И тут же прибавляют, чтобы мы зорко смотрели, так как в лесу какие-то кавалеристы зарубили двух офицеров-дозорных.
Между Софиевской и Петропавловской Борщаговками лежит глубокий, широкий, извивающийся овраг. Он идет со стороны противника и заходит нам в тыл. При желании этим оврагом можно провести дивизион и сразу покончить со всем «фронтом». Мы великолепно понимаем это, понимает это начальник участка, и, чтоб парализовать такую возможность, каждую ночь в овраг выставляется пост в два (!) человека.
Ночи идут в тревожной, бессонной службе. Усталость дошла до предела. Люди засыпают на ходу. Больше нет сил. И мы уже не просим, а требуем отдыха. Начальник участка полковник Зметнов согласен с нами, в свою очередь требует для нас отдыха. И наконец нам на смену приходит такая же горсть офицеров.
Но офицеры не одни. С ними едут на массивных откормленных конях великолепные немецкие гвардейцы-кавалеристы.
Немцы решили открыто выступить – поддержать фронт, объясняют нам пришедшие.
Верится с трудом, но все равно – лишь бы сменили. Идем на пост Волынский и с первым паровозом едем в Киев.
* * *
Теперь в Киеве еще яснее чувствуется тревога, близость катастрофы. По всем улицам расклеены воззвания: «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан», пестрят приказы о мобилизации с угрозой расстрелом. Но также по Крешатику бегут, спешат, едут, хохочут шикарные дамы со спекулянтами и офицерами в блестящих формах.
И кажется нелепым и смешным! Мы 10 человек на протяжении 5 верст, под вечной опасностью, покрытые вшами и грязью, охраняем этих «пользующихся жизнью» и веселящихся. Да стоит ли?! Киевские газеты успокаивают горожан известиями о близости союзников. Союзники близко! Союзники в Жмеринке и в Бирзуле! На Черном море показались вымпелы!.. Немцы готовы поддержать гетмана и добровольцев! Последнее радио Энно! Заявление Мулена!
Но среднего обывателя не успокоишь. У него своя мерка! Дороговизна жизни. Эта мерка показывает катастрофу, и тревога его увеличивается с каждым днем.
Пришли в подотдел на Львовскую. Там под страхом расстрела скопилось довольно много офицеров-юнкеров. Все днем лежат на соломе, а ночью с винтовками ходят в дозоры и патрули по городу. Из интендантских складов привозят обмундирование, белье, валенки, полушубки – все это бесконтрольно растаскивается дружинниками. Привозят новое – опять растаскивается. Суточные увеличились до 40 карбованцев в день.
И чем сильней отовсюду просачивается тревога, тем хаотичней, безалаберней идет работа в военных штабах. Все равно конец!
Генерала Келлера сменил князь Долгоруков. В газетах его грозные приказы; в минуту опасности он клянется умереть «среди вверенных мне войск».
Через 4 дня отдыха весь подотдел высылается на позицию. Теперь нами командует 70-летний генерал Харченко. [106] Ночью погрузились, и на рассвете мы на посту Волынском.
* * *
Здесь та же картина. Вернувшиеся с позиций офицеры сидят в полутемных вагонах, курят – стоит синий дым, пьют водку, выдаваемую для поддержания духа, и нехотя ждут какого-нибудь конца…
На путях перекатываются бесчисленные штабные вагоны, с «охранами», «особыми отрядами», сестрами, около станции наскоро сбит дощатый питательный пункт. В маленькой комнате мечутся сестры – кормят набившихся офицеров и солдат.
Но вот новость! Из Житомира прибыло подкрепление: отряд губернского старосты Андро. [107] Они прорвались сквозь петлюровские цепи и под охраной бронепоезда добрались до Киева. Все обступили вновь прибывших, таких же грязных, усталых людей, напоминающих не войска, а разбойную банду.
«Сколько вас?» – раздаются вопросы. «Всего человек 300 – в строю человек 80», – отвечают прибывшие. Ответ покрывается хохотом и матерной бранью, «Как у нас, стало быть! То же!»
Но нам недолго приходится пробыть на посту Волынском. Мы – 20 человек – под командой 70-летнего генерала Харченко (он в штатском платье) выступили в с. Жуляны. Генерал Харченко в роли ротного командира доставляет ряд веселых минут. Подошли к селу, где должны расположиться. Харченко впереди всех переходит от хаты к хате, стучит в окно и спрашивает дребезжащим старческим голосом: «Тетенька, не пустите ли нас?..» – «Что вы, ваше превосходительство, – хохочут офицеры, – да разве на войне спрашивают разрешения в хату войти!» Но генерал передумал и не хочет здесь останавливаться. «Нет, нет, господа, я передумал, здесь нам неудобно, пойдемте». – «Да почему же, ваше превосходительство?» – «Нет, нет… Видите – артиллерия близко, сохрани Бог – шальной снаряд… Надо быть всегда осторожным… Вы молодежь, молодежь…»
Офицеры смеются, и командир роты генерал Харченко ведет нас дальше в менее опасную хату. Но, смеясь, все чувствуют, что это оперетка с трагическим концом.
Заняли халупы. Впереди в окопах стоит только что прибывший Житомирский отряд. Караул от караула – версты на 2. Это – фронт. Мы же несем охрану деревни и являемся резервом.
В хате генерала Харченко беспрестанно трещит телефон, разговоры ведутся с штабом Ольвиопольского гусарского полка (в этом полку 20 пеших человек), с штабом Кинбурнского драгунского полка (в 15 человек), с штабом отряда Андро – в 80 человек. И с бесконечными штабами отделов, подотделов, дружин, где в каждой «отдельной части» – два, три десятка человек. Через два дня из штаба командующего участком сообщили: наш фронт решили поддержать немцы. И действительно, в этот же день мы увидели немецких гвардейцев-кавалеристов, едущих по селу, где они и расположились. Но скоро стало известно, что в другом селе большой немецкий отряд разоружен петлюровцами.
И через несколько дней вошедший в хату офицер доложил генералу, что немцы уходят с позиций. Мы вышли на улицу. С громом, шумом, криками скакали немецкие пулеметчики и кавалеристы…
«Wohin? Wohin?» – кричат им вышедшие офицеры.
«Nach Hause! Nach Hause!» – смеются, машут руками немцы.
Хоть веры в помощь немцев никогда и не было, однако уход их произвел большое впечатление. Фронт оголился. Пути к Киеву совершенно открылись. Наш фронт: на одну версту – один человек. Малейшему давлению мы не в силах оказать сопротивления – и исход авантюры стал ясным.
А противник с каждым днем заметно шевелился, с утра до позднего вечера по всему фронту гремела его артиллерия. Облетел слух о не сегодня завтра готовящемся наступлении.
Наш маленький отряд взволновался, «замитинговал» и настоял перед генералом Харченко, чтобы один из нас поехал в штаб командующего участком – выяснить положение и вызвать на позиции начальника 2-го подотдела полковника Сперанского, ни разу еще здесь не бывшего.
Я поехал от офицеров. На посту Волынском нашел вагон 1-го класса – штаб участка. Вошел. На ступеньках прекрасно одетый штабной офицер грубо осведомился: кто я такой и что мне нужно? «Мне нужно лично видеть командующего участком полковника Крейтона». Вхожу в вагон. На темно-красных бархатных диванах сидят полковник Крейтон, Сперанский, Боровский и др. Возле них батарея пустых разнообразных бутылок. Они о чем-то мирно беседуют. Полковник Крейтон увидел меня и вывел в соседнее купе. «В чем дело?» – спрашивает он, обдавая винным букетом. Рассказываю, что мы понимаем безнадежность фронта, что офицеры на позициях волнуются и просят выяснить им действительное общее положение. «Что ж тут выяснять, господа. Положение трудное, но не безнадежное, – отвечает полковник Крейтон. – Я солдат – не политик, и могу вам сказать только одно: мы должны ждать приказа нашего главнокомандующего князя Долгорукова и держаться во что бы то ни стало». – «Да, но, господин полковник…» – «Больше ничего не могу сказать», – перебивает Крейтон. «Разрешите узнать, господин полковник, ведет ли переговоры о перемирии французский консул Мулен?» Крейтон махнул рукой. «Да, он выехал вести какие-то переговоры, но этот Мулен хорошо только может двойку поставить, а его переговоры – ерунда».
То, на что у офицеров была хоть маленькая надежда, оказывалось «ерундой».
При веселом, пьяном штабе и усталой на позициях горсти офицеров – конец рисовался непривлекательным.
После разговора с Крейтоном я вызвал полковника Сперанского и передал желание подчиненных поговорить с ним. «Передайте, что я как-нибудь приду». – «У меня здесь лошадь, господин полковник». Сперанский замялся. «Ну хорошо, я сейчас». И через полчаса дровни подвезли нас к позиционной хате. «Здравствуйте, господа, в чем дело?» – говорит, входя, Сперанский и принимает неприступно боевой вид. Один из офицеров рассказывает ему, как рисуется нам положение, и спрашивает: «Что же делать, господин полковник?» – «Ждать приказа главнокомандующего князя Долгорукова, – грубо отвечает Сперанский. – Вас, кажется, кормят, платят вам 40 рублей суточных – так вы и ведите себя как за 40 рублей… В случае наступления – мы отойдем на наши резервы…» – «Куда же это? В Киев, господин полковник?» – «Куда? Не знаю. Это будет в приказе», – отвечает, вставая, Сперанский.
Дальнейшие разговоры излишни. Что-либо выяснить невозможно. Некоторые, более решительные, офицеры самовольно уходят в Киев. Другие, менее решительные, с остатком сознания «дисциплины» и с чувством товарищества остаются ждать конца.
В этот день – 13 декабря 1918 года – вечером мы получили приказ выступить на железнодорожную будку и вместе с другими частями сменить на передовой линии Житомирский отряд.
Мы выступили. Бившая весь день артиллерия противника с темнотой смолкла. Вечер поздний, холодный. Крепкий мороз. Злой ветер протяжно воет на штыках. Метет поземка. Человек 20 – по узкой дороге – мы движемся в темном поле. Блеснул огонек. Дошли. Будка.
В сырой, нетопленой комнате, освещенной огарком свечи, заваленной камнями и какими-то столярными принадлежностями, лежат в обнимку с винтовками люди в серых шинелях. Кто-то пробует тут же согреть чай, раздувая на камнях огонь…
Мы сменили Житомирский отряд. Нами командует полковник Сперанский. Его штаб – в противоположной будочке сторожа. Наши люди разошлись по караулам. Мне с четырьмя офицерами приказано обойти дозором линию фронта, проверить часовых. Вышли. Сильный ветер разогнал сгрудившиеся, тяжелые тучи. Остались легкие, серые. Они несутся в лунном свете, то скрывая, то обнажая желтый диск. Ночь – красивая. Пять фигур, сразу ставших в поле маленькими и беспомощными, с раздуваемыми ветром шинелями идут узкой тропой к первому караулу. Прошли с версту от будки. Из чернеющей на снегу дыры вылезла темная фигура с винтовкой на изготовку. «Кто идет?!» – глухо, взволнованно долетает крик. «Свои». – «Пропуск!» – «Мушка». Иду к начальнику караула. Позади сереющей линии окопов в маленьком блиндажике сидят, плотно прижавшись друг к другу, шесть человек. Сидят молча. «Ну как, ничего не замечали, господин капитан?» – спрашиваю я начальника караула. «Ничего как будто, – нехотя отвечает капитан. – «Да в такую пургу и не заметишь ни черта». Поговорили. Вылез. Иду дальше. Опять охватил злой ветер, засыпает снегом. Идем версты полторы до второго караула. От второго – к третьему – четвертому. Все спокойно. В караулах сидят по 6-7 человек. Это и есть «фронт».
Вернулись на будку. Доложили, что все спокойно. Повалились на каменный пол, плотно прижимаясь друг к другу от холода. Но не спится. Даже не дремлется. По телу бежит мелкая, нервная дрожь – не то от стужи, не то от неприятного предчувствия.
До вечера артиллерия противника гудела без перерыва, как будто начиналась подготовка. Теперь тихо, ни выстрела. Но к утру все ждут наступления. Было около трех часов ночи, когда где-то далеко влево – неприятно громыхнуло первое орудие. В будке все вздрогнули, насторожились. «Началось», – сказал кто-то. За первым снарядом как будто сорвалась стая – грянули залпы, один за другим. По всему фронту от Красного Трактира до нашей будки засвистали, лопаясь, шрапнели, заревели гранаты…
* * *
По всему фронту гремит, гудит артиллерия. Влево, в Красном Трактире, и вправо, у Святосилка, трещат винтовки и пулеметы. Ясно: с рассветом начнется общее наступление на Киев.
В будке все встали, взяли винтовки. Внутри – в груди, что-то неприятно сосет и тянет. Конец авантюры. Каков-то он будет?..
Бороздя черное небо, свистят снаряды и звонко лопаются на мерзлом снегу. «Господин полковник, надо на батарею передать, чтоб стрельбу открыли», – говорит кто-то Сперанскому. «Да, но телефон не действует», – отвечает Сперанский. В углу комнаты, низко нагнувшись над трубкой, кричит телефонист… Но безответно. Провода порваны… «Разрешите, я сбегаю на батарею, господин полковник», – говорю я. «Бегите, скажите, чтоб из всех орудий огонь открыли», – отвечает Сперанский.
Бегу белесо-темным полем. По всему фронту ревет артиллерия, гула отдельных выстрелов не слышно. Общий рев – словно кипит адский котел. Добегаю до Жулян. Уже сереет рассвет. Видны наши орудия. 8 пушек с приподнятыми кверху дулами молчат. Около них несколько темных фигур.
Добежал до хаты командира батареи. Вхожу. В хате за столом в шинели, в фуражке сидит капитан. Перед ним – телефон. Он пытается с кем-то связаться. «Что вам?» – спрашивает капитан, оторвавшись от трубки. Докладываю. «Передайте полковнику Сперанскому, что я могу стрелять только из одного орудия. У меня нет прислуги». Я делаю изумленное лицо. «Разбежались», – раздраженно поясняет капитан. И снова кричит в телефон: «Вторая! Вторая!»
Теперь я уже не бегу. Торопиться некуда. Тихо прохожу около молчащих орудий. Одно изредка вздрагивает – стреляет. Почти рассвело. Со стороны противника еще сильнее ревет артиллерия. Влево и вправо трещат винтовки и пулеметы.
Дошел, доложил Сперанскому. Все уже вышли из будки, толпятся, жмутся к стене от рвущихся снарядов. «Занять позиции», – приказывает Сперанский. Офицеры тонкой цепочкой идут на позиции. И располагаются вместе с ночными караулами в их окопах. Окопы занесены снегом. Мы первые лезем в них, утаптываем. Отсюда видна почти вся линия нашего фронта – белая, снежная полоса окопов, кое-где стоящие 5-6 офицеров с пулеметом
Зорко смотрим в белую даль противника, ища его цепи. Но даль спокойна.
Влево на полотне показались два человека Что такое? У одного в руках какой-то большой разноцветный флаг. Идут, близятся. Крайний к будке офицер побежал доложить полковнику Сперанскому. Фигуры стали ясны. Вдруг в нескольких шагах от них со страшным взрывом взлетел кверху фонтан земли, снега и скрыл фигуры.
Взорвали путь. Уцелели ли они?.. Фонтан взорванной земли тает. И опять движутся вперед два человека. Вот они уже у будки. Наш караул не выдержал, все побежали. Может быть, это парламентеры? Может быть, это исход?
Полковник Сперанский уже разговаривает со штатским господином, в меховом пальто, с пенсне на носу. Это французский консул Мулен. Он взволнован – его чуть не взорвали, требует паровоз, чтоб ехать в Киев. Напрасно офицеры пытаются расспросить Мулена и сопровождающего его железнодорожника. Они молчат. Но видно по ним, что ничего радостного нет. Паровоз подан. Мулен с железнодорожником уехали. А мы опять пошли зачем-то стоять в окопах… Опять зорко вглядываемся в даль. Вправо и влево – на оконечностях фронта – гремит артиллерия, трещит стрельба. В центре же против нас пока тихо. Но вот вдали, между нами и Михайловской Борщаговкой, появилась редкая цепь. Наступает, движется. В соседнем карауле затрещал пулемет. Вдали показались еще и еще цепи, наступающие на Софиевскую и Михайловскую Борщаговки. Цепи быстро перебегают. Из деревни раздались редкие, неуверенные выстрелы. Петлюровцы близятся к деревне, уже скрываются с поля – входят в нее.
И влево и вправо треск стрельбы гулко уносится назад. Значит, наши отступают.
Я побежал в землянку к телефону – доложить полковнику Сперанскому. Но все мои попытки напрасны. В трубке кричат двадцать голосов, ругаясь, перебивая друг друга. Все добиваются соединения, и все хотят сказать одно и то же: держаться нельзя, нас обходят, отступаем.
Офицер нашего караула побежал доложить Сперанскому. Но не успел он вернуться с приказанием, как дальше караулы, видя, что их обошли, снялись и начали отступать. За ними. Снялись все.
Все отходят к будке. Заметив отступление, сильней загудела артиллерия, засыпая наш участок снарядами. Подходим к будке.
На линии железной дороги стоит Сперанский. Он нетрезв, из кармана полушубка торчит бутылка водки. «Куда вы отступаете! Стойте!» – кричит он диким голосом. Ближайшие офицеры объяснили ему, что весь фронт вправо от нас ушел, что петлюровцы уже заняли Михайловскую Борщаговку и если мы не уйдем сейчас же, то будет поздно. Сперанский пробует звонить в штаб – на пост Волынский, но ответа нет. Пришедшие оттуда говорят, что штаб уже бежал. Под взрывы артиллерии начали медленной цепью отходить. У поста Волынского увидели со всех сторон отступающие кучки. Где штаб? – спрашивают все. Никто не знает. Куда идти? Тоже не знают. Все толпятся, движутся, ругаются, кричат. Но ревущая сзади артиллерия и все ближе, ближе приближающаяся стрельба заставляют куда-нибудь уходить. Прошли пост Волынский, идем по шоссе среди столпившихся людей, лошадей, орудий, автомобилей. Откуда-то появился начальник участка полковник Крейтон, полковник Стессель (оба не особенно трезвы) и с ними полковник Боровский (уже во всем штатском).
«Куда же мы пойдем?!» – кричат полковнику Крейтону с разных сторон. «Пойдем на Киев – пока ничего не известно. Вероятно, будем пробиваться на Дон». Но теперь эти «пробивания» встречаются нескрываемой грубой иронией. С полупьяным штабом, разбегающимся раньше строевых, без обозов, горсть в несколько сот человек будет пробиваться на Дон через всю Украину!..
Офицеры, живущие на ближайших окраинах, бросают винтовки, потихоньку расходятся. А все во главе с полковниками Крейтоном, Стесселем и др. идут по шоссе на Киев. Полковник Крейтон пробует ободрять: «Немцы постановили в совете солдатских депутатов выступить на защиту города и нас. Союзники уже совсем близко». Но теперь, когда ближе всего петлюровцы, никто не верит ободрениям.
По шоссе трудно двигаться от столпившихся людей, артиллерии, повозок. Остановились около казарм. Из них высыпали немцы, окружили, смотрят, смеются, машут руками, что-то кричат. Один ловкий молодой немчик устанавливает фотографический аппарат. Но на него закричали десятки голосов, покрывая самыми нелестными ругательствами, и он убрал расставленную треногу.
Мы уже вошли на Демиевку. Слышна стрельба по всему городу. На тротуары высыпали горожане, в большинстве рабочие. Смеются, отпускают шутки. «Эх, сколько пленных-то! Только что-то без конвою», – говорит один. «Единая, неделимая», – кричит другой. Никто им не отвечает, отвертываются, стараются не замечать злых шуток.
«Куда же мы идем?» – спрашивают полковника Крейтона. «На вокзал, господа, – там генерал Кирпичев, там все выяснится». Дошли до железнодорожных путей. Идем мимо вагонов, все торопятся. По городу трещит стрельба. Остановились у вокзала. Одни разбегаются, бросая винтовки, другие взволнованно переговариваются, совещаются. Из вагона вышел генерал Кирпичев с штабом гвардейцев. Все столпились вокруг него… «Господа, у нас есть два выхода: или пробиваться на Дон, или распыляться отсюда же. Выбирайте». Пауза. «Ваше превосходительство, – отвечает какой-то офицер, – о пробивании не может быть речи, распыляться же отсюда нельзя потому, что город уже занят петлюровцами. Единственный исход – это всем идти к городской думе, я не киевлянин, я не знаю куда – одним словом, в центр города и там вступить в переговоры через представителей думы». Все согласно зашумели, кроме гвардейского штаба (им, оказывается, хочется в штабе пробиваться на Дон). «В Педагогический музей надо идти!» – кричит кто-то. Кирпичев согласен. В Педагогический музей… Строятся, торопятся, бросают вещи, мешки, патроны, стаскивают с ног валенки – переодевая сапоги. Колонной по отделениям идем в город. По тротуарам идут дозорные. Я – в правом дозоре. «Если что-нибудь заметите – доложите. Мы сейчас же примем боевой порядок», – говорит Кирпичев. Идем по улицам. Из домов выбегают, толпятся люди, с любопытством смотря на нас. «Кто это? Петлюровцы?» – «Нет. Гетманцы». – «А куда же они идут?» Выходим на Владимирскую. Уже недалеко музей. Тротуары запружены людьми, здесь в большинстве интеллигенция. «Скажите, ради Бога, куда вы идете?» – спрашивает, хватая за руку, пожилая женщина в трауре с заплаканными глазами. Отвечать не приказано. Отряд, дробно отбивая шаг, под тысячами глаз, торопится к музею. Около здания толпятся другие части и толпа любопытных. «Левое плечо вперед! Марш!» И мы входим в широкие двери вестибюля, пробираясь сквозь встречную толпу офицеров, солдат, сердюков. Это было 14 декабря 1920 года.
* * *
В Педагогическом музее скопилось более 2 тысяч человек. Но в комнатах лежат только наиболее усталые. Большинство наполнило большой вестибюль, толпятся у входа, стоят кругом здания – ждут «конца». Конец авантюры почти пришел. По городу со всех сторон близится, трещит стрельба. Слышны неясные крики толпы. Мы столпились у здания – ждем последнего акта. Вдруг за углом, совсем близко, толпа закричала громкое: «Слава! Слава!» И затрещали выстрелы. Все около музея вздрогнули, метнулись, большинство кинулось в здание, толкая друг друга. В кучке оставшихся на улице закричали: «В цепь! В цепь!» Захлопали затворами. Но к оставшимся бросились из толпы. «Господа! Что вы! бросьте, все равно ведь все кончено. Вы всех погубите!» И через мгновение около музея не было никого, а в вестибюле стоял взволнованный генерал Канцырев, собираясь вступить в переговоры…
В музее заняты комнаты, проходы, лестницы. Гул тысяч голосов внезапно обрывается жуткой тишиной. Все прислушиваются к уличному шуму. И опять гудят – обсуждают положение, ждут переговоров.
Через полчаса стало известно – впредь до выяснения участи вход занят украинским и немецким караулом. И украинские власти приказали всем, как пленным, снять погоны, кокарды.
В комнатах, проходах, в уборной, на лестнице офицеры, генералы срывают с себя погоны, кокарды. Офицеры Генерального штаба рвут аксельбанты. И этот пустяк – сорванные погоны – сразу дают почувствовать «плен».
Я попал в комнату № 8. Громадный зал сплошь устлан лежащими людьми, тут же – винтовки, патроны. Негде упасть яблоку. Проходить приходится шагая через тела. В растворенное окно долетают глухие раскаты криков и выстрелы.
Уже поздний вечер. Все лежат и после бессонного стояния на фронте с удовольствием, усталые, засыпают мертвым сном.
Утро. Я очнулся. Не могу сообразить: где я? Что такое? Ах да… Музей, арест. По громадной комнате несется, перекатывается гул разговора. С кухни достали ведра с кипятком – пьют чай; появились сестры милосердия. Разговоры об одном и том же: что будет? Со всех сторон слышна беспощадная брань по адресу командного состава. Очень немногие офицеры бесконечных штабов попали в музей. В большинстве штабы скрылись. Раньше всех, бросив фронт на произвол судьбы, бежал главнокомандующий князь Долгоруков, клявшийся в приказах «в минуту опасности умереть с вверенными ему войсками». Скрылся представитель Добровольческой армии генерал Ломновский, в то время как мелкие чины его штаба попали в музей. Полковник Сперанский бежал из музея ночью, подкупив караул.
Узнали, что мы – киевские дружинники – никогда в Добровольческой армии генерала Деникина не состояли. И официальное заявление об этом генерала Кирпичева было ложью.
И если на позициях чувство «дисциплины» сдерживало многих, то теперь чувство близкой опасности и сознания глупейшей, пьяной авантюры заставило большинство быть крайне резким.
Кое-как выбравшись из чала, я спустился по заваленной людьми несколькоэтажной лестнице в вестибюль. Хотелось получить какую-нибудь газету. А здесь, через часовых, доставали.
У входных дверей расхаживали громадные, молчаливые немцы и стояли неуверенные, молодые петлюровцы. Кучка офицеров окружила караульного, дают ему деньги, просят купить газет. Но вдруг на улице у первых дверей вдалеке послышался шум, крики, сильней, сильней. И в настежь распахнутые двери, с красными бантами на папахах, на шинелях, крича, хлопая затворами, бросились вооруженные люди… «Стой! Стой! Занимай входы! Вправо! Влево!» – кричали они, щелкая затворами. Впереди – с громаднейшим маузером в руках, с выбившимися космами волос из-под папахи, весь в красных бантах – какой-то неистовый унтер-офицер. Кучка офицеров метнулась к лестнице. Немцы схватились за винтовки. Лейтенант с криками «Halt!» бросился к ворвавшимся.
Казалось, сейчас раздадутся выстрелы, стоны и начнется общее избиение. Лежавшие на лестнице люди с шумом побежали в комнаты. В комнатах, ничего не поняв, все вскочили и, как один, защелкали затворами. Лица стали бледны. Глаза уставились на двери, наступила жуткая, жуткая тишина. Наконец минут через 10 вошел офицер: «Господа, не волнуйтесь, ради Бога, все улажено. Пришли петлюровцы с требованием немедленно разоружиться». Тишина сменилась шумом разговора. Оказывается, солдаты Черноморского коша, узнав, что «гетьманцы» сидят в музее до сих пор с оружием, пришли его отобрать. С ними начал переговоры генерал Канцырев, пытаясь доказать озверелым ворвавшимся солдатам, что возможно еще наше освобождение и пропуск с оружием на Дон. Черноморцы и слушать не хотели, дав сроком выдачи оружия полчаса. В это время подоспели выбранные для переговоров комнатой № 8 полковник Ерощенко и поручик Строганов. Они уверили солдат, что оружие будет выдано сейчас же. И через несколько минут с грохотом, шумом все складывали в углы своих комнат винтовки, патроны, револьверы, а сами, безоружные, спускались в вестибюль. До сих пор с оружием в руках так не чувствовался плен. Теперь ощутили свою полную беззащитность, полную подчиненность каждым ворвавшимся солдатам.
Оружие выдано. Петлюровцы снесли его на грузовики и увезли. Нас всех обыскали. Кто имел большие деньги – отобрали. Мы снова разошлись по своим комнатам. Теперь начался уже настоящий шмон. Дни потянулись томительно, длинно.
Но, несмотря на «настоящий плен» – снятие погон, выдачу оружия, – командный состав и в музее пытался сохранить вид «воинской части». Уже на второй день сидения была объявлена запись желающих ехать на Кубань и Дон. Целые дни в комнатах раздаются крики: «Желающие на Дон! Записываться здесь». Люди стоят в очереди. Кто-то записывает. Для чего? Неизвестно. Говорят, пропустят.
Вместе с криками о записи начали вызывать на свидание в вестибюль.
Около музея, на другой же день нашего ареста, стала несколькотысячная очередь родственников и близких. В большинстве женщины: матери, жены, сестры, невесты, любовницы. Для того чтобы попасть в музей – они стояли бессменно день, ночь и наконец попадали на 10 минут в вестибюль увидеть и поговорить с арестованным.
Внизу у дверей на лестнице человек 20 штатских людей ждут свидания. По бокам – конвойные с винтовками, ручными гранатами. Женщины плачут. Все смотрят кверху по лестнице, ища своего арестованного. Гулко летит фамилия, с лестницы – по комнатам. Вызываемый с какой-то странной улыбкой сбегает вниз – к своим, обнимается, начинает говорить… Но строгий петлюровец уже берет его за руку, торопит уходить, толкает. Арестованный прощается. Его крестят, дают какой-то сверток, он уходит, скрываясь в общей толпе.
С раннего утра у дверей уборной стоит длинная, длинная вереница – в очереди. Каждому приходится стоять здесь больше часа. Но скоро уборная испорчена. И комендант здания приказал назначить арестованных на чистку. Петлюровцы ведут полковников, пожилых офицеров – убирать клозеты.
А желающих «оправиться» строят по 10 человек в вестибюле, командуют: «Кроком руш» – и ведут на двор. После душных, переполненных комнат свежий воздух кажется необыкновенно приятным, а узенький двор – вольным и просторным.
Около офицеров стоит конвойный. Если добродушный – острит, если нет – торопится и ругает. Помню, один, смотря на нас, сказал, качая головой: «Эх, офицеришки бедные, тоже, поди, дома жена, детишки»… Кто-то попробовал его разжалобить дальше, но он пасмурно ответил: «А зачем же против народу шли». Людей в музее с каждым днем прибавлялось. Всех арестованных и взятых в плен сводили сюда. Скопилось тысяч до четырех. Все было переполнено. Больше появилось сестер. Они приносили еду, газеты, рассказывали новости.
Получили номер «Свободных мыслей» – первый по занятии Киева Петлюрой. В нем яркая статья Финка «О сидоровой козе» – с призывом к русской, вечно избиваемой интеллигенции «поднять выше голову» и бороться за себя, за свое существование. На другой день узнали, что газета закрыта, а Финк арестован. Немного посмеялись над «Прощаньем с Киевом» Дона Аминадо:
Не так уж тесен Божий мир,
А мне мила моя свобода.
Прощай Аскольд, прощай и Дир.
И хай живэ меж Вами згода.
Пугали нас украинские газеты: «Нова Рада» и «Возрождение». В обеих велась сильная кампания против «добровольцев» и приводились действительно веские аргументы. Так, по «Возрождения», на собравшейся в Киеве спилке появился крестьянин с вырезанным языком. Язык вырезан карательным отрядом. Здесь же в музее сидело довольно много таких карателей, не стеснявшихся рассказывать о своих подвигах.
«Нова Рада» приводила факты грабежей добровольцев. И тут же в музее приходилось узнавать, что она не лгала.
Из газет узнали об убийстве генерала Келлера «при попытке бежать». И о том, как въехавшему на белом коне Петлюре подносили саблю убитого графа. И о том, как на банкете украинских самостийников Винниченко поднял бокал «за единую, неделимую Украину».
Приходили в музей «консула»: белорусский, литовский, латышский, сибирский (!), представитель Дона. Все они пытались освободить своих подданных, составляли бесчисленные списки, но из этого ничего не выходило.
С каждым днем сидение в музее становилось тяжелей. Плохая пища, духота, отсутствие уборной, вши и к этому полная неизвестность своей судьбы и приближение большевиков с севера. И в то время как рядовой офицер не мог подумать даже: когда он будет свободен, – сильные мира ежедневно освобождались. Одни за деньги (в большинстве казенные), другие – благодаря связям. В один из дней стало известно, что сам украинский комендант музея бежал с освобожденным генералом Волховским [108] и с 400 тысяч казенных денег. А рядовые офицеры все сидели и сидели. Но и в такой обстановке находились неунывавшие люди. Как сейчас вижу: штабс-капитан Лебедев сидит прислонившись к стене, бренчит на гитаре и под общий смех приятным басом распевает куплеты на злобу дня…
И потом, сделав бравурный перебор:
В другом углу лежит юнкер, задравши ноги, громко выкрикивает «Журавля» – описывающего киевскую авантюру.
Тянутся дни… Как лег на свое место – так и лежишь. Не в состоянии даже никуда повернуться. Выкрикивают фамилии: на свидание. Кричат о записи на Дон. В углу играют в карты. Там поют. Там смеются с хорошенькой сестрой. И никто не знает: что с нами сделают, наконец? И когда будем мы свободны?
Наступление большевиков с севера многих волнует, так как настроение украинцев известно и следующий этап петлюризма совершенно ясен.
Один наивный офицер попробовал рассказать нашим караульным, что скоро нас выпустят и мы вместе с ними пойдем бить большевиков. Так они подняли такой гвалт, шум и совершенно отвергли возможность союза с «буржуйками» против своих же братьев.
В уборной музея я нашел интересную украинскую прокламацию. Она призывала рабочих и крестьян к свержению власти Петлюры и установлению Советской Республики. Но не такой, как в Москве, где всю власть взяли прежние буржуи и интеллигенты. «У нас должно быть подлинное рабоче-крестьянское правительство, из нас, братья рабочие и крестьяне». Все говорило за крайнюю опасность нашего положения. Мы сидели, не видя конца, и некому, казалось, было за нас заступиться. Наконец мы прочли первое выступление в нашу пользу – эсера Зарубина в городской думе. Вслед за этим к нам приехала думская комиссия, а через несколько дней – следователи, производить дознание о каждом. Мы заполняли какие-то опросные листы, ходили на допросы, но все сидели и сидели.
В скучные дни кому-то пришла мысль устроить концерт. Составили программу. Достали разрешение у коменданта. И в круглую аудиторию музея уже валит публика. Заняли места. В первых рядах – наши генералы, без погон, с унылым видом, рядом с ними – сестры, немецкие солдаты и наши властители – сечевики, в французских шлемах, с винтовками в руках, увешанные гранатами.
Сзади – море арестованных. Выступает хор с солдатскими лубочными песнями, потом – великолепная имитация балалаечного оркестра, потом – поют солисты; юмористы, рассказчики – уходят со сцены под дружный хохот арестованных, петлюровцев и немцев.
Вот солдат прокалывает себе длинной булавкой руки, тело и заявляет, что он мог бы затопить весь зал водой (загипнотизировать), да комендант здания запрещает. И опять общий хохот. Вот куплетист Дарогоневский приплясывает под напевы: – Ой, яблочко, куда ты катишься? В музей попадешь, не воротишься, и т. д.
Концерт всем чрезвычайно понравился, особенно петлюровцам. На другой день к устроителям пришел депутат от караула: «нельзя ли еще раз устроить». Но концерта больше не было.
…В том же зале служили всенощную… Зал переполнен. Священник хорошо, с чувством служит. Молятся арестованные. Тут же стоят, крестятся и сумрачно смотрят на нас вооруженные сечевики…
Тянутся дни. Наступило 25 декабря – Рождество. Разговоры об освобождении усилились. Приходят родные – обнадеживали. Уже многих освободили.
Но в один из дней Рождества произошел эпизод, совершенно неожиданно решивший судьбу арестованных.
…Было часов 11 ночи. Большие комнаты застланы людьми. Все укладываются спать на свои шинели, многие заняты обычным делом: сидят полуголые, рассматривают рубахи, кальсоны – бьют вшей. Многие заснули.
Я, сжатый с обеих сторон другими, задремал. Но вдруг вскочил от невероятного треска, взрыва. Показалось, что падают стены, рушится здание… Вылетали, дребезжа, окна. И тут же раздался дикий крик сотен голосов. Люди вскочили с мест, бросились, побежали к дверям по лежащим. Страшный крик не прекращается. «Из пушек по нас стреляют!» – кричит кто-то. «Господа, спокойно! Это взрыв!» – доносятся голоса среди общего шума… Бежать, конечно, некуда. Но все ждут второго удара – и метнулись, сами не зная куда.
В отворенные двери нашей комнаты стали входить окровавленные раненые. Забегали сестры.
В соседнем круглом зале громадный купол из толстого стекла рухнул вниз – на лежащих. Стекла падали с такой силой, что пробивали насквозь стулья. Здесь – стоны, крики, паника отчаянная. Раненые с окровавленными лицами, руками, одеждой толпятся, выбегая из комнаты. Есть тяжелораненые.
Но не прошло десяти минут после взрыва, как к нам в комнату влетели, размахивая нагайками, вооруженные до зубов гайдамаки в опереточных костюмах. «Панове! Тихо! Не то по-гайдамацки будем ногаями бить!» – кричали они. И стало тихо. Только раненых носили, перевязывали, да обсуждали вполголоса, что же это такое было? И опять укладывались спать на свои шинели…
Наутро увидели, что во всем здании все окна выбиты. Наш квартал опутан проволокой, оцеплен войсками. К нам никого не пускают. Стало еще тяжелей. Из газет узнали, что во взрыве, где пострадали 200 с лишним арестованных, украинцы обвиняют нас же. Будто бы мы сделали это с целью побега.
К нам стали хуже относиться. Чаще в холодных комнатах появляются вооруженные украинцы – что-то высматривают. Вот вошел солдат – мальчишка – весь в окружении, в красных и желто-голубых бантах. Идет по комнате, всматривается во всех и некоторых наиболее видных, пожилых или хорошо одетых манит пальцем и куда-то уводит. В комнате жуткая тишина. Куда выводят? – никто не знает. Но каждый, в кого тыкнет пальцем этот мальчишка, немедленно встает и ему подчиняется. Выведенные вернулись. Их водили на работу – чистить клозеты под присмотром конвоя.
Но вот опять пришел этот мальчишка и заявил громко: «Генералы та полковники – выходь!»
Куда? Зачем? Но он предупреждает, что, кто не выйдет, тому плохо будет. Самому, и за него еще ответит комната.
Там и сям поднялись оставшиеся генералы, полковники, собирают свои пожитки, прощаются с знакомыми, куда-то уходят под командой мальчишки.
Жутко становится, когда из комнаты уводят кого-нибудь неизвестно куда. Словно что-то тоскливо пустеет в тебе самом.
Узнали, что генералов и полковников отвезли в Лукьяновскую тюрьму.
В дни Рождества комнаты сильно поредели. Многих выпустили по ордеру. Многие освободились за деньги. Исчез из музея полковник Крейтон. Бежал во время взрыва, прикинувшись раненым, генерал Канцырев. Скрылся Кирпичев. Осталось человек 600.
В выбитые взрывом окна врывается холодный ветер со снегом. В комнатах свободно, холодно.
Стало еще томительней, неприятней.
После взрыва – нет свиданий. Никого не пускают даже в улицу эту. Говорят, что около колючей проволоки, опутывающей наш квартал, стоят толпами родственники. Но как ни стараешься заглянуть в выбитые окна – не видно. Газет – нет. Сестер пускают лишь немногих. Долетел слух, что взбунтовался большевиствующий Черноморский кош. Отношение караула все хуже и хуже. Двухнедельное сидение дает себя знать.
30 декабря утром нам приказали разделиться на украинцев и неукраинцев. Неукраинцев оказалось человек 120. Украинцев больше 400. Пришел сам командир осадного корпуса полковник Коновалец. Перекликал украинцев, вычеркивал неподходящие фамилии. Но вдруг среди дня опять всем приказали соединиться. Прошел нелепый слух: всех вывезут в Германию. Это показалось смешным, невероятным, и никто не поверил.
* * *
Но вот уже комендант объявил официально, что сегодня, 30 декабря, нас, вот таких, как мы есть, – полуголых, вшивых, полуголодных, – вывозят под конвоем в Германию. Верить или не верить нельзя. Теперь – это факт. Захотелось дать знать близким – но нельзя. Мы оцеплены. Никого не пускают. В комнатах началось беспокойство. Все пишут записки родным, близким. Обступили нескольких сестер – умоляют переправить.
Вечер. Уезжающие в Германию собирают вещи: жестяной ведерный чайник, жестяные кружки, немного сахару и хлеба. Весь багаж. Собрались. Уже разбились на вагоны, по 35 человек, и сидят в ожидании.
Строиться! Встали «по вагонам». Пошли, зашумели сапогами по пустующим залам. В вестибюле двери открыты настежь – врывается морозный ветер. По бокам выстроились немецкие и украинские солдаты. Распоряжается всем бравый лейтенант.
Под конвоем строем вышли на улицу. После 16 дней сидения в душных комнатах морозный воздух необыкновенно приятен, а идти по улице – хоть и под конвоем – кажется блаженством.
В городе военное положение, и на улицах – ни души, кроме вооруженных конных и пеших петлюровцев. Нас подвели к трамваям. В одну линию их стоит многое множество. В темноте лентой светятся огоньки. Кругом с саблями наголо гарцуют конные украинцы. В вагонах – пешие немцы и петлюровцы.
Очевидно, все сели. Какой-то сигнал, и процессия трамваев двинулась, охраняемая гарцующими кавалеристами. Светятся зеленые, красные, желтые огоньки, плывут в темноте ночи… Трамваи катятся быстрей и быстрей. Рядом рысью летят кавалеристы.
Какой-то офицер припал к окну, толкает другого: «Смотри, Коля, смотри, у нас в столовой огонь… Видишь? Видишь?» Он долго смотрит в окно с бегущими столбами, окнами и скачущим рядом кавалеристом.
Едем. На душе грустно… Кто-то под страхом расстрела мобилизовал. За это другой посадил под арест и взорвал. А теперь кто-то оторвал от дома, работы, от близких людей, запирает, как скотов, в вагоны и зачем-то отправляет в чужую страну. И на «этого» изнасиловавшего подымается в душе злоба…
Трамваи стали. Выходи! Вылезли. В темноте чернеют фигуры часовых. Повели строем на вокзал. Вот уходим на платформу. Шпалерами стоят каменные немцы, чередуясь с петлюровцами. Первые молчат – вторые сыплют замечания и ругательства. «А… Вашу мать добровольцы – гетьманцы!», «Що це едына неделима!», «Та куда их везут там – перерубить их тут всех, сволочей»…
Подвели к темным вагонам. Открыли двери. Сажают в темноту по 35 человек и запирают на замок. В темноте разбирают места. Слышно, как водят других. Звякают замки… Легли с братом на нары. Одна мысль: о своих. Они ведь даже не знают, что нас вывезли куда-то. Да и доедем ли еще? Везде власть на местах, а караул наш 10 немцев-добровольцев и офицер. Поезд заскрипел, рванулся, тронулся. Поехали в Германию…
Мы едем ночь и день в наглухо запертых вагонах. 35 человек лежат, плотно прижавшись друг к другу от холода и тесноты.
Знаем, что проехали Фастов. Поезд останавливался, не доезжая станции. А ее пролетел на полном ходу. Качаются, скрипят вагоны… Голодно, холодно… Мысли о доме перебегают на мысли о будущем. Куда же мы едем? Где остановимся?..
Говорят, в Казатине будет обед. Поздней ночью подъезжаем к Казатину. Шумят встречные поезда. Очевидно, мы около вокзала. Остановились. Слышны какие-то голоса, крики. Через минут 20 от задних вагонов ясно донесся шум многих людей. «Наверное, не пускают дальше», – прошептал кто-то в вагоне.
Шум, крик близится. Но вдруг поезд заскрипел, рванул вагоны, тронулся. Шум стал сначала сильней. Затрещали выстрелы по поезду, но он быстрей и быстрей убегал от Казатина.
Теперь еще проехать границу Украины – Голобы. А дальше зона немецкой оккупации.
И опять едем ночь и день в запертых вагонах. Раз в 24 часа, а иногда и в 36 – заскрипит дверь вагона и какой-то темный человек с фонарем в руке поставит ведро супа. Все бросаются, с жадностью хлебают скверную похлебку. И снова ложатся. А дверь, скрипя, запирается…
Ночью 2 января 1919 года. Подъезжаем к границе Украины – Голобам. Поезд, заскрипев, стал. В наших вагонах – мертвая тишина, как будто везут багаж. На станции слышны голоса. И скоро, опять как в Казатине, голоса сильней, сильней, переходят в крик. Слышно ясно, говорят по-украински, спрашивают, что это за поезд. «С больными, ранеными», – отвечает им кто-то. Но они не успокаиваются. Вот шаги нескольких людей приближаются к нашему вагону. В вагоне – жутко тихо. Вот взялись за скобу двери. Тишина стала еще напряженней. Не слышно дыханий. Отворяют. С фонарем в руках 2 вооруженных человека. «Що цэ за люди?» – грубо, но и нерешительно спрашивает один из них. Молчание. «Що цэ за люди?» – повторяет вооруженный. Молчание… «Больные», – говорит кто-то. «Яки это больны?» – «Спросите у коменданта поезда», – отвечает кто-то из темноты… Все напряженно смотрят на вооруженных людей, в свете фонаря кажущихся зловещими.
Но вдруг после слов о коменданте они повернули и пошли к задним вагонам. Кто-то из нас запирает дверь. И опять в вагоне – тишина ожидания.
Если узнают – не пропустят, схватят. На платформе зашумели голоса. Но поезд засвистел, рванул и пошел. Переехали границу Украины.
На следующей станции пересадка. Вышли на платформу. Ведут немцы. Ночь холодная, падает с неба мокрый, мерзнущий снег. Ветер. Тускло светят фонари станции.
Привели к толстому немецкому майору. Он сказал что-то непонятное, разделил и отправил по вагонам, но теперь уже совсем скотским, без соломы, с остатками только что выведенных животных. Заперли по 35 человек. Все стоят – сесть нельзя. Холодно – стынут ноги. Хочется есть. Но мы под замком.
Тронулись.
Наутро двери вагонов открыли. Поезд идет – все сидят, смотрят на угрюмый, разоренный войной и оккупацией край. На каждой станции – немецкие товарные поезда. Русские рабочие под присмотром немецких солдат грузят на них то уголь, то муку, лес, сено, солому. Поезда уходят в Германию.
Едем через Белосток, Брест-Литовск, Оссовец – везде одна и та же картина. Разбитые снарядами дома, понурые, измученные люди, худой скот, почти нечего купить. А немецкие поезда грузят необходимые населению предметы и увозят в Германию.
Теперь на станциях можно слезать. Пробуем говорить с местными людьми о немцах. Только рукой машут они. «Все, чисто все вывозят, разорили всех…» – слышим жалобы.
С каждым часом мы близимся к германской границе. 3 января переехали ее и остановились у станции Prostken.
Все высыпали из вагонов. Для большинства германский ландшафт нов. Оборванные, вшивые, грязные, голодные «эмигранты» с любопытством смотрят на красненькие черепичные домики деревень, на словно скатертью покрытое шоссе с подстриженными деревьями, на здоровых детишек, стучащих деревянными туфлями.
Замелькали одна за другой станции Korschen, Allenstein, Deutscheylau, Graudenz, Schneidemuhl… Живя в России – о Германии думалось как о стране совершенно разоренной, доведенной войной до нищенства. В воображении рисовались голод, нужда, разорение. Но, переехав границу, впечатление было иное. Эти чистенькие станции с киосками полными газет, журналов, книг, открыток, и все так дешево – удивили. В России все печатное было уже недоступно. Аккуратные, убранные вокзалы; продают кофе, пиво, пирожные. Тоже удивило. В России все это бешено дорого, а здесь пфенниги.
Дали обед и по куску кровяной колбасы. Правда, обед не ахти, но лучше, чем нам давали на Украине. Мелькают красные черепичные домики, аккуратные квадратные огороды, подстриженное, вылизанное шоссе. Железнодорожники в синих мундирах с блестящими пуговицами. Все так тихо, спокойно.
Даже странно – нигде ни выстрела. Люди потихоньку «живут». Живут с напряженной дисциплиной, с крепко сбитой организацией.
После пережитой российской бескрайней анархии Германия показалась страной буржуазного отдохновения.
Хочется купить открытку, послать своим, известить – ни копейки денег. Да и не дойдет. Ведь мы отрезаны от России. Едем быстро, едем по Германии.
На одной из станций ночью проснулись от криков толпы. Что такое? Как в России! Это повстречались с эшелоном русских военнопленных, едущих на родину. «А, буржуи! Убегаете, сволочи!» – осыпали нас военнопленные. Долго они ругались, кричали, грозили.
Мы молчали и разъехались в разные стороны.
Проехали Kreuz, Kustrin, Neustadt. Вскоре по вагонам предупредили: в Берлине волнения, «спартакистские» беспорядки; через город поедем – двери запереть, и ни слова.
Неужели и здесь война?
Опять багажом едем через Берлин. Где-то, проезжая над улицей, увидели в щелку вагона демонстрацию с красными флагами, услыхали крики, донеслись выстрелы. Как у нас, подумалось.
Проехали столицу Германии, проехали Spandau, поезд остановился у станции Doberitz.
Уже вечерело. По вагонам отдано распоряжение: вылезать. Вылезли. Куда? Что такое? На платформе у станций толпятся военнопленные французы, русские. Рядом стоит поезд, в который французы грузятся – уезжают на родину, очевидно. У большого окна салон-вагона – французский офицер в голубом мундире, в красной расшитой шапочке. Он ест печенье и удивленно, презрительно уставился на странных оборванцев. Вот он, не то для удовольствия, не то из жалости, не доев пачки печенья, бросил ее в нашу кучу и лениво отошел от окна. За печеньем метнулись, толкаются, хватают – голодные.
Нас строят едущие с нами немцы и ведут в Doberitz. Оказывается, мы идем в лагерь военнопленных. На улицах попадаются встречные группы военнопленных: русские, французы, румыны, сербы, итальянцы.
Русские кричат: «Из какого лагеря, товарищи?!» Но никто им не отвечает – не знают, что сказать.
Уже стемнело. Мы вышли из города. На возвышении чернели бараки лагеря, обнесенные проволокой. Где-то далеко по направлению к Берлину трещали выстрелы и ухала артиллерия.
Вошли в большой лагерный двор и в темноте остановились. Откуда-то сразу обступили военнопленные. Опять неприятные вопросы: «Из какого лагеря, товарищи?» – «С Украины», – вдруг нерешительно говорит кто-то. Удивлению нет границ! «С Украины? Зачем же вы приехали?» Кто-то пытается объяснить, но напрасно. Уже поняли… «А, буржуи бегут. Ну, недалеко убежите, здесь тоже большевизм завтра будет, слышите – стрельба, бой под Берлином идет!»
Нас обдали злобой, от которой становится больно и неприятно.
Идем в бараки. Помещают не с русскими, а с французами, итальянцами. В освещенном электричеством бараке гудит разноцветная толпа. Красные штаны и светлые куртки французов, синие матросы, голубые зуавы, черные итальянцы – все обступили нас. Уже узнали, кто мы. Крики, шум. С нар спрыгивают другие, бегут, расспрашивают. Гудят разговоры. Француз-матрос с богатырской квадратной грудью ведет меня и товарищей занять места. Лезем на голые нары. Но лежать нам не дают. Французы без умолку расспрашивают. Не верят, что мы офицеры. Интересуются, что такое «boulgeviqe». Ругают бошей и русских военнопленных. Необыкновенно горды победой. «Nous sommes Francaise», – кричит какой-то француз. Но мы очень голодны. Даже рассказывать трудно. Наши союзники это заметили – несут галет, консервов, шоколада. И стыдно брать. И от голода нет сил отказаться. Весь вечер проходит в рассказах и разговорах. Ранним утром, чуть только начало светать – мы уже проснулись от криков «Lumiere! Lumiere!». Вместе с криками по бараку полетели консервные коробки, поднялся шум. Итальянцы поют, топают, приплясывают. Французы кричат.
Они скоро едут на родину. И близость отправки сделала их детьми. Шум, гам не прекращается весь день. Они получают продукты на дорогу, деньги. Бегают. Забросали пол пустыми банками консервов, ломают нары. Угощают нас.
А на дворе мы встречаемся с нашими, русскими. Пасмурные, озлобленные, они недоверчиво вступают в разговор. С злобой смотрят на богатство и радость французов. «Всю войну так жрали. А наш брат с капусты дох. На них же служили… Их мать. Хоть одна бы сволочь нам что-нибудь прислала». В словах земляка справедливая обида.
Но мало говорим мы с нашими. Они вскрыли в нас «буржуев» и открыто неприязненны. Даже пожалели, что мало их осталось в этом лагере, а то бы…
Через день по нашем прибытии французы, итальянцы, сербы, румыны отправлялись на родину.
В громадный двор лагеря из настежь открытых бараков выбегают пленные. Бегут в разные стороны, к своим группам и там строятся в колонны с чемоданами, мешками на руках. Над каждой из колонн развевается, самими сделанный, громадный национальный флаг; у многих в руках – маленькие флажки. Длинные колонны громко, радостно поют свои гимны. Несется «Марсельеза», поют итальянцы, сербы, румыны. Кричат свое «ура». Машут шапками!!
Мы, рваные, голодные, стоим кучками вдалеке двора. Без семьи, без своего народа, вышвырнутые с родины… Колонны с радостными песнями, криками, махая шапками, шумно двинулись одна за другой. Пошли – на родину… В нашей кучке у одних навернулись слезы, другие неловко отвернулись. И отошли.
Раздел 4
РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
ОСЕНЬЮ 1918 ГОДА
М. Соболевский[109]
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛТАВСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН В БОЯХ НА УКРАИНЕ [110]
После трех лет небывалой по ожесточению войны, не выдержав напора революции, распалось, проеденное красной ржавчиной, стальное кольцо победоносных доселе войск, и доблестная издревле Армия Русская перестала существовать. Позорно склонились к вражеским ногам красные тряпки, пришедшие на смену славным боевым знаменам, свидетелям великих подвигов, олицетворению благородных традиций чести. И только самоотверженные кучки преданных всеми, но верных долгу людей с мужеством отчаяния продолжали оборону родной земли, но вскоре предательский удар в спину положил конец и их героизму. Казалось, Россия погибла.
Но любовь к Родине не угасла среди ее лучших сынов, и то здесь, то там, на всем пространстве необъятной страны, прорезая мрачную ночь нависшего над нею кровавого гнета, вспыхивали яркими огнями отдельные очаги чести. И уж не об обороне от внешнего врага, а о спасении России от внутреннего предателя думали люди, объединяясь под трехцветным знаменем, хватаясь за вырванное у убийцы ружье, грудью своею прокладывая дорогу к светлому будущему. И завязалась борьба за освобождение Родины. Единой. Неделимой России.
На вольном Дону, в далекой Сибири, на холодном Севере, всюду, где только могли, хватались горячие сердца за оружие. И в освобожденной от большевиков Украине все громче звучал призыв к объединению, все настойчивее, несмотря на внешние препятствия, проявлялось стремление к слиянию в общий со всеми русскими силами поток. Но лишь только подготовлявшееся с таким трудом объединение готово было воплотиться в жизнь, как снова запылала Украина. Узкие фанатики национальной исключительности подняли, с Петлюрой во главе, восстание, надеясь предательством интересов всей России купить благополучие одной ее части. К восставшим примкнула часть офицерства, променявшего, ради личных выгод или слепого шовинизма, доблестные традиции Русской армии на разноцветные шлыки гайдаматчины с ее недоброй славы прошлым и все неспокойные элементы незамиренной страны. Большинство, забывшее за время германской оккупации о большевистской угрозе и втайне надеясь на замену одних оккупационных войск другими, осталось нейтральным, отказом от убеждений и трусливым смирением перед победителем рассчитывая избежать бедствий Гражданской войны. Под трехцветное знамя стали немногие. Крестен был их путь.
Вокруг отдельных офицерских групп, заранее выразивших желание в Особом корпусе принять участие в освобождении России, сплотились отпускные чины Добровольческой армии и малочисленные добровольцы – крепкие духом русские люди. Не встречая нигде поддержки, видя предательство своих вчерашних братьев по Великой войне, сталкиваясь на каждом шагу с тупым и упрямым уклонением от исполнения долга крови, эти люди все же мужественно выступили против надвигающейся анархии. Германские части, обязавшиеся было впредь до смены поддерживать порядок на Украине, захваченные революционным движением, в подавляющем своем большинстве отказались активно выступать против большевистски настроенных банд и, заявляя о своем нейтралитете и желании ехать на родину, исподтишка, вопреки своему офицерству, в лице своих солдатских советов, часто просто помогали повстанцам. Настал для каждого час выявить твердость своих верований и честность убеждений.
22 ноября 1918 года несколько десятков офицеров были брошены под моей командой на станции Селещина Южной дороги, с задачей оборонять с востока подступы к Полтаве и охранять расположенные близ станции громадные артиллерийские склады. Крайняя малочисленность отряда лишала возможности с достаточной бдительностью нести охранения и даже регулярно сменять мерзнувших на постах людей. Слабость сил заменила твердость духа. Верные долгу, личным примером подбадривая друг друга, несли собравшиеся – несмотря на чины, прошлую деятельность и род оружия – службу одиночного пехотного бойца, памятуя, что в критическую минуту важно не количество начальников, а число солдат, не число могущих отдать распоряжения, а количество умеющих подчиняться. Контр-адмирал князь Черкасский [111] стоял безропотно начальником полевого караула, лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка полковник Бобошко [112] сменялся на часах с капитанами 1-го ранга Тыртовым [113] и Никифораки. [114]
Противник, усиленный многочисленными, большевистски настроенными бандами, поднятыми местными коммунистами, и отлично осведомленный о слабости отряда, все надвигался и смелел. Наконец, в ночь на 25 ноября повстанцы сделали отчаянную попытку внезапным налетом захватить Селещину. Незаметно накопившись в ближайших деревнях в числе нескольких сот, они, пользуясь темнотой, подползли к самому почти охранению и, потеснив его, ворвались на станцию. На платформе, между поездами, на площадках вагонов, завязался крайнего ожесточения рукопашный бой. В полном мраке, освещенные лишь вспышками выстрелов, дрались люди, одни – воодушевленные сознанием своего количественного превосходства, другие – зная, что помощи ждать неоткуда и надо ее искать в личной стойкости. Не преодолев сопротивления, противник отхлынул, оставив много трупов. Понес потери и отряд. Двое приказных прикомандированного к нему отряда кременчугской державной варты было убито, несколько ранено. Легко раненные капитан 1-го ранга Тыртов и лейб-гвардии Преображенского полка штабс-капитан Дейтрих-Белуха-Кохановский [115] остались в строю.
Вечером 26 ноября вверенный мне Селещанский отряд получил приказание отходить к Полтаве, ввиду обнаружившейся угрозы городу со стороны Киевского вокзала. В течение ночи Красные казармы в западной части города были захвачены петлюровцами, которым передалась значительная часть мобилизованного в украинские полки офицерства. Утром 27 ноября на Южном вокзале сосредоточились все части, оборонявшие Полтаву со стороны Харькова и Юзовой; в центре города еще держался штаб обороны, от которого и было получено приказание стягиваться к нему. Часть так и поступила. Малодушные же просто разошлись по домам или разбежались. Большинство Селещанского отряда не пожелало идти сдаваться и, вместе с примкнувшими к нему с подполковником Корольковым [116] во главе офицерами Особого корпуса с Харьковского направления и кадрами 34-го пехотного Севского полка, решило, под общей командой полковника Ратманова, [117] пробиваться на Кременчуг. Это и удалось после короткого боя.
В Кременчуге сводный отряд полковника Ратманова получил от главнокомандующего всеми вооруженными силами на Украине генерала графа Келлера приказание занять Ромодан и держать этот важный для обороны Киева узел до прихода ожидавшихся союзнических войск. В развитие этого приказания часть вверенного мне отряда была, с контр-адмиралом князем Черкасским во главе, выслана для занятия станции Миргород, другая же оставлена на станции Ромодан в резерве отряда.
Приказом начальника Кременчугского района от 1 декабря Селещанскй отряд был переименован в Отдельный Полтавский добровольческий батальон. Командовать им был назначен я.
7 декабря части бригады полковника Ратманова, занимавшие станцию Хороль, были оттеснены к Ромодану и окопались в 8 верстах от последнего у полустанции Шишаки. Полтавский Добровольческий батальон был послан восстановить положение. 8 декабря, на рассвете, две роты полтавцев, в составе 65 штыков, усиленные ротой германцев при 6 пулеметах и 13 всадниками, сотни Лохвицкого уездного старосты повели наступление вдоль железнодорожного пути. Сбитый у деревни Боговка противник занял опушку рощи к северо-востоку от станции Хороль и южную окраину прилегающих к ней хуторов, откуда, поддержанный бронепоездом, несколько раз пытался перейти в контратаку. Понеся потери и убедившись в значительном численном превосходстве противника и невозможности легкого занятия станции Хороль, германские солдаты, занимавшие центр боевого расположения, отказались идти дальше и около 15 часов начали отходить. Поставленные этим в критическое положение, части вверенного мне батальона были вынуждены приостановить наступление и перейти к обороне достигнутых рубежей. Маленькая горсточка мужественных людей, разорванная на части, теснимая отовсюду, геройски держалась до темноты и, только получив возможность вынести своих раненых, отошла в исходное положение. Противник, силою свыше двух батальонов, не решился ее преследовать. Потери батальона были – убит прапорщик граф Соллогуб; ранены – поручик Костюк, подпоручик Марченко, прапорщик Костырко, прапорщик Джантиев; ранены и остались в строю – капитан Горунович и штабс-капитан Дейтрих-Белуха-Кохановский; контужены и остались в строю – капитан Моггеровский и прапорщик Милорадович; без вести пропал поручик Бутович.
Через два дня наступление петлюровцев возобновилось. Весь день 11 декабря вверенный мне батальон в составе бригады полковника Ратманова вел бой в районе Ореховского сахарного завода. Вечером, ввиду обнаружившегося движения противника прямо на гор. Лубны в обход Ромодана и отказа Германского солдатского совета помочь, получен был приказ отойти к станции. В течение ночи части, оборонявшие район, стянулись справа к г. Лубны, а затем отошли к западу и заняли железнодорожный узел Гребенку.
Под впечатлением неудач и не видя обещанной помощи с такой надеждой ожидавшихся союзников, слабые духом заколебались и ушли ночью в числе нескольких сот (эшелон полковника Юрьева) разоружаться в гор. Лубны, пользуясь тем, что железнодорожное сообщение с этим городом еще не было прервано, а гарнизон там держали немцы. Остальные, в их числе и вверенный мне Полтавский батальон, верные своим убеждениям, верованиям и долгу, решили не покидать своего поста и продолжать упорную оборону подступов к матери городов русских.
14 декабря порвалась связь с Киевом. Держаться долее, не зная того, что творится в тылу, стало невозможным, и отряд немедленно начал отход к Киеву для того, чтобы либо помочь своим осажденным братьям, либо разделить с ними общую участь. Настроение частей, отчаявшихся в успехе, было угнетенное, дезертирство приняло значительные размеры.
20 декабря в деревне Ядловка были, наконец, получены вполне проверенные сведения о падении Киева… Борьба на Украине за русское дело в этом фазисе своем была кончена…
Оставалась борьба с большевиками.
Ни для одного честно смотревшего на действительность военного, ни для одного трезво разбирающегося в обстановке человека не могло остаться никакого сомнения, что восстание на Украине потеряло и тень того стремления к национальной самобытности, во имя которой оно якобы было поднято, и приняло чисто большевистский характер. Было ясно, что недалек тот день, когда то, что носит название республиканского украинского войска, объединившись с московскими большевиками, лишит украинскую Директорию и того намека на власть, который у нее еще оставался.
Считая борьбу на Украине в ближайшее время невозможной и ввиду общего желания частей продолжать ее и дальше, до полного освобождения истерзанной Родины, начальник отряда отправил в Киев к председателю Директории делегацию, поручив ей, основываясь, между прочим, на ультимативном требовании о том французского консула в Одессе Энно, добиться свободного пропуска всего отряда в Добровольческую армию.
Между тем разложение в отряде росло. Некоторые украинские деятели, воспользовавшись тем, что посланные долго не возвращались, повели ожесточенную агитацию, склоняя офицеров и солдат преимущественно украинской службы идти, не дожидаясь ответа, в Киев, где и сдаться на милость победителя. Усердно распространялся слух, что из Киева всех желающих распускают по домам, а украинцев даже принимают на службу. Брожение охватило весь отряд и повело к открытому расколу. Отдельные части и даже люди выступили с разнообразными требованиями и заявили о своем нежелании подчиняться, если таковые не будут исполнены. Значительная часть отряда, веря почему-то в благородство своих вчерашних врагов и надеясь смирением и полным отказом от начатой борьбы за Россию заслужить помилование, решила под водительством H.H. Устимовича признать новое правительство на Украине и поставить себя в его распоряжение.
Часть пулеметной команды вверенного мне батальона с поручиком Руцким и прапорщиком Деггером во главе позволила себе даже прибегнуть к угрозам, понуждая остальных идти сдаваться и требуя от начальствующих лиц, чтобы те вели их в Киев, выдав предварительно за месяц вперед суточные. Но в подавляющем большинстве своем полтавцы, презрев угрозы, не послушались трусливых подговоров и, крепкие верой в правоту своего дела, не захотели без боя сдавать оружия и вместе с доблестными кадрами 10-го Одесского уланского и 34-го пехотного Севского полков и Кременчугским дивизионом при 2 горных орудиях решили пробиваться на соединение с Добровольческой армией.
Вечером 22 декабря 1918 года части, верные долгу и славным традициям старой Русской армии, двинулись под командой полковника Ратманова в новый поход – на Одессу. Полтавцы шли в авангарде. К утру 24 декабря, пройдя в два перехода свыше 120 верст, отряд подошел к Днепру у переправы против м. Ржишев, которое оказалось занятым сильным гарнизоном войск Директории. Дождавшись сумерек и послав небольшую часть отвлечь внимание противника, полковник Ратманов с остальным отрядом продвинулся на несколько верст вниз по реке и внезапным ударом сбил охранение петлюровцев у Преображенского монастыря и с боя, в полной темноте, форсировал переправу.
Независимо от угрозы со стороны ежеминутно могущего в превосходных силах вернуться противника, для удержания которого были выдвинуты в направлении к Ржишеву вверенные Мне полтавцы, переправа через Днепр затруднялась целым рядом почти непреодолимых препятствий. Малейшее уклонение с дороги грозило полыньями, подтаявший лед проламывался у берегов, орудия и колесный обоз приходилось вытаскивать на руках, лошади проваливались в воду или скользили, карабкаясь на крутой берег. Промокшие и продрогшие люди безропотно исполняли свой долг, и только благодаря их сверхчеловеческим усилиям и доблести отряда удалось закончить переправу к тому времени, когда к монастырю подошли передовые части получивших подкрепление петлюровцев. Обстрелянные, однако, выставленным заслоном полтавцев, они не пытались сблизиться с ядром отряда.
Весь день 25 декабря отряд, имея вверенный мне батальон в главных силах, с боя продвигался на юг, преследуемый наседавшим противником. В каждой почти деревне приходилось наталкиваться на сопротивление, целый ряд был взят с боя. Арьергард в течение дня почти не выходил из огня. К вечеру неприятель был обнаружен и на флангах. Не решаясь сблизиться и не принимая боя, отряды противника, усиливаясь бандами примыкавшего к ним местного населения, постепенно суживали вокруг отряда кольцо. Движение же между тем все затруднялось. Жители, предупреждаемые нарочными и перепуганные распространявшимися последними слухами про ужасы, творимые якобы отрядом, разбегались, угоняя лошадей, вследствие чего не было возможности подменить выбивавшиеся из сил подводы. Значительное количество раненых и больных приходилось не только вести с собою, но и охранять, ибо каждого отставшего ждала неминуемая гибель со стороны пользовавшихся каждой складкой местности, чтобы обстрелять колонну, партизан. Накрапывал дождь, смывая последние остатки снега. С наступлением темноты положение еще ухудшилось. Часть подвод пришлось бросить, ибо лошади не тянули саней по грязи. Мокрый туман закрыл землю, грозя всякими неожиданностями. Лишенные уже несколько дней какого бы то ни было отдыха люди падали от усталости, и только сознание, что в одной быстроте движения – надежда вырваться из все более и более сжимающегося кольца, поддерживало их угасающие силы.
На ночлег отряд остановился в селе Купиеватом, в южной части Киевского уезда, верстах в 50 от места переправы через Днепр. Дальше ни люди, ни лошади идти не могли.
В течение ночи к начальнику отряда прибыли представители войск Директории с вопросом, что за отряд двигается и куда он идет, обещая – в случае его мирных намерений – не чинить ему дальнейших препятствий в пути. Для ведения переговоров были полковником Ратмановым назначены помощник командира и адъютант вверенного мне Полтавского батальона контр-адмирал Черкасский и лейб-гвардии Преображенского полка штабс-капитан Дейтрих-Белуха-Кохановский. По приезде в деревню Таганчу офицеры эти были арестованы, и им было предъявлено от имени Директории требование немедленно согласиться за отряд на разоружение и безусловную сдачу. Не считая себя вправе принять такие условия и не видя при создавшейся обстановке возможности вести дальше переговоры, парламентеры ограничились сообщением предъявленных им требований начальнику отряда. Обратно в отряд они отпущены не были и были объявлены заложниками.
Положение отряда между тем становилось все тяжелее. Без средств к передвижению, имея значительное количество раненых и больных, при 300 лишь способных носить оружие, почти без патронов и снарядов он был окружен двинутыми Директорией со всех сторон против него – последней борющейся еще за Россию на Украине горсти офицеров – значительными силами. Попытка прорваться заранее была обречена на неуспех…
После полутора дней переговоров начальник отряда, получив достоверные сведения о падении Одессы и побуждаемый настойчивой телеграммой полковника Кунцевича – старшего из посланных в Киев из Ядловки делегатов, – согласился, наконец, на сдачу отрядом оружия с тем, чтобы всем офицерам и добровольцам была обеспечена личная неприкосновенность, оставлены деньги и собственные вещи, а сами они, как военнопленные, были доставлены в Киев. Необходимые гарантии были в письменной форме даны представителями Директории – начальником Киевского уезда украинским полковником Негорашем и командующим войсками атаманом Македоном. Не видя другого исхода, с тоской на душе, приняли добровольцы эти условия.
Утром 27 декабря состоялось разоружение отряда. Под хмурым пасмурным небом, окруженные исступленной толпой ворвавшихся в деревню петлюровцев, построились, осыпаемые бранью и угрозами, чины отряда с неясной надеждой на то, что условия сдачи будут все-таки соблюдены. Но тщетна была эта надежда. Все личные вещи были на месте разграблены, найденные деньги и ценные вещи, даже обручальные кольца, отняты, со многих сняты сапоги, одежда…
Босых и раздетых людей, среди издевательств и оскорблений, погнали, подталкивая прикладами, в м. Таганчу, где заперли на ночь в такой тесноте, что негде было стоять, а недостаток воздуха доводил до обморока. Утром повели дальше, расстреливая по пути отстававших либо по слабости, либо за отсутствием обуви, отнятой накануне. Смертью героя пал вверенного мне батальона поручик Гладкевич, убитый на глазах у всех за слова: «Я думал, что сдаюсь честному противнику, а это оказалась банда». Пало от презренной руки сотника Семена Науменко и несколько братьев наших по оружию севцев, мученической кончиной запечатлевших свою преданность долгу. Мир честным, самоотверженным душам…
К ночи остатки отряда подошли к станции Корсунь и почти тотчас же были размещены по неочищенным даже от навоза вагонам, по 15 человек на вагон. У измученных, доведенных до отчаяния людей вновь мелькнула надежда. Сзади оставалось предательство и вероломство – впереди, быть может, проявится честность.
До Фастова поезд шел двое суток, три раза возвращаясь в Белую Церковь, чтобы только спасти жизнь пленным, с которыми встречные эшелоны грозили расправиться самосудом. За эти дни пищу дали один только раз. Конвой грабил в пять приемов, расстреливать собирались трижды, дважды подкатывая для этой цели к вагонам пулеметы… 30 декабря, наконец, удалось миновать Фастов, где от отряда были отделены и неизвестно куда отправлены наши доблестные, честные друзья князь Михаил Борисович Черкасский и Сергей Модестович Ратманов. Ко всеобщему изумлению поезд не повернул на Киев. Мелькнул Казятин, прошли несколько часов ожидания смерти в Бердичеве, лишь путем долгих уговоров удалось коменданту поезда убедить гарнизон Ровно пропустить эшелон и не расправляться с едущими самосудом… В Киверцах гайдамаки и сечевики отцепили паровоз и приставили к поезду свой караул, решив на собранном у самых вагонов митинге казнить всех офицеров на следующее утро. Всю ночь провел конвой в переговорах, всю ночь провели заключенные в молитве. К рассвету, когда всякая надежда, кроме надежды на Бога, исчезла, машинисту удалось обмануть бдительных часовых, внезапным маневром сцепиться с вагонами и увезти их под беспорядочным огнем часовых. Агония ожидания длилась 17 часов.
В Голлобах охрану эшелона приняли немцы. Явилась возможность отдохнуть от беспрерывных издевок и систематического в течение всего пути вооруженного грабежа. Явилась возможность утолить голод покупкой хлеба, а жажду водой, добытой без унижения. Открывалась новая страница в жизни каждого, и открывалась она под Новый год.
Перед бывшей у одного из офицеров полтавской святыней, иконой Козельшанской Божьей Матери, скорбно молилась дружная семья полтавцев об оставленных вдали близких, прося Бога помочь им преодолеть испытания и сохранить в Новом году дорогих людей, дав им поддержку в тяжелую минуту. Горяча была эта молитва о новом счастье.
Мысль о продолжении войны за Россию не покидала изгнанников ни на одно мгновение. В мечтах они видели себя снова на родной земле, снова с оружием в руках. Им верилось, что пребывание их в Германии ограничится проездом, что им хоть тут будет оказана помощь для того, чтобы добраться до Добровольческой армии. Крепка была эта вера в непоколебимость обязательства взаимной поддержки спаянного таким количеством за общее дело пролитой крови… Между тем 5 долгих месяцев провели полтавцы и товарищи их по несчастью в германских лагерях, мучительно бездействуя, в то время как Россия изнемогала в борьбе. Спасенные от смерти и гостеприимно принятые – как гости и друзья – чужой, вчера еще враждебной страной, избегнув голода благодаря поддержке союзников, они, высланные из родной земли, не могли добиться единственной помощи, которой добивались, – возможности присоединиться к борьбе за освобождение Родины. Много за это время было пережито разочарований, много испытано обманутых надежд. Никто не хотел понять их стремлений, какая-то сила, казалось, намеренно препятствовала осуществлению их мечты. Только взаимная поддержка и вера в помощь Божию спасала от отчаяния. Не в силах ждать, некоторые сделали попытку прорваться на Родину одиночным порядком, часть уехала на Мурман.
Без вестей и близких, одни на далекой чужбине, жили люди мечтой и воспоминаниями, толкаясь во все двери, чтобы найти ту, наконец, которая откроется в Россию. Наконец она была найдена, и полтавцы, усиленные группой славных защитников Киева с лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка штабс-ротмистром Леонтьевым [118] во главе, вопреки всем перешагнули ее порог, откликнувшись на призыв святлейшего князя Ливена. [119] Ни забот о личных выгодах, ни корыстных исканий не было у полтавцев и примкнувших к ним. Их воодушевляло лишь желание принести Родине посильную пользу, посвятить ей себя всецело, посвятив ей то единственное, что у них еще оставалось, – свои силы и жизнь. Рядовыми бойцами в составе 7-й роты 3-го батальона Ливенского отряда пролили они свою кровь за счастье своей страны, соперничая порывом и отвагой. Ныне в 3-м Ливенском полку, воспитывая и увлекая примером, поведут они с беззаветным мужеством и самопожертвованием своих солдат на борьбу за единую, неделимую Россию.
В. Милоданович[120]
«ПОЛТАВСКИЙ БОЙ» 27 НОЯБРЯ 1918 ГОДА [121]
11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. За Германией должна была неминуемо пасть и Украина. Петлюра постарался больше всех, чтобы она перестала существовать как можно скорее, подняв свое восстание в наиболее критический для Украины момент.
На Левобережной Украине восстание началось с того, что Запорожская дивизия оставила противобольшевистский фронт севернее Белгорода и двинулась на Харьков. Там она без труда разоружила кадр 7-го украинского корпуса генерал-майора Лигнау [122] и затем повернула на Полтаву, где находился подобный же кадр 6-го корпуса под командой генерала от артиллерии Слюсаренко, [123] бывшего командира 28-го корпуса «русской армии. В Полтаве были расположены: штабы корпуса и 11-й пехотной дивизии; все три пехотных полка этой дивизии; 11-я артиллерийская бригада в составе тоже трех полков (бывших «отдельных дивизионов») тех же номеров, что и пехота; корпусная артиллерия: 6-й горный и 6-й гаубичный полки и, наконец, караульная рота для охраны складов.
31-й артиллерийский полк состоял главным образом из офицеров бывшей 9-й артиллерийской бригады (полтавской), 32-й – из 32-й артиллерийской бригады, «украинизированной» на фронте в конце 1917 года, 33-й полк был, насколько помню, сборный. 32-м полком командовал подполковник Ф.Н. Свешников, [124] бывший командир 2-го дивизиона 32-й артиллерийской бригады, прочими – подполковники 9-й бригады. Добавлю, что 12-я дивизия нашего корпуса была в Лубнах.
Новая организация, основанная на «тройке», была, понятно, удачнее старой русской. Комиссия, ее разработавшая, приняла во внимание опыт войны (замечу, что членами этой комиссии были генералы Шайбле, [125] Гернгросс, [126] Синклер, [127] Дельвиг [128] и Кислов [129] – все настоящие украинцы, как видно из их фамилий). Но в штатах армии была одна странность: в полках не было адъютантов! Вместо них был чиновник, «правитель канцелярии»! Заменить адъютанта чиновник может, конечно, далеко не всегда. Но тут помогло то, что в штате управления полка был офицер – разведчик, положенный в чине капитана, с правами командира батареи (батареи должны были быть 4-орудийными, капитанскими). Эту должность занимал я, и командиры полков приспособили офицеров-разведчиков под адъютантов. Таким образом мы опровергли мнение Кузьмы Пруткова: «нет адъютанта без аксельбанта»!
Итак, в теории организация была хороша, но в полках почти не было солдат! Немцы разрешили произвести призыв только в отдельную гвардейскую дивизию («сердюки») в Киеве, а в остальных частях могли служить только добровольцы. Таким образом, в составляемых мною донесениях по табели «терминовых доносив» (срочных донесений) в 82-м артиллерийском полку неизменно фигурировали: 17 офицеров, 1 подпрапорщик, 10 канониров, 2 лошади и одна повозка. Итого – 28 человек. Так как полки были примерно одинаковыми, то с управлением бригады и инспектора артиллерии корпуса в Полтаве было 150 артиллеристов. Орудий сперва не было, но позже полки бригады получили по одной пушке образца 1902 года, а корпусная артиллерия – две 48-линейные гаубицы. В пехотных полках численный состав был выше; насколько – сказать не берусь, но в общей сложности численность гарнизона была, вероятно, 400-500 человек. Кроме нас, в Полтаве был и небольшой германский гарнизон.
Совсем незадолго до восстания, на станции Скороходово произошла встреча гетмана Скоропадского с атаманом Красновым. В своей речи Краснов определил задачу гетмана так: «Вам, ясновельможный пан гетман, выпала на долю задача составить левый фланг наступления на Москву!» Далее в сообщении говорилось: «Гетман ответил речью» – и больше ничего! Из этого мы заключили, что речь гетмана была, в некотором роде, «нецензурной» своим согласием с Красновым. Затем в самом скором времени началось упомянутое выше восстание, и передовые части Запорожской дивизии полковника Болбочана оказались в Скороходове. Не помню точно расстояния от этой станции до Полтавы, но, во всяком случае, оно небольшое, так как до Харькова всего лишь 150 верст. Это вызвало у нас то, что называется «дрожемент», тем более что за Болбочаном должны были, несомненно, последовать большевики!
Хотя немцы были тогда уже в полуразвалившемся состоянии и желали лишь одного: унести ноги домой, гетман не решился призвать «хлеборобов» (зажиточных крестьян), с помощью которых он был «возведен на престол», но объявил только призыв офицеров. 32-й полк получил их человек 40. Гарнизон таким образом удвоился, а может быть, и утроился в числе. Настало время подумать, что же делать дальше. По моему тогдашнему мнению, могло быть два решения: 1) упразднить все наши бесчисленные полки и учреждения и сформировать, например, два слабых батальона и две куцые батареи и постараться разбить Болбочана, дивизия которого не могла быть первоклассной ни по духу, ни по численности. Если же считать это невозможным, то отступать на Киев, на Дон или в Крым. Замечу, что, как мы позже слышали, командир 8-го корпуса генерал-лейтенант Васильченко [130] отступил из Екатеринослава в Крым; 2) вообще ничего не делать и приветствовать приход Болбочана.
К первому решению нужно, однако, заметить, что оно сопровождалось бы всеобщим «разжалованием» в должностях, начиная с генерала Слюсаренко, который перестал бы быть «командиром корпуса», моему командиру полка пришлось бы быть командиром роты или даже только взвода, а мне – просто «рассыпаться в цепь» в качестве рядового, на снегу и на морозе в 10-20 градусов. Кому бы этого хотелось?
Что касается второго решения, то всего лишь три-четыре месяца тому назад мы принесли присягу гетману и, следовательно, второе решение было бы окончательно неудовлетворительным! Итак, наше начальство изобрело решение третье, которое состояло в следующем:
1) В дополнение к нашим многочисленным штабам был создан еще один – «штаб обороны», а начальником обороны был назначен начальник 11-й пехотной дивизии генерал-майор Стааль.
2) Все офицеры получили винтовки.
3) На войну с Болбочаном был выслан «бронепоезд» из товарных вагонов с платформой для пушки. Командиром его был назначен подполковник инженерных войск Макарец, [131] в распоряжение которого были даны 30 офицеров пехоты и 10 артиллеристов 32-го полка с пушкой. Впоследствии Макарец был заменен моряком, капитаном 2-го ранга Ратмановым.
4) Офицерам было приказано оставить частные квартиры и переселиться в казармы. Исключение было сделано только для командиров полков и выше, а также для офицеров высших штабов. 32-й артиллерийский полк перешел в казармы Шиндлера, которые находились неподалеку от Красных казарм (название – по цвету кирпичных наружных стен), где поместилась пехота.
Казармы Шиндлера были только что отремонтированы и заново оштукатурены. Когда мы в них перешли и затопили печи, помещения наполнились таким туманом, что мы с трудом узнавали друг друга! Но дымоходы были в исправности, а это было главным… Но, вообще, эти казармы были очень примитивного свойства. Наши солдаты оставались в старом помещении штаба. Они считались начальством как бы несуществующими, и это, вероятно, должно было задевать их!
Из призванных офицеров генерал-майор Чуйкевич, [132] его брат, [133] полковник, и еще «штук» 6 – 7 полковников составляли штабную команду. Я назначал их дневальными у ворот и посылал с донесениями. Что все это им не нравилось – не стоит и говорить, но вели они себя кротко, понимая, что иного занятия найти для них невозможно. «Инцидент» возник только однажды, но окончился вполне благополучно.
Дело было так: я написал вечернее донесение и, подавая его очередному посыльному, полковнику Максимовичу, сказал: «Господин полковник, будьте добры отнести это в штаб обороны». – «Не желаю!» – ответил полковник. Как бы не замечая его ответа, я продолжал тем же тоном: «Донесение должно быть в штабе обороны к 6 часам вечера. Сейчас – 5.30. Значит, вы имеете в своем распоряжении еще 10 минут» – и с этими словами я отошел на другой конец комнаты, чтобы не мешать ему «опомниться». Подействовало! Минут через пять Максимович подошел ко мне и сказал: «Давайте пакет!» и спросил: «Винтовку брать с собой?». – «Обязательно, – ответил я, – этого требует штаб обороны». Инцидент был исчерпан.
Наш «бронепоезд» до Скороходова не доехал и обоснозался на ближайшей к нему станции (названия не помню), откуда делал вылазки вперед и вел артиллерийскую дуэль с таким же поездом Болбочана. Ежедневно расходовалось при этом до 200 патронов. Сошник орудия продолбил при стрельбе дыру в деревянной платформе, которая была затем заменена железной (что надо было бы сделать с самого начала!). Потом случилось происшествие: к нам в штаб, еле волоча ноги, явился хорунжий (прапорщик и подпоручик вместе) и доложил, что поезд погиб и только он один спасся и пешком добрался к нам. В первый момент ему поверили, но затем командир полка вспомнил, что наш подпрапорщик возил туда сегодня утром снаряды и вернулся всего лишь полчаса назад С докладом об исполнении. Выходило так, что он передал снаряды после бегства хорунжего! На вопрос, не случилось ли там чего-нибудь, подпрапорщик ответил, что утром произошло нападение на поезд, но оно было отбито без потерь, за исключением пропавшего без вести хорунжего.
«Хорунжий? – сказал командир полка несчастному беглецу. – Потрудитесь сейчас же вернуться обратно на поезд!» Хорунжий с трудом поднялся со стула, любезно предоставленного ему, как единственному спасшемуся, и ушел. Мне было очень жаль его: после такого похода повторить его в обратном направлении!
Позже мы узнали, что там произошло. Утром офицеры пошли на станцию позавтракать, и, конечно, без оружия! Пехотная группа противника подошла к станции и поставила на водокачку, находившуюся в линии с платформой, пулемет. Когда офицеры, покончив с чаепитием, показались на платформе, пулемет открыл огонь и отрезал им путь к поезду. Именно тут злополучный хорунжий счел, что все пропало, выбежал на противоположную сторону станции и, сделав крюк, пришел к нам. Однако два-три офицера, выскочив на противоположную сторону станционного здания, сделали обходное движение, но – к поезду, вооружились и открыли огонь по водокачке. Пулемет замолчал, и противник исчез. Тем дело и кончилось! Но случай этот показал, что противник не намерен ограничиваться одной только артиллерийской дуэлью, что, впрочем, было ясно и раньше!
25 ноября наши казармы обошел генерал-майор Купчинский, [134] дотоле нам неизвестный. Говорили, что он бывший директор Полтавского кадетского корпуса. Купчинский увел с собой почти всех наших офицеров, остался только штаб полка, генерал Чуйкевич, полковники и еще кое-кто. Было ясно, что предвидится операция в небывалом масштабе! Итак, 26 ноября, где-то на восточном берегу Ворсклы, находились наши «главные силы»: отряд генерала Купчинского, две запряженные пушки 31-го и 33-го артиллерийских полков, две сотни «державной варты» (государственной стражи) и «бронепоезд». Где именно и что они там делают, штаб 32-го артиллерийского полка не знал и ничего не предполагал.
* * *
27 ноября утром, чуть рассвело, меня разбудил дневальный у ворот полковник Чуйкевич и доложил, что в Красные казармы вошла какая-то воинская часть, разоружила офицеров и распустила их по домам. Некоторые из офицеров, с чемоданчиками в руках, проходили мимо него, и он с ними разговаривал.
Это означало, что минут через 15 эта «воинская часть» может быть и у нас! Я разбудил офицеров и вызвал к телефону бригадного адъютанта капитана Ващенко-Захарченко. На мой вопрос (без упоминания о разоружении): «Какая воинская часть вошла в Красные казармы?» – он, разбуженный моим телефонным звонком, ответить, конечно, не мог и сказал, что запросит штаб обороны, а я добавил, что приду к нему (управление бригады было поблизости).
Когда я пришел, адъютант сообщил мне ответ штаба обороны: «Вероятно, наша». – «Зачем же она разоружила офицеров?» – спросил я. Адъютант снова вызвал штаб обороны и, ни о чем уже не умалчивая, повторил все то, что я ему рассказал. Штаб ответил, что пошлет узнать, в чем дело. Я пошел на квартиру своего командира полка.
Свернув на Екатерининскую улицу, я сейчас же встретил одного из командиров пехотных полков, мрачно шагавшего в том же направлении, что и я, с чемоданом в руке. На некотором расстоянии за ним шел пехотный поручик высокого роста, с длиннейшими усами. Фамилии его я не помню, однако впоследствии мы оба заметили, что наши встречи имеют зловещий характер: мы встречаемся всегда перед какой-нибудь катастрофой, в последний раз – на набережной в Севастополе. Теперь он шел с улыбкой человека, который счастливо отделался от угрожавшей ему неприятности. Я подошел к нему, но ничего нового для меня он не сказал.
В городе поднялась стрельба. Жители высыпали на улицу и говорили, что идет штурм тюрьмы. «Господин офицер! – сказал мне почтенный старый жид, – зачем вы ходите по городу с винтовкой? Теперь не такое время: мало ли что может случиться!» Замечание было вполне резонным. Когда все было тихо, винтовка на плече артиллерийского капитана могла, понятно, импонировать мирным жителям, но теперь она была явно лишней! Однако не мог же я бросить ее просто так, на улице. Поэтому я еще раз вернулся в управление бригады и с разрешения адъютанта поставил ее в угол канцелярии. Затем я снова направился к квартире командира полка.
Теперь я увидел на Екатерининской улице группу своих офицеров, уныло шагавших за генералом Чуйкевичем. «Куда вы идете?» – спросил я. «В штаб полка, – ответил генерал. – Оставаться в казармах Шиндлера было бы неразумно». Я был того же мнения и сказал, что командир полка и я придем туда же. Итак, на этот раз я добрался до квартиры подполковника Свешникова, и затем мы, вместе с поручиком технической службы Васильевым, жившим в том же доме, что и командир, пришли в штаб. Здесь я снова вооружился винтовкой. Мы совершенно не представляли себе, что нам делать дальше, но, когда пули выбили нам стекла в окнах, выходивших на Екатерининскую улицу, командир полка сказал: «Пойдем в штаб обороны!»
Однако, когда мы вышли на улицу, нас окатили таким ружейным огнем, что мы моментально оказались снова внутри здания. Я предложил попробовать пройти в штаб обороны по параллельной улице, выйдя на нее через сад при доме адвоката Горонескула. Предложение было принято. Поручик Терещенко, атлетического телосложения, повалил деревянный забор ударами приклада, и мы, никем не потревоженные, прошли через сад и вышли на параллельную улицу.
Холод был, что называется, собачий, и, ежась в своем пальто, командир полка сказал мне: «Ну, куда мы против мужичья!»
Мы подошли к подъезду здания губернского правления, на углу Кадетской площади и Александровской улицы. В подъезде стоял пулемет, за которым сидел бравый летчик; возле стоял другой офицер. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. На площадке стоял генерал Стааль, который, приняв рапорт нашего командира, сказал: «Я приказал 34-му полку взять станцию Полтава-Киевская». Показав на коридор, влево, и на комнату за ним, он добавил: «Располагайтесь!»
Тут мы увидели и «34-й пехотный полк», который в составе семи человек с пулеметом спустился по лестнице мимо нас и вышел из здания. Откуда взялся еще и этот «полк»? На этот вопрос мне кто-то ответил, что это «34-й пехотный генерала графа Каменского полк», то есть иной, не нашей ориентации, а того «правого» фланга наступления на Москву, по определению атамана Краснова.
Мы прошли по коридору в указанное нам помещение, наполненное офицерами разных частей и ящиками с оружием и консервами. Какая-то дама в костюме сестры милосердия разносила горячий кофе. «Не нравится мне все это! – сказал мне наш поручик технической службы Васильев. – Я пойду домой!» – «Идите, – ответил ему я, – а если я останусь в живых, то приду к вам ночевать (с переселением в казармы Шиндлера я отказался от своей комнаты у г. Гиммельфарба по экономическим соображениям). Васильев исчез. «Севский полк» очень быстро вернулся обратно, доложил, что пробиться к станции Полтава-Киевская невозможно, и принялся за кофе и консервы.
Комната наша была угловой. Ее длинный фасад с несколькими окнами выходил на Кадетскую площадь, с парком посередине, более короткий – во двор, где стояли верховые лошади государственной стражи, чины которой занимали нижние этажи здания. На дворе же стоял и парный экипаж начальника стражи с его чемоданами, которые он почему-то взял с собой. Некоторое время было тихо.
Немного погодя мы увидели стрелковую цепь противника, медленно приближавшуюся через парк. Ее левое крыло проникло в наш двор и овладело лошадьми и экипажем, а центр подошел к подъезду. Наш пулеметчик, не получая никаких приказаний от начальства, счел, очевидно, момент подходящим для открытия огня: пулемет загромыхал, но сейчас же и замолчал. Летчик был убит, а его коллега ранен и упал на пол в подъезде. Одновременно и вся цепь противника открыла огонь по окнам здания, посыпались стекла, и мы отскочили в глубь комнаты.
Устранив препятствие у входа, противник пытался войти внутрь, но на верхней площадке лестницы случайно находились три офицера, поручик Терещенко (нашего полка), капитан Сулима и третий офицер, мне незнакомый. Они открыли огонь, и дальше входных дверей противник проникнуть не мог. При этом незнакомый мне офицер был ранен и упал на верхних ступеньках лестницы.
Терещенко, стреляя вниз, кричал в нашу сторону (обе двери по концам коридора были открыты): «На помощь!» – и, видя, что никто не двигается с места, добавлял: «Нас переколют!» Последнее казалось более чем вероятным, но все-таки было желательным услышать мнение начальства! Ведь большинство из нас были кадровыми офицерами, привыкшими к дисциплине. А в комнате влево от коридора сидело пять генералов с чинами своих штабов: Слюсаренко, Генбачев [135] (начальник штаба корпуса), Зелинский [136] (инспектор артиллерии корпуса), Стааль [137] и Пащенко [138] (командир нашей бригады, один из трех братьев, известных в старой армии артиллеристов), но оттуда не доносилось ни звука!
Однако я был одинакового мнения с Терещенко насчет того, что нас переколют. Такой конец казался мне наиболее гнусным, а потому я взял свою винтовку и пошел на лестницу; за мной – инженерный поручик и еще один офицер. Лишь только мы вступили в коридор, дверь налево отворилась и в нее вышел генерал Стааль, загородив нам дорогу. Повернувшись к площадке лестницы, он крикнул срывающимся голосом: «Приказываю не стрелять!» Если бы такой приказ был отдан пятью минутами раньше, все было бы в порядке: нас бы разоружили и распустили по домам, как это случилось утром в Красных казармах. Но теперь, когда пролилась кровь, приказ казался совершенно неуместным! «Поздно, господин генерал! – ответил ему Терещенко и после паузы добавил: – Я принимаю командование!» Генерал сказал на это: «Ах так!» – и ушел туда, откуда вышел.
Теперь все было ясно, и мы трое вышли на площадку лестницы. Прежде всего мы отнесли раненого офицера в комнату направо, положили его на одну из стоявших там постелей и сдали на попечение сестры милосердия. Потом, вернувшись на площадку, мы заняли позицию. Вдоль перил площадки остались: Терещенко – у стены, Сулима, с наганом, – посередине и незнакомый мне офицер – влево. Больше места там не было, и я стал на ступеньках лестницы, стараясь не наступать на лужу крови своего предшественника. Инженерный поручик – на ступеньках же, ниже меня.
Противник не терял надежды сбить нас, но, как только он показывался внизу, мы видели его раньше, чем он нас. Сулима сейчас же стрелял из своего нагана, противник отвечал беспорядочным огнем из винтовок. Пули попадали в стены, в потолок, на нас сыпалась штукатурка. Треск и грохот был отчаянный! Мы убедились, что позиция наша превосходна… до тех пор, пока противник не ввел в дело более тяжелого оружия. Наибольшую неприятность доставлял нам сквозняк, но мы заперли двери по обе стороны площадки, и это сильно улучшило положение.
Тут Терещенко вспомнил, что наша лестница не является единственным входом в здание, и пошел организовывать оборону и там. Вернулся он с пулеметом Льюиса, а потом притащил и ящик ручных гранат, стоявший в коридоре. Сейчас же обнаружилось наше полное незнакомство с этими видами оружия! После тщетных попыток приладить пулемет к перилам площадки мы отставили его в сторону. Ручные гранаты казались более подходящими к обстановке. Мы открыли ящик, надеясь найти в нем хотя бы краткое «наставление к употреблению». Увы, никакого наставления там не оказалось. Попробовали решить загадку сами. Гранаты были круглой формы, черного цвета, с маленькой дырочкой на поверхности. К внутренней стенке ящика была прикреплена коробочка с таинственными предметами вроде желтых шнурочков, перетянутых по концам металлическими обоймами, диаметром отвечающими упомянутым дырочкам. У нас не могло быть сомнения в том, что это взрыватели! Но что надо было сделать, чтобы граната взорвалась, и притом – там, внизу, а не у нас на площадке? И каким концом вставить взрыватель внутрь – вот был вопрос!
Для первого опыта мы бросили гранату вниз без взрывателя. Никакого результата не последовало! Вставили его одним концом, потом другим, и тоже безрезультатно! Ящик был отодвинут к стене.
Стрельба на лестнице продолжалась с полчаса, пока противник понял, наконец, тщету своих усилий. Настало затишье. На площадку вышла сестра милосердия с двумя офицерами, один из которых был, как говорили, ее мужем. Она пошла по лестнице вниз, размахивая белым платком, а ее спутники кричали: «Не стрелять! Сестра милосердия идет!» Никто не стрелял. Все трое сошли вниз, подняли лежавшего там раненого офицера и понесли его наверх, а за ними показалось неожиданное шествие: германские жандармы в шинелях без погон, с пистолетами на поясах в кобурах и с руками в карманах. Они закупорили всю лестницу снизу доверху, и продолжение боя стало невозможным.
С ними пришел и неприятельский хорунжий. «Господа, мы дали слово, что вы его не тронете», – сказали, обращаясь к нам, спутники сестры милосердия. Мы охотно выразили свое согласие: хорунжий явился, конечно, в качестве парламентера, и это можно было только приветствовать, пока у противника нет артиллерии!
Передняя пара немцев остановилась возле меня, и ближайший ко мне немец задал мне вопрос: «Это все – монархисты?» Я объяснил ему, что нашим главой является гетман. «О да, гетман! – сказал немец и добавил: – Мы защитим вас (вир верден ойх щютцен). Слышать это было, конечно, приятно, но верилось с трудом. Немцы копировали нашу революцию: сняли погоны, завели комитеты, ограничившие права начальников, и пр. С какой стати они защищали бы чужих офицеров? Причиной их появления на сцене было, вероятно, то, что германское управление гарнизона в Дворянском клубе было нашим ближайшим соседом (через Александровскую улицу) и там безусловно желали прекратить стрельбу в такой непосредственной близости к их штаб-квартире. А запорожцы воспользовались случаем и выслали парламентера.
Терещенко, в качестве нашего «главнокомандующего», сделал шаг к хорунжему, но кто-то напомнил ему вслух, что у нас есть генералы: пусть они и расхлебывают кашу, которую заварили. Кто-то пошел за ними. На приглашение отозвался генерал Стааль, но, выйдя на площадку, он сразу оказался лицом к лицу с Терещенко и сказал недовольным голосом: «Не понимаю, зачем вы послали за мной! Ведь вы же тут распоряжаетесь, так и ведите переговоры!» – и с этими словами ушел обратно к себе.
Таким образом Терещенко был еще раз утвержден в звании «главнокомандующего», и, пожалуй, это было тоже хорошо, так как Терещенко говорил по-украински, чего нельзя было ожидать от Стааля, и тем мог создать более благоприятную обстановку.
Переговоры начались с того, что обе стороны «обложили» наше начальство, начиная с ясновельможного пана гетмана. Основания для этого были, понятно, противоположные, но о них не говорилось. «Для чего ж мы подрались?» – восклицал хорунжий. Вообще он казался симпатичным молодым человеком, отнюдь не людоедом, хотя и требовал безусловной сдачи. Окружившие его наши офицеры делали разные фантастические предложения, вплоть до «свободного пропуска на Дон с оружием в руках», которые хорунжим неизменно отвергались.
Я слушал одним ухом, так как стоявший близ меня немец начал расспрашивать меня о старой русской армии. Одним из первых его вопросов, заданных мне, был вопрос о том, сколько было в нашей армии фельдмаршалов? Тут я сделал колоссальную ошибку, представив ему короля Николая Черногорского как «кенига фон Шварценберг», сам почувствовав в этом что-то неладное. Но что делать? В прошедшие годы я упустил случай узнать, что Черногория по-немецки называется «Монтенегро». Кто мог бы это предполагать? Немец не понял и перешел к следующим вопросам на тему о табели о рангах, орденах и пр. Мне стало скучно, и я ушел от немца в помещение, где мы начали свою карьеру в здании губернского правления.
Там тоже не обошлось без потерь: наш бригадный казначей военный чиновник Кузьменко попытался стрелять из пулемета, но едва поставил его на подоконник, как был убит наповал! Командира своего я нашел невредимым, лежащим на полу и предающимся самым мрачным мыслям. Увидев меня, он сказал: «Вам хорошо, у вас нет детей! Расстреляют – не важно!» Я возмутился и ответил ему: «Федор Николаевич, вы женаты уже так давно, что это вам, может быть, надоело, а я только 52 дня! Если и ставить кого-нибудь к стенке, так только вас!» – и отошел от него.
Затем, считая, что все формальности стали уже анахронизмом, я прошел в генеральскую комнату посмотреть, чем занято наше начальство. Генералы с чинами штабов сидели за большим столом и говорили об «испанке». Одни были того мнения, что «испанка» – та же инфлуэнца и что только погоня за сенсацией сделала из нее какую-то «испанку», тогда как другие доказывали, что это разные болезни, и разбирали подробно, чем эти болезни отличаются одна от другой. Меня это не интересовало, и я вышел в коридор.
Телефон в коридоре действовал. Офицеры, имевшие телефон дома, в том числе и мой командир, подходили к нему и разговаривали со своими домашними. Время от времени к телефону подходили и чины «высших штабов». Их интересовало заседание немецкого «совдепа», которое должно было определить нашу судьбу: берут ли они нас под свою охрану или нет.
Стало известным, что в Красных казармах заседает вновь образовавшийся «военно-революционный комитет» под председательством некоей мадам Ропсман, конечно не украинки. Это уже сильно пахло большевизмом! До поры до времени пути этой «прекрасной дамы» и полковника Болбочана совпадали, но затем должны были разойтись. В какую сторону?.. В общем, все сведения не располагали к оптимизму. Уже поздно вечером стало известно окончательное решение немецкого «совдепа» взять под свое покровительство генерала Слюсаренко, а остальных предоставить их участи!
Генерал покинул здание, вероятно, каким-нибудь боковым выходом, так как я этого не видел. Предполагаю, что некоторое количество прочих воспользовались этим случаем «примазаться» и тоже исчезли. Жандармы ушли с лестницы, а запорожский хорунжий то уходил вниз, то возвращался и убеждал нас сдаться без всяких условий. Иного выхода и не было: не начинать же все сначала. Хорунжий был теперь хозяином положения и, сознавая это, в веселом настроении.
Итак, мы сдались! На это хорунжий сказал: «Ваше счастье: только что получена телеграмма полковника Болбочана, я прочитаю ее вам, – и прочел следующее: – «Офицеров, сдавшихся добровольно или не добровольно, не оказавших сопротивления или оказавших вооруженное сопротивление, обезоружить и распустить по домам, обязав подпиской о невыезде из Полтавы впредь до дальнейших распоряжений» (передаю смысл телеграммы). – Прочитав телеграмму и видя удовольствие на наших лицах, он улыбнулся и сказал: – Пусть каждый из вас напишет себе пропуск, я подпишу, сдайте оружие и идите домой. Завтра на улицах лучше не показывайтесь, а пошлите «жинку чи дитину» узнать, нет ли каких объявлений, вас касающихся».
Мы сдали оружие, написали себе пропуска на бумажках, какие нашлись. Хорунжий подписывал. «А печать?» – спросил кто-то. «Какая может быть печать в бою! – ответил хорунжий. – Нет у меня никакой печати!» Итак, мы вышли без печатей. Подполковник Свешников шел к себе домой, а я – к нашему технику, то есть в ту же виллу. Было уже около 11 часов вечера, мороз был трескучий, снег скрипел под ногами. Площадь была пуста, но на каждом перекрестке улиц стояли группы запорожцев, по три человека в каждой, танцевавших, стараясь согреться. Первые две группы видели, откуда мы вышли, третью мы убедили, что пропуска не фальшивые, но на углу Екатерининской улицы этого сделать не удалось. Нам ответили: «Да, возможно, что это и так, но печати нет!» Мы были арестованы и приведены в штаб собственного нашего же полка.
Когда нас ввели, трещал телефон. Наш подпрапорщик, сидевший за столом, взял трубку, и мы услышали: «У телефона командир полка!» Это было сказано таким тоном, как будто бы подпрапорщик никогда ничего другого и не делал, как только командовал полком! Это мне сразу не понравилось, но подполковник Свешников толкнул меня и прошептал на ухо: «Протекция!» Я этого не думал.
Мы показали свои пропуски. «Печати нет!» – заметил подпрапорщик. «Но вы же нас знаете!» – возразил мой командир. «Да, знаю и поэтому отправлю вас в военно-революционный комитет». Тут другой патруль привел в штаб командира пехотного полка, которого я встретил утром на улице. Он был, по-видимому, очень упорным человеком: не довольствуясь утренним разоружением в Красных казармах, пришел в штаб обороны и теперь был разоружен вторично! С ним был пехотный офицер.
Подпрапорщик назначил конвой: трое конных и четверо пеших, и приказал старшему вести нас в Красные казармы. Казалось, что знакомства с мадам Ропсман нам не избежать! Нас повели. Проходя мимо германской казармы, я подумал: не вскочить ли мне туда? Однако дневальный у ворот всего вероятнее выбросил бы меня обратно, и тогда я дал бы повод конвою застрелить меня при попытке к бегству. Мысль была оставлена.
В Красных казармах нас направили к начальнику казарм. Мы вошли гуськом, по старшинству чинов, в длинную и узкую комнату. У окна за столом сидел офицер, на столе горела свечка (электрическое освещение в этой части города почему-то не действовало). Офицер повернул голову в нашу сторону и сказал: «А, господин полковник!» – «Вы… Вы – начальник казарм?» – с крайним изумлением проговорил полковник. «Имею несчастье им быть!» Протекция?.. Мы предъявили ему наши пропуска, он посмотрел на них и сказал: «Случайно эта подпись мне известна. Вы свободны!»
«Хорошо вам говорить «свободны!» – ответил полковник. – Но едва мы выйдем, первый же патруль приведет нас сюда обратно. Поставьте нам печать!» – «Откуда же я ее возьму? – возразил начальник казарм и, подумав, добавил: – В таком случае переночуйте здесь, а утром пойдете домой». – «Послушайте, – сказал полковник, – я живу почти напротив казарм, вы знаете где. Дайте мне конвой, который довел бы меня домой». – «Мы тоже живем недалеко, – присоединились и мы, – тот же конвой мог бы отвести домой и нас». – «Хорошо, – согласился поручик, позвал трех человек и приказал им: – «Отведите господ офицеров домой!»
Итак, до знакомства с мадам Ропсман не дошло! Конвой взял нас под свое покровительство. Патрули на углах улиц кричали: «Кто идет?», конвойные отвечали: «Свои!», и мы благополучно прибыли к своим домам. Я прошел в комнату к технику, который был уже в постели, и расположился на диване. Было ровно полночь. Я подумал, что завтрашний день будет, пожалуй, похуже сегодняшнего, но раздумывать над этим было бесполезно. Я заснул моментально и проснулся только, в полдень следующего дня.
* * *
28 ноября жена командира полка была той самой «жинкой чи дитиной», которая должна была посмотреть, что происходит в городе, и одновременно принести обед на всех пятерых: для себя, мужа, 10-летней Верочки (дочки командира), техника и меня. В городе было спокойно, и никаких объявлений, которые бы нас касались, не было. После обеда хозяйский сын вошел к нам сияющий и сообщил, что в Полтаву прибыл полковник Болбочан с одним из своих батальонов, окружил Красные казармы и арестовал «военно-революционный комитет». Мадам Ропсман «одержала шомполив», то есть была выпорота шомполами и посажена в тюрьму, а содержавшиеся там офицеры, над которыми она издевалась вчера, были выпущены на свободу. Их места заняли члены упомянутого комитета. Остается сказать о судьбе наших «главных сил» на восточном берегу Ворсклы. В ночь на 27 ноября «бронепоезд» начал отступление к Полтаве, но на первом же перегоне сошел с рельс и был брошен. Часть офицеров разошлась, часть последовала за капитаном 2-го ранга Ратмановым и добралась с ним до Миргорода, где присоединилась к отряду адмирала Римского-Корсакова [139] (откуда взялся этот отряд, я так никогда и не узнал). Что касается отряда генерала Купчинского, то 26 ноября он пролежал в снегу на поле под огнем противника, а 27-го утром, когда раздалась стрельба в тылу, в Полтаве, генерал объявил офицерам, что «слагает с себя командование и предоставляет каждому свободу действий», а сам пошел в Полтаву. Большинство офицеров разошлись одиночным порядком, но небольшой группе было по дороге с генералом, и она последовала за ним. В Полтаве, идя по улице параллельной Александровской и выйдя на высоту осажденного губернского правления, эта группа натолкнулась на левый фланг противника и атаковала его. Противник был захвачен врасплох и рванул назад. Наш поручик Шервуд и его брат, юнкер, говорили нам впоследствии: «Мы бы его разогнали и вас освободили бы, но когда нам оставалось только колоть противника штыками, никто на это не решился (и очень хорошо сделали, замечу я от себя!). Мы только кричали им: «Бросай оружие!» Несколько человек действительно бросили винтовки, но другие успели разглядеть, что нас только кучка. В результате вийтовки были вырваны у нас из рук и пленными оказались мы! Затем нас отвели к мадам Ропсман, а оттуда – в тюрьму, откуда на следующий день нас выпустил Болбочан».
На несколько дней в Полтаве наступило спокойствие, а в «Полтавском дне» мы прочли описание событий 27 ноября, из которого запомнилась такая фраза: «К полудню город был в руках запорожцев, и только небольшая группа офицеров в здании губернского правления героически сопротивлялась до поздней ночи». Лестно?!
У меня остался большой «зуб» против генерала Слюсаренко, который, облеченный диктаторскими полномочиями, был все время только «в инвентаре» гарнизона, а затем покинул нас, воспользовавшись немецкой протекцией. В июле 1919 года, в Екатеринодаре, я «отомстил» ему тем, что, увидя его сидящим на скамейке в парке, прошел мимо него, демонстративно не отдав чести. Генерал смотрел удивленно и молчал.
Через три-четыре года я встретился с поручиком Терещенко в Белграде, где он был тогда «бетонарским майстром». «Я до сих пор не могу решить, – сказал он мне, – хорошо ли мы сделали тогда, что подрались?» – «Конечно хорошо, – ответил я, – у нас есть теперь прекрасное воспоминание!» Потом он уехал во Францию, а я – в Чехословакию, и мы расстались навсегда.
П. Мирошниченко[140]
СТАРОБЕЛЬЦЫ [141]
Еще не выветрился из некоторых голов хмель бесчинств конца 17-го и начала 18-го, а немцы уже тут, в Старобельске.
Кайзеровские: прусского литья и прусской шлифовки.
Офицеры в погонах, щеголеваты, чуть чопорны. Солдаты – подтянуты; мундиры на все пуговицы застегнуты; двое идут – в ногу идут.
Конные в шлемах с шишаками. Кони сытые, вычищенные до блеска, одной масти; хвосты – кокетливой челкой подстрижены.
Пришли утром, а к полудню приказ на видных местах. Поведение требуется хорошее; огнестрельное оружие сдать в комендатуру; нарушение приказа карается по законам военного времени.
Комендант. Имя (с приставкой «фон»). Чин. Кажется, подполковник; не помню.
Приказ на немецком и русском языках. Очевидно, комендант относительно гетмана, сердюков, державной варты, просвиты, ридной мовы и прочего был не в курсе.
Как выглядел тихий степной городок Старобельск в 1918-м? Без фабрик, заводов, шахт?
Пришли домой десятки офицеров и тысячи солдат.
Пришли, а не приехали, потому что до станции Сватово Екатерининской железной дороги 56 верст, а до Черткова Юго-Восточной, считай, все 70. Семейное счастье, чуть омраченное стыдом дезертирства или неожиданным увеличением семьи, – не тема этого рапорта.
Был неслыханный урожай. Некоторые удачливые поля дали почти 250 пудов пшеницы с десятины. Скот в теле; птицы – множество; овощей на три года вперед. В левадах, у курящих и некурящих, по грядке самосада. Не так духовит, как Месаксуди или Стомболи, но крепок. Нашлись и самородки-химики: варят горелку из муки, пшена, свеклы, картошки. И коньяк с четырьмя звездочками – кажется, Асланова – детский лимонад в сравнении с первачом.
Было и тихо и безопасно. На хуторах, в слободах, в самом Старобельске. В степи, на шляхах, в перелесках (лесов нет: степной край). Ни стрельбы, ни грабежей, ни конокрадства.
А старобельчанам чего-то не хватало. Порядка, державности. Никто не спрашивает: а скажи, земляк, на основании какой бумаги с печатью ты смылся с позиции?
Не зовут также «белобилетчики» воевать до победного конца. Не собирают налогов, не берут скота, не трогают птицы.
Не тревожат молодых женщин и девушек настойчивым ухажерством.
Не просят денег на неотложные нужды революции. Не слышно, чтоб собирали монету на расходы – против революции.
С фронта пришли и такие вояки, что бились в Восточной Пруссии у Кенигсберга; шагали с перевалов Карпат в Венгерскую Долину; отбивали победоносный такт под Преображенский марш в старом русском граде – Львове; прикрыли грудью бегство союзников. Нередко у офицеров – Владимир со мечи и банты. У нижних чинов – кресты на ленте полосатой: Егория, победы несущего. Как же так? В нашем Айдаре, в Старобельске, – немцы купают своих коней; с хвостами – челкой, как в Польше у прифронтовых дев…
Молчание – часть приказа фон-коменданта о хорошем поведении. Ну… и помалкивали!
У царя Соломона был перстень с надписью: все проходит. Хорошо царю, читает и говорит: готовься, Соломон, к худому. Худо ему, вертит царь кольцо и себя успокаивает: не горюй, Моня! И худое минует!
У старобельчан такого кольца не было. И потому уход немцев казался в первые часы неправдоподобным. Ушли?
Как видите. Нет приказа с объяснением: зачем пришли? почему ушли?.. Ушел и гетман, Правобережной и Левобережной: Мы, Павло и пр. и пр.
На второй день после ухода немцев прозвучали выстрелы на окраинах Старобельска. Явно – из винтовок. Потом – и в городе. До сего дня интересуюсь: найдя винтовку у мужика, немец не будет конвоировать его к «фон»: в присутствии матери, жены, детей – расстреляет; и это – один пункт. Второй? Ленин призывал моб-сволочь: штыки в землю; иди землю делить! Почему же мужик, дезертируя, не украл из цейхгауза две шинели, а притянул винтовку и две цинки патронов? Даже вопреки смыслу приказа вождя?
Пришла со слезами девочка-гимназистка, говорит: «Встретил меня солдат и сказал: дай вольно! Не дашь – возьму так! Что это значит, мама?!»
Перед храмом поймали прапорщика запаса: забыл срезать погоны. Свалили наземь. Долго били ногами. Отдал Богу душу – по рассеянности: прозевал уход немцев, кайзеровских. Враги-немцы разрешали русским офицерам носить погоны и всем воинским чинам – их ордена за пролитую кровь, за Фатерлянд-Святыню. Через часы – воцарился Хам: о Святыне – не знает.
Так сформировалась Старобельская офицерская дружина, в два месяца переименованная в Старобельский офицерский отряд.
Для воссоздания Великой, Неделимой? Нет!
Для защиты чести матерей наших и сестер-школьниц. Для защиты рассеянных прапорщиков запаса из сельских учителей и мелкопоместных дворян (и они – все – на фронте!). Для спасения себя.
102 штыка… штыков не было! 6 сабель; на своих конях. Один Максим; один Виккерс; 12-13 лент; по 70 патронов на винтовку.
Нет газет. Роптали курильщики: бумага – мягка; размер – подходящий. Пошли слухи. В Харькове Саенко взял 20 больших домов, и в подвалах сидят тысячи. Всяк день – стреляют. А кого, сколько – свидетелей нет.
Луганский патронный шлет подводы с патронами, а кто принимает, где прячут – неизвестно.
В Киеве убивают офицеров. В одном конце – петлюровцы, а в другом – «кацапы». Да за что? Неизвестно!
Старобельск – вольный город. Вроде Гамбурга или Бремена, Риги – в Средние века.
Пришли петлюровцы. Их встретили мы – старобельцы. Бить офицеров? Трудно: у нас два пулемета. Жидов, может? Не разрешаем… и они – люди. «Так ходимо, хлопци!» – И ушли.
Ингуши. С князем (своим) – командиром. Суровые. Молчаливые. Кой их черт принес с гор в степь Старобельскую?
Объяснил штабс-ротмистр N-го гусарского полка: следуем в расположение Южной армии… Князь-командир сказал? Точка!
Полковник Фицхелауров [142] привел в Старобельск три сотни своего 12-го Донского полка.
Полковник привел свои сотни не для того, чтобы обеспечить наши животы и честь наших очагов. По особому заданию атамана и Войскового Круга. В чем задание? Не знаю: был я тогда юнкером разбитого Сиверсом Чугуевского военного училища. [143]
Думается, что и старшие Отряда не удостоились объяснения полковника. Он им сказал:
– От статуса «домоохраны» ступите на путь воинской части, держащей фронт, – передовую позицию. Бог в помощь!
Так старобельцы, без вооружения духовного и материального, вступили на тернистый путь, безнадежный, но честный – Добровольческой армии.
Нет газет, телеграмм, писем, – только слухи: большевики из Харькова – заняли Купянск. Да нет же! Они уже на станции Сватово. А я говорю – в Мостках они… Такие речи слышны были в «штабе» отряда. Солидные – играли в преферанс. Моложе – в «железку» и «очко». Пора! – сказал один. Уже 10. А сегодня декабря 24-е. Сочельник! Там уж – дома то есть! – ждут.
Против красных – на шляху – заставу поставили.
Два прапорщика. Один – совсем одинок; второй – еврей: им по их Талмуду свинина воспрещена; три юнкера – пусть пороха нюхнут. Доброволец Царевский.
Застава в хате лесника. Перелесок. Край – степной. На опушке – часовой и подчасок. Утром вышли все. Все шесть.
Заняли дорогу. Огонь. Ружейный. По нас. Или красные щупают дорогу, или лесной сторож сообщил что и как. Не знаю.
Терпим потери. А не стреляем: ни черта не видно и патронов мало. Убит прапорщик Попович. Убит доброволец Царевский; ранен прапорщик Маркус. Убежал подводчик, к нам прикомандированный.
Положили мы Маркуса на сани и быстро вошли в мертвое пространство. Крут левый берег Айдара.
Бой – если я его, а он меня. Но если только он меня – плохо.
Из шести мы потеряли троих, не сделав выстрела. Боялись? Нет. Противника не видно, а стрелять в воздух, имея 70 зарядов, нецелесообразно.
К штабу отряда. Нет штаба. К домам, где донцы. Нет донцов. На улицах – неразбериха. Беженцы. Беспорядок. И сдали мы коня, сани, Маркуса – семье беженцев.
Куда наши ушли? А – туда, показывают обыватели на… Чертково. Вот мы и стояли. Без выстрела. Потеряв 50 процентов своей… заставы… в шесть персон.
Евсуг. Большое село на пути Старобельск – Чертково. Земская школа. Слабый светильник, вроде каганца из гоголевского «хутора близ Диканьки».
– Ну, как?
– Да так! Обоз беженцев, с версту длиною, стоит в степи. Как там дамы «ходят до ветру» – неведомо; как пеленают обмоченных младенцев – неведомо; что едят – тоже неизвестно. Нас вроде сотня; донцов – три сотни. Командует полковник Фицхелауров. Донцов отдал под руку брата, войскового старшины; а нас – штабс-капитану Рассказову. Для обоза – выделил двух казаков на коне.
А в Беловодске крестьяне решили сжечь живьем 40 офицеров. В школе. Бревна подкатывают, керосином обливают, поджигают. У сорока – только 8 наганов. Не все имеют полный заряд. Горят живьем, отбиваются. Один убежал. Явился к полковнику.
У Фицхелаурова – обоз; с женщинами, детьми, ранеными. Верста. У Фицхелаурова – 39 офицеров, ждущих кончины мучеников. Противу – 15-тысячная слобода. С «фронтовиками». С трехлинейными нарезными. А за ночь оказалось – и с пулеметами.
И велел нам Фицхелауров штурмовать Беловодск. Оставив на попечение Божие наших раненых, женщин, девушек – на пытки и позор.
Не дошел я до школы, не видел освобожденных из огня офицеров.
А о штурме Беловодска – в следующей главе. [144]
Раздел 5
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ ПОХОД
В. Гуреев
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ ПОХОД [145]
Настоящий рассказ является извлечением из более подробного описания похода. Хотя последнее было составлено по моим кратким заметкам того времени и другим материалам из архива покойного Б.П. Войнарского, [146] но прошли годы и многое забылось, многое могло быть невольно искажено. Некоторые события могли быть мне и вовсе неизвестны. Поэтому я прошу участников похода в случае обнаружения ими ошибок или упущений внести свои поправки.
Только таким путем может быть достигнута поставленная мною цель: дать современникам и историкам правдивый материал об одном из эпизодов нашей Гражданской войны.
1. Перед походом. Первый этап
Уже с конца октября 1918 года обстановка на Украине сложилась смутная. Произошла немецкая революция, и оккупационная власть сразу сдала: она постепенно рассыпалась, как бочка с лопнувшими обручами.
Порядком в городе не занимался никто, кроме бессильной городской управы, в губернии было беспокойно. Призрак анархии нависал над югом России все больше и больше.
Быстро обнаружилось, что гетманская власть не имеет прочной опоры в народе. Петлюровское движение разливалось все дальше и шире.
Но и в его прочность поверить было трудно, так как за петлюровцами отчетливо маячили красные знамена и советская власть готовила поход на Украину.
В Екатеринославе были расположены части 8-го гетманского корпуса: два пехотных полка, артиллерийский полк, мортирный дивизион (без орудий), конный полк, броневой дивизион и др. мелкие соединения.
Все это, за редким исключением, представляло лишь кадры, так как немецкое командование не разрешало достаточных формирований.
Как только гетманская власть рушилась, корпус во главе со штабом принял добровольческую ориентацию: везде запестрели трехцветные флаги, украинский язык (который и раньше не всегда применялся) как ветром сдуло, офицеры и солдаты надели погоны русской армии, в собрании на почетных местах появились портреты вождей Доброармии.
Тут же произошел и отсев: все «щирые украинцы» покинули корпус. Зато он пополнился людьми русского направления, не желавшими до сих пор служить под гетманскими знаменами. У нас была даже собственная моторизованная пехота – так называемое «прикрытие». Присоединилась к корпусу и добровольческая дружина, сформированная для охраны порядка городской управой и показавшая себя как одна из самых боеспособных частей.
В результате в городе оказалось две организованные и враждебные силы: 8-й корпус и петлюровские войска.
Столкновение было неизбежно, и оно произошло 23 ноября Петлюровцы атаковали нагорную часть города, где были расположены части корпуса. После боя, длившегося почти целый день, с участием артиллерии, они отступили, понеся потери.
Этот бой всколыхнул корпус и сплотил его еще больше вокруг трехцветного знамени. Мы почувствовали свою силу, возможность успешного сопротивления и окончательно ощутили себя частью белой армии.
Так быстро и логически возникла идея похода для соединения с нею, ибо было ясно, что, оставаясь на месте, корпус обрекал себя либо на беспрерывную и бесплодную борьбу с петлюровцами, все больше и шире захватывавшими Украину, либо на бесславное разоружение и распыление.
Когда поход был объявлен, это было встречено с восторгом – наконец-то!
Вышли мы из города около полуночи 27 ноября. Как ни неожиданно это произошло – приказ был дан всего за час до выхода, – окрестные жители об этом узнали, и мы проходили мимо молчаливых человеческих стен, стоящих с двух сторон улицы. Многие нас молча крестили. Что могли они сказать нам, кроме напутственной молитвы, что могли мы пожелать им, тем, кто оставался во власти анархии?
Наутро петлюровцы заняли наши казармы, и первое, что они сделали, – зверски расправились с женами и родственниками, которые, не зная об уходе корпуса, пришли в казармы навестить мужей и близких.
Куда же мы шли? Было три возможных пути: на Донбасс через южную часть Екатеринославской губернии или в Крым на Мелитополь. В этих обоих случаях надо было переправиться через Днепр, что было главным препятствием, у Александровска. Третий вариант был более далекий и сложный – идти в Крым через Перекоп. Его, как увидим дальше, и пришлось выбрать.
Отряд вышел в поход под начальством командира 8-го корпуса генерала Васильченко, при начальнике штаба полковнике (впоследствии генерал-квартирмейстере у генерала Врангеля) Г.И. Коновалове [147] и в составе частей (сохранивших свои корпусные названия): 43-й и 44-й пех. полки; добровольческая дружина; всего пехоты было человек 500. Полк артиллерии – 4 орудия; 7-й конный Новороссийский полк – около 150 сабель, броневой дивизион в составе 5 броневых машин, 4 грузовиков, радиочасть, инженерная часть и лазарет (2-3 врача, 3-4 сестры и санитары). Всего вышло около тысячи человек, в большинстве офицеры.
В первую же ночь пришлось подорвать и оставить в поле все машины, так как они не могли идти по невылазной грязи. Это было катастрофой, так как с помощью броневиков корпус избежал бы многих боев и потерь. Но другого выхода не было. Пулеметы были погружены на подводы, и броневой дивизион превратился в разведывательный отряд, под прежним, однако, названием, которое звучало теперь как ирония.
Тотчас по уходе корпуса петлюровское командование организовало сопротивление, дав приказ небезызвестному атаману Григорьеву его «перенять» и уничтожить.
Первый бой произошел к концу второго дня по выходе с Малашковки (Нейенбург).
Стычка была недолгая, и силами одной передовой части отряд противника, засевший в окопе, был рассеян. Около сотни петлюровцев попали в плен и влились в корпус.
Отсюда корпус двинулся в Хортицу. Была сделана несколькими офицерами, переодетыми в штатское, разведка переправы через Кичкаский мост. Оказалось, что весь район и особенно мост охранялись сильными отрядами противника. Переправа была бы слишком рискованной, так как мост был минирован и в случае его оставления противником он был бы взорван. Так отпали первые два варианта и остался последний: идти вдоль Днепра и, переправившись где-либо ниже, повернуть на Перекоп.
Отсюда мы шли большими переходами, едва задерживаясь на ночлеги в попутных селах и избегая городов и железной дороги.
Была то осенняя распутица и невылазная грязь, то ударяли морозы и дорога превращалась в окаменелые кочки.
Все ехали на подводах, и поэтому отряд растягивался на огромное пространство в длину: сначала шла разведка, потом передовая застава, затем на известном расстоянии главные силы – пехота, артиллерия, штаб, обоз, лазарет – и затем в версте от них арьергард – все это было растянуто на 5-6 верст и создавало внушительное, но странное впечатление: можно было думать о переселении какого-то народа: все были закутаны то в тулупы, то в крестьянские свитки, а то и просто в одеяла. На некоторых подводах были женщины, так как многие женатые офицеры не могли оставить в городе свои семьи и вынуждены были их взять с собой. И только присутствие винтовок и пулеметов, да когда шла артиллерия и конница, создавали впечатление военной силы. Эта растянутость походного движения и две-три сотни подвод создавали благоприятные для нас оценки. На одном из ночлегов был подслушан такой разговор. Сидела на улице группа крестьян. Кто-то спросил:
– А як ты думаешь, Петро, ты же унтер-охвицер и довжон знать – чи много их, цих кадетов?
Спрошенный подумал и ответил:
– Та мабуть тысичь шисть-сим… а може и бильше…
– Бильше, бильше, – загудели голоса, – дивися – скильки пидвод, и опять же и конни и антиллерия – и йдуть, та йдуть без коньца…
Мы сами поддерживали это впечатление и, когда нас опрашивали, говорили, что у нас 3 пехотных полка, конный полк, бригада артиллерии и еще другие части. И это была правда, а то, что в каждой части было по нескольку десятков человек, – другой вопрос.
Пройдя немного дальше, мы с удивлением увидели, как наш отряд стал предметом легенды: в окрестностях говорили, что идет армия в составе нескольких корпусов, всех бьет на пути и ее нельзя удержать. Эти слухи возымели известное действие на дух противника, который сталкивался с нами в последующих боях, в особенности это сказалось в самом уязвимом месте – на переправе, как увидим дальше.
Углубившись от Хортицы в степь, мы все более и более ощущали чувство оторванности от всего привычного. Казалось, что мы окунулись в обстановку средних веков, где нет ни железных дорог, ни газет, ни почты – везде была ровная, однообразная степь да глухие деревни, ведущие почти натуральное хозяйство из-за отсутствия обмена, да непроезжие дороги. Никто не знал, что творилось дальше чем за 20-30 верст. Передавались слухи, которые ходили месяц тому назад по Екатеринославу, и другие – один нелепее другого. Так, встреченная в пути интеллигентного вида дама уверяла, что получено из Москвы радио о том, что Ленин «крестился, раскаялся и созывает Земский собор». Почтенный инженер в Хортице утверждал, что в Киев прибыли французские части и гетман формирует армию для похода на Москву, и т. д. и т. д.
Лишенная всякой духовной пищи, газет, информации, почты и связи, материально деревня жила богато. Правда, не хватало привозных продуктов, но хлеба, сала, птицы, яиц, масла было больше чем вдоволь. Весной собирались сеять лен и ткать полотно.
С местным населением у нас быстро устанавливались добрые отношения. После первых минут, когда обнаруживалось, что мы не грабим, не насильничаем и за все расплачиваемся, языки развязывались и наше короткое пребывание в деревнях проходило в добром согласии с хозяевами. Иногда кто был побогаче даже отказывались брать деньги: вы люди дорожни, а у нас усего хватае.
По совести могу сказать, что я не видел ни одного случая грабежа, или насилия, или крупной ссоры с населением.
В смысле политическом тогдашняя деревня не имела, да и не могла ее иметь, какой-либо определенной идеологии. Все устремления заключались в двух моментах: земля и порядок. «Земля теперь наша и никому ии не отдамо, – говорили крестьяне. – А хто наведе порядок, той буде и править – и бильше нам ничого не треба». Гражданская война рассматривалась как дело городских людей, до которого им, землеробам, не было никакого дела. Тогдашний народ просто не мог, не умел связать свое будущее с теми или другими социальными и политическими лозунгами и предвидеть ту обстановку, в какую он попал через два года, очутившись под властью красной идеологии.
Мы констатировали с удовлетворением еще одно обстоятельство. Несмотря на сепаратистскую пропаганду, крестьяне никак не считали себя врагами единой России, не видели никакой необходимости в отделении Украйны и не возражали против русского языка.
«Мы балакаем на нашей мови, – часто говорили они, – и нихай нам не мишають. Но диты хай вчатся по-русски и хай книжки пишут тоже по-русски – хто куды не пидався – на Москву, або в Сибир, або на Кавказ – так надо, чтоб був обчий язик».
Это не было отрывочными или мимолетными впечатлениями. Эти мысли и настроения мы наблюдали на всем пройденном нами огромном пространстве от Екатеринослава до Крыма. Конечно, среди молодежи и фронтовиков была известная доля настроенных по-иному – симпатизирующая то большевикам, то Петлюре, но это было меньшинство, чаще всего из деклассированного войной элемента, отвыкшего от деревенской обстановки и работы и искавшего иной, легкой и прибыльной жизни. Из таких, а также и из оставшегося не у дел городского населения и формировались петлюровские, махновские и советские войска, где прослойка действительно идеологически настроенных людей была чрезвычайно тонка.
Две недели пути прошли спокойно: нас никто не тревожил.
Наконец подошли к днепровским плавням и втянулись в дефиле – 25-25 верст шириной – между Днепром слева и железной дорогой справа.
Ясно было, что именно здесь нас должен был подстерегать противник и загородить дорогу. События разыгрались, как только мы подошли к большому селу, уже в Херсонской губернии – Ново-Воронцовке. Наступила огненная неделя похода.
2. Огненная неделя
Здесь была первая от Хортицы дневка – стояли даже два дня: надо было отдохнуть, привести в порядок оружие и ориентироваться.
Пока корпус отдыхал, мы, то есть броневой дивизион, были посланы в сторону Днепра разведать возможность переправы. Под проливным дождем уже глубоким вечером мы добрались до плавней.
Не могу не вспомнить один эпизод.
Едем среди кромешной тьмы, мокрые, злые, голодные – и вдруг как сказочное видение: перед нами вырастает широкий двор, наполненный экипажами, ярко освещенный дом, откуда доносится музыка и в окнах мелькают танцующие пары. Ошарашенные этим, мы остановились, протирая глаза. Оказалось, что это большое имение одного из Великих Князей, управляющий которого, поляк, устроил праздник (это был канун католического Рождества), созвав знакомых и приятелей из окрестностей. Они приехали целым караваном с верховым вооруженным эскортом.
Нас радушно пригласили на чай. Было совершенно невероятно очутиться после тьмы, грязи, дождя, двухнедельного похода через примитивные деревни среди сияющих огнями комнат, в компании прекрасно одетых мужчин и нарядных, надушенных дам…
Как сказочное видение промелькнул разрешенный командиром час – и вот мы снова на подводах и едем по утлой дороге среди болотистых плавней через деревянные дрожащие мосты, где ветки деревьев то и дело хлещут по лицу, а дождь уже промочил и одежду, и обувь.
В смысле защиты здесь была бы идеальная переправа, то есть единственная дорога через болота могла бы долго охраняться даже небольшим отрядом. Но когда мы утром, добравшись до Днепра, увидели всю окружающую обстановку, то поняли, что она невозможна, так как не оказалось никаких перевозочных средств – нигде в окружности.
Только к вечеру мы возвратились в корпус, пробыв почти двое суток в дороге.
На другой день разыгрался самый большой и длительный бой нашего похода.
Ареной его послужил огромный луг версты в 3-4 шириной между селами Марьинским и Ново-Воронцовкой. Петлюровцы несколько раз ходили в атаку, но всякий раз отступали с потерями, хотя их силы были значительно больше. О действии наших частей штаб отзывался выше всяких похвал.
В особенности показала пример выдержки и стойкости добровольческая дружина, части которой, бывшие в заставе в это утро, приняли первый удар. Артиллерия меткой стрельбой поддерживала контратаки нашей пехоты и много способствовала отражению противника.
Много говорили о беспримерной работе медицинского персонала. Сестры и санитары под огнем подбирали раненых, а врачи не покладая рук работали в лазарете.
Бой шел целый день, и только к вечеру атаки противника прекратились.
Выждав некоторое время, корпус в ту же ночь двинулся дальше.
Бой под Воронцовкой физически ослабил корпус: у нас выбыло более 5 процентов боевого состава, сильно увеличился лазаретный обоз, убито было человек 20.
Но дух не был сломлен. Бой показал, что корпус был хорошо сплоченной боеспособной частью.
Уже много времени спустя стало известно, что произошло в этот день на станции Апостолово в григорьевском штабе. Когда под вечер и в течение всей ночи туда стали подвозить раненых, Григорьев был вне себя. Вся станция была уже загружена, но их все везли и везли. Григорьев, схватившись за голову, бегал по перрону и вопил:
«Що воны зробилы, що зробилы… Як з ними воювать?»
Броневой дивизион участия в этом бою не принимал. Мы были посланы на рассвете верст за 12 на железную дорогу, между станциями Ток и Апостолово, чтобы задержать подкрепления противника. Разобрав рельсы и испортив телеграфные провода, залегли с двух сторон, замаскировав пулеметы в снегу. Вскоре показался со стороны Апостолова поезд. Очевидно, там что-то заметили, потому что поезд остановился. Мы открыли огонь, началась паника, поезд отошел назад, но за насыпью залегла цепь, и пошла перестрелка.
Наконец командир отряда, полковник Волоцкой, [148] послал приданный нам эскадрон новороссийцев ликвидировать это дело.
В несколько минут все было кончено, и поезд, забрав пары, умчался на Апостолово. В поле осталось несколько тяжело раненных петлюровцев. Их погрузили на подводу и в сопровождении двух наших офицеров отправили в ближайшую больницу. Подвода пропала без вести. Потом был слух, что петлюровцы зверски расправились с офицерами, несмотря на то, что они привезли их же раненых.
Мы подождали до сумерек, как было условлено, и двинулись назад. Стрельба из Воронцовки затихла, но вдруг забухали пушки сзади. Очевидно, из Апостолова был выслан бронепоезд и обстреливал место, где была стычка. Значит, мы убрались вовремя.
Долго ехали во тьме. Дорога ухудшилась. Появились какие-то рытвины, бугры. Наконец передние подводы стали. Перед ними оказался овраг. Сомнения нет – мы заблудились.
Послали конницу на разведку. Остальные собрались в кружок вокруг двух железнодорожников, которые, испугавшись, сбежали с задержанного нами поезда и попали к нам «в плен».
Они рассказывали, как накануне Григорьев отдавал последние приказания командирам своих частей и для наглядности чертил им диспозиции шашкой на перроне.
По диспозиции выходило, что все его силы были разделены на четыре отряда. Первый должен был атаковать корпус в Ново-Воронцовке. Второй – с тыла. Третий – с фланга. А четвертый – загородить дорогу к Днепру на случай, если кто-нибудь все-таки прорвется.
Из этого следовало, что корпус окружен. Если он и прорвался на свою дорогу после боя, то между ним и нами находится, очевидно, прослойка противника.
Было сумрачно на душе. Наш отряд, около 100 человек, бродит один ночью по степи, толком не зная, чем кончился бой, не имея понятия даже о месте, где мы в этот момент находились. Было над чем задуматься.
И вдруг откуда-то справа в небо взлетела ракета. За ней другая, третья – и еще, и еще. Ракеты взлетали одна за другой, рвались в выси, озаряя на несколько секунд зеленоватым светом пространство под нами, и, рассыпавшись на сотни искр, гасли в полете.
Сгрудившись в кучу, мы как зачарованные смотрели на это тревожно-красивое зрелище. Стонущий ветер, неясные силуэты людей и повозок вокруг, степь то загоравшаяся, то потухающая, точно незримый вихрь открывал и набрасывал черные покрывала, – все это затемняло чувство реальности, создавая какую-то фантастическую картину точно нездешнего мира.
Наконец симфония огня окончилась. Мы очнулись. Но что же это было? Корпус ли нам указывает направление, противник ли нас ищет? Кто может на это ответить?
Вскоре вернулась разведка, но с печальной вестью – дороги она не нашла.
Поехали назад. Проблуждав всю ночь, только под утро попали в Ново-Воронцовку и, не задерживаясь там, вошли на Бериславльскую дорогу. Проскочили вовремя, потому что на рассвете село было занято петлюровцами.
Ехали осторожно и в большой тревоге, так как в Воронцовке мы смогли узнать только то, что бой окончился к вечеру и корпус ушел, вероятно, на Бериславль.
Только под утро наткнулись на хуторок, где была тыловая застава от корпуса. Узнали, что все благополучно и что мы идем по верной дороге.
Наступил день, ночные призраки исчезли, но какая усталость охватила все тело! Ведь идут вторые сутки, как мы на подводах, почти ничего не евши. Лошади наши, проделав около 90 верст, тоже едва держатся.
Вдруг откуда-то ветер доносит знакомый грохот. Явственно – пушки – и впереди. Неужели опять бой?
К полудню втягиваемся в глубокую балку, карабкаемся по склону, взбираемся на его верхушку, и перед нами разворачивается точно батальная панорама.
На склоне холма приютился обоз и лазарет. Сбоку ведут огонь пушки; на холме – очевидно, штабная группа, а там вдали перед опушкой села наши цепи, врывшиеся в землю. На окраине села то и дело возникают взлеты наших разрывов.
Но вот что странно – в обозе засуетились, подводы ринулись вперед, все куда-то бегут, тащат пулеметы и направляют их в нашу сторону. Сначала мы не можем понять, в чем дело, наконец догадываемся: нас принимают за противника и вот-вот откроют огонь.
Машем им платками, кричим. Командир высылает двух верховых – те мчатся во весь опор, махая шапками.
Наконец все разъяснилось. Оказывается, генерал Васильченко потерял всякую надежду на наше возвращение; пошли уже вторые сутки, а нас все нет. Штаб решил, что мы погибли.
Едва паника улеглась, начались взаимные расспросы. Оказывается, пройдя всю ночь, утром корпус наткнулся на это село, в котором засел противник. Начало было трагическим. По каким-то сведениям село было якобы никем не занято и в нем было все спокойно. Поэтому, не сделав предварительной разведки, туда поехали квартирьеры и через пять минут попали в засаду. По ним был открыт убийственный огонь. Некоторые там и остались, упав на месте; кое-кто спасся, кого выручили хорошие лошади.
Подошел корпус. Завязался бой. Генерал хотел выбить противника артиллерией, которая гвоздила позиции с самого утра, не желая вызывать атакой лишние жертвы. Да и части смертельно устали (бой вчера в течение целого дня, ночной переход и опять бой). Но перед вечером пришлось начать наступление. Село было взято без большого труда, и мы расположились там на ночлег.
Наутро мы с облегчением покинули это негостеприимное село (по имени Дудчаны) и двинулись по Бериславльской дороге.
Корпус постепенно выходил из дефиле. Мы шли к Днепру, но железная дорога оставалась далеко сзади.
Переход был неспокойным. По пути попадались мелкие махновские и прочие банды. Одни успевали убежать во всю прыть, но кое-кто был захвачен.
Сделав длинный путь, к вечеру корпус подошел к большому и благоустроенному монастырю, Броневой дивизион, шедший в арьергарде, застрял у подъема в гору. Истомленные лошади не могли идти по крутому и грязному подъему. С разрешения генерала мы остались на ближайшем хуторе верстах в пяти от монастыря. Никому не приходило в голову, что нас ждало трагическое пробуждение.
Утром, когда мы одевались, раздался отчаянный крик:
– В ружье, пулеметы на позицию!.. Жив-во!
Шагах в тысяче от сада в задней части хутора маячила большая конная группа, наскочившая на наше охранение, а за нею тянулась длинная лента повозок, теряющихся в туманной дали.
Люди соскочили с подвод и залегали в цепь, загибая фланги, с явным намерением охватить хутор с трех сторон. Начался пулеметный и ружейный огонь.
Противник наступал правильными перебежками с пулеметами. Начальники шли впереди. Видно было, что это настоящие солдаты. Мы ведем интенсивный огонь, но вскоре обнаруживается обстоятельство, ударившее как обухом по голове: у нас может не хватить патронов, так как подвода с боеприпасами успела вечером уехать в монастырь. На позиции оставляют только пулеметы и с десяток лучших стрелков, остальные собираются в доме и набивают из того, что имеется на руках, пулеметные ленты. У нас прекрасная позиция: каменный забор, в котором успели сделать бойницы и что нас прекрасно укрывает. Но все же кое-какие потери есть. Первым ранен генерал Кислый, [149] который случайно застрял на хуторе и, как старший, принял командование.
Время идет. Противник наступает методически – все ближе и ближе, несмотря на потери: нам видно, как на поле там и сям остаются сзади цепей лежащие фигуры. Через некоторое время мы окружены со всех сторон. Часть пулеметов и стрелков перемещается на правую и левую стороны сада и в дом.
Как-то теряется счет времени. Временами чудится, что происходит какая-то бешеная скачка. Точно, стремясь вперегонку, вырываясь куда-то вперед, сбоку, справа, слева, сзади, перед нами – клокочет прерывистый металлический вихрь. По саду мечутся командир капитан Каштелян и его помощник капитан Добровольский, подбодряя, обнадеживая.
– Еще немного – должна быть выручка. Не дрейфь!
– А патронов хватает?
– Экономьте. Но пока есть.
– А потом?
– Что Бог даст.
В самом деле, где же корпус? Почему он медлит? Туда были посланы еще утром верховые, но смогли ли они доехать? А если корпус ушел раньше? И сколько времени мы сможем продержаться? Эти думы смутно бродили в мозгу. Это не было связным течением мысли, но ее отдельные броски, и они не мешали делать то, что нужно, определять расстояние, менять прицел, иногда даже переговариваться с соседом… А время идет. Цепи приближаются, уже можно рассмотреть контуры отдельных лиц. Злобнее и резче грохочут очереди, будто пулеметы надрываются в последнем усилии, и кажется, что это серое поле кругом, линии вражеских цепей, треск стрельбы и стоны пуль, вся обстановка затянувшегося боя – это вечность без конца и начала; и в сознании нарастает новое чувство – какая-то странно-покойная покорность судьбе: будь что будет…
И вот, когда казалось, что всякая надежда потеряна и ближайшие цепи перебегали в 250-300 шагах от нас и кое-кто уже стал прилаживать к ноге веревочные петли, чтобы в нужный последний момент привязать к спуску, вдруг грохнул пушечный выстрел. И право, как нам показалось, у задней цепи возник столб дыма и взметанной кверху земли. Еще выстрел, и новый разрыв. Еще и еще. Корпус открыл огонь.
Неприятель еще движется, но медленнее, перебежки короче, залегает дальше. Успеем ли мы задержаться? Но уже настроение поднялось, лица просветлели, на них не видно того землистого оттенка и сосредоточенно сжатых губ, как полчаса тому назад.
Наконец к нам доносится откуда-то издалека едва слышное: ур-ра, кто-то кричит из дома: наша конница! выручка идет!
Через несколько минут показались и пехотные цепи. Первой шла дружина со своим трехцветным флагом.
В последнем усилии мы еще увеличиваем огонь, уже не жалеем патронов. Наступление явно приостановилось. Кольцо, охватившее хутор, начало разжиматься, и фланги сами отходить назад. Через короткое время дрогнул и центр, а через полчаса под напором конницы, хотя и отстреливаясь, противник бежал к подводам и, погрузившись, уходил в степь. Его далеко не преследовали, не желая утомлять лошадей.
Тут только мы с удивлением заметили, что приближается вечер. Значит, бой тянулся почти целый день.
Оказывается, корпус узнал поздно о нашем столкновении; пока выручка добралась, прошло еще некоторое время. Долго не решались открыть артиллерийский огонь, так как был туман и боялись попасть в нашу позицию.
Пока шла уборка неприятельских раненых, мы задержались у хутора. Некоторые и тут не хотели сдаваться, предпочитая покончить с собой. Вероятно, они думали, что с ними поступят так же, как они поступали с нашими пленными.
Мы подошли к одному из них, большому, атлетического вида человеку. Он выхватил из-за пояса гранату; трудно сказать, хотел ли он ее метнуть в нашу группу или взорвать себя, но она разорвалась в его руках, распоров ему живот.
Вечерело. Мертвенно-тихим было сумеречное поле. Находила тьма, окутывая еще неубранных раненых, трупы людей и лошадей, брошенное оружие. Небо точно задерживало траурное покрывало над общей могилой.
Стали расспрашивать раненых. Оказывается, наступала бригада, так называемая «железная», и на командных постах были офицеры и матросы. У нас был один убитый и всего несколько раненых – спасал каменный забор.
Часа через полтора мы были уже в монастыре, где монахи нас встретили с необычайным радушием. Пока готовился ужин, прошли в церковь. Шла вечерня.
Неярко горели редкие свечи перед алтарем, бросая блестки на позолоту икон. Медленное монастырское пение, неторопливая служба, полутемная церковь – все было так, как сложилось веками, как неумирающее наследие наших предков.
В этой тишине русского храма чудилось веяние той общечеловеческой правды и национальной традиции, в защиту которых мы поднялись против стихии ненависти. И верилось, что снова Россия станет единой и цельной, перейдя через период братоубийственной вражды. Но когда?
На следующее утро, тепло распрощавшись с монахами и оставив им пулеметы и запас патронов (у них был охранный отряд), мы снова оказались среди унылой степи на дороге, меченной рядом телеграфных столбов.
3. Переправа и последний этап
Теперь мы шли прямо на Бериславль – и это была последняя возможность переправы. Шли осторожно и не без тревоги. Совершенно естественно, что где-где, а именно здесь противник должен был дать последний бой. Но оказалось другое.
Под Бериславлем была лишь небольшая стычка передового нашего отряда, даже без участия главных сил. Жители говорили, что петлюровцы были настолько напуганы предыдущими боями, что погрузились на приготовленные заранее пароходы и отплыли в Херсон. В панике они забыли или не успели угнать два огромных парома, и теперь в наших руках оказались прекрасные перевозочные средства, что дало возможность переправить все до последней повозки.
Броневой дивизион получил задание стать в заставу на кладбище у въезда в город, и там, среди крестов и могил, белевших во тьме, мы провели ночь.
Ночь прошла тревожно: нам никак не верилось, чтобы противник, ловивший нас в поле, упустил бы случай напасть теперь, в самом уязвимом месте. Но все было благополучно. На другой день после полудня мы начали погрузку на последний паром. Корпус уже переправился. На душе было неспокойно: ведь мы одни да эскадрон конницы оставались на этом берегу. Наконец погрузка закончена; ждем конницу. Вот и она. Цоканье копыт по дамбе, и эскадрон по одному, ведя лошадей под уздцы, всходит на паром.
Команда – и паром медленно отплывает от пристани, погрузившись в белый, как молоко, туман.
Долго плывем точно окутанные облаками, пока сбоку не показались неясные силуэты деревьев – берег.
Мы на той стороне.
«Слава Тебе, Господи», – слышалось со всех сторон.
Многие крестились.
Переночевав в малом хуторе, наутро двинулись по перекопской дороге.
Теперь мы шли спокойно, с отдыхом и дневками, отправив вперед больных и раненых. На пути попадались только грабительские банды, нам никак не страшные, за разгон которых жители были искренно благодарны.
Пройдя Армянск и Перекоп, корпус очутился в Крыму – и в самый день Рождества Христова мы пришли в Джанкой.
Оттуда началась постепенная перевозка частей уже по железной дороге в Симферополь, куда броневой дивизион прибыл последним в самый конец Нового года.
Получилось буквально с корабля на бал. Начало вечера мы провели в большом кафе, а закончили его на балу в женской гимназии.
Через несколько дней в соборе были отслужены панихиды и молебен, а на Крещение части корпуса приняли участие в Крещенском параде.
Но противник не дремал. Через несколько дней по водворении в казармы, в которых был размещен дивизион вместе с добровольческой дружиной, как-то под вечер вдруг взорвалась большая железная печь, разметав вокруг кирпичи и куски металла. По счастью, большинство было в городе. Оставшиеся сгруппировались в противоположном конце помещения, слушая анекдотиста, – и никто не пострадал.
Это было, конечно, делом рук уже местных большевиков.
Через некоторое время начались формирования, дружина и два пехотных полка образовали 34-ю дивизию, [150] приняв имена ее частей. Артиллерия превратилась в 34-ю бригаду. [151] Новороссийский полк [152] сохранил свое название, приняв только прежний номер по Русской армии. Броневой дивизион раскололся: часть ушла на бронепоезда по 2 и 3, развернувшиеся весной 1919 года в пятый бронепоездной дивизион, [153] часть в пулеметно-мотоциклетный отряд, переброшенный на Кубань, где он влился в 1-й автоброневой дивизион.
34-я дивизия впоследствии легла в основу 2-го корпуса, [154] насчитывавшего в своей боевой истории немало славных дел.
По капризу судьбы ей и 5-му бронепоездному дивизиону в конца лета 1919 года пришлось снова столкнуться со старыми знакомцами и участвовать в окончательном разгроме петлюровцев под Проскуровом.
* * *
Оглядываясь назад, нельзя не задаться вопросом: имел ли Екатеринославский поход какое-либо значение в смысле влияния на дело Добровольческой армии?
На этот вопрос пусть ответят историки. Мы же отметим следующие обстоятельства, имевшие, во всяком случае, местное значение. Корпус внес значительный моральный подъем в малочисленные и духовно плохо спаянные части тогдашней Крымско-Азовской армии, помог и живой силой и организационно в смысле защиты Крыма, что оттягивало с главных фронтов часть красных войск в период «Акманайского сидения».
Это облегчило нашей армии продвижение на Екатеринослав – Киев, так как в тылу противника она имела свой сильный отряд на Акманае (Керченский полк), который в нужный момент в июне 1919 года, выйдя из Крыма, ударил во фланг красной армии.
Известный ответ на поставленный вопрос дало и главное командование, учредившее «в воздаяние мужества и доблести офицеров и солдат Екатеринославского отряда, проделавших тяжелый зимний поход» знак на национальной ленте.
Черный крест с цветами национального флага – память об этом трудном, но славном месяце.
Г. Сакович[155]
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ ПОХОД [156]
Когда летом 1918 года русские офицеры стали возвращаться из плена домой – в новообразованную немцами Украину, то она показалась им раем. Белый хлеб! Сахар! Колбаса! В каком угодно количестве и совсем недорого.
От Киева до Екатеринослава наша компания доехала на пароходе, так как поезда ходили еще нерегулярно. В Екатеринославе мы попали в австрийскую зону оккупации. Поражала исключительная корректность австрийского воинства. Ни малейшей «победительской» надменности в поведении солдат и офицеров на улицах. Когда мне пришлось зарегистрироваться в австрийской комендатуре, то принимавший меня военный писарь получил нагоняй от своего начальника за то, что осмелился в моем присутствии сесть, не спрося моего разрешения.
– Русский офицер, пускай он всего лишь демобилизованный воин неприятельской армии, все равно офицер, и нижний чин должен относиться к нему с уважением, – яростно, топорща усы, орал австрийский хауптман.
Во всех учреждениях города власть действовала и управляла именем пана гетмана Скоропадского. В канцеляриях, впрочем, сидели царского времени чиновники, большей частью – местные уроженцы. Среди них попадалось немало и таких, которые в мирное время любили щеголять своим украинофильством. В связи с начавшейся, по приказанию из Киева, украинизацией государственного аппарата стали производиться опыты с составлением бумаг на «ридной мови». Это было, конечно, одновременно – комедия и трагедия. Сидит, бывало, над столом какой-нибудь «пан, добродий» Самойлович или Ковошенко, и крупные капли пота стекают по его носу на лежащую перед ним бумагу.
– А штоб вас усих собаки зъилы с вашей украинизацией, – ворчал незадачливый «пан добродий». – Мени тут нужно делом заниматься, а не пустяками. По-руськи бумага давно была бы готова, а на этой чертовой мови ничего не выходит.
Впрочем, лично я от украинизации нисколько не пострадал. Окончив в свое время классическую гимназию в г. Ломже и зная поэтому сносно польский язык, я быстро нашел выход из положения: брал польские слова, пристраивал к ним украинские окончания и склеивал все это вместе в избитые, принятые в русском делопроизводстве выражения. Все чинодралы, и в особенности наиболее «щирые», приходили ко мне за помощью. Сам пан директор пришел в восторг от моей лингвистической изобретательности и, хохоча иной раз до слез, подписывал составленные мною «стосунки» и «видношения».
– Непонятно. Ей-богу, ни черта понять невозможно. Нет сомнения, что написано по-украински.
Новая республика стала организовывать свою вооруженную силу, и в Екатеринославе началось формирование 8-го украинского корпуса. Правда, создавались лишь одни офицерские кадры, так как немцы пока что не доверяли своему марионеточному союзнику. Но все-таки по вечерам по Екатериновскому проспекту стали фланировать какие-то военные, одетые в форму, несколько отличавшуюся от старой русской.
Екатеринослав был крупным центром, и в мирное время в нем размещался порядочный гарнизон: два пехотных полка, артиллерийская бригада, мортирный дивизион, штаб дивизии. Так что летом 1918 года город оказался переполненным оставшимся не у дел офицерством. Часть устроилась на службу в начавший свое формирование 8-й украинский корпус; многие спешили поступить в Горный институт и новооткрытый Екатеринославский университет; некоторые пристроились на службу по гражданскому ведомству, а большинство – просто слонялось без дела, проедая свои военные сбережения или проживая у своих родных. В уличной толпе иной раз попадались молодые люди, одетые в старую русскую форму с погонами, и с трехцветными угольниками на рукавах. Это были вернувшиеся с Дона и Кубани офицеры Добровольческой армии. Вести, приносимые ими оттуда, были крайне неутешительного свойства. Демобилизованные офицеры сознавали, что, пока на западноевропейском фронте война продолжается, русский вопрос еще не решен; ждали победы союзников и почему-то были уверены, что англичане и французы первым долгом примутся за восстановление русской вооруженной силы.
А в общем, пока летнее солнце светило над Екатеринославом, а по улицам ходили австрийские патрули и рынки были переполнены снедью, жизнь в городе протекала весело. Всевозможного рода рестораны, кабаре, кинематографы и клубы работали вовсю.
Но вскоре этой идиллии наступил конец. В сентябре, несмотря на строгую австрийскую цензуру, в газетах глухо промелькнуло известие о каких-то успехах англичан в Сирии. Затем произошел прорыв на Салоникском фронте и капитуляция Болгарии. Офицеры оккупационных войск перестали показываться на улицах или ходили с явно опущенными вниз носами, а через город потянулись спешно перебрасываемые на запад германские и австрийские части. Во второй половине октября пришло наконец-давно ожидавшееся известие о поражении немецких войск во Франции и о предстоящей капитуляции Германии.
Переворачивалась какая-то страница мировой истории. Так как украинское движение держалось главным образом с помощью австро-германцев, то теперь, после оглушительного краха центральных империй, менялась и вся политическая конъюнктура на юге России. Все ждали появления в Черном море сильной англо-французской эскадры с многочисленным союзным десантом; все были убеждены, что в самом кратчайшем времени начнется формирование новой русской вооруженной силы, которая, с помощью наших союзников, примется за восстановление Российского государства. Шансы Добровольческой армии стремительно поднялись вверх. В связи с этим пан гетман Скоропадский круто переменил ориентацию и взял курс на сближение с командованием Вооруженных сил Юга России, то есть с генералом Деникиным. Заговорили о федеративном соединении Украины с Россией, а в учреждениях снова воскрес русский язык. Вслед за этим было решено призвать на действительную службу всех бывших русских офицеров, а также начать в городе формирование дружины добровольцев. Благодаря вышеуказанным мерам 8-й украинский корпус составил вооруженную силу около 2 тысяч человек. Командовал корпусом генерал Васильченко, действовавший по уполномочию гетмана Скоропадского. Но настроение мобилизованного офицерства было определенно патриотически русское, исключавшее всякий сепаратизм.
Так как две самые большие екатеринославские казармы – Симферопольского и Феодосийского полков – расположены на «горе», неподалеку от зданий Горного института, то эта часть города превратилась в своего рода вооруженный лагерь, на который в конечном счете опирались все действовавшие от имени гетмана местные власти.
Но тут всполошились притихшие было под австро-германской оккупацией крайне левые украинские националисты – петлюровцы. В городе, правда, у них корней не было, но зато вся сельская полуинтеллигенция оказалась на их стороне. Пользуясь этим, петлюровцы сформировали в окрестных волостях несколько вооруженных отрядов, незаметно вошли в Екатеринослав и разгромили в нижней части города все участки полиции (державной варты). Вследствие непростительной оплошности нашего командования полиция не получила поддержки со стороны 8-го украинского корпуса, была частью перебита петлюровцами, частью разбежалась. После этого город разделился на две части: на «горе» перевес имели офицерские отряды, а в нижней части города, где расположена железнодорожная станция и к которой примыкает мост через Днепр, очутился в руках петлюровцев.
Заметив шаткость нашего положения, петлюровский глава пан Горобец (при старом режиме щеголявший «кацапской» фамилией – Воробьев) обратился к командиру 8-го украинского корпуса генералу Васильченко с ультимативным требованием – сложить оружие. Получив отказ, воинственный Воробьев-Горобец приказал своим «армиям» атаковать занимавшую выдвинутое положение добровольческую дружину. Подоспевшими из верхней части города офицерскими отрядами петлюровцы были отброшены, так что мы получили возможность выбить их из Екатеринослава. Но тут вмешался австро-германский гарнизон, выкатил артиллерию и, под предлогом недопустимости уличных боев среди мирного населения, обратился к генералу Васильченко с требованием приостановить военные действия.
Таким образом, хотя петлюровцы потерпели неудачу и понесли потери (у нас потерь не было), положение офицерского отряда, именовавшегося 8-м украинским корпусом, было неважное. Мы были отрезаны от всего мира и окружены крестьянской стихией, где свободно действовали петлюровские агитаторы. Нужно было принимать какое-то решение.
Так как традици 1917 года еще не были изжиты, генерал Васильченко приказал созвать весь наличный состав корпуса на митинг, с целью обсудить положение. Полковник Коновалов (впоследствии – генерал-квартирмейстер Добровольческой армии) и некоторые другие офицеры стали горячо ратовать за выход из Екатеринослава с оружием в руках и за соединение с Добровольческой армией. Несмотря на яростную оппозицию украинофильствующего меньшинства (автор этих строк едва не был пробит штыком одного из оппозиционеров), громадное большинство высказалось за принятие плана полковника Коновалова.
Выступление из города, если память мне не изменяет, состоялось 24-го или 25 ноября 1918 года. Приблизительно в час ночи ворота Феодосийских и Симферопольских казарм распахнулись и отряды офицеров в боевом снаряжении стали выходить на улицу в сторону степи. Ночь была морозная, и дул сильный ветер.
Из наличного состава корпуса в 2 тысячи человек выступило немного более половины. Пехота – полки Симферопольский и Феодосийский – 400 человек плюс 250 человек добровольческой дружины. Артиллерия (номинально 43-й, 44-й и 45-й полки) – 4 легкие полевые пушки при 150 человеках. Конница – Новороссийский драгунский полк, 3 эскадрона – 170 человек. Броневой дивизион – 4 боевые машины – 60 человек. Штаб и служба связи (искровый телеграф) – 40 человек. Всего 1050 человек. Таким образом, несмотря на громкое название – «корпус», мы представляли из себя всего лишь весьма скромный отряд – батальон, эскадрон и батарея. Вследствие встретившихся на дороге снежных сугробов, броневой дивизион уже на третьем переходе должен был бросить свои машины и превратился в команду разведчиков.
Спохватившиеся на следующее утро петлюровцы не рискнули нас преследовать, удовлетворившись расстрелом нескольких офицеров из числа оставшихся в городе. Но зато был дан приказ – «всем украинским армиям» – остановить нас и не допустить нашего присоединения к Добровольческой армии.
Так как город Екатеринослав расположен на правом берегу Днепра, то для того, чтобы присоединиться к антибольшевистским Вооруженным силам Юга России, нам прежде всего нужно было переправиться через эту широкую, разбухшую от осенних дождей реку. Первоначально наш отряд двинулся в южном направлении, и тут, на втором переходе от Екатеринослава, мы в первый раз столкнулись с петлюровцами, высланными нам навстречу из Александровска. Бой продолжался всего лишь несколько минут: петлюровцы бежали, оставив на месте некоторое число убитых, а в наши руки попало несколько пулеметов и более 100 человек пленных, которых мы выпустили на следующий день на свободу. Генерал Васильченко не счел возможным попытаться произвести переправу в районе Александровска и приказал отряду двигаться дальше на юг – в пределы бывшей Херсонской губернии. Наиболее крупное столкновение с петлюровцами произошло у нас в районе Благовещенка – Воронцовка. Петлюровцы ночью напали на остановленный нами в Благовещенке арьергард (один взвод добровольческой дружины), который понес большие потери. Наутро генерал Васильченко перешел в контратаку, в результате которой петлюровцы должны были оставить Благовещенку.
Одновременно высланный генералом Васильченко отряд в 60 человек разведчиков (бывший броневой дивизион, оставшийся без машин) занял станцию Апостолово и устроил там засаду петлюровцам, спешившим поддержать своих у Благовещенки. Два эшелона украинских шовинистов, подходивших к названной станции, были взяты под пулеметный обстрел и почти полностью уничтожены. Разбитые под Благовещенкой петлюровцы могли беспрепятственно уйти, так как, на их счастье, наша конница (новороссийские драгуны), высланная накануне для захвата переправы через Днепр, не приняла участия в бою и не смогла преследовать противника. Тем не менее, так как наши потери оказались довольно значительны, генерал Васильченко решил немедленно продолжать движение на юг, несмотря на бушевавший в степи снежный буран. Не имея с утра, что называется, маковой росинки во рту, наш отряд прошел ночью точно вымершее местечко Воронцовку, а затем форсированным маршем, в течение 20 часов без единой остановки, сделал переход в 60 километров до ближайшей ночевки. Но зато мы получили полную свободу маневрирования и смогли осуществить нашу задачу – переправиться через Днепр.
Наш последний бой в этом походе произошел в районе Бизюкова монастыря, где петлюровцы снова попытались захватить врасплох наш арьергард, оставленный нами в одной придорожной усадьбе. Но доблестные «броневички», оставленные нами в арьергарде, сразу же дали петлюровцам жесточайший отпор и одновременно послали конного разведчика в штаб отряда – известить о произведенном нападении. Генерал Васильченко развернул все наличные силы и двинулся на выручку. Когда наши первые шрапнели разорвались над линией противника, петлюровцы прекратили свое наступление на занятую «броневиками» усадьбу и начали менять направление. Атака нашей пехоты была стремительна. Через несколько минут противник дрогнул и, преследуемый новороссийскими драгунами, устремился в беспорядочное бегство, покрыв поле трупами, но еще больше сбрасываемыми с ног, ради большей быстроты бега, ботинками. Наши потери оказались невелики: у броневиков был убит прапорщик Жеребец и ранен капитан Гаусман; среди наступавших пехотинцев оказалось несколько человек раненых, в том числе начальник штаба корпуса генерал-майор Порфирий Григорьевич Кислый.
После этой схватки петлюровцы больше не осмеливались вступать с нами в бой и при нашем приближении спешно отходили. Они не рискнули даже атаковывать нас в момент переправы через Днепр, которую мы произвели по понтонному мосту Бериславль – Каховка, как раз в том пункте, где за полгода перед тем переправлялись через реку доблестные дроздовцы. [157]
По Северной Таврии мы прошли без всяких приключений и к середине декабря, пройдя через пресловутый «перекопский вал», вошли в Крым и расположились на отдых в районе станции Джанкой. Под Рождество весь наш отряд (кроме новороссийских драгун и части артиллерии, оставленных у Перекопа) был переведен в Симферополь, где мы и встретили праздник.
Присоединение нашего отряда к Добровольческой армии сильно изменило военное положение в Крыму и Северной Таврии. Местные части Вооруженных сил Юга России находились еще большей частью в стадии формирования. До нашего прибытия единственной боеспособной силой в Крыму считался Симферопольский офицерский полк, [158] насчитывавший тогда не больше 200 штыков, и Алексеевское военное училище, [159] еще более скромного состава. Поэтому прибытие Екатеринославского отряда, силой около 950 человек, включавшего четырехорудийную батарею и дивизион конницы в 170 шашек, меняло всю военную обстановку и делало положение Добровольческой армии на этом участке фронта на некоторое время более устойчивым. Под нашим прикрытием стал организовываться новый «западный» участок вооруженных сил, выросший впоследствии в 15-тысячный корпус и занявший правобережную Малороссию, вплоть до Проскурова.
Характерной особенностью Екатеринославского отряда было то, что, будучи составлен почти исключительно из уроженцев так называемой Украины, он был насквозь пропитан русским патриотизмом и свои первые удары он нанес именно по расчленителям России.
Это обстоятельство является наилучшим опровержением многочисленных утверждений, что будто за Петлюрой стояла вся Украина и что возглавляемое им движение носило общенациональный характер. В 1918 – 1920 годах украинские шовинисты представляли собой не нацию, а всего лишь партию. Второй украинской партией были мы – сторонники неразрывной связи с Россией. Третьей партией были коммунисты.
Сторонники России имели все шансы победить. Почему они не победили? Это уже другой вопрос, не имеющий отношения к сегодняшней теме.
Командование Добровольческой армии (уже при главнокомандующем генерале Врангеле) поняло военное и политическое значение Екатеринославского похода и присудило участникам этого похода ношение особого знака – креста на национальной ленте – в воздаяние за проявленную доблесть и верность общерусским идеалам.
И. Лабинский[160]
О ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОМ ПОХОДЕ [161]
В № 102, май 1960 года, напечатаны воспоминания госп. Г.Г. Саковича о Екатеринославском походе; я тоже участник этого похода в составе 3-го драгунского Новороссийского Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полка и был очень рад, что нашелся воин, вспомнивший эту героическую страницу из истории белой борьбы.
Прошло очень много лет с того дня, когда из Екатеринослава выступил в поход на присоединение к Добровольческой армии отряд под командой генерала Васильченко, поэтому неудивительно, что в воспоминания госп. Г.Г. Саковича вкрались неточности, которые в некоторых случаях изменили факты и некоторые важные детали.
Я не буду останавливаться на описании общей обстановки на территории Южной России после оккупации германо-австро-венгерскими вооруженными силами, но должен напомнить, что летом 1918 года Украина была не республикой, а монархией во главе с гетманом Скоропадским, потомком гетмана Скоропадского, назначенного Петром Великим после предательства Мазепы. Выбор гетмана Павла Скоропадского, бывшего флигель-адъютанта Государя Императора Николая Александровича и потомка назначенного Императором Петром Великим гетмана Украины, символизировал лояльность населения Украины к единой России и приверженность его к монархическому строю, а главной целью всех тех, кто так или иначе участвовал в создании нового монархического государства, было стремление создать сильный и здоровый плацдарм для борьбы со свирепствовавшим в Центральной России коммунизмом и охраны части России от захвата коммунистами.
По всей территории нового Украинского государства, с согласия гетмана Павла Скоропадского, существовали центры Добровольческой армии, эти центры образовали добровольческие дружины во всех городах Украины. Фактическое образование этих дружин в боевые единицы началось в начале ноября 1918 года, то есть к моменту, когда стало совершенно ясно, что Германия и Австро-Венгрия войну проиграли и в скором времени должны будут очистить территорию Украины, предоставив ее своей судьбе.
Трудно учесть, какое количество офицеров и других воинских чинов находилось к этому моменту на территории Украины, знаю только, что в Екатеринославе зарегистрированных оккупационными властями господ офицеров было больше 11 тысяч.
7 ноября старого стиля 1918 года начальник Екатеринославского центра Добровольческой армии полковник Островский [162] отдал приказ всем добровольцам прибыть в казармы 133-го Симферопольского полка для несения боевой службы.
Ряды 3-го драгунского Новороссийского полка были пополнены вновь сформированным эскадроном под командой 12-го Ахтырского гусарского полка полковника Волоцкого.
23 ноября противник окружил казармы, в которых были расположены части 8-го корпуса и его штаб, 3-го драгунский Новороссийский полк и вновь сформированная добровольческая дружина
Гарнизон казарм доблестно отражал нападение противника 23-го, 24-го и 25 ноября; 3-й драгунский Новороссийский полк и броневые части прорвались к Брянскому заводу, где запаслись бензином, а на территории бывшей выставки конфисковали конский ремонт венгерского гусарского полка, брошенный венгерской армией.
На рассвете 28 ноября 3-й эскадрон Новороссийского полка произвел разведку дорог на Александровск – Никополь.
Днем 28 ноября генерал Васильчиков [163] по требованию воинских чинов гарнизона казарм собрал общее собрание всех чинов гарнизона. Командир Новороссийского полка полковник Гусев приказал чинам полка в собрании не участвовать, но на собрание послал адъютанта полка поручика Шевчукова, который должен был сообщать о происходящем на собрании.
Собрание длилось долго. Генерал Васильчиков уговаривал идти на присоединение к Добровольческой армии, считая это единственным достойным выходом из создавшегося положения. Генерального штаба полковник Коновалов, напротив, считал эту попытку безрассудной и предлагал распылиться по месту жительства.
Получив эти сведения от поручика Шевчукова, полковник Гусев приказал полку седлать лошадей, а спешенный 1-й эскадрон ввел в зал собрания, заняв выход из зала, взошел на трибуну и сказал: «Я веду мой полк на соединение с Добровольческой армией, кто хочет умереть честно и со славой, пусть присоединится к Новороссийскому полку, кто же хочет бесчестно умирать в подвалах Чека, пусть немедленно покинет казармы. Митинг кончен».
Очень немного «воинов» рискнуло уйти, но к моменту выхода недосчитались очень многих, бежавших тайком из казарм.
Поздно ночью был выслан эскадрон для прекращения телефонной связи между Екатеринославом и районом предположенного движения отряда.
К полковнику Коновалову немедленно после митинга была приставлена охрана, которая, сменяясь, сопровождала его весь поход.
(По окончании Гражданской войны и эвакуации за границу полковник Коновалов, впоследствии генерал-квартирмейстер штаба генерала Врангеля, уехал в СССР. [164])
29 ноября на рассвете отряд выступил в поход. Глубокий снег не дал возможности подняться в воздух нашей авиации. Самолеты были уничтожены, а тяжелое оружие с них снято. Вечером произошел первый бой с незначительными силами противника под деревней Малашевкой Екатеринославской губернии.
Очень глубокий снег и продолжавшаяся снежная буря сделали дальнейшее движение наших броневиков совершенно невозможным. Было приказано снять оружие с броневых машин и взорвать броневики. Таким образом был создан броневой дивизион на тачанках, сыгравший неоднократно решающую роль в боях с противником.
10 декабря произошел серьезный бой под деревней Марьинское Херсонской губернии, шедший с переменным успехом и не дававший возможности дальнейшему движению на юг нашему отряду. Из опроса взятых в плен было выяснено, что противник ждет подхода подкреплений со стороны станции Апостолово. Ночью эскадрон драгун под командой полковника Волоцкого и броневой дивизион на тачанках были посланы глубоко в тыл противника к железнодорожному пути, где была устроена засада. На расстоянии приблизительно длины 3 поездных составов были заложены пироксилиновые шашки, а в укрытии, в полной темноте, против этого места расположился броневой дивизион. 2 эшелона противника вошли в намеченную зону. Спереди и сзади было взорвано полотно дороги и одновременно около 25 пулеметов открыли огонь по эшелонам. Противник не успел открыть огонь, а когда конница подошла к составу, то ей нечего было делать. Все было уничтожено. Этот рейд облегчил положение отряда под Марьинским, и противник к утру поспешно отошел.
11 декабря произошел бой у деревни Дутчино с частями противника, обходившими нас с юга во время боя под Марьинским, противник был разбит и преследуем конницей.
12 декабря отряд надеялся переправиться через Днепр у Безюкова монастыря Херсонской губернии, для чего весь отряд был продвинут в монастырь, а на почтовой станции Зилбера был оставлен заслон, часть броневого дивизиона и полувзвод драгун для связи.
Ночью застава была окружена, а на рассвете со всех сторон атакована большими силами противника. Героически защищался этот небольшой гарнизон в надежде, что главные силы придут на помощь и спасут положение, но 2 часа уже длился бой, а помощи не было. Начальник заставы приказал тогда трем драгунам, на дистанции в 200 шагов, скакать с донесением к генералу Васильчикову. Первый поскакавший, корнет Рубанов, был ранен в ногу, вторым поскакал я и доскакал до монастыря на двумя пулями раненной в круп лошади, третий, юнкер Татарко, потеряв коня, отстреливался до тех пор, пока новороссийские драгуны лихой атакой не отбросили противника от заставы.
21 декабря в момент нашей переправы через Днепр неприятель пытался атаковать понтонный мост с парохода, но под огнем наших пулеметов повернул обратно. 22 декабря эскадрон новороссийских драгун подошел к Перекопу, границе Крымской республики. Несколько крымских татар и одна клиновая пушка – это было все, что обороняло новую республику.
Гарнизон Перекопа смущенно впустил на свою территорию агрессора.
С крымским правительством был заключен договор, по которому отряд генерала Васильчикова принимал охрану Крыма, а крымское правительство во главе с господином президентом Крымом обязалось нас содержать. Вскоре по распоряжению генерала Деникина правительство было свергнуто, а господин Крым покинул пределы своего государства.
В момент прибытия наших передовых частей в Крым никаких частей Добровольческой армии в Крыму не было. Был лишь начальник центра Добровольческой армии в Симферополе [165] с известным количеством добровольцев по спискам. Только после того, как полуэскадрон новороссийцев вошел в Симферополь, а за ним главные силы отряда генерала Васильчикова, были фактически сформированы небольшие соединения добровольческих отрядов. Фактическая оборона Крыма от врага внешнего и внутреннего всецело легла на прибывший отряд генерала Васильчикова и первые месяцы на 3-й драгунский Новороссийский полк, который оборонял подступы к Крыму и ликвидировал восстания коммунистов в Крыму (поход в январе на Алибунар и Евпаторию) и т. д.
В начале марта 1919 года на Перекоп прибыли добровольческие части отряда полковника Ильина, марковские части и т. д.
23 марта старого стиля 1919 года после кровопролитного боя под Юшунью, где на нашей стороне принимали участие и греческие войска, большевики сломили нашу оборону, перейдя Сиваши и атаковав нас с правого фланга и тыла, в то время как фронт вел успешную оборону. Наши части отошли на Акманайские позиции. 3-му Новороссийскому полку было приказано задерживать противника в районе Карасубазара, что и было выполнено полком. Наши части при поддержке английского флота укрепились на Акманайских позициях. Отходивший по выполнении задачи Новороссийский полк и эскадрон александрийских гусар [166] попали в горах под Исламтереком в приготовленную большевиками засаду и понесли тяжелые потери, в том числе погиб командир полка доблестный полковник Гусев, адъютант пор. Шевчуков. Командир эскадрона александрийских гусар полколвник Карцов [167] был тяжело ранен и только через несколько дней полуживым добрался до наших передовых постов.
В пасхальную ночь около часу ночи мы подошли к Феодосии, уже оставленной нашими частями. В нескольких верстах от Феодосии по направлению к Акманайским позициям стоял православный храм. Мы подъехали к храму и вошли в темный его притвор. В храме не было молящихся. Только очень пожилой священник совершал службу. После всего пережитого эта пасхальная служба в почти неосвещенной церкви произвела на измученных воинов незабываемое впечатление, а особенно в момент, когда священник повернулся лицом к темной и пустой церкви и произнес «Христос воскресе» и сотня голосов восторженно ответила «Воистину воскресе»! Я никогда не забуду выражения лица этого пораженного ответом священника.
Я вышел за пределы описанной госп. Г.Г. Саковичем эпопеи, закончившейся Екатеринославским походом, присоединением Крыма к территории Добровольческой армии и обороны его до прибытия частей Добровольческой армии потому, что хотел подчеркнуть ту роль, которую сыграл в создании возможности подвига со стороны участников Екатеринославского похода погибший геройской смертью полковник Гусев.
Примечание. Все данные о дне и месте сражений взяты мною из приложения к послужному списку, выданному мне по окончании похода, поэтому те сражения, в которых я лично не участвовал, не могли быть упомянуты мною.
Раздел 6
СОБЫТИЯ В ОДЕССЕ
В. Гурко[168]
ИЗ ПЕТРОГРАДА ЧЕРЕЗ МОСКВУ, ПАРИЖ И ЛОНДОН В ОДЕССУ [169]
Но вот и Киев, Киев, уже побывавший во власти Винниченки и Петлюры, Киев, испытавший засилье большевиков, видевший массовые расстрелы русских офицеров и убийство своего митрополита, Киев, хранящий в виде множества полуразрушенных зданий следы происходивших за него боев, а ныне формально подвластный опереточному гетману, в сущности же поставившему его германскому воинству.
Политическая обстановка в Киеве в ту пору была чрезвычайно сложная, но с внешней стороны она мало в чем проявлялась. Немцы отвели для своего главного командования особый квартал города – часть Липок, который после убийства их главного вождя, Эйхгорна, окружили барьерами и часовыми, но зато вне этого квартала, вернее, вдали от окружающих его застав, их присутствие почти не замечалось, а в особенности не ощущалось. Правда, проходили по улицам германские воинские части, встречались на улицах немецкие офицеры и солдаты, виднелись кое-где немецкие надписи, но держали себя немцы не вызывающе и, видимо, избегали всего, что могло бы раздражить население и дать ему понять, что настоящими хозяевами города являются они, а не украинская бутафория.
Находившиеся в Киеве германские полки, по физической крепости их личного состава, были много выше виденной нами в Орше немецкой калечи, а по внешней дисциплинированности и выправке мало чем отличались от когда-то виденных в Берлине у Бранденбургских ворот гвардейских караульных частей.
Если присутствие германцев в городе замечалось мало, то наличие украинской власти не чувствовалось вовсе. Отражалось оно в повременной прессе, усиленно оповещавшей о всех действиях, а в особенности публичных выступлениях гетманского правительства.
Превратившийся в наследника Мазепы бывший командир Кавалергардского Ее Величества полка никем всерьез не принимался. Ко времени нашего приезда его, впрочем, в Киеве и не было: он ездил на поклон к своему господину – императору германскому, и в магазинных окнах скоро появились фотографии, изображавшие встречу этих двух потентатов: Скоропадский стоял вытянувшись в струнку перед Вильгельмом, непринужденно заложившим руку в карман.
Что касается украинизации города, то она ограничивалась заменой многих русских торговых вывесок малороссийскими, но иного кроме русского языка на улицах и в лавках слышно не было. Киев как был, так и остался русским городом, но зато оживление в нем было необычайное и переполнен он был до последней степени. Сюда хлынула волна из большевистской России, и на Крещатике с каждым днем встречалось все большее количество петроградских и московских знакомых.
Настроение приезжих было на редкость однообразно: нескрываемая радость избавления от большевистского строя и засилья, огорчение по поводу ограбленного у них в Совдепии и по пути оттуда имущества и изумление оказавшегося невероятным, после столичного убожества, изобилия различных товаров, а в особенности съестных припасов – вот к чему поначалу сводились у приезжих все чувства и разговоры. Действительно, в Малороссии в ту пору хозяйственная деятельность населения еще не была подорвана, и благодатный искони, славившийся своим богатством край жил еще прежней привольной жизнью. Правда, цены на все продукты, поражавшие москвичей своей дешевизной, были уже значительно повышены, но происходило это не от недостатка товара, а от обесценения денежных знаков, выпускавшихся украинским правительством под никому не известное, вообще не существующее обеспечение.
Гетманское правительство ко времени нашего приезда в Киев (начало сентября 1918 года) в лице начальников его отдельных управлений, носивших название министров, было смешанное. Председатель Совета министров С.Н. Гербель, министр внутренних дел И.А. Кистяковский, его товарищ бывший член Государственной думы Варун-Секрет были несомненно русские люди, смотревшие на Украину как на временное политическое образование и допускавшие лишь присвоение ей некоторых автономных прав. Но были среди министров и убежденные «щирые» украинофилы. К ним в особенности принадлежал министр путей сообщений, едва ли не поддерживавший сношения если не с Петлюрой, то с Винниченко и Грушевским.
Сам Скоропадский был ближе к русскому крылу своего правительства, но честолюбие в нем сильно разыгралось, а посему он, видимо, мечтал о сохранении звания гетмана и по восстановлении России, связавшись с ней на федеративных началах. Впрочем, возможно, что, как многие это утверждали, у него мелькала мысль, освободив Россию, присоединить к малороссийскому гетманству всероссийский престол. Наивному человеку чего не взбредет в голову, отуманенную случайной удачей. Этим, быть может, обусловливался двойственный образ его действий по отношению к Добровольческой армии.
Держал себя Скоропадский с важностью и внешней пышностью, поскольку это дозволяли местные условия. Стремился он одновременно доказать свое «щирое» украинство между прочим усиленным восхвалением украинских знаменитостей – Шевченко и Мазепы – других не нашлось – и совершенно зря клеймя будто бы испытанный Украиной в течение двух с половиной веков русский гнет, без указаний, однако, в чем он состоял. Одновременно в частных беседах с русскими деятелями он выражался совершенно иначе. Им он объяснял свое украинство тактическими требованиями момента, но веры в себя и в свою лояльность к России ни в ком не возбуждал. Жалкий оппортунист, он не сумел создать себе сколько-нибудь значительное число сторонников ни в украинофильском лагере, ни среди русских людей и столь же скоропалительно и бесследно исчез с политического горизонта, сколь нежданно игрою случая на нем появился. Любопытные, однако, бывают у людей предчувствия. Его товарищи по Пажескому корпусу мне передавали, что, еще будучи на школьной скамье, Скоропадский мечтал и определенно утверждал, что будет со временем малороссийским гетманом, хотя в то время (80-е годы прошлого века) события такой надежды отнюдь не оправдывали.
Вся украинская затея была вообще смехотворна: страна и народ, которые в качестве национальных знаменитостей могли выставить лишь поплатившегося жизнью предателя и полуграмотного составителя народных песен, едва ли могут иметь притязание на самостоятельное культурное существование. Когда к этому еще добавляется отсутствие разработанного литературного языка, обязанность которого исполняет народный говор, дополняемый искусственно созданными словами иноземно-галицийского или польского происхождения, то подобные притязания и смешны, и жалки.
Малороссия, как и иные обширные, удаленные от правящего центра русские области, может стремиться к широкому местному самоуправлению, но для самостоятельной государственной жизни, немыслимой без самобытной цивилизации, она просто не имеет необходимых предпосылок. Результат иноземных интриг – сепаратизм Украины опирался в ее пределах лишь на демагогии нескольких десятков честолюбцев, мечтавших разыгрывать роль государственных деятелей и превратиться в важных сановников. Эти честолюбцы усиленно учились неведомому им дотоле языку, заимствуя недостающие, но необходимые в культурном обиходе слова где угодно, но только не в русском языке. При этом нередко происходили недоразумения, ибо говорившие на этом новоиспеченном языке друг друга не всегда понимали.
Среди усердствовавших в этом отношении управлений выделялось между прочим Министерство иностранных дел. Зайдя однажды по какому-то делу в это министерство, я прежде всего натолкнулся на дежурного чиновника, который, впрочем, оказался хорошенькой и сильно накрашенной девицей. На мой вопрос сия представительница прекрасного пола и, судя «по ее дородности», малороссийских галушек ответила мне на определенно польском языке. Директор департамента этого министерства соблаговолил говорить со мной по-русски, но при входе во время нашей беседы какого-то чиновника тотчас перешел на украинскую мову, с которой, по уходе чиновника, вновь перешел на русский язык, на котором он, очевидно, с детства только и говорил.
Почти одновременно с местным правительством в Киеве образовались и две крупные местные общественные организации, обе будто бы экономического характера, но в действительности деятельно занимавшиеся политикой. Одна из них – «Союз хлеборобов» – была первоначально тесно связана с гетманом; от нее формально получил Скоропадский гетманскую булаву. Лидеры этого союза были до мозга костей русские люди и ни о какой самостийной Украине слышать не хотели. Создали и поддерживали они фикцию германской власти в целях исключительно утилитарных. Крестьяне-собственники, входившие в множестве в состав союза, были ярыми врагами большевиков, так как опасались пуще огня поравнения их земли с деревенской беднотой. К украинскому вопросу они относились в массе безразлично. Во главе союза стоял винницкий уездный предводитель дворянства граф Д.Ф. Гейден, тем более тяготевший к Добровольческой армии, что он был женат на сестре одного из вождей этой армии – генерала А.М. Драгомирова. Не менее русским был и управляющий делами союза A.A. Зноско-Боровский, весьма толковый и знающий человек; он впоследствии умер на юге России от сыпного тифа.
Однако организованной силой, могущей с оружием в руках поддерживать гетманскую власть и охранять край от захвата большевиками, союз не обладал. Лишенные всякого вооружения, члены его, сколь бы они ни были многочисленны, для боевых действий не были пригодны. Между тем еще существовавшая в то время Австрийская империя продолжала лелеять химеру оторванной от России и присоединенной к империи Габсбургов Украины.
Австрией вооружались и снаряжались повстанческие банды, создаваемые хохломанами типа Винниченко и авантюристами типа Петлюры. Сила этих агитаторов зиждилась на тех по существу да и по форме большевистских лозунгах, которые для успешности комплектования этих банд провозглашали их вожди. Господствовал среди этих банд тот же дух наживы за счет чужого имущества, попросту говоря – грабежа, которым большевики опьяняли русский народ.
Едва прикрытый национальными сепаратистскими лозунгами, большевистский дух частей сказался при первом их столкновении с красной армией, в бой с которой они даже не хотели вступить.
Силы против этих по существу грабительских банд Союз хлеборобов не сумел или не мог создать.
Не большей силой обладал и другой образовавшийся в Киеве союз, сокращенно называвшийся протофисом (союз промышленности, торговли и финансов). Во главе этого союза был бывший член Государственной думы князь А.Д. Голицын, а состав его был пестрый. Союз преследовал преимущественно материальные интересы, а посему в политическом отношении готов был на всевозможные компромиссы, как с гетманом, так и с германцами. Добивался он, безразлично ценой каких уступок, лишь одного – охранения края от большевиков. Денежными средствами союз этот обладал несомненно в значительно большем количестве, нежели Союз хлеборобов, но расходовать их на общегосударственные надобности проявлял мало охоты. Зато в промышленной области он развил лихорадочную деятельность, что вполне соответствовало хотя в значительной степени искусственному, но все же наблюдавшемуся оживлению хозяйственной жизни края. Наряду с развитием разнообразных видов спекуляции нарождались многие новые виды производства и увеличивались существующие промышленные предприятия. Степень живучести этих начинаний на практике не удалось проверить. С захватом края большевиками все они погибли независимо от их солидности. Возникали они, во всяком случае, десятками, и число уставов, утвержденных гетманским правительством, весьма значительно. Замышлялись и грандиозные предприятия общего значения, как, например, использование днепровских порогов как огромной двигательной силы, которую предполагалось превратить в электрическую энергию.
Оживление предпринимательской деятельности на Украине приписывалось самостийниками приобретенной краем политической самостоятельности, которая ввиду этого в деловых, а в особенности в деляческих кругах Киева приобретала немалое количество сторонников.
По мере прибытия из большевизии остатков былых государственных и общественных деятелей в Киеве стали образовываться различные общерусские политические группировки. До сентября в Киеве было представлено лишь одно русское политическое течение, а именно крайне правое.
Группа представителей этого течения имела во главе небезызвестного одесского городского голову Пеликана, а в качестве главного вдохновителя присяжного поверенного Соколова. Находилась она в связи с герцогом Г. Лейхтенбергским, никакой самостоятельной Украины, конечно, не признавала и придерживалась определенно германской ориентации. Сосредоточены были ее усилия на образовании новой антибольшевистской армии, отдельной от Добровольческой, названной Южной. Затея эта до известной степени поощрялась немцами, предоставлявшими образуемой армии некоторое, в общем ничтожное количество вооружения, равно как некоторые денежные средства.
Видя в Добровольческой армии силу им явно враждебную, почти столь же упорно мечтающую о возобновлении войны в союзе с Антантой, как о свержении большевиков, германские власти считали нужным по возможности уменьшить приток в нее русского офицерства и именно с этой целью поощряли образование новой русской армии.
Отвлечь переполнявшее Киев русское офицерство от вступления в ряды Добровольческой армии можно было только дав ему другой выход. Таким выходом и должна была явиться Южная армия.
Вербовкой офицеров и солдат (поступали и солдаты, но в незначительном количестве) в эту армию усиленно занимался граф В. Бобринский. [170] Во главу Южной армии предполагалось поставить престарелого генерала Н.И. Иванова, некогда командовавшего нашим южным антигерманским фронтом, а фактическим начальником был граф Келлер (впоследствии убитый в Киеве петлюровцами). Образовывалась Южная армия в районе Харькова, но пока что многие из записавшихся оставались в Киеве, где и подчинялись жившему там же графу Келлеру.
Однако лучшие элементы офицерской среды неохотно шли в ряды Южной армии вследствие ее определенно германской ориентации и даже зависимости в материальном отношении от германских властей.
Напрасно привлекали в Южную армию и наиболее консервативный элемент военной среды – гвардейское офицерство заверением, что армия эта предназначена для восстановления монархии, а что Добровольческая армия пропитана республиканскими чувствами. Гвардейское офицерство, однако, туда не шло и, поскольку наличность имеющихся денежных средств ему это позволяла, понемногу пробиралось в Ростов и Новочеркасск, инстинктивно чувствуя, что именно там, независимо от господствующих в Добровольческой армии тех или иных политических течений, бьется истинное национальное сердце. Впоследствии, когда ввиду явно надвигавшегося крушения Германии находящееся в Киеве германское начальство утратило всевластное доминирующее положение, русское офицерство образовало добровольческие дружины в самом Киеве, начальником коих был князь Долгоруков, причем дружины эти считали себя как бы частью Добровольческой армии.
Если среди русского офицерства, сосредоточившегося в Киеве, было не много охотников вступить в ряды Южной армии, то еще менее было желающих вступить в украинские войсковые части с введенным в них украинским командным языком с такими забавными для русского слуха командами, как, например, «железняки на пузяки – гоп!». За исключением нескольких честолюбцев, составивших «двор» пана гетмана и вырядившихся по этому случаю в живописные, но опереточные полупольские, полуказацкие жупаны – русских офицеров на гетманской службе почти не было. Зато среди приближенных Скоропадского были и такие чудаки, которые выбрили себе голову, оставив лишь на затылке «оселедцы» (чубы), которые старались отрастить как можно длиннее.
Таким образом, в Киеве по иным причинам, но произошло то же самое, что в Москве, а именно разделение офицерства на различные группы, относившиеся друг к другу не всегда дружелюбно: на поступающих в украинские войска, на записывающихся в Южную армию монархического и германофильского настроения и на тяготевших к добровольцам. Конечно, были и такие, которые предпочитали снять военный мундир и обратиться к безопасным мирным занятиям, хотя безопасных положений в то время в России вообще нигде не было.
Если наблюдался раскол среди съехавшегося в Киев офицерства, то не было единомыслия и между съезжавшимися туда политическими деятелями.
В двух отношениях они, впрочем, были единомышленны, а именно в отрицательном отношении к украинскому сепаратизму и в сочувственном к Добровольческой армии. Зато по вопросу о той иностранной силе, на которую в целях возрождения России следует опереться, мнения расходились.
Толчком для образования иных, кроме крайней правой, общерусских политических группировок послужил приезд в Киев многих членов Государственной думы и Государственного совета. Тотчас создалось объединение всех парламентских деятелей, сейчас же выбравшее из своей среды бюро в составе до 15 членов. Тут рядом сидели и дружно между собой беседовали, мало в чем расходясь, Милюков и Пуришкевич.
Собиралось бюро преимущественно на квартире члена Государственной думы Искрицкого и вело нескончаемые беседы, сводившиеся, в сущности, к взаимному осведомлению о текущих событиях. Как сейчас вижу первое появление в нашей среде Пуришкевича, совершенно бритого и потому трудно узнаваемого, в френче, высоких сапогах и с огромным Владимирским крестом на шее. Пуришкевич, войдя, интриговал Милюкова, так и не узнавшего своего постоянного думского противника, пока он сам себя не назвал.
Вопроса о форме правления в этой среде почти не касались, хотя несомненно, что за восстановление монархии стояли решительно все, причем преобладающее большинство признавало, однако, что поднимать это знамя преждевременно. Тем не менее на первом общем собрании членов двух законодательных палат, насчитывавшем свыше 70 человек, Пуришкевич с присущей ему горячностью и стремительностью поднял этот вопрос и настоял на том, чтобы по нему была вынесена определенная резолюция. Высказаться отрицательно по отношению к монархии собрание, состоявшее из монархистов, конечно, не могло. К вящему неудовольствию бюро и тех, которые считали это за тактическую ошибку, собрание признало, что формой правления в восстановленной России должна быть легитимная монархия. Вопрос о том, кто должен быть признан законным претендентом на престол, при этом не возникал.
Тем временем бюро парламентской группы, в состав которого вошли некоторые покинувшие Москву члены правого центра, в том числе Кривошеин, вновь возбудило вопрос об иностранной интервенции. Составили между прочим пером Милюкова обращение ко всем державам, представители коих имелись в Киеве, среди коих консулов держав согласия, разумеется, не было. В обращении этом указывалось на все бесчинства, творимые большевиками, и на ту мировую опасность, которую представляет большевизм, разжигающий наиболее низменные инстинкты человеческой природы.
Рассчитывали при этом, tacitu consesu, преимущественно на германскую помощь, но открыто высказаться за германскую ориентацию никто не решался. Милюков какие-то шаги, столь дорого ему впоследствии обошедшиеся, предпринял в этом направлении, но всецело за свой страх и риск.
Исход международной войны в Киеве в ту пору еще совершенно не выяснился. Занимавшая Украину германская власть, естественно, распространяла и даже дозволяла оглашать только сведения для Германии благоприятные. Однако и из них выяснялось, что никаких решительных результатов Германия в войне не достигла. С другой стороны, самое присутствие германских войск в Киеве и явная зависимость гетмана от Берлина внушали большую веру в германский успех. Тем не менее недавнее участие России в войне в союзе с Антантой и хозяйничанье немцев на всем юго-западе России препятствовали верить в искренность германских заявлений, а тем более желать их торжества и вообще строить будущее России на их помощи. В частности, Кривошеин, столь решительно высказывавшийся в Москве за соглашение с Германией, изменил свою точку зрения. Он не мог простить немцам гибели царской семьи, спасти которую немцы имели, по его мнению, при желании полную возможность.
После образования парламентского бюро, преимущественно его же стараниями, достигнуто было в Киеве и более широкое объединение различных политических деятелей. Семь или девять, точно не помню, крупнейших, образовавшихся там общерусских общественных организаций, как-то: земское, городское, промышленности, торговли и другие, связались между собой и образовали один общий управительный орган, наименовав его советом государственного национального объединения, председателем коего был выбран тот же барон Меллер-Закомельский. В выборе этом сказалось общее настроение этого органа, тождественное с господствовавшим в бюро парламентского комитета. Умеренное в своих убеждениях и в соответствии с этим нерешительное в своей деятельности объединение это и его центральный орган в общем представляло неспособную к героической работе мягкотелую русскую общественность. Какого-либо пафоса, соответствующего испытываемым родиной бедствиям, проявить оно не было в состоянии, а потому и оказалось мертворожденным. Монархисты в душе, члены этого объединения признавали, что развернуть монархическое знамя можно лишь при благоприятных к тому обстоятельствах, когда наступит уверенность, что знамя это действительно объединит вокруг себя могучую силу. С громом и грохотом, говорили сторонники этого мнения, должен царский лозунг прокатиться по России; в противном случае может случиться не распространение его, а, наоборот, развенчание. Провозглашение монархического начала без вызова немедленного сильного встречного ему общественного течения, по мнению этих лиц, могло на продолжительное время развенчать этот принцип в представлении народных масс. Думается, что в то время, при не изжитой еще населением вере в большевистские посулы, когда еще происходил захват и дележ чужого имущества, они были правы.
Не решалось Киевское объединение высказаться и по вопросу о «самостийной» Украине. Сколь отрицательно ни относились к хохломании съехавшиеся в Киеве русские политические деятели, сколь ни осмеивали они в частных беседах опереточный двор Скоропадского с его украшенными «оселедцами» флигель-адъютантами, все же никаких выступлений против него они не предпринимали и, наоборот, готовы были его всемерно поддержать, вполне сознавая, что при данных условиях падение гетманской власти (в случае возможного ухода германских войск, против наличия которых поэтому тоже отнюдь не восставали) до свержения большевиков в Москве обратит и весь юг России в большевистский застенок.
Настроение народных низов в Киеве было определенно большевистское, и на базарах открыто велись разговоры на тему о распространении на Украину райских, по их представлению, условий народной жизни в Совдепии. Не лучше, если не хуже было настроение сельских масс, подвергавшихся усиленным денежным взысканиям при содействии германских войск за учиненные ими аграрные бесчинства.
В верхах наблюдалось другое. Наряду с разнообразной спекуляцией и ловлей в мутной воде наблюдалось неизменно сопутствующее всем великим потрясениям разложение нравов. Размножились игорные дома, где игра шла нередко на огромные суммы. Необеспеченность завтрашнего дня, легкая нажива, наконец, обесценение денежных знаков – все побуждало к широким тратам. Рестораны были полны, и за бутылку ликера платили не морщась сотни рублей. Женская честь превращалась в предрассудок. Большевистский дух в проявлениях иного рода захватывал и высшие слои русского народа.
Общественные русские деятели не утратили, однако, бодрости духа. Свои усилия они направили к единственной по тому времени разумной цели – к объединению деятельности тех трех новых политических образований, которые народились в пределах исконно русской части бывшей Российской империи – а именно Украины, Всевеликого Дона и расположенной на Кубани Добровольческой армии.
К сожалению, к этой мысли пришли не тотчас, а в особенности не сразу принялись за ее деятельное осуществление. Между тем раскол между национально настроенной Добровольческой армией и стоящей у власти в Киеве кучкой украинских сепаратистов влиял роковым образом на достижение основной цели – освобождение России от разрушающего ее Третьего интернационала. Тому же едва ли не в большей степени содействовали как зависимость гетмана от германцев, вследствие чего даже ту незначительную помощь оружием, которую он оказывал армии Деникина, он вынужден был производить тайно, так в особенности порождавшее это положение резко антигерманское настроение добровольцев.
* * *
К началу октября истинное положение Германии стало выясняться и в Киеве. Телеграмма императора Вильгельма к президенту Северо-Американских Штатов с просьбой о посредничестве с державами согласия в целях заключения мира окончательно раскрыла глаза тем, которые еще верили, что Германия одолеет в поднятой ею мировой борьбе. Она ясно указывала, что война фактически пришла к концу и что Антанта, во всяком случае, не побеждена. Однако степень крушения Германии еще не определилась.
Что телеграмма Вильгельма знаменует конец войны, было вполне понятно и находившимся в Киеве германским войскам, причем тут же обнаружилось, насколько наиболее крепкие воинские части Германии, и притом находящиеся в наиболее благоприятных условиях в отношении испытываемых ими опасностей и лишений, физически и нравственно устали.
Мне случилось присутствовать при ярком проявлении этого состояния германских воинов.
Весь верхний этаж гостиницы «Гранд-отель» был занят германским офицерством. Вследствие этого у лестницы, ведущей в этот этаж, были поставлены парные часовые. В вечер оглашения в Киеве упомянутой телеграммы Вильгельма, будучи в этой гостинице, я случайно присутствовал при разговоре этих часовых с каким-то посторонним господином. На вопрос этого господина, довольны ли они телеграммой их императора Вильсону, часовые, сойдя со своих мест и перебивая друг друга, горячо заявили, что войне давно должен был быть положен конец, что дальнейшее ведение ее просто невозможно. Langst genug, твердо сказали они, причем их, по-видимому, вовсе не интересовало, на каких условиях будет заключен мир; важно лишь одно – перестать драться и вернуться домой.
Настроение это безусловно владело большинством немецкого воинства. В Киеве оно проявилось, между прочим, в том, что в тот же вечер германские солдаты высыпали во множестве на улицу и до поздней ночи шумно проявляли свою радость по поводу акта, который в их представлении был равнозначен прекращению военных действий. Ослабла тотчас и дисциплина: солдаты инстинктивно почувствовали, что исчезла та причина, которая оправдывала принятие по отношению к ним суровых дисциплинарных мер.
Примечательно, что чувство радости испытывали немцы, фактически уже не участвовавшие в войне и несомненно чувствовавшие себя победителями и хозяевами в покоренной ими стране. Что же должны были испытывать немецкие войска на французском фронте, ежедневно подвергавшиеся опасности смерти?
Если до упомянутой телеграммы Вильгельма германские, а тем более австрийские войска уже представляли расшатанную силу, то после нее они окончательно перестали обладать какой-либо боеспособностью.
Все это, разумеется, тотчас учли общественные группировки Киева, и прежде всего бюро членов законодательных палат. Бюро это признало настоятельно необходимым выяснить, сколь возможно скорее, отношение держав согласия к России и образовавшимся в ее пределах политическим новообразованиям.
Предвидя, что в ближайшем будущем откроется возможность проезда в Западную Европу, решили ныне же наметить лицо, могущее войти в сношение с дипломатичеекими представителями держав согласия. Остановились на нашем бывшем после в Вене H.H. Шебеко, [171] обладавшем надлежащим опытом и обширными по своей прежней деятельности связями в западноевропейских дипломатических кругах. Одновременно решили, что до поездки за границу делегированного лица ему следует съездить на Кубань в штаб Добровольческой армии и выяснить взгляды командования армии в вопросах международных.
Возникло отсюда и другое предположение, а именно воспользоваться этой поездкой, чтобы теснее связаться с этой армией, а также попытаться повлиять на ее верхи, равно как на донского атамана, в смысле их более тесного объединения между собой, в особенности же с гетманским правительством.
Такое объединение, в случае все сильнее обнаруживавшегося развала Германии, получало особое значение, и безнадежным, казалось, нельзя было его признать. Гетманской власти, в случае крушения Германии, необходимо было искать другую опору, а могла она быть только в лице организованных остатков былой русской государственности, т. е. Добровольческой армии и Дона. Можно было думать, что и Добровольческая армия, наконец, уразумеет, что в основу международной политики должны быть положены не чувства, а сухой, черствый расчет и что чем вероятнее крушение Германии, тем безопаснее для русских интересов использовать еще сохранившиеся у нее силы для свержения большевиков или хотя бы для образования при ее содействии мощной военной силы на всем юге России.
Действительно, помощь Германии в деле восстановления России могла быть опасной только в случае сохранения ею своей мощи. В таком случае она несомненно оказала бы эту помощь лишь за дорогую цену и не преминула бы наложить на Россию свою тяжелую лапу. Победа Антанты эту опасность устраняла.
Думать, что державы согласия оценят нашу донкихотскую лояльность и окажут нам за нее реальную бескорыстную помощь, было более чем наивно. Положение, занятое Англией тотчас после крушения царской власти, хотя бы в вопросе о проливах, давало мерку будущих отношений к нам держав согласия. Даже поверхностное знакомство с историей учило тому, что Англия если и оказывала когда-либо помощь другим нациям, то лишь во вред им, как она это делала во время французской революции, поддерживая французских монархистов лишь настолько, чтобы не дать упрочиться в стране порядку.
Впрочем, хотя история, по выражению Карамзина, являясь зерцалом прошлого, служит наукой для будущего, она еще никогда никого не научила, и государственная колесница неизменно опрокидывается «кажинный раз на том же месте». Преследуемое съехавшимися в Киеве общественными деятелями объединение русских антибольшевистских сил было логически правильно, но тем самым совершенно недостижимо. Логика, вообще редко отражающаяся в людских поступках и отношениях, казалось, совершенно перестала в ту пору руководить людьми в принимаемых ими решениях.
Руководящим началом для главарей белого движения стали более чем когда-либо овладевшие ими разнообразные страсти, партийные домогательства и личные вожделения.
Соревнование между возглавлениями трех зародышей восстановленной русской государственности, соревнование, основанное и на личных соображениях, и на разности политических устремлений, не сулило каких-либо реальных результатов инициативе группы лиц, не обладающих какой-либо силой и представляющих не столько обломки, сколько тени прошлого.
Сознавая все это, я тем не менее согласился поехать совместно с Шебеко в Екатеринодар и Новочеркасск, но цель, которую я имел в виду, была иная. До Киева дошли определенные сведения, что Добровольческая армия относится с величайшей враждебностью ко всем чинам красной армии и к тем, которые когда-либо в ней числились, даже независимо от того, принимали ли они участие в борьбе с белыми, словом, даже к тем, которые правдами или неправдами от нее вырвались и стремились в Добровольческую армию, как в родную среду. Лиц этих предавали суду и подчас выносили по отношению к ним суровые приговоры.
Между тем мне, быть может, ближе, чем кому-либо, были известны те условия, при которых многие военные вступили в красную армию, вступили нередко против своего желания, побуждаемые к тому Правым центром и даже генералом Брусиловым, в лояльности которого в те времена ни у кого не возникало ни малейших сомнений, основываясь на надежде взорвать большевиков изнутри, создав собственную силу в самом их вооруженном стане.
Известно было мне и то, что многие офицеры, вступив в красную армию и ее штабы, при условии, однако, что их не заставят участвовать в Гражданской войне, крайне тяготились своим положением, так как вскоре убедились, что, оставаясь в рядах красной армии, никаких благих результатов для русского дела достигнуть невозможно, а не быть втянутым в Гражданскую войну немыслимо.
Если тем не менее верное родине офицерство продолжало в течение некоторого времени оставаться в красной армии, то опять-таки по мною же передаваемым уговорам Правого центра, продолжавшего надеяться приблизительно до середины августа свергнуть большевиков в Москве при помощи военных элементов.
Внедрению в красную армию и ее штабы контрреволюционного офицерства Правый центр придавал особое значение.
Так как я был единственным посредником между правым центром и наиболее видными и влиятельными представителями офицерства, вступившего в красную армию с целью борьбы с большевизмом, то я и считал своим долгом высказать все это лично командованию Добровольческой армии, переименовав тех лиц, с которыми я был в связи. Лица эти, попав в Добровольческую армию, могли уже в свою очередь назвать других офицеров, вступивших в красную армию по тем же побуждениям, имена коих мне не были известны.
Имея в виду эту вполне конкретную и легко осуществимую цель, я и решил пуститься в не столько дальний, сколь долгий путь.
Оказалось, однако, что Россия не только разгромлена, но вдобавок еще разделена и разграничена внутренними барьерами. Для проезда в Екатеринодар нужно было проехать царство Донское, не впускавшее в свои пределы без соответственного пропуска. В Киеве, оказалось, имеется специальный донской походный атаман Зимовой станицы – Черячукин, [172] от которого выдача подобных пропусков зависела. Скрепя сердце, пришлось отправиться к сему атаману, который за некоторую, правда скромную, плату в пользу Всевеликого нас с Шебеко нулевыми пропусками и вооружил.
Наступил, наконец, и день отъезда. Это было 28 октября (12 ноября). На Киевском вокзале, поражавшем своей примитивностью и безобразием – старый, промозглый, деревянный барак с ничем не прикрытыми многочисленными путями, – сгрудилась огромная толпа. Вповалку лежали многие сотни людей, сплошь заняв все платформы, разделявшие отдельные пути. Однако в вагонах относительный порядок и даже сносное освещение. Поезда идут по расписанию и без особого опоздания, но пересадок на пути множество. В Екатеринославе продолжительная остановка в несколько часов.
Идем в город, производящий впечатление гнетущее. Еще недавно это был богатый, красивый и оживленный южный уголок. Городской сад, бывало, переполненный публикой, заполнявшей его многочисленные рестораны, заброшен и пуст. На улицах какие-то серые типы: не то завтрашние грабители, не то опасающиеся быть завтра ограбленными. Магазины достаточно пусты, и лишь съестные припасы все еще в изобилии, в особенности на наш взгляд, не забывший еще советской нищеты.
Едем дальше, но чем дальше, тем тише и все с более продолжительными остановками. На границе Всевеликого – какая-то незначительная станция, превратившаяся в пограничную, – проводим долгие часы и, наконец, на третий день утром достигаем Ростова. Отсюда поезд уходит в Екатеринодар лишь вечером, а потому едем в город.
Богатый торговый приморский город уже испытал множество злоключений и носит их ясные следы. Однако гостиницы переполнены, и нам лишь с трудом удается заполучить номер, почти лишенный меблировки в, вероятно, еще недавно, судя по размерам, первоклассной гостинице, ныне грязной и запущенной. Старые многолетние привычки к чистоте и роскоши еще не изжиты, и вся обстановка режет глаз и действует на нервы.
Весь город имеет какой-то не только непривлекательный, но и сонный, мертвенный вид. На всем лежит печать уныния и заброшенности. Жизнь очевидно замерла, и темп ее совершенно не соответствует широким улицам и окаймляющим их многоэтажным домам. Без сожаления покидаем к вечеру город и заблаговременно забираемся на вокзал – не в пример Киевскому огромный и роскошный. Здесь жизнь кипит вовсю. Пассажирская толпа производит впечатление людей, спасающихся от землетрясения. Большинство, очевидно, люди, сорванные с многолетних якорей и направляющиеся куда глаза глядят, без определенного назначения и цели: то спугнутые с насиженных мест беженцы из коммунистического рая.
* * *
В назначенный час мы были вновь во дворце у атамана, который нас принял если не холодно, то сдержанно. Лично мы с ним до тех пор не были знакомы, и сдержанность его была вполне понятна.
Ознакомившись с целью нашего посещения и молча, но внимательно выслушав высказанные нами соображения, он весьма немногословно сказал, что вполне признает необходимость тесного единения между тремя создавщимися на юге России государственными новообразованиями и с своей стороны давно к этому стремится. Упомянул он про сыплющиеся на него нападки за его сношения с германцами, что не мешает, подчеркнул он, Добровольческой армии принимать от него оружие и боевые припасы, которые он получает от тех же немцев.
«Мне предоставляют, – сказал Краснов, – мыть это оружие в водах тихого Дона и затем настойчиво требуют его чуть что не целостной передачи в распоряжение Добровольческой армии, не переставая при этом меня же осуждать за мои будто бы германофильские чувства».
Беседа с донским атаманом произвела на нас наилучшее впечатление. Мы видели перед собой государственно мыслящего человека, преследующего лишь одну цель – восстановление развалившегося государства – и пользующегося для достижения этой цели всеми доступными ему средствами, не поддаваясь никаким посторонним чувствам и вполне сознавая, что без некоторых искупительных жертв русский народ не в состоянии возродить свое государственное бытие.
Прямо от генерала Краснова проехали мы на поезд, где получили новое доказательство авторитетности атаманской власти. На вокзале нас встретил какой-то железнодорожный чин и тотчас провел в предоставленное нам отделение вагона. Это весьма мелкое обстоятельство нас тем более поразило, что в Екатеринодаре произошло приблизительно обратное. Несмотря на сделанное генералом Драгомировым распоряжение о предоставлении нам отдельного купе, мы такового не только не получили, но вообще лишь с трудом заручились местом в переполненном нахлынувшей на него публикой поезде, идущем в Ростов.
* * *
Наш обратный путь в Киев ничем не был отмечен. Ехали мы на этот раз через Харьков, переименованный в Харькив, о чем гласила огромная вывеска, заменившая старые вокзальные надписи. В Харькове, где мы провели целый день, так же как и в Киеве, вся украинизация сводилась к перемене некоторых публичных надписей. Ни единого звука на украинском языке мы здесь не слышали.
В Киеве, куда мы прибыли уже после получения там известий как о заключении перемирия, положившего конец мировой войне, так и о бегстве отрекшегося от престола германского императора, мы нашли большую перемену. Утративший германскую опору гетман поспешил изменить свое отношение к России. Исключив из состава своего правительства все бывшие в нем украинские элементы, он объявил, что почитает Украину за неделимую часть России, но это лишь ускорило его падение, ибо окончательно оттолкнуло от него искренних украинофилов, которых все же было некоторое, довольно влиятельное в крае, количество. В Белой Церкви тотчас объявились повстанческие недурно вооруженные банды, которые возглавлял Петлюра.
Образованные бывшим определенно украинофильским министром путей сообщения железнодорожные батальоны также немедленно проявили свои украинско-большевистские чувства и перестали подчиняться гетманской власти, а никогда не верившее в искренность гетмана, заполнявшее Киев русское офицерство, составившее добровольческие отряды для защиты Киева, лишь неохотно шло на жертвы для поддержания чуждой ему власти.
Трудное положение Скоропадского внезапно осложнилось еще одним инцидентом. Представитель генерала Деникина в Киеве генерал Ламповский [173] издал ни на чем не основанный приказ, предлагавший русскому офицерству, образовавшему в Киеве добровольческие отряды, провозгласить себя частью Добровольческой армии и подчиняться лишь исходящим от нее приказам.
Одновременно проявилось и разложение германских бывших в Киеве войск и вскоре приняло явно революционный характер. Образовались солдатские советы в воинских частях, которые и стали во главе командования. Офицерские собрания были упразднены, и офицеры принуждены кормиться из общего солдатского котла и нести караульную службу наравне с нижними чинами, чему они поспешили безропотно подчиниться. Как говорили тогда в Киеве, «свернули они свои одеялки и поплелись в разные, разбросанные по городу караульные помещения».
Несмотря на то что разложение германских войск оставляло Киев в почти беззащитном положении от петлюровских банд, все же оно вызвало в русских кругах нескрываемое удовольствие. «Что, мол, и вы, пруссаки, столь гордые железной дисциплиной ваших войск, попались; поделом вам, усердно насаждавшим у нас большевизм». Надо, однако, признать, что разложение германских войск носило иной характер, чем у нас. Не только не сопровождалось убийством офицеров, но мало отразилось на самой дисциплине; фактически все свелось к замене власти офицеров властью выбранных солдатами из своей среды комитетов, в состав которых вошло много интеллигентов. Комитеты эти строго наблюдали за сохранением порядка в воинских частях, и это им в значительной степени удавалось.
Вот когда ярко сказалась дисциплинированность германской нации и высота ее культурного уровня, выявилась и основная причина бесчинств, творимых захваченными большевизмом русскими народными массами, – их беспросветное невежество.
Узнав о моем возвращении в Киев, председатель украинского Совета министров С.Н. Гербель попросил меня проехать к гетману для разъяснения ему, в связи с приказом, изданным Ламповским, отношения Добровольческой армии к Украине. Во дворце, занимаемом гетманом, я застал Гербеля и министра внутренних дел Кистяковского, и мы втроем вошли в кабинет правителя края. Скоропадского до тех пор я никогда в глаза не видел, а потому был до крайности поражен одной его тотчас обнаружившейся основной чертой – невероятной болтливостью. Он решительно не давал возможности своим собеседникам спокойно промолвить хотя бы несколько слов. Напрасно Гербель старался прервать поток его красноречия; дальше обращения «пане хетман», как он его величал, ему не удавалось сколько-нибудь продолжить свою речь.
Я определенно заявил, что никаких распоряжений генерал Деникин о распространении власти Добровольческой армии на находящееся в Киеве русское офицерство не отдавал и, по-видимому, не собирался отдавать. Меня попросили разъяснить это вызванному во дворец генералу Ламповскому, который и был после этого введен в кабинет, где мы находились.
Ламповский, которого я в жизни тоже никогда не видел, оказался весьма тихим и, как мне показалось, незначащим человеком. На мой вопрос, на чем он основывает изданный им приказ, к моему удивлению, он наивно ответил, что основал он его на появившемся в какой-то газете соответственном частном сведении. Столь невероятное объяснение меня взбесило и, при набравшем на этот раз воды в рот гетмане, я, не имея, разумеется, никакого на то права, резко и решительно указал генералу Ламповскому, насколько недопустим его образ действий, и предложил ему тотчас изданный им приказ отменить, на что он выразил полное согласие. Впрочем, весьма возможно, что согласие это было обусловлено тем, что ему уже было, вероятно, известно, сколь несочувственно отнеслись к его приказу сами офицеры, до которых он относился.
После ухода Ламповского к Скоропадскому немедленно вернулся его изобильный дар слова, и он, вновь не давая никому открыть рта и зараз захватывая в своей речи разнообразные сюжеты, занял нас столь же пространными, сколь туманными рассуждениями, где между прочим фигурировала и преданность России. «И вот всегда так. Извольте при этих условиях иметь с ним дело», – сказал мне Гербель, когда мы наконец вышли от гетмана, очевидно имея в виду затруднительность путно и спокойно о чем-либо с ним переговорить.
Делая на другой день моего приезда в совете национального объединения сообщение о результате нашей поездки в Екатеринодар и вынесенных нами впечатлениях, я узнал, что за время нашего отсутствия приезжал в Киев полковник Ильин, представитель нашего Красного Креста в Румынии, и привез приглашение имеющихся в Румынии дипломатических представителей держав согласия находящимся в Киеве русским общественным деятелям приехать в Яссы, где еще находилось румынское правительство, перебравшееся туда после захвата Бухареста германцами. Приглашались русские деятели для изложения положения дел в России и указания той помощи, которая необходима для освобождения ее от большевиков. Желали, по-видимому, эти дипломаты узнать и к чему сводятся пожелания русской общественности в отношении будущего государственного строя России, а посему хотели, чтобы в Яссы приехали представители всех имеющихся в России антибольшевистских политических течений. Мысль эта возникла по инициативе самого Ильина и была воспринята дипломатами Антанты еще до заключения перемирия, то есть когда исход войны еще окончательно не выяснился, но когда уже было ясно, что новый удар по Германии со стороны ее, по существу, беззащитного восточного фронта поставит ее на колени.
Находившиеся в Яссах представители держав согласия, фактически отрезанные от Запада и не находящиеся вовсе в курсе намерений своих правительств, вероятно, думали, что съехавшиеся в Киев русские политические деятели укажут им на наиболее осуществимые способы восстановления русского антигерманского фронта. Помощь России была здесь лишь предлогом или, вернее, способом вовлечь ее снова в мировую войну.
Совет национального объединения пошел навстречу полученному приглашению и, выбрав из своей среды в качестве делегатов несколько лиц, обратился к социалистическим кругам с предложением присоединить своих делегатов к намеченному румынскому паломничеству.
В совокупности делегаты должны были представить как бы весь русский антибольшевистский общественный фронт. В конечном результате делегацию составили: барон Меллер-Закомельский, в качестве ее председателя, и Кривошеий, Третьяков, Милюков, народный социалист A.A. Титов и социал-революционер Фундаминский. К ним по проезде делегации по пути в Яссы через Одессу присоединились еще представители какой-то местной организации, а именно А.И. Пильц, М.М. Федоров, Маргулиес и один из директоров банка Второва-Чемберс.
Выслушав мой доклад, совет национального объединения пожелал и меня послать в Яссы в целях осведомления делегации о положении Добровольческой армии и вооружил меня соответственным письменным полномочием. К тому же решению пришло и бюро парламентской группы относительно нас обоих, ездивших в Екатеринодар, то есть H.H. Шебеко и меня.
Вообще в Киеве придавали большое значение полученному приглашению и стремились туда очень многие, в особенности из тех, кто не стеснялся в средствах. Пожелали туда поехать и многие представители протофиса, заручившиеся полномочиями этого учреждения, как-то бывшие члены Государственной думы Н.В. Савич и видный киевский общественный деятель Демченко В.Н., председатель бюро съезда горнопромышленников юга России, бывший член Государственного совета Н.Ф. Дитмар и принимавший участие в качестве добровольца в мировой войне, недавно снявший военный мундир В.П. Рябушинский.
Вместе с названными лицами выехали мы из Киева в половине ноября в шикарном директорском вагоне, предоставленном правлением юго-западных железных дорог своему члену Демченко.
После еще незабытых условий переезда из Москвы в Киев и всех неудобств, испытанных при поездке в Екатеринодар, очутиться в роскошном салон-вагоне со своим старорежимным проводником, усердно угощавшим во время пути чаем и разнообразными, захваченными с собой тем же Демченко яствами, было и странно, и вдвойне приятно… Путешествие при таких условиях в обществе наших милых и интересных спутников было одним удовольствием. Даже доходившие до нас на станциях по пути слухи, что банды Петлюры двинулись на Киев, что они могут с часа на час прервать движение на киево-одесском участке и что мы рискуем попасть не в Яссы, а в лапы к Петлюре, нас как-то мало тревожили.
Сидя в ярко освещенном, удобном вагоне за чашкой чаю, приправленной разнообразными закусками, как-то в сознании не укладывалось, что мы живем в совершенно необычайных условиях, когда, не говоря про имущество, но и личная свобода, и самая жизнь каждого решительно ничем не обеспечена. Однако так оно в действительности было: перерыв пути на Одессу произошел именно в день нашего проезда, но не впереди, а позади нас. Мост у Фастова был взорван петлюровцами, почти тотчас после прохода нашего поезда, о чем мы узнали, только подъезжая к Одессе.
Из Одессы двинулись мы дальше в Яссы, куда, невзирая на незначительность расстояния, добрались только через сутки.
Удручающее впечатление произвело превращение Тирасполя, расположенного, как известно, в непосредственной близости от Одессы, в пограничный пункт. Присутствие здесь пограничных румынских властей, самодовольных и наглых, не смягчалось для нас, как это было в Орше по отношению к немцам, сознанием, что под их покровом мы находимся в безопасности от большевистского произвола.
Переезд через новую румынскую границу прошел не без задержки. Сначала не хотели нас, не снабженных никакими визами, вовсе пропускать, а потом воспротивились прицепке нашего вагона к румынскому поезду, но чрезвычайная энергия и умелая настойчивость Демченко взяли верх, и мы после нескольких часов пререканий покатили-таки дальше в своем вагоне, блестящий вид которого как бы напоминал о значении России и, вероятно, помог Демченко настоять на своем.
Яссы, известные русским людям преимущественно тем, что поблизости от них на большой дороге некогда скончался великолепный князь Тавриды, поразили нас, несмотря на господствовавшее в них оживление, своей грязью и ничтожеством захолустного городишка. Направились мы в здание русского консульства, причем были несколько удивлены, когда везший нас извозчик заговорил с нами на чистейшем русском языке, пока не вспомнили, что в Яссах, как, впрочем, и в Бухаресте, почти весь извозный промысел находится в руках русских скопцов, переселившихся в Румынию, вследствие испытываемых ими в России преследований. Любопытнее всего то, что эти скопцы, выселившиеся из России более ста лет тому назад, отнюдь не вымирают, а продолжают каким-то образом плодиться, сохраняя чисто русский облик и русские обычаи.
В консульство мы приехали во время происходившего там заседания созванного совещания, куда нас допустили, однако, отнюдь не сразу. Вышедший к нам Милюков настойчиво оспаривал наше право участвовать в «конференции». Исключение он делал только по отношению ко мне одному, предусмотрительно вооружившемуся формальным полномочием совета национального объединения. Однако после некоторых переговоров приняты были все, но без права решающего голоса (как будто число голосов могло иметь здесь какое-либо значение)!
Получив доступ в помещение, где заседало совещание, я с удивлением увидел, что нахожусь исключительно в русской среде; ни одного иностранного представителя здесь не было. Между тем мне представлялось, что мы приехали для переговоров с представителями держав согласия.
Вообще ничего более курьезного, жалкого и смешного так называемой ясской конференции, о которой потом в русской прессе говорилось как о чем-то значительном, представить себе нельзя. Происходила она в полуподвальном помещении здания русского консульства, обыкновенно служившем, как это нетрудно было определить по общей обстановке, складочным местом для старых архивов и поломанной мебели. Участвовали в ней фактически только лица, приехавшие из России; раза два, кажется, присутствовали, не принимая участия в суждениях, наш посланник в Румынии С.В. Поклевский-Козелл [174] и полковник Ильин. Состояли эти суждения в том, что вырабатывали какую-то общую, приемлемую для всех представленных общественных течений программу освобождения России.
Зачем этим людям понадобилось переехать для составления этой программы из Киева в подвал русского консульства в Яссах, понять никак нельзя было. Или такое соглашение осуществимо только при наличности иностранной палки?
Бесцельность производимой работы, думается, сознавалась всеми. Это не мешало, однако, тому, что пускали в ход все доступное каждому красноречие и спорили до потери голоса и изнеможения сил. Благодушно, как всегда, председательствовал барон Меллер. Особенное упорство в отстаивании своих положений проявляли Милюков и Фундаминский. Как сейчас, вижу этих двух, сидящих друг против друга, оппонентов, когда уже все остальные члены курьезного собрания встали со своих мест, упрямо продолжающих отстаивать какую-то, каждый свою, редакцию одного из пунктов устанавливаемой пресловутой программы, вскоре потонувшей в Лете, как сотни других им подобных.
Для меня подобные споры во все времена казались и дикими, и бесплодными. Долголетнее участие во всевозможных междуведомственных и международных совещаниях давно убедило меня, что принимаемые на них резолюции общего принципиального характера имеют значение даже для самих участников подобных совещаний только до момента их подписания.
Тотчас после этого даже подписавшие забывают самое их содержание и продолжают руководствоваться в практической работе своими личными взглядами и мнениями.
Не так смотрели и смотрят на подобные резолюции наши общественные деятели, в особенности левого лагеря. Для них выносимые ими решения составляли, если исключить террористическую деятельность, начало и конец всей их работы, хотя и для них решения эти являлись руководящими лишь в редких случаях.
Привычка работать в условиях, дающих возможность претворить слова в дела, заставляла меня смотреть на подобные ясскому общественные совещания, приводящие лишь к повисающим в воздухе отвлеченным решениям, как на бесплодное и бесцельное толчение воды. В сущности, все их значение – пропаганда и распространение определенных лозунгов, нередко приводящих к сознательной фальсификации общественного мнения.
Но о чем же спорили съехавшиеся в Яссах случайные представители русской общественности? Да решительно обо всем. Происходили столь типично русские бесконечные, расплывчатые споры, где не столько поочередно, сколько одновременно разрешались все вопросы, если не мироздания, то государственного строительства. Путая важное с ничтожным, останавливались на словах и препирались о запятых.
«Ох, трудно сговориться с социалистами», – как-то с убеждением заявил Милюков, очевидно не сознавая, что он сам проявлял едва ли не большее упорство, нежели его оппонент Фундаминский.
Спорили о помощи, которую должны дать союзники, спорили о том, может ли эта помощь выразиться присылкой румынских войск, причем Милюков резко против этого возражал, утверждая, что вооруженная помощь Румынии нам может стоить окончательного, отторжения уже захваченной ею Бессарабии, спорили о том, кто должен возглавлять русскую, борющуюся против большевизма и призванную воссоздать Россию национальную силу: социалисты стояли за еще существовавшую в то время, но лишенную всякой мощи Уфимскую Директорию; остальные высказывались за военное возглавление в лице вождя Добровольческой армии, причем некоторыми выдвигалось имя Великого Князя Николая Николаевича; спорили попутно и о многом другом, причем спорили к вящему изумлению представителей держав согласия целых десять дней.
Полковник Ильин, инициатор всей этой затеи, всячески убеждал ускорить вынесение общего решения, так как иностранные дипломаты ожидают их для сообщения своим правительствам. Тут же, однако, стало известным, что сообщение это и технически трудноисполнимо. Перегруженность единственной радиотелеграфной станции, соединяющей весь Восток с западными государствами, была столь велика, что телеграммы не передавались по нескольку недель.
Обстоятельство это побудило прийти к другому решению – к немедленной отправке особой делегации в западные политические центры, которая там и отстаивала бы положения, принятые в Яссах. Делегация должна была представлять все цвета русской политической радуги, а посему выбрали Милюкова, Третьякова, Титова, Шебеко и меня. Делегация выехала из Одессы через Константинополь в Париж и Лондон.
Тем временем, наконец, сговорились на более или менее единогласно принятом обращении к союзникам, снабженном некоей компромиссной политической платформой участников собрания. Состоялось затем и то единственное собрание, в котором приняли участие посланники держав согласия и их военные агенты. Происходило это собрание уже не в подвале, а в зале консульства. Участвовали французский посланник Saint Aulaire, английский Barday, американский Wopisko; из военных агентов припоминаю очень живо относившегося к русскому вопросу англичанина генерала Ballard, однажды даже пришедшего на русское собрание, очевидно, чтобы посмотреть, чем могут заниматься люди, в течение стольких дней обсасывающие вопрос, на каких политических основаниях они согласны восстановить существование своей родины.
Примечательно, что представителя местного румынского правительства не было. Правительство это – знала кошка, чье мясо съела, – вообще старательно игнорировало присутствие в его местопребывании представителей русской общественности.
Однако и это собрание с иностранцами было фактически одностороннее. Говорили, по существу, лишь русские его участники. Барон Меллер прочел переведенную на французский язык принятую нами резолюцию, а затем, по поручению остальных, я постарался, описав положение России, охарактеризовать большевизм и его вождей и разъяснить ту мировую опасность, которую, по нашему общему искреннему убеждению, представляет большевизм и пропаганда его соблазнительного для массы лжеучения.
В ответ иностранные дипломаты сказали нам несколько милых слов, лишенных реального значения. Да и что могли бы они сказать, эти второстепенные представители западных держав, даже не знающие, каких взглядов придерживаются в данную минуту на русский вопрос их правительства.
Не без удовольствия покинули мы, наконец, грязные Яссы с их непривлекательными ресторанами, пропитанными чадом прогорелого масла. Один плач заливающихся скрипок, неизбежных в каждом из их оркестров, чего стоит. От Киева мы были уже окончательно отрезаны, а потому двинулись на житье в Одессу.
Опять проехали мы через предательски захваченную румынами Бессарабию, где все русские названия станций были замазаны и заменены румынскими и где мы от встреченных по пути на станциях русских жителей края наслышались о всех тех бесчинствах, которые творят румынские власти по отношению к русскому населению и ко всему, что свидетельствовало о недавней вековой принадлежности к России цветущей под ее главенством Бессарабии. А давно ли те же румынские власти униженно преклонялись перед Россией, моля о защите от наседавших на них австро-германцев?
Румынские войска с их женоподобными нарумяненными офицерами, так лихо удиравшими от вооруженного неприятеля, здесь, по отношению к безоружному мирному населению, проявляли все то высокомерие и жестокость, которые столь свойственны всем маленьким ничтожным и трусливым нациям. Потомки римских ссыльнопоселенцев, по-видимому, сохранили черты своих отдаленных предков.
Припоминаю рассказ о творимых румынами безобразиях встреченной нами на какой-то станции русской сельской учительницы, припоминаю владевшее ею глубокое возмущение. Весьма возможно, подумал я тогда, что вчера еще ты, голубушка, подобно многим русским интеллигентам, исповедовала марксистские лозунги, мечтала об интернационале и не сознавала значения национальной государственности; нужно было разрушение этой государственности, чтобы ты постигла ее глубокое и вполне реальное значение для всех членов нации.
Да, лучшей школой патриотизма служит испытание иноземной власти, иноземного насилия.
Но вот и Одесса. Находящаяся на Приморском бульваре «Лондонская» гостиница – центр общественной жизни города – кишит народом. Застали здесь некоторых киевских знакомых, вырвавшихся из Киева окружным путем до полного прекращения сообщений с югом. Как все бежавшие от опасности, будь она мнимая или действительная, они рисуют положение Киева в самых черных красках. Рассказы их, конечно, не содействуют нашему – H.H. Шебеко и моему – настроению. Там взаперти остались наши семьи.
Положение в самой Одессе далеко не устойчивое. Петлюровские отряды большевистского настроения находятся в непосредственной близости от города, до такой степени, что по ночам ожидают их нападения на железнодорожную станцию, где, однако, мы продолжаем жить все в том же предоставленном нам вагоне за отсутствием свободных помещений в городе. Не внушает доверия и многочисленное, изобилующее преступными элементами портовое население города, сдерживаемое едва ли не исключительно присутствием двух прибывших в порт французских миноносок.
Центром общественного внимания в Одессе является облеченный французским правительством консульским званием некий Эно, бывший до тех пор не то учителем, не то гувернером в каком-то русском доме. Все ждут от него спасения, решив, неизвестно почему, что он обладает какими то особыми полномочиями и может немедленно привести в Россию чуть ли не всю французскую армию. Держит он себя с соответственной важностью, а тем временем его жена – русская еврейка – обделывает какие-то темные гешефты.
Кто фактический хозяин города, не совсем понятно. Юридически действует гетманская власть, но проявлений, хотя бы внешних, украинизации нет никаких. Облечен гетманом какими-то полномочиями генерал Раух, [175] но никаких средств для осуществления своих полномочий он не имеет, а потому ограничивается ухаживанием за тем же Эно. Последний довольно легко поддается его настояниям обратиться с воззванием к населению Украины, в котором заявить, что вот-де завтра прибудут на юг России войска союзников и обеспечат в ней порядок. Уговаривает, кроме того, Раух этого самого Эно обратиться и к находящимся в Киеве германским властям, и тот послушно посылает им грозную телеграмму, требуя от них защиты Киева от петлюровцев и грозя в противном случае всеми карами неба и союзников.
Между тем получаемые из Киева сведения – телеграфная связь с ним по прямому проводу сохранилась – становятся все безнадежнее. Германские войска, руководимые забравшими командование солдатскими советами, заняли нейтральное положение, будто бы получив за это от Петлюры 80 миллионов украинских рублей. Гетманские войска, в том числе и его гвардия, на которую Скоропадский возлагал особые надежды, понемногу переходят по частям на сторону петлюровцев. Надежда на своевременное прибытие союзников падает все ниже. Добровольческие офицерские дружины одни сдерживают напор мятежников, но они для защиты всех подступов к городу явно недостаточны.
* * *
Бухарест оказался по каким-то непонятным причинам переполнен, а сами румыны были, по-видимому, озабочены лишь одним – создать пребывание у них сколь можно более неприятным, причем, разумеется, объектом наибольших придирок и неприятностей были мы, русские. Русских они не только не впускали без специальных виз, но даже не выпускали без особых разрешений. Одновременно лишь с величайшим трудом добивалась наша военная миссия в Бухаресте, возглавленная бывшим главнокомандующим нашим Юго-Западным фронтом генералом Щербачевым, [176] отпуска в ее распоряжение для отправки в Добровольческую армию хотя бы малой части того огромного военного имущества, которое принадлежало этому фронту и было целиком захвачено румынским правительством. Уступали румыны часть этого имущества лишь под воздействием представителей Франции, которые в этом отношении нам деятельно помогали. Но недостаточно было вырвать у румын часть нам же принадлежащего оружия, медикаментов и т. д., надо было еще добыть вагоны для его доставки в ближайший черноморский порт, откуда он направлялся морем в Новороссийск, и тут вновь приходилось преодолевать миллион сознательно чинимых препятствий.
Еще по пути в Бухарест циркулировали в нашем поезде зловещие слухи, что Одесса уже эвакуирована, что те чернокожие французские войска и греческие части, которые наконец туда были присланы, уже отозваны и Одесса во власти большевиков.
Прибыв в Бухарест, я еще на станции от случайно там встреченного мною нашего посланника узнал, что сведения эти неверны, и, разумеется, обрадовался. Увы, радость моя была кратковременная. На другой же день из весьма достоверного источника я узнал, что французское правительство решило эвакуировать Одессу в ближайший срок, что несомненно обусловит захват этого города большевиками. Сведение это мне было передано в столь категорической форме, что если бы не то, что в Одессе находилась моя семья (так, по крайней мире, я думал, на деле она была в Ялте), которую я надеялся вывезти из превратившейся в застенок cara paln'a, я бы туда вовсе не поехал. При данных условиях сведение это лишь побудило меня ускорить мой отъезд туда, что мне наконец и удалось.
В отвратительном вагоне, окна коего были сплошь разбиты, двигаясь черепашьим шагом, добрался я до Галаца. Сообщение с Одессой здесь поддерживал крошечный и прескверный русскии пароходишко, носящий имя какого-то адмирала, – плоскодонка, снабженная фальшивым килем. На этом суденышке, переполненном пассажирами, после бурного морского перехода, вывернувшего ехавшим все внутренности, добрался я приблизительно через сутки в Одессу.
В Одессе я застал приблизительно ту же картину, которую оставил там месяца за три перед тем, а именно ту же «Лондонскую» гостиницу, гудевшую с утра до позднего вечера бесчисленным множеством самых разнообразных обломков прежнего строя, стекшихся сюда из различных местностей России. По-прежнему здесь был центр общественной, определенно беженского характера жизни. Петроградский бомонд, гвардейское офицерство, множество южных землевладельцев, представители местного искони космополитического общества, былые крупные и средние чиновники; спекулянты, банкиры, дамы полусвета – все здесь перемешалось и даже слилось. Здесь многие проводили за яствами и питием долгие часы; здесь изобретались, передавались и распространялись весьма противоречивые, но преимущественно оптимистического свойства разнообразные слухи, среди которых внезапно раздавались панические ноты.
Эти две крайности были типичной чертой беженской жизни, беженской психологии. Между «гром победы раздавайся» и «ратуйте» переходных степеней не было. В общем же жилось весело и беспечно. Деньги, казалось, утратили всякую ценность. В местном клубе, воспринявшем в свою среду многочисленных беженцев из столиц, оживление царствовало с утра. Группа гурманов затеяла устройство особо тонких гастрономических обедов, оплачиваемых какой-то фантастической суммой. Шла безумная игра, даже принимая в расчет обесценение денежных знаков: проигрывались в одну ночь десятки тысяч украинских, да и сохранивших еще ценность романовских денег. Появились, разумеется, игорные и иные притоны, учрежденные и состоявшие в заведовании людей с совершенно иным и, казалось бы, не соответствующим этому промыслу прошлым. На ролях крупье видны были офицеры, украшенные боевыми знаками отличия, на ролях соблазнительниц еще вчера безукоризненные женщины. Нищета разоренных, еще столь недавно состоятельных, а не то и богатых людей уже явственно проступала. На улице встречались знакомые, которым «Лондонская» и ей подобные гостиницы уже были недоступны: они ютились чуть не по постоялым дворам и по снимаемым в частных квартирах отдельным комнатам.
Новым являлись в Одессе спекуляция и иноземные войска. Спекуляцией занимались в той или иной форме решительно все, кто только мог. Спекулировали на иностранной валюте, спекулировали товарами, в том числе и продовольственными, едва ли не в особенности сахаром, взятым на учет, но все же каким-то таинственным путем исчезавшим и вывозимым.
Что касается иноземных войск, то они отличались грубостью, разнузданностью и полным нежеланием сражаться. Чернокожие хари разгуливали по Приморскому бульвару и выглядывали из всех окон бывшего дворца командующего войсками округа, который они сразу привели в совершенно безобразный вид. Убранство этого дома, некогда принадлежавшего фаворитке Александра Марии Антоновне Нарышкиной и купленного впоследствии известным поставщиком нашей армии в Севастопольскую кампанию Волошиным, от которого он перешел, по предъявленным к нему искам, в казну, отличалось редким вкусом и богатством. Убранство это, сильно попорченное соединенными усилиями различных перебывавших уже в Одессе властей, было окончательно испакощено чернокожими, присланными Францией избавить Россию от белых варваров. «Ну и избавители», – говорили одесситы, шарахаясь при встрече с ними в сторону.
Русская власть в Одессе за мое отсутствие дважды переменилась. Первоначально, скоро после нашего отъезда за границу, захватили Одессу петлюровцы, но продержались они недолго. Появились добровольцы и, опираясь на прибывшие французские военные суда, петлюровцев выгнали, но сами завести порядок не сумели. Во главе добровольцев был поставлен генерал колчаковского производства Гришин-Алмазов, [177] незадолго перед тем прибывший из Сибири. Обладая несомненной энергией и некоторыми организационными способностями, он был авантюрист в душе и, к сожалению, отличался необузданными страстями. Этим страстям, попав в главенствующее положение в Одессе, он дал полную волю. Предался он совершенно недопустимым оргиям и тем утратил всякое обаяние, как в городе, так и перед французским командованием прибывших в Одессу союзных войск. Другой представитель Добровольческой армии, назначенный начальником тыла и снабжения (фамилии не припомню), держался лично вполне безупречно, но не обладал должной энергией и вовсе не был на высоте порученного ему дела.
Перебравшийся из Киева в Одессу совет государственного национального объединения, сговорившись предварительно с французским командованием, причем инициатива шла, по-видимому, от последнего, решил сменить командование русскими войсками и областью и, опираясь на французов, предложил Гришину-Алмазову и начальнику тыла выехать из Одессы, сдав командование генералу A.B. Шварцу [178] – славному защитнику Ивангородской крепости. Смена эта отнюдь не должна была обозначить разрыва с Добровольческой армией и обусловливалась исключительно непригодностью назначенных ею в Одессу начальствующих лиц. Предварительный сговор с Добровольческой армией не представлялся возможным за дальностью расстояния и необходимостью принять решение по этому делу незамедлительно. Дабы разъяснить причины этой спешки и сгладить могущие произойти по этому поводу трения с Добровольческой армией, названный совет командировал в штаб армии своего председателя барона Меллера и одного из своих членов Н.В. Савича.
Командование Добровольческой армией признало тем не менее произведенную смену за открытый бунт и недопустимое умаление ее авторитета. Не только не пожелало оно санкционировать назначение генерала Шварца, но возгорелось открытой ненавистью к нему, принявшей впоследствии, после эвакуации Одессы, совершенно недопустимые формы. Управление Добровольческой армией не остановилось даже перед возведением на генерала Шварца совершенно необоснованных обвинений и даже обратилось к константинопольским английским властям с просьбой выслать «именующего себя командующим войсками, эвакуированными из Одессы», генерала Шварца из Константинополя, предварительно отобрав от него будто бы вывезенные им из Одессы огромные казенные суммы. Между тем суммы эти – в общем незначительные – несколько миллионов украинских рублей и очень незначительное количество иностранной валюты, преимущественно австрийской, к тому же в негодных мелких купюрах – расходовались не генералом Шварцем, а особой коллегией, по ордерам министра финансов той же Добровольческой армии М.В. Бернацкого, [179] случайно находившегося в Одессе в момент ее эвакуации и выехавшего вместе с штабом одесских войск в Константинополь.
Эта, скажу не обинуясь, позорная страница политической деятельности Добровольческой армии мне в точности известна, так как я был включен в тот совет, который ведал делами одесской армии после ее эвакуации из Одессы, и посему был в курсе всей возбужденной Добровольческой армией по поводу генерала Шварца перепиской. Вызвала она во мне глубокое возмущение.
Обращение к иностранной державе с ничем не обоснованным и, следовательно, по существу, клеветническим обвинением доблестного боевого русского генерала и стремление иноземными руками развенчать и даже покарать начальника значительных русских боевых сил ради удовлетворения мелкого личного самолюбия было действием и неполитичным, и глубоко антипатриотическим. Да к тому же и бесцельным, ибо никаких реальных результатов дать не могло. Французское командование в Константинополе, на распоряжение которого английское командование передало полученную им из Добровольческой армии просьбу о насильственном лишении генерала Шварца власти над вывезенными из Одессы офицерскими кадрами и об его личной высылке из пределов нахождения этих кадров, переслало эту просьбу генералу Шварцу, прося его дать по ее поводу нужные объяснения.
Подавив ту личную обиду, которую он не мог не чувствовать, и думая лишь об одном, о соблюдении чести и достоинства начальников русской армии, Шварц во всем этом прискорбнейшем инциденте выказал исключительное благородство и большой политический такт. Он воздержался от всякой квалификации предъявленного ему клеветнического обвинения и каких-либо ответных обвинений, а ограничился указанием, что отношение, ему пересланное, результат, очевидно, недоразумения, происшедшего вследствие удаленности и разобщенности Одессы с центром управления русской армии, придавшим веру дошедшим до него слухам, неизбежно возникающим при наличности тех условий, которые существовали в Одессе в момент ее эвакуации.
Этим фактически весь инцидент и ограничился, что не помешало, однако, управлению Добровольческой армии, получившему по всему этому делу подробное сообщение от своего же министра финансов М.В. Бернацкого, продолжать всемерно преследовать генерала Шварца и даже циркулярно известить всех дипломатических представителей старой русской государственности за границей о невыдаче Шварцу никаких удостоверений, необходимых для свободного передвижения, то есть для получения иностранных виз.
Что до Добровольческой армии дошли слухи, что Шварц вывез из Одессы значительные суммы, и притом в валюте, – несомненно. Происхождение этих слухов следующее. В Одессе за несколько времени до эвакуации была затеяна, как всегда, по существу, безрезультатная борьба со спекулирующими иностранной валютой, что вело к вящему обесценению местных бумажных денег. В спекуляции были обвинены несколько местных банкиров, причем сами они были арестованы, а хранившиеся в их сейфах принадлежавшие им суммы в иностранной валюте секвестрованы. Суммы эти при выезде из Одессы были перевезены на пароход, на котором выезжал генерал Шварц со своим штабом. На пути к Константинополю эти же суммы были при непосредственном участии Бернацкого, его товарища Курилло и заведующего контрольной частью Ильяшенко-Синяговского пересчитаны, запечатаны и сложены в несгораемое помещение парохода, к которому приставлен офицерский караул. Оказалось этих сумм немного более 800 тысяч франков золотом.
Наличность на пароходе сумм в золотой валюте, конечно, скоро стала известна всем находившимся на нем, число коих превышало 1200 человек, причем размер этих сумм во время морского перехода в представлении едущих все увеличивался. Говорили сначала о нескольких миллионах, затем уже о десятках миллионов и, наконец, о многих сотнях. Слухи эти, к сожалению, разожгли аппетиты некоторой части едущих, и появилась даже кучка негодяев, агитировавших за завладение этими суммами едущим офицерством и их разделе между собой. Дошло до того, что написали соответствующее воззвание и расклеили по трюмам, где ютилась превратившаяся в беженцев офицерская масса. Дело грозило принять самый нежелательный оборот. Удержать дисциплину среди физически исстрадавшейся и, увы, нравственно расшатанной массы было нелегко. Соблазн был несомненно велик. Усиливался он еще тем, что на том же пароходе ехали некоторые одесские банкиры, везшие, по слухам, тоже большие ценности, принадлежащие их банкам. Зашла речь и об их отобрании на том основании, что ценности эти принадлежат не самим банкирам, а клиентам их банков; банкиры суммы эти несомненно присвоят себе лично, а посему справедливее их тоже распределить. Рассуждение довольно специфическое, хотя, насколько основная посылка была неверна, трудно сказать: привлечь к суду банкиров, вывезших клиентские суммы, ввиду того, что банки их несомненно большевиками были впоследствии ограблены, не представится никакой возможности. Обстоятельство это не давало, разумеется, права третьим лицам присвоить находившиеся у банкиров суммы себе.
Вовремя принятыми мерами и, конечно, прежде всего благодаря безусловной порядочности преобладающего большинства сосредоточенного на судне офицерства агитация эта не имела успеха и не привела ни к каким последствиям.
По высадке на остров Халки, куда французские власти законопатили прибывшие из Одессы воинские кадры, секвестрованные суммы были вновь пересчитаны и сданы Бернацким в Оттоманский банк на хранение на совокупное имя русского представителя в Константинополе и командующего Добровольческой армией, впредь до разбора дела о степени ответственности собственников этих сумм. Последние тоже прибыли в Константинополь и всячески добивались возврата им их денег.
Со своей стороны я признавал, произведенную секвестрацию незаконной и полагал, что секвестрованные суммы должны быть попросту возвращены их собственникам. Состоявший при Шварце совет, от которого, как я уже упоминал, зависело разрешение всех вопросов, связанных с денежными ассигнованиями и вообще общего значения, высказался за предоставление разрешения этого вопроса суду, не указав, однако, какому. Что стало впоследствии с этими суммами, поступили ли они в кассу Добровольческой армии или были возвращены их собственникам, я точно не знаю, слышал же я, что в конечном результате собственники добились их возвращения.
Как бы то ни было, в течение некоторого времени управление Добровольческой армией могло добросовестно заблуждаться насчет присвоения генералом Шварцем каких-то несчастных капиталов, но заблуждение это могло продолжаться только до получения разъяснения его же агента – Бернацкого, а посему все дальнейшие предпринимавшиеся против Шварца шаги были столь же недобросовестны, как в высшей степени бестактны.
Возвращусь, однако, к Одессе и тому положению, в котором я ее застал. Как я уже сказал, она веселилась и… спекулировала, веселилась настолько, что на ум приходили стихи:
Пусть тешится младое племя!
Внезапно средь его утех
Прогрянет черни рев голодный
И пред анафемой народной
Утихнет наглый этот смех
На мое заявление, что по полученным мною определенным сведениям Одесса будет на днях французами эвакуирована, отвечали тем же смехом.
«Как может это быть, – говорили одесситы, как постоянные, так и заброшенные туда ходом событий, – когда всего за два дня до вашего приезда приезжали в Одессу из Константинополя генерал Franchet d'Esprey, а из Бухареста командующий французскими войсками в Румынии генерал Berthelot и торжественно заявили, что количество союзных войск, находящихся в России, будет в ближайшее время значительно увеличено».
Уверен в этом был и генерал Шварц, переживавший в эти дни тяжелое время. Большевики напирали со всех сторон, число русских воинских элементов было незначительно – всего лишь несколько тысяч, преимущественно офицеров, а союзные войска оказывали лишь слабое сопротивление наступающему противнику. Тем не менее их присутствие имело решающее в психологическом отношении значение. Внушали противнику спасительный страх и стоявшие на рейде военные суда, не помню, какие именно, но, однако, достаточно большие, чтобы принять на борт все имевшиеся в районе Одессы союзные войска. Шварц был лихорадочно занят формированием при помощи имеющихся кадров новых воинских частей, пополняемых путем набора, и дело это продвигалось весьма успешно: еще две-три недели – и русские воинские части, защищавшие подступы к Одессе, представили бы мощную силу. Командующий союзными войсками – французскими сингалезцами и греческими батальонами, – совокупная численность коих, если не ошибаюсь, достигала 10-12 тысяч, генерал Ансельм был в лучших отношениях с Шварцем и оказывал ему полное содействие в трудном деле.
Словом, все предвещало скорое наступление лучших времен и оправдывало оптимизм одесситов. Но не прошло и нескольких дней после моего возвращения, как среди этого кажущегося благополучия разнесся грозный слух, что по распоряжению из Парижа союзные войска на днях покинут Одессу. Слух этот разнесся с быстротой молнии и тотчас вызвал всеобщую панику. Напрасно, надеясь сдержать панику и произвести неизбежную при этих условиях эвакуацию сколь возможно спокойнее и планомернее, генерал Шварц утверждал в своих объявлениях, что положение Одессы безопасное.
Началось снятие союзных войск с занимавшихся ими позиций и стягивание их в Одессу до последующей посадки на суда, а также их постепенный уход по береговой полосе в Румынию. Сам генерал Шварц был вынужден скоро перенести свое и своего штаба местопребывание из центра города на Приморский бульвар, где реквизирована была с этой целью все та же «Лондонская» гостиница, постояльцы которой вынуждены были переселиться в другие, уже переполненные гостиницы города. Переезд этот был вызван необходимостью сосредоточить всю оборону города поблизости к порту, под защиту стоящих на рейде союзных военных судов. (Произведенная по распоряжению из Парижа спешная эвакуация из Одессы французских и греческих войск была, очевидно, вызвана происшедшим незадолго перед тем возмущением части команды на двух французских броненосцах, стоявших на Севастопольском рейде. Возмущение это испугало французское правительство до крайности, оно убедилось в заразительности большевизма и решило увести свои войска подальше от источника заразы. Винить в этом Францию не приходится. Каждое государство обязано прежде всего охранять свои жизненные интересы. - В. Г.).
Безобразным был не самый факт эвакуации, а та молниеносная спешность, с которой она была произведена, вследствие чего русские войска лишены были всякой возможности организовать самостоятельную защиту Одессы. Это вполне сознавали местные французские военачальники Ансельм и далее Franchet d'Esprey и в разговоре с русскими проявляли по этому поводу большое смущение.
Тем временем буржуазия бросилась за получением виз на проезд в Западную Европу. Выдавались эти визы штабом генерала Ансельма, и фактически ведал этим делом начальник этого штаба полковник Fredemberg, уже успевший создать себе весьма незавидную репутацию. Вызвал он к себе своей заносчивостью и грубостью общую ненависть и почитался за отъявленного взяточника. Действительно, без взятки, как утверждали в Одессе, невозможно было получить разрешение на все, что находилось в зависимости от согласия французского командования. Что за выдачу виз Fredemberg взимал весьма крупную мзду, подлежит сомнению. Мне лично известен случай оплаты визы для двух лиц 80 тысячами романовских рублей, что составляло в то время примерно 12 тысяч франков. Любопытнее всего, что эти визы оказались совершенно недействительными. Французские власти в Константинополе их не признавали, причем сами их выдавали лишь по получении для каждого отдельного лица разрешения из Парижа – яркий пример французской мертвящей централизации и недоверия к своим местным даже столь крупным, как их верховные комиссары, агентам. (Слухи о взяточничестве Fredemberg'a дошли и до французского правительства и, вероятно, в связи с тем, что сей грабитель тотчас по прибытии в Константинополь вышел в отставку и открыл там же, очевидно на награбленные деньги, банк, признало нужным произвести по этому поводу расследование, которое за отсутствием жалобщиков и улик не привело ни к каким результатам. Производивший расследование граф Шевельи, которому французское правительство благодаря его русским связям давало различные поручения, касавшиеся России, мне даже говорил, что из произведенного им расследования у него получилось убеждение, что все наветы на Fredemberg'a ни на чем не основаны, с чем я, однако, позволил себе не согласиться. - В. Г.).
Одновременно с переездом Шварца в «Лондонскую» гостиницу началась там же запись и выдача свидетельств для посадки на те или иные имеющиеся в порту суда, причем некоторые из них должны были идти в Крым-Ялту-Севастополь, не подозревая, что там тоже идет эвакуация, производившаяся англичанами, некоторые – в Новороссийск и, наконец, некоторые – в Константинополь. Офицерству, распределение коего происходило особым порядком, предоставлено было право выбора направления, причем отчасти благодаря возникшим пререканиям между одесским командованием и Добровольческой армией, отчасти вследствие огромной нравственной усталости большинство предпочло временно выйти из игры и направиться в Константинополь, а многие лелеяли надежду перебраться оттуда на Дальний Восток и вступить в ряды армии Колчака. Ту же надежду питал и генерал Шварц.
Со дня на день «Лондонская» гостиница совершенно изменяла свою физиономию. Беспрерывной лентой направилась туда буржуазия и вообще гражданское население, желавшее покинуть Одессу. Для многих непричастных ни к какой политике и притом не имеющих наличных средств для существования в чужой стране такое решение было подсказано охватившей город стихийной паникой и бросило их в пучину таких лишений и страданий, которые они едва ли бы испытали в большей степени, оставаясь в Одессе.
В «Лондонскую» гостиницу приходили и толкались в обширном ее вестибюле самые разнообразные лица, о присутствии которых в Одессе я, по крайней мере, и не подозревал. Среди них было множество петроградцев, уже настолько лишенных средств существования, что это сказывалось не только на их платье и обуви, но даже и на их лицах. Появились тут внезапно и какие-то наряженные в театральные костюмы петлюровские офицеры. Оказалось, что они пришли неизвестно какими путями с предложением войти в союз с где-то еще имеющимися отрядами Петлюры для совместной охраны Одессы от большевиков.
Совету национального объединения, в состав которого я входил, была обещана французским командованием выдача виз во Францию для всех его членов. Однако отправившийся с этой целью в соответствующее бюро один из наших сочленов даже не мог туда проникнуть вследствие той толпы, которая его осаждала. Тогда я решил отправиться непосредственно в самый штаб генерала Ансельма, помещавшийся тут же на Приморском бульваре, в реквизированной им «Петербургской» гостинице, но там я застал полный хаос. Проникнуть туда было весьма легко, но найти там соответствующее лицо весьма затруднительно. Блуждая по комнатам, занятым штабом, впрочем в большинстве пустынным, я наконец набрел на какого-то русского офицера, являвшегося офицером связи.
Во время моего разговора с ним в комнату вошел какой-то маленький коренастый французский офицер совершенно не французского типа и резко меня спросил, что мне надо, и на мое указание моего дела объяснил мне в грубой форме, что исполнять он этого не может. Не имея понятия, с кем я имею дело, и видя перед собой образчик французского грубого высокомерия (куда девалась былая politesse gauloise?), я не постеснялся ему в повышенном тоне указать на совершенную недопустимость подобного обращения, причем добавил несколько нелестных слов относительно всего управления, возглавляемого прославившимся в Одессе Фредембергом. В ответ на мой выпад французский офицер как-то сразу стушевался, пробормотал какие-то извинения и мигом исчез.
Присутствовавший при этом русский офицер после ухода француза обратился ко мне с возгласом: «Наконец-то нашелся кто-нибудь, чтобы осадить этого нахала. Давно бы так».
«Да кто это такой?»
«Как, вы не знали? Да это и есть самый полковник Fredemberg».
Ясно, что после этого инцидента я прекратил всякие хлопоты по получению виз, которые, впрочем, как я уже упомянул, решительно никакого значения не имели.
Недолго продолжалось пребывание Шварца в «Лондонской» гостинице – всего два дня. Еще утром в день посадки беженцев на суда возможно было ходить по прилегающим к Приморскому бульвару улицам, но магазины и банки уже спешно запирались, а к 6 часам дня уже почти весь город был в руках большевиков. Все же Приморский бульвар и спуск к порту, однако лишь через Сабанеев мост, был еще более или менее безопасен. Я лично был записан на транспорт «Шилка», направлявшийся в Крым, куда еще до возвращения моего в Одессу выехала моя семья, но по приходе моем на это судно узнал, что команда его забастовала и никуда двигаться не намерена (впоследствии ее наполовину уломала, наполовину принудила огромная скопившаяся на этом судне толпа, положение которой в противном случае было совершенно безвыходное).
Со своей стороны я решил скрепя сердце направиться на какое-либо судно, имеющее назначением Константинополь – таковых было четыре, – надеясь уже оттуда при помощи моих английских связей – в Лондоне мне дали новый открытый лист к английским военным властям – добраться до Ялты.
Раздумывая, как добраться до такого судна – о месте их нахождения я не имел понятия, – я заметил небольшую кучку народа, толпящуюся в какой-нибудь сотне сажен от меня на том же участке обширного Одесского порта, где я находился. Наудачу направился к ней и узнал, что это пассажиры, записанные на пароход «Caucase» и ожидающие парового баркаса, чтобы доставиться на него: «Кавказ» стоял на рейде неошвартованный.
Никаких удостоверений для перехода на «Кавказ» я не имел, но это отнюдь не помешало мне беспрепятственно сесть по его приходе на обслуживавший его баркас и подъехать на нем к названному судну. Само собой разумеется, что мог я все это проделать только благодаря тому, что в виде багажа у меня были лишь два ручных чемоданчика, представлявшие все оставшееся у меня имущество. Сундук с вещами пришлось бросить в Одессе.
«Кавказ» оказался огромным французским транспортом, перевозившим во время войны туземные войска с острова Мадагаскар во Францию. Переданный вновь в частную эксплуатацию, он, однако, еще сохранил устроенные на нем приспособления для массовой перевозки людей: обширные трюмы его были снабжены устроенными в несколько этажей нарами. На этом судне должен был отплыть генерал Шварц и его штаб; на нем же было посажено множество беженцев обоего пола и более тысячи офицеров.
Взойдя на борт «Кавказа», я застал на нем буквально столпотворение вавилонское. Не успевшие еще разместиться по трюмам стояли густой толпой на палубе, заваленной всевозможным багажом. Наступившая темнота и весьма слабое искусственное освещение парохода в высшей степени тормозили установление какого-либо порядка. В полумраке раздавался плач детей, которых было немалое количество, и… мычание животных: то были волы, тут же находившиеся на палубе, предназначенные для продовольствия едущих. По временам между сгрудившимися беженцами возникали перебранки и воздух оглашался крепкими словцами.
Странное зрелище представляла и кают-компания. Ярко освещенная, она была сплошь забита народом, среди коего я заметил высших духовных иерархов – митрополита Платона, архиепископа Кишиневского Анастасия и множество священников. Все они скромно поместились по стенкам, а посередине кают-компании – за столом – сидели и смачно что-то ели какие-то штатские люди экзотического типа. Оказалось, что это купцы, почти исключительно греки, приехавшие в Одессу из Константинополя с разнообразным товаром, надеясь его выгодно там сбыть. Попали они в Одессу как раз ко времени ее эвакуации, а посему на берег даже не были спущены. Это были все платные пассажиры 1-го класса, занявшие почти все пассажирские, расположенные вокруг кают-компаний, помещения и, конечно, не пожелавшие их уступить нахлынувшим беженцам, какого бы они звания ни были. Некоторым лицам все же в конечном результате удалось устроиться в каютах, остальным же, наиболее привилегированным, не пожелавшим поместиться в одном из трюмов, было предоставлено право сидеть в кают-компании, конечно, за исключением обеденных часов, когда места были заняты обедающими. Тут они просидели в течение десяти суток, ни разу не ложась, так как по прибытии в Константинополь нас на берег не спустили, а продержали в продолжительном карантине. Мне лично удалось, однако, устроиться. Войдя в частную сделку с заведующим хозяйством всего парохода – так называемым maitre d'armes, я за сравнительно умеренную плату получил в мое единоличное пользование его собственное просторное и уютное помещение.
Часам к 12 ночи прибыл на пароход и генерал Шварц, и мы были готовы к отплытию. В это время город уже был фактически беззащитен, и лишь несколько выпущенных по городу выстрелов со стоящего на рейде французского броненосца, по-видимому, удерживали вступивших в город большевиков приблизиться к порту, а посему приток на «Кавказ» новых беженцев из офицерского состава в течение некоторого времени все еще продолжался.
Ночь мы простояли, однако, на рейде и лишь после рассвета подняли якорь. Понемногу скрывались в утреннем тумане очертания красавицы русского юга – Одессы. Прошли мимо Малого и Большого фонтанов, столь мне знакомых с давних пор, и, наконец, потеряли берег из вида. С тяжелым сердцем следили мы за тем, как он постепенно исчезал из наших глаз, и несомненно те же мысли охватили всех наблюдавших за ним с «Кавказа»: что ждет впереди и когда уже назад в разрушенную, загрязненную, заплеванную, но все же бесконечно дорогую Родину? Да, когда же?
Я. Кефели[180]
С ГЕНЕРАЛОМ A.B. ШВАРЦЕМ В ОДЕССЕ
(осень 1918-го – весна 1919 года) [181]
Осенью 1919 года военный инженер генерал-лейтенант Алексей Владимирович Шварц, уезжая со своей женой из Константинополя во Францию, передал моей жене опечатанный сургучной печатью пакет бумаг.
«Вы живете более оседло, сохраните мои документы о событиях в Одессе, связанных с моим именем», – сказал он.
Жена хранила их в большом сундуке, где находились и мои бумаги об этих событиях. Когда мы переехали в 1926 году в Париж, перевезли и этот пакет в том же сундуке. В конце 1928 года мы вынуждены были оставить нашу квартиру (10, рю де ля Кавалери), а все крупные вещи сложили в домовом погребе. После кончины моей жены (17 апреля 1942 года) я обнаружил, что все было выкрадено из сундука. Пропали и все документы.
Это побудило меня написать воспоминания о событиях, происходивших в моем поле зрения в Одессе с осени 1918-го до весны 1919 года.
* * *
До Первой мировой войны Александра Ивановича Гучкова я знал только по газетам. Увидел его впервые незадолго до этой войны на складах Красного Креста под Петербургом. Представителям военного и морского ведомства (я был от морского) демонстрировались новые заготовки Красного Креста в присутствии Александра Ивановича. Мы были ему представлены, однако дело кончилось только безмолвными рукопожатиями.
На всех нас А.И. Гучков произвел самое лучшее впечатление: спокойный, самоуверенный, медленно цедящий слова, знающий себе цену, он, видимо, хорошо знал военно-санитарное дело и боевую обстановку, мне также хорошо известную по обороне Порт-Артура. Его черно-масленые глаза «факира» медленно останавливались на собеседнике и глубоко пронизывали человека.
Познакомился же я ближе с Гучковым в декабре 1916 года в Трапезунде, где в это время я был городским головою. В ту пору Гучков объезжал Кавказский фронт, ведя таинственные разговоры с высшим начальством.
Генерал Алексей Владимирович Шварц, начальник Трапезундского укрепленного района, по телефону поручил мне посетить бывшего председателя Государственной думы и сделать ему доклад о городских делах. Я не застал вечером Гучкова на квартире, а наутро поехал его провожать на пристань. Там были все начальствующие лица, во главе с генералом Шварцем. Генерал представил меня Гучкову, он задал мне несколько вопросов о городских делах.
После отъезда Гучкова по городу стали ходить слухи, что он подготовляет базу для предстоящих «перемен». Спросить прямо об этом своего генерала я не считал удобным, несмотря на наши дружеские и давние отношения. А главное – не хотел активно делать шага по этому пути.
Под новый, 1917-й год во дворце знатной турецкой фамилии Немли-заде, резиденции начальника укрепленного района, был большой прием. Было более сотни приглашенных, военных и гражданских властей края, местных нотаблей, многочисленного и разнообразного духовенства и консульских представителей. В многочисленных речах и веселых разговорах как будто чего-то ждали хорошего и значительного в наступающем году. Под шумок поговаривали и о миссии Гучкова.
Когда ужин окончился, стали курить и публика разбрелась по разным смежным залам дворца. В одной из гостиных я увидел, что генерал Шварц сидит один. Подойдя к нему, я присел и сказал:
«Желаю вам, Алексей Владимирович, в нынешнем году быть военным министром в кабинете Гучкова».
Он улыбнулся, но ничего не ответил. С моей стороны это было и искреннее пожелание. Я верил в его умение и пригодность, но в некоторой степени это была и проба на слухи о роли Гучкова при объезде им всех видных генералов на обоих фронтах.
Лакмусовая бумажка дала положительную реакцию. Я тотчас отошел. Не было сомнения, что смутные слухи о роли Александра Ивановича были верны. Это был визит буревестника и к нам в Трапезунд, сеющего ветер и для нас всех. Вскоре мы пожали февральские бури, а за ними восемь месяцев развала великой империи и оказались у пропасти рухнувших надежд.
Затем с Гучковым мне пришлось встретиться уже в Петрограде в ноябре 1917 года, после захвата большевиками Зимнего дворца.
Я возвратился с Кавказа в Петроград за неделю до большевистского переворота на старую службу в морском министерстве и бывал у генерала Шварца, занимавшего в то время должность начальника Главного технического управления. Жили Шварцы в казенной квартире на Садовой улице, около Невского проспекта.
В первые дни после переворота морское и военное министерства не перешли на сторону Ленина и жили своей изолированной жизнью вплоть до 16 ноября. По существу, уже никакой службы и быть не могло – развал достиг крайнего предела. На службе мы обсуждали текущие мрачные события и вопросы продовольствия.
В этот период как-то возвращался я из Адмиралтейства домой по Невскому проспекту. Навстречу шел, возвращаясь с фронта, полк велосипедистов. Шел он еще наподобие строя, ведя свои велосипеды. Публика, заполнявшая тротуары, обменивалась фразами с солдатами и задавала им вопросы: «Вы за кого? Кто вы?» Солдаты отвечали, но ответы были неопределенные.
Только что полк прошел – послышалась откуда-то трескотня ружей, затем пулемета. Началась суета, но вскоре улеглась.
Я зашел к Шварцам. В этот день у них я видел и А.И. Гучкова. Он забежал на несколько минут и исчез, очевидно боясь преследования, ибо в это время его уже искали большевистские заправилы.
После ухода Гучкова Антонина Васильевна Шварц сказала мне, что они ищут, где бы мог Александр Иванович укрыться на насколько дней и переночевать в случае надобности. Так как я жил одиноко, семья моя оставалась в Тифлисе, то Антонина Васильевна спросила, не могу ли я и свою квартиру зачислить в число тех, где Александр Иванович мог бы скрываться в случае надобности. Я охотно согласился и приготовил у себя все необходимое. У нас не было швейцара, место было скромное – на Гулярной улице, против Народного Дома. Но до моего отъезда на Кавказ 16 ноября Гучков ко мне не зашел.
В следующий раз с Александром Ивановичем я встретился в Одессе, кажется, в декабре 1918 года. Гучков приехал в Одессу от генерала Деникина, который еще в то время не развернулся в мощную силу и был на Северном Кавказе. Гучков хотел видеть генерала A.B. Шварца.
В это время генерал Шварц, прибывший в Одессу из Киева при наступлении большевиков, за отсутствием свободных помещений в переполненном беженцами городе, поселился с женой на время в квартире моего отца, старшего газзана караимской кенассы, помещавшейся в доме караимского джемата. Там же жили и мы с женою и сыном с тех пор, как, возвращаясь с Кавказа в Петроград, застряли в Одессе вследствие целого ряда переворотов на Украине.
Свидание Гучкова со Шварцем произошло на квартире моего отца. Шварц просил, чтобы никто не знал об этом свидании. Поэтому моя мать всех приходивших к отцу по делу и всех гостей выпроваживала под разными предлогами. Совещание Шварца с Гучковым продолжалось несколько часов подряд; о чем они говорили – нам не было слышно.
Потом Гучков, Шварц с женой и мы все, а также мой отец, мать, братья и сестры вместе обедали. Все обратили внимание, что Гучков очень любил каленые орехи и, как заметил наш сын-мальчик, съел всю тарелку. За столом никаких разговоров о военных делах не было, но обед прошел очень весело.
По уходе Гучкова Шварц позвал меня к себе и рассказал о содержании своего разговора с Гучковым.
Гучков получил согласие генерала Деникина организовать десантную армию из военнопленных, находившихся в Германии и Австрии, для захвата Петрограда с моря и последующего молниеносного движения на Москву. В это время число русских пленных у противника исчислялось в три миллиона.
Гучков предложил Алексею Владимировичу пост командующего десантной армией. Предполагалось, что наступление будет вестись с трех пунктов: со стороны Прибалтики, где в это время уже действовал генерал Юденич, с севера, где формировалась какая-то армия, главный же удар должен был быть нанесен с моря, для чего и намечалась эта десантная армия.
Шварц дал согласие Гучкову и начал тайно формировать свой штаб и управление различных служб армии.
Начальником штаба был приглашен Генерального штаба генерал-майор Прохорович, [182] бывший начальником штаба у генерала Шварца в Ивангороде, а затем помощником военного министра на Украине.
Адмирал Хоменко, [183] который тоже находился в это время в Одессе, был приглашен Гучковым для командования десантным флотом.
Не помню всех начальников управлений армии, но помню, что начальником артиллерии был назначен какой-то виднейший русский генерал, начальником автомобильной части – военный инженер полковник Собин, начальником санитарной части генерал Шварц предложил быть мне. В число своих четырех адъютантов он взял и моего самого младшего брата Михаила, [184] саперного прапорщика.
Невольно возникает вопрос: почему Гучков, намечая на высший пост десантной армии достойного, остановил свой выбор на генерале Шварце?
Генерал A.B. Шварц получил широкую известность в эту войну блестящей защитой крепости Ивангород в качестве ее коменданта. С Гучковым же был знаком лично еще в мирное время, когда Шварц был профессором фортификации в Николаевской инженерной академии. В это время в армии проводились широкие реформы. Государственная дума принимала в них большое участие. Гучков был в числе первых среди членов Думы, интересовавшихся и действующих в этом направлении.
Профессор Шварц, портартурец, георгиевский кавалер и талантливый военный инженер; свою диссертацию он посвятил вопросу о новшествах в устройстве крепостей, на основании опыта Порт-Артура. Я хорошо помню его защиту в Инженерной академии, куда он пригласил и меня. Отзывы оппонентов были восторженные. Помню выступление старого севастопольца, полного генерала Рерберга, с трясущейся головою. Кроме того, Шварц принимал участие в военной литературе. Он писал в «Военном голосе», тогда умеренно-либеральной газете, был одним из четырех редакторов «Военной энциклопедии» Сытина и вообще был известен в широких военно-научных и передовых кругах. Помню, однажды Шварц пригласил меня пойти вместе с ним на политическое собрание в дом князя Горчакова, где было не менее ста человек приглашенных, среди которых выступали депутаты-славяне австрийского парламента. Блестящую речь на этом собрании произнес зять князя Горчакова – А.Н. Брянчанинов. Собрание, не называя никого по имени, в очень деликатных выражениях все же порицало деятельность правительства. Поэтому я туда больше не ходил, считая, что мне, как военнослужащему и как караиму, в политику соваться не следует.
Контакт же между Гучковым и Шварцем начался на почве деятельности Государственной думы.
Второй причиной и, возможно, главной, заставившей Гучкова остановиться на генерале Шварце, было то, что Шварц, хотя и случайно, был одним из основателей красной армии. В середине 1918 года он бежал от большевиков и прекрасно знал условия и обстановку их деятельности. Произошло это следующим образом.
Большевистский переворот застал генерала Шварца в должности начальника Главного технического управления. Когда немцы двинулись на Петроград, чтобы раздавить большевиков, Троцкий предложил генералу Шварцу организовать заново переставшую существовать русскую армию, так как не было надежды на красную армию, составленную из рабочих. Политические умеренные партии, тайно действовавшие еще в столицах при большевиках, узнав о сделанном Шварцу предложении, тотчас уведомили его, что они просят это предложение принять и со своей стороны окажут ему содействие.
Шварц предложение принял, поставив Троцкому некоторые условия в отношении дисциплины и офицерского состава. Троцкий согласился. Тогда Шварц обратился с воззванием к офицерам, приглашая их немедленно вступить в ряды войск для спасения родины от внешнего врага. Офицерство довольно широко откликнулось. Однако события мировой политики шли гигантскими шагами. Только были заложены первые камни для создания этой армии, политика Германии изменилась. Немцы остановили свое наступление на Петроград и вступили в переговоры о мире с большевиками.
Брест-Литовский мир сделал ненужными для большевистской власти услуги генерала Шварца по созданию армии, как и услуги адмирала Щастного, [185] ставшего во главе флота. Большевистская власть расстреляла Щастного. Очередь была за Шварцем. Он был вызван, по примеру Щастного, к Троцкому из Петрограда в Москву, но благодаря случайностям воспользовался украинскими документами, как уроженец Екатеринослава, и со своей женой, скромной Антониной Васильевной, с одним чемоданчиком тайно проскочил в Киев.
В это время я как раз находился в Киеве и жил в гостинице «Франция», где помещалось украинское морское министерство, руководимое адмиралом Максимовым, бывшим портар-турцем, нашим общим приятелем. Я был вызван из Одессы в Киев для составления устава о воинской повинности для предполагавшейся гетманской армии. В это время я был в должности санитарного инспектора корпуса морской обороны Черного моря. Во главе же этого корпуса стоял контр-адмирал Свиты Его Величества С.С. Фабрицкий. [186]
* * *
По плану, составленному генералом Шварцем вместе с начальником его штаба, предполагалось организовать десантную армию в 210 тысяч человек. Особенно должна была быть сильной автомобильная часть. Вооружение и снаряжение должны были дать союзники, на что, по словам Гучкова, было получено согласие маршала Фоша.
Десантный флот для перевозки армии и ее снаряжения должен был состоять из всех русских судов, разбросанных по портам Балтийского моря и Европы. Военный флот, прикрывающий десант, должна была дать Англия. Авиацию целиком с личным составом должны были дать англичане и французы. Одежду и экипировку – французы. Предполагалось, что на французскую форму мы наденем только русские погоны и кокарды. Всю подготовительную операцию: комплектование, формирование и обучение предполагалось проделать в два-три месяца на островах Эзель и Даго. Удар должен был быть направлен возможно ближе к Петрограду, с высадкой где-нибудь возле Ораниенбаума.
Политическая ситуация в местностях будущих действий этой армии представлялась командованию вполне удовлетворительной для успешности операций. Поэтому, после захвата Петрограда, предполагалось немедленно двинуться на Москву, чтобы захватить головку большевистской партии. Командование считало, что вся территория будущих действий является уже подготовленным тылом, так как население в большинстве поддержало бы наступающих. Легко можно было бы не только организовать снабжение, но и пополнить кадры выбывших и даже увеличить армию за счет местных средств и контингентов. К этому времени коммунистический террор и хаос уже достаточно надоели местному населению, которое перестало верить в коммунистический рай, обещанный Лениным.
Десантная армия должна была состоять из нескольких пехотных дивизий. В каждой дивизии – по три бригады; в каждой бригаде – по три полка; в каждом полку – по три батальона. Генерал Прохорович объяснил мне, что все эти особенности суть последние практические выводы воины, которые они считают важным применить в создаваемой армии. Тройное последовательное деление некоторых войсковых групп давало начальникам больше самостоятельной активности в бою, ибо каждому из них предоставляло свои усиленные резервы.
Были изменения и в организации кавалерии, артиллерии, сапер, службы связи, танков, интендантской части и проч. Я был с ними тогда еще мало ознакомлен, да и позабыл уже многое из того, что знал.
Особое внимание командования было обращено на автомобильную часть. Расчеты подвижного состава значительно превосходили самые широкие нормы, полученные на опыте войны нашей армией. Число грузовых автомобилей должно было доходить до трех тысяч. Благодаря такому количеству подвижных сил эта армия приобрела бы необыкновенную подвижность и стала бы тем, что теперь называется моторизованной армией. На это мне указывали полковник Собин, а также мой товарищ по курсу, доктор Спасский, [187] который был привлечен мною для разработки планов по санитарной службе намечавшейся армии. Он в течение войны служил в Главном военно-санитарном управлении в Петрограде, в мобилизационном отделе, и был вполне в курсе этого рода вопросов.
Вспоминаю из моих разговоров с генералом Шварцем, что столь широкий размах в техническом оборудовании сравнительно небольшой для российских просторов армии зижделся не только на платонических пожеланиях достичь совершенства, но и на реальной возможности обрести это без особого труда и в кратчайший срок.
В это время почти вся Европа производила демобилизацию своих бесчисленных вооруженных сил. Технические материалы и вооружение, самое совершенное по тому времени, было в огромном количестве и у Англии, и у Франции. Кроме того, они разоружали Германию. При искренности в желании помочь своим союзникам, им не изменившим даже в столь тяжелых обстоятельствах, сделать это было очень легко. Техническое совершенство, как и созвучная мораль армии, было главным условием успеха.
Когда штаб был сформирован и основные черты армии были установлены, всем начальникам отдельных служб было поручено составить по своему усмотрению небольшие комиссии из доверенных лиц для разработки детальных планов, каждому по своей части, исходя из директив командования.
В числе прочих начальников управлений будущей армии и я составил, по директиве начальника штаба, план действий и расчетов по санитарной части Кроме доктора Спасского, я пригласил и другого моего товарища по курсу в Императорской Военно-медицинской академии – доктора Неймана. Оба они за время войны побывали в должностях и главных врачей госпиталей, и дивизионных врачей, изучили войну на опыте и знали свое дело.
Так как ведению моему в санитарном отношении должны были подлежать части не только десантной армии, но и десантного транспортного, очень многочисленного, флота, то в моем управлении был намечен и этот отдел. Эвакуация в тыл всех раненых и больных была направляющей идеей в наших расчетах. Почти все наши санитарные установления были намечены под автомобильную тягу и рассчитаны на большую скорость передвижения.
Как участник Русско-японской войны (оборона Порт-Артура), я старался применить все новшества и усовершенствования в сухопутной и морской службе, которые в течение десяти предшествующих лет моей службы в морском министерстве упорно проводились во флоте и через посредство главного санитарного инспектора флота тайного советника Зуева – и в нашей армии. Укажу на три из них, касающиеся боевой санитарной службы
1. Мы наметили сортировку раненых при помощи путевых ярлыков, которая была принята в русском флоте по моему предложению и неоднократно испытана на маневрах в Балтийском и Черном морях. Система эта была премирована на Международном съезде Красного Креста в Лондоне в 1913 году. Съезд постановил поручить своему постоянному органу в Женеве сделать предложение всем державам, подписавшим Женевскую конвенцию, ввести ее в армиях всех стран, чтобы путем однообразия обозначений на ярлыках облегчить участь раненых, попавших к неприятелю.
Вопрос о введении этой системы сортировки раненых обсуждался также и в нашей армии, в особой комиссии под председательством лейб-хирурга профессора Е.В. Павлова. [188] Комиссия эта состояла при военно-санитарном ученом комитете. Членами ее были от армии – портартурец хирург, доктор медицины В.Б. Гюббенет, [189] впоследствии начальник санитарной части фронта, и профессор Императорской Военно-медицинской академии хирург Р.Р. Вреден. [190] От флота же два порт-артурца – хирург доктор Кинаст и я.
Несмотря на то что эта комиссия единогласно признала необходимым ввести эту систему и в нашей армии и невзирая на то, что запрошенные военные округа также высказались за эту систему, дело затягивалось. Главный военно-санитарный инспектор Евдокимов, видимо, был шокирован тем, что инициатива реформы для армии исходила от флота.
Вскоре началась война. При наступлении немцев на Варшаву газеты писали о крайней неудовлетворительности эвакуации и скоплении большого количества раненых на железнодорожных станциях, остающихся без помощи по нескольку дней. В «Новом времени» появились две статьи двух виднейших его сотрудников – Меншикова и Столыпина. Один из фельетонов Меншикова «Должны победить» был целиком посвящен моей системе сортировки раненых. Оказалось, что Меншиков и Столыпин были инспирированы по этому поводу профессором лейб-хирургом Е.В. Павловым, который, как председатель комиссии, признавшей эту систему необходимой и для нашей армии, был возмущен отношением Евдокимова к этому вопросу. Он лично отвез экземпляры написанной мною по этому поводу брошюры Меншикову и Столыпину. Меншиков возмущался, что военное ведомство до сих пор не ввело у себя эту систему. Аналогичную статью поместил и Столыпин.
2. Затем в нашей тайной комиссии мы решили снабдить десантную армию, помимо индивидуальных пакетов, даваемых каждому воину, также и готовыми повязками для артиллерийских ран и для ожогов. Эти повязки были приняты в нашем флоте также по моему предложению, на основании опыта в Порт-Артуре. Они предназначались лишь для санитарного персонала и полевых санитарных установлений. Цель этих повязок дать возможность фельдшеру и врачу в бою наложить стерильную повязку немытыми руками, ибо опытом доказана полная невозможность достигнуть стерильной чистоты рук у санитарного персонала в районе совершающихся военных действий вплоть до операционного стола. На санитарной выставке в Петербурге в 1913 году повязки эти были премированы большой серебряной медалью.
3. Третьим новшеством, которое мы наметили для будущей десантной армии, тоже на основании опыта в Порт-Артуре, был принцип свободного обмена носилками между всеми частями армии: раз положенного на носилки раненого по возможности не перегружать в другие носилки вплоть до операционного стола.
В общем, все эти наши соображения были продиктованы необходимостью крайнего ускорения эвакуационных действий.
Что касается вопроса о комплектовании армии солдатами, то командование полагало, что условия для этого будут благоприятные. Солдаты могли бы быть набраны из людей соответственного возраста, хорошего здоровья и вполне надежных в отношении морали и политической ориентации. Из трех миллионов пленных надо было отобрать только 200 тысяч человек. Для этого была образована особая комиссия под председательством контр-адмирала Ислямова, [191] известного мусульманского деятеля. Думали, что надежнейшим элементом при вербовке будут татары.
Командный состав решено было навербовать в Одессе, где скопилось, как думали, до 30 тысяч офицеров. Для этого были открыты вербовочные бюро. Предполагалось, что бюро будут тайными. На самом деле они были совершенно явными. Решено было набрать до 5 тысяч офицеров.
Весь офицерский состав имели в виду отправить на особых пароходах морем, сначала во Францию и оттуда морем же на острова Эзель и Даго. Записывались очень охотно, тем более что большинство было в крайне тяжелом материальном положении.
Когда подготовительные мероприятия были разработаны и началась вербовка офицерского состава, в гостинице, где остановился Гучков, состоялось несколько совещаний начальствующих лиц. На некоторых из этих совещаний был и я.
Помню одно, на котором было человек около двадцати. Кроме генерала Шварца и Филатьева, [192] бывшего помощника Гучкова по его должности военного и морского министра при первом Временном правительстве, было еще несколько генералов, фамилии которых я позабыл. На этом же заседании было три адмирала: адмирал Канин [193] и вице-адмиралы Покровский [194] и Хоменко.
Тайна плохо соблюдалась. Такое собрание, конечно, не могло быть незамеченным, тем более что во главе был сам Гучков. Потом уже оказалось, что в этой же гостинице находилась и тайная организация большевиков.
Кого следовало бы винить в этой неосторожности, я сказать затрудняюсь, но полагаю, что в этом был повинен скорее сам Гучков, не понимавший степени большевистского задора и значительности своей особы в революционных судьбах Российского государства. Всюду его можно было видеть и со всеми его можно было встретить разговаривающим. Собрание же в номере гостиницы столь значительного числа настоящих и бывших начальствующих лиц в военной форме скорее можно было назвать предумышленностью, мне непонятной, чем осторожностью.
Сам Гучков наметил день своего отъезда в Париж с генералом Филатьевым, чтобы подготовить операцию в штабе маршала Фоша. Намечены были также сроки отъезда генерала Шварца с его штабом. В Германию выехала комиссия с адмиралом Ислямовым для вербовки.
Все эти приготовления неожиданно рухнули благодаря обстоятельству, которое я опишу в следующей главе.
* * *
Ранней весной 1919 года неожиданно в Одессу приехал из Константинополя будущий маршал Франции генерал Франшэ д'Эсперэ, главнокомандующий союзными войсками на Ближнем Востоке.
В это время Одессу занимали французские войска генерала д'Ансельма и на рейде стоял англо-французский флот. Одновременно городом и его округом управляли русские добровольческие части от имени генерала Деникина.
Большевики приближались к Одессе, их иррегулярные части постепенно захватывали ближайшие города. Французских войск было мало. Они почти не вступали в борьбу с большевиками. У добровольцев в распоряжении была только офицерская бригада [195] генерала Тимановского, [196] в составе около трех тысяч человек. Она находилась вне Одессы, по линии железной дороги, и сдерживала большевистские отряды, напиравшие на Одессу. Между тем на довольствии, в штабе Одесского военного округа, числилось около 10 тысяч человек.
Генерал Франшэ д'Эсперэ был недоволен действиями русских военных властей, назначенных генералом Деникиным. После разговоров с различными русскими политическими деятелями, скопившимися в большом числе в Одессе, он пожелал переговорить и с генералом Шварцем, жившим на Пушкинской улице, вместе со своей женой после того, как он переехал из квартиры моего отца.
В это время Шварц был болен и лежал в постели с температурой 39 градусов. Вдруг к нему на квартиру приезжает сам Франшэ д'Эсперэ. Войдя в комнату больного и увидев у постели генерала его жену, Франшэ д'Эсперэ коротко бросил ей: «Мадам, вуле ву сортир», любезность не французская. После получасового разговора с глазу на глаз он уехал.
Через четверть часа я пришел на квартиру к Шварцам. Вот что мне тотчас же рассказал Алексей Владимирович об этом свидании, прося моего совета. Франшэ д'Эсперэ предложил генералу Шварцу стать во главе краевой власти, которую он наметил создать для Юго-Запада России, наряду с существующими подобными правительствами Крымским, Сибирским, инородческими на Кавказе и генерала Деникина в Юго-Восточной России. Но так как сразу не предполагалось раскрывать карты, то он предложил генералу Шварцу пока должность генерал-губернатора и командующего войсками на Юго-Западе России. В помощь ему было предложено назначить нескольких политических деятелей, как бы будущих министров, для заведования различными отраслями государственного управления, Франшэ д'Эсперэ обещал ему следующую помощь в случае согласия:
1. Передвинуть в сторону Бирзулы французский корпус генерала Бертело, находившийся в Румынии.
2. Подкрепить целым греческим корпусом союзные войска, находившиеся на юге России.
3. Прислать в Одессу девять батальонов чернокожей пехоты.
Цель этих значительных воинских сил была расширить плацдарм на Юго-Западе России, чтобы генерал Шварц мог спокойно создать новую русскую армию из местного населения. Генералы предполагали, что будет сделана обыкновенная всеобщая мобилизация, а не добровольческая.
Шварц не давал своего согласия, не желая быть в конфликте с генералом Деникиным. Тогда Франшэ д'Эсперэ сказал, что берет на себя уладить дело и пошлет к Деникину своего штаб-офицера на миноносце, специально для этого.
Ввиду того, что Шварц все же не дал своего согласия, к нему, больному, началось паломничество политических деятелей. Не было, кажется, заметного человека, который бы не побывал на скромной квартире генерала. Три раза приезжал, в белом клобуке, торжественно митрополит Североамериканский Платон, который в это время тоже был в Одессе.
Наконец Шварца уломали, и он согласился. Основным мотивом было то, что деятельность в Одессе начинается немедленно, а по плану Гучкова началась бы только через несколько месяцев. События шли с головокружительной быстротой, а широкое содействие союзников сулило успех.
Невозможность бросить на произвол судьбы громадный город со всеми скопившимися там остатками русской политической интеллигенции решила вопрос в пользу Одессы.
Когда узнал об этом Гучков… вознегодовал: он был решительно против этого и настаивал, чтобы генерал Шварц ехал в Париж для выполнения его плана. Он говорил, что вся его надежда была на генерала Шварца, тем более что по его плану главнокомандующим в задуманных им действиях против большевиков должен был быть генерал Гурко; в случае же его отказа он хотел поставить главнокомандующим самого Шварца.
У генерала Шварца состоялось с Гучковым крупное объяснение, закончившееся почти ссорой между старыми друзьями. Гучков уехал без Шварца, со своим помощником, генералом Филатьевым, направляясь в Париж.
Тотчас появился приказ, не помню какой власти, и генерал Шварц стал генерал-губернатором города Одессы и союзной зоны и командующим в ней войсками. Было сформировано указанное мною нечто вроде правительства, и начали готовиться к созданию армии.
Как бы верховной властью в крае стал генерал Шварц. Как бы главой будущих министров был назначен один из русских политических деятелей с французской фамилией, Андро, человек близкий оккупационным кругам. Если не ошибаюсь, он должен был ведать внутренними делами.
Государственным контролером был поставлен чиновник Госконтроля действительный статский советник Ильяшенко. Для заведования финансами в новое правительство вошел профессор М.В. Бернацкий, который в это время уже был министром в правительстве Деникина. Находясь в это время в Одессе, он, после каких-то переговоров с правительством Шварца, согласился быть одновременно министром финансов и здесь.
Позабыл фамилии остальных членов этого правительства, но хорошо помню, что во главе какого-то ведомства был поставлен инженер Рутенберг, убийца Гапона.
В Государственном банке находилось 400 миллионов карбованцев, тогда еще державшихся на довольно хорошем курсе. Даже через два месяца, уже в день эвакуации, за карбованец давали на черной бирже три французских франка. Кроме того, в казначействе находилась некоторая сумма золотом. Помнится, около восьми миллионов рублей.
После эвакуации в Турцию всю золотую наличность, сохранившуюся в целости, так как ее не расходовали, генерал Шварц решил передать генералу Деникину, вместе с оставшимися крупными бумажными деньгами. С этими суммами профессор Бернацкий и уехал к генералу Деникину.
Несмотря на предупредительные шаги Шварца к миссии генерала Деникина, в Константинополь очень скоро пришли вести, что Деникин недоволен всем тем, что произошло в Одессе, и считает генерала Шварца в числе врагов начатого им дела. Тогда генерал Шварц решил послать своих посланцев к адмиралу Колчаку, как Верховному правителю России, для личного доклада и отдачи отчета в своих действиях. Отъезд этих представителей, однако, не состоялся.
Как только образовалась новая власть, к генералу Шварцу началось хождение самых разнообразных лиц: одни давали советы, другие клеветали друг на друга, третьи указывали на различные возможности для новой власти, между прочим, использовать разбросанные в разных местах военные материалы.
Для новой Русской армии Юго-Запада России, задуманной на совещании маршала Франшэ д'Эсперэ с генералом Шварцем, конечно, также были намечены все технические новшества в организации и вооружении, которые были разработаны для десантной армии Гучкова
Несмотря на то что набор солдат должен был быть всеобщим по призывным возрастам, как это было в старой России, все же решено было сначала призвать только немцев-колонистов из многочисленных немецких колоний под Одессой. Думали, что немцы будут политически более надежны в борьбе с большевиками.
Начальником штаба для этой армии остался тот же генерал Прохорович. Насколько помню, генерал Шварц и управления всех специальных служб новой армии оставил в руках тех же лиц, кои были приглашены им для десантной армии Гучкова. Я также получил его предложение занять должность начальника санитарной части.
Мое управление сорганизовалось с невероятной быстротой, как будто все наши чиновники только и ждали звонка, чтобы усесться за столы. Однако весь этот треск громких должностей и крупных ассигнований в этом хаосе, в котором находилась Одесса, был почти безрезультатен. Механизм управления края был так разрушен, что никто наших приказаний, кроме ближайших чиновников, не исполнял.
Текущий быт поддерживался в силу инерции. Исправно выходили газеты. Играли театры. Синема были переполнены. Жизнь как будто кипела, но как-то особенно. Подобно тому как на пожаре толпа смотрит и живо обсуждает мелочи происходящего, беспомощная спасти от пожирающего пламени свои жилища и свой скарб, так и мы, современники, соучастники и погорельцы мировой революции, наблюдали за языками ее пламени, беспомощные его погасить. Так горела тогда вся Российская империя от спичек «государственных шалунов», среди коих первое место Гучкову и Керенскому.
Единственно, кто мог правильно оценить военно-политическую обстановку в Одессе, были только русские генералы. Однако у них не было никакой воинской силы для действия и принуждения. В Одессе было троевластие. Официально правили французы, неофициально интриговали англичане, флот которых тоже стоял на рейде. Четвертой же властью, и может быть, наиболее сильной и опирающейся на широкие рабочие массы, были большевистские тайные агенты.
Все управление нового правительства генерала Шварца продолжалось около полутора месяцев. Как ни трудно было действовать в этой атмосфере полного разложения, все же благодаря организаторским талантам Шварца кое-что уже начали делать.
При крайнем разложении административного аппарата у власти не было опоры. В распоряжении командующего войсками все еще не было ни одной воинской части. Бригада генерала Тимановского находилась за городом по линии железной дороги и сдерживала наступление большевистских отрядов. Единственной воинской силой в пределах города были только французские войска, очень немногочисленные, около 5 тысяч человек.
Поэтому, когда прибыл обещанный маршалом Франшэ д'Эсперэ греческий корпус, численностью будто бы до 30 тысяч человек, все думали, что порядок скоро наладится.
По городу быстро катили автомобили с греческими офицерами. Все греки были прекрасно одеты в защитные новые шинели с узкими золотыми и серебряными погонами, как у наших чиновников. Офицеры были деловиты и скромны. Солдаты спокойны и хорошо шли в строю. Многочисленное в Одессе греческое население гордилось своими соплеменниками, пришедшими выручать из беды единоверную великую православную Россию.
Греческий корпус был направлен на расширение плацдарма для будущей русской армии, формируемой генералом Шварцем. Греков направили в сторону Николаева. Они скоро вошли в контакт с неприятелем. Как говорили, греки вели себя храбро, но совершенно не знали военного дела в условиях междоусобицы. Русских руководителей с ними не было. Французы же и сами плохо разбирались в этом. О французских войсках говорили, что большевистская пропаганда проникла в их среду.
15 марта я поехал по делу к генералу Шварцу. Там к пятичасовому чаю собралось большое общество самой разнообразной публики, военной, горожан и наехавших политиков. Строились планы на будущее в связи с прибытием обещанных Франшэ д'Эсперэ союзных войск. Казалось, как будто дело сдвинулось с мертвой точки.
Комиссии для призыва солдат выехали в немецкие колонии, чтобы положить начало будущей армии. Это было за два-три дня до объявления эвакуации.
Вечером пришел я домой. Дома был уже и мой брат, адъютант Шварца, и рассказывал моему отцу о возможных больших переменах. Наутро отец, вернувшись с базара, сказал, что все, что я и брат накануне ему сообщили о планах и действиях новой власти, не сбудется, так как на базаре говорят, что скоро всех нас выгонят и через несколько дней придут большевики, и что он лично больше верит пантофельной прессе, чем заявлениям власти. Так оно и вышло.
Через день после этого я вышел рано из своей квартиры. К удивлению моему, вижу, что навстречу едет в экипаже, один, генерал Шварц. Это почему-то встревожило меня. Потом оказалось, что генерал, получив ночью известие от д'Ансельма об эвакуации, ехал к нему для объяснений и протеста. Все было напрасно. События решались в Париже.
С утра мы сидели в моем управлении, как вдруг меня потребовали к телефону из штаба генерала и кто-то мне сообщил, что неожиданно объявлена эвакуация и что в течение двух суток все желающие должны приготовиться к отъезду за границу. Все были поражены, не могли ничего понять. Я отправился узнать о причине происшедшего. Мне сказали, что правительство Клемансо подало в отставку и что новые власти, не надеясь на свои войска, не желающие воевать, срочно вызывают их на родину.
Резоны эти были сомнительны. Если Одесский гарнизон был ненадежен, то целый греческий корпус был вполне надежен. Кроме того, должны были прибыть в Одессу девять батальонов чернокожих, на которых можно было положиться. Затем в Румынии был французский корпус генерала Вертело, который тоже был надежен. Чем же объяснить столь внезапную и катастрофически спешную эвакуацию?
Сбор всех отъезжающих и выдача заграничных документов происходили в большой гостинице, перед бульваром. Толпы народа осаждали эту гостиницу, кое-где лежали раненые. Когда же мы ехали на пристань, стрельба еще более усилилась, особенно в порту.
В одной из излучин гавани чернела огромная толпа народа. Таскали какие-то вещи, большие чемоданы, и все это сносилось в большие, переполненные углем баржи. Распоряжались морские офицеры, но был такой хаос, что трудно было понять, кто именно распоряжается.
Прибывших пассажиров усаживали в те же баржи, куда был нагружен их багаж.
Уезжающих было очень много, баржа была полна. На берегу же оставалась еще громадная толпа в несколько тысяч человек. Были ли это ожидавшие очереди посадки будущие эмигранты, провожавшие их или иной какой народ, понять было нельзя. Медленно наша баржа отделилась от портовой стенки, и буксир потащил нас к выходу на внешний рейд, к стоявшему там французскому пароходу «Caucase», отведенному французами для генерала Шварца и его штаба.
Грустно и тяжело было у нас на душе. Беспокойство о судьбе оставшихся на произвол бушующей стихии революции с ее жестокостями, голодом, болезнями и мрачные, туманные перспективы будущей жизни за рубежом переполняли наши сердца.
В. Маевский[197]
ОСЕНЬ 1918 ГОДА НА УКРАИНЕ [198]
Мы возвращались из румынских Ясс в Россию, закончив порученную нам политическую миссию.
И много всякого рода русских политических и общественных деятелей возвращалось тогда оттуда же после нескольких дней участия в «Особом Совещании», стремившемся выяснить ряд вопросов, касавшихся бедственного положения нашей громадной, но несчастной родины и Добровольческой армии на юге России.
Совещаний в те времена созывалось много, даже более, чем следовало. Но суровый рок делал свое дело – и пожар революции, охвативший Россию, разгорался с каждым днем все сильнее и сильнее, невзирая ни на какие человеческие постановления и слова.
К осени 1918 года по всей Украине уже бушевала настоящая политическая буря, порождавшая, в еще так недавно мирных и спокойных городах и селах обширного края, подлинную анархию.
Под давлением союзников в беспорядке покидали благодатную Украину окончательно разложившиеся гарнизоны оккупантов-австрийцев, поспешно направлявшиеся к своим границам и бросавшие по пути целые железнодорожные составы и обозы со всяким добром. Это добро тотчас же расхищалось рыскавшими повсюду бандами внезапно вынырнувших из всяких низов головорезов атаманов, и те же банды ежедневно преподносили различные печальные сюрпризы еще державшимся в своих гнездах украинским помещикам, хуторянам и крупным железнодорожным центрам.
Более компактно и дисциплинированно держались германцы, двигавшиеся к тем же западным границам в относительном порядке и не терявшие вида и достоинства старых немецких солдат.
Что касается войск гетмана Скоропадского, уже успевшего к этому времени пасть, то они также представляли собою жалкую, деморализованную и разрозненную массу, разорвавшуюся на отдельные отряды, бесцельно сновавшие по разным направлениям в поисках безопасных убежищ.
С севера уже наступала красная армия, сформированная Троцким, при помощи царских офицеров Генерального штаба, под давлением которой быстро катились к югу и западу части Петлюры; главные силы атамана Григорьева (бывший офицер) «оперировали» в районе Херсона-Николаева и угрожали Одессе; а за ними, в виде арьергарда, продвигались к черноморским берегам опять же петлюровцы во главе с генералом Грековым – коренным гвардейцем и генералом Генерального штаба.
Повсюду шли грабежи, полыхали пожары и широкой рекой лилась водка и человеческая кровь.
Люди зверели и теряли последние признаки человеческого облика…
* * *
Когда наш поезд находился еще на румынской территории, какой-то заботливый и разумный комендант одной из приграничных русских станций дал депешу о необходимости всем нам держать путь прямо на Одессу. Встревоженные, мы запросили коменданта о причинах такого сообщения.
«Путь к другим пунктам сопряжен с осложнениями, – последовал краткий ответ. – Можете безопасно двигаться только на Одессу».
Рассуждать не приходилось.
* * *
До Одессы мы добрались действительно вполне благополучно… Но зато какое столпотворение вавилонское застали на железнодорожных путях вокзала этого прелестного города, увеличившего в те времена свое население по меньшей мере в два раза.
Станция Одесса была битком забита всевозможными поездными составами, стянувшимися сюда со всех концов Южной России и переполненными всякого рода начальствующими и влиятельными лицами… Помню шикарные пульмановские вагоны с салонами, прилизанных и сохранявших свое полное достоинство генеральских и «министерских» адъютантов, секретарей, лакеев, вестовых и проводников, высокомерно глядевших из роскошных вагонов; помню, между прочим, вагон и Ф.А. Лизогуба (Ф.А. Лизогуб был в 1918 году председателем Совета министров в гетманском правительстве. – В. М.), стоявший на путях рядом с нашим и недавно только прибывший из Крыма: Федор Андреевич только что побывал там у Великого Князя Николая Николаевича с поручением от гетмана П.П. Скоропадского и теперь ехал обратно в Киев. Пробраться туда ему не удалось по той же причине, что и нам, и он должен был остаться в Одессе «ждать у моря погоды».
Такая же участь постигла и всех остальных представителей тогдашнего генералитета и власти, неожиданно превратившихся в одесских жителей на неопределенное время.
«Одесса-мама», впрочем, принимала их всех недурно…
Что касается меня лично, то я, будучи адъютантом у генерала, с которым возвращался из Румынии, располагался в удобном салон-вагоне, имея под боком вестового.
Начиная с первого дня нашего прибытия мы с генералом ежедневно по два раза отправлялись в город на обед и ужин, проводя их в пресловутой гостинице «Лондонской», самой фешенебельной в городе.
И кого только можно было не встретить тогда в этой «Лондонской»!.. Бурное время согнало в те дни в Одессу таких людей, какие, пожалуй, ранее никуда и не двигались далее параллели петербургского Колпина или московской Обираловки, а теперь эти петербуржцы или москвичи поневоле очутились на юге России, гонимые суровыми обстоятельствами судьбы… Не было в ресторанном зале «Лондонской» и недостатка в наших генералах, адмиралах и младших офицерах всех родов оружия и положения, временно обезопасившихся под защитой остатков гетманской администрации и подумывавших о переходе под укрытие трехцветного флага Добровольческой армии и Белого дела.
Здесь, за столиками «Лондонской», в ее коридорах и холлах, ежечасно ловились все новости и слухи, прилетавшие с фронта и из других местностей оставленного севера; здесь же создавались всевозможные проекты спасения и умиротворения России; высказывались негодования, произносились проклятия и… обретались надежды.
Все здесь шумело, волновалось, было охвачено суетою… вкусно ело, пило и даже веселилось.
* * *
В одесский порт тем временем вошло несколько французских военных судов, с которых на берег высадился лишь незначительный отряд, занявший порт и часть Николаевской набережной с гостиницей «Лондонской» включительно.
Что касается охраны железнодорожной станции со всеми сбившимися на ее путях эшелонами – об этом, по-видимому, никто особенно не думал и не заботился… И как оказалось впоследствии – весьма напрасно.
Подтверждения высказываемому мною предположению пришлось ожидать недолго.
* * *
В этот памятный вечер мы по обыкновению собирались с генералом на ужин в город и уже готовы были выйти из вагона, как вдруг я заметил, что наш вестовой подает мне какие-то знаки, по-видимому желая, чтобы я задержался и его выслушал.
Незаметно отделившись от генерала, я исполнил просьбу нашего верного слуги и быстро вошел в его отделение.
– Ну, что?.. Что такое, Назаренко?
– Нехорошие вести… Простите, что осмелился задержать, но иначе не мог!..
Солдат был бледен и взволнован не на шутку. А вести, которые он мне тотчас же полушепотом передал, оказались действительно «нехорошими»… Наш преданный слуга, как оказалось, успел уже завести дружбу с железнодорожными рабочими, и они в одной из последних бесед сообщили ему «по секрету» о готовящемся этой ночью налете григорьевцев на одесский вокзал.
– Сказывали, что беспременно займут нашу станцию, как только смеркнется… Сказывали также, что всех золотопогонников перережут… Простите, ваше высокоблагородие!..
Не верить Назаренко у меня не было никаких оснований, – и едва я нагнал моего генерала по выходе из вагона, как тотчас же доложил ему об услышанном из уст вестового.
– Не прикажете ли, ваше превосходительство, перевезти хотя бы наши вещи в гостиницу «Лондонскую»? – спросил я. – Информации железнодорожных рабочих могут быть весьма основательны… И я утром слыхал, что григорьевцы в 12-15 верстах от города…
Но генерал в ответ на эти слова с насмешкой взглянул на меня и отрицательно покачал головою:
– Нет, это уж вы оставьте… Разве и сами не понимаете, что это носило бы характер трусости, проявления паники… Едем-ка лучше скорее ужинать!
И мы поехали.
Ресторанный зал был, как и всегда, переполнен, играла музыка, и за некоторыми столиками царило беззаботное веселье.
Прошло примерно часа 2 – 2 1/2.
Мы с генералом давно уже перешли на кофе, как вдруг подошедший швейцар вызвал меня в ресторанный холл по какому-то «весьма важному делу».
Я вышел и увидел грустную физиономию вестового Назаренко, стоявшего в выжидательной позе у входа вместе с двумя генеральскими чемоданами.
– Заняли, ваше высокоблагородие! – доложил солдат. – Едва вы изволили отъехать с их превосходительством, как заняли… Налетели григорьевцы, значит… Грабят сейчас все вагоны так, что упаси Бог… Только два чемодана и успел утащить… да и то протащил их окольными путями… Беда, что творится на станции!..
Два чемодана, спасенные от грабежа, оказались генеральскими. Мои же вещи все пропали, сделавшись достоянием григорьевских банд.
Но горевать о них было некогда.
Я быстро возвратился в ресторан и доложил генералу о полученном известии, которое со слов французского коменданта гостиницы – капитана Ланжерона – успело уже взволновать всех живущих в ней. И настроение беспечно веселившихся представителей высшего петербургско-московского общества быстро изменилось.
Поднялась суматоха, близкая к панике.
– Они сейчас ворвутся сюда, в гостиницу!..
А со стороны вокзала в это время уже ясно доносились звуки ружейных залпов, производимых, по-видимому, ворвавшимися в город григорьевцами на страх буржуям.
Какие-то дамы бились в истерике.
Мой генерал, нервно попыхивавший сигарой, приказал мне немедленно направиться с вестовым к вокзалу.
– Постарайтесь выяснить обстановку и, кстати, спасти и остальные вещи… Жаль их оставлять этим мерзавцам!
Делать было нечего.
Я сел с вестовым на его же извозчика, терпеливо дожидавшегося у подъезда гостиницы, и по Пушкинской улице направился к вокзалу.
Но добраться до него нам так и не пришлось…
Еще на полпути привычным глазом мне удалось заметить двигавшиеся в глубине улицы группы всадников – это были разъезды знаменитых гайдамаков, и я приказал извозчику повернуть обратно в сторону «Лондонской», ибо встреча с разъездом предвещала беду…
Генерала к моменту моего возвращения в гостиницу уже в ней не оказалось. Как я узнал, незадолго до того он укатил на автомобиле в порт, сопровождая туда семью Великого Князя Михаила Александровича, состоявшую из его жены, графини Брасовой, и двух детей – девочки и мальчика… Этим мальчиком и был тот самый очаровательный и красивый юноша Джорджи, который спустя четырнадцать лет трагически погиб в автомобильной катастрофе на дороге из Парижа в Канн.
Все семейство Великого Князя было тогда принято на борт стоявшего в порту французского миноносца и благополучно доставлено в Царьград, откуда графиня Брасова с детьми уже могла свободно следовать в любое европейское государство.
Французский десант, находившийся в порту, решил тем временем приступить к «энергичным действиям» и «продвинулся» – не далее, впрочем, как на… два квартала по Николаевской набережной.
Это кажется смешным, но тем не менее было именно так.
Углубляться в город и способствовать сохранению в нем порядка и безопасности мирных граждан наши доблестные союзники не пожелали. И, ограничившись установкою пулеметов на углах набережной, они все свое внимание сосредоточили на бдительной охране хорошо известной читателю гостиницы «Лондонской», вероятно, главным образом потому, что в ней обосновался упитанный, самодовольный и широко известный впоследствии их комендант Ланжерон.
Охваченные паникой петербуржцы и москвичи, впрочем, снова были счастливы и могли на время опять успокоиться и продолжать благодушествовать в «Лондонской» под охраною французских солдат…
И кого только не было в эти памятные дни в этом шикарном убежище?.. Укрывались в нем недавние царские министры и генералы, высшие сановники рухнувшей империи и известные артисты (Фигнер, Смирнов, Собинов), знаменитые писатели (Бунин, Чириков, Аверченко), оперные (Липковская) и кинематографические звезды (Вера Холодная), финансовые тузы (Манташев, Путилов, Лианозов) и всякие дельцы… А в глубине Одессы в это время уже свободно неистовствовали разгульные банды, грабившие и убивавшие направо и налево, ничуть не опасаясь «интервенции» союзных военных кораблей и транспортов с войсками, преспокойно стоявшими в порту и не желавшими ударить палец о палец, чтобы помочь невинным и несчастным гражданам огромного города…
Мы знали об этом и недоумевали… Недоумевали потому, что еще полным сердцем верили в союзников.
Наивными мы перестали быть уже значительно позднее…
Но нашелся вскоре отважный и энергичный человек, сумевший на долгий срок отогнать от Одессы нависшие над нею осенью 1918 года кошмары.
Этим человеком был доблестный генерал Гришин-Алмазов, только что прибывший со специальным поручением от адмирала Колчака и быстро сформировавший отряд из подобных себе смельчаков и в два-три удара очистивший от банд всю Одессу.
Город вздохнул свободно и стал оправляться.
Начались в нем добровольческие формирования, и отсюда потекла обильная помощь в нужных людях на фронты белой армии Кавказа и Крыма. Записался и я в армию генерала Деникина, явившись в особое гвардейское бюро, уже широко развернувшее в Одессе свою работу под умелым руководством энергичного капитана лейб-гвардии Преображенского полка Литовченко. [199]
Вскоре мне удалось встретиться в Одессе и со своими друзьями, старшими однополчанами, к моей величайшей радости появившимися совсем неожиданно в то время, когда я уже намеревался ехать в Крым. Это был полковник С.И. Энтель, [200] а за ним последовали капитан Ю.Б. Броневский [201] и поручики – граф A.A. Бобринский, В.Н. Тютчев, В.Р. Вольф, [202] а также прикомандированный корнет A.B. Броневский.
Все мои друзья весьма странно и непривычно для глаз выглядели в штатском платье: после падения гетмана им с опасностью для жизни пришлось пробираться в Одессу из Киева через пылавший огнем всяких восстаний район…
Ориентироваться – в обществе своих товарищей и однополчан – сделалось значительно легче. Вскоре я, вместе с ними, выехал в Севастополь и даже солидно кутнул накануне отъезда в кабаре «Зеленый попугай». А на следующее утро мы уже плыли морем, весьма прилично разместившись на большом океанском пароходе «Русь»… Но когда он выходил из порта, навстречу ему попался какой-то иностранный транспорт, который тотчас же стал подавать нам сигналы… Наш гигант «вежливо» задержался, и вскоре к его борту подошел большой катер, выпустивший на наш трап несколько десятков офицеров в английской форме, но с русскими погонами.
Как оказалось, все это были офицеры Особой русской дивизии Салоникского фронта, оперировавшей там с 1916 года под командой доблестных генералов Дитерихса, [203] Тарановского [204] и Леонтьева и дольше всех остальных частей русской армии сохранившей внутренний порядок. Впоследствии, конечно, и эти македонские части разложились и перестали существовать.
Среди поднявшихся на наш борт салоникцев находился и наш милейший однополчанин, поручик князь Андрей Анатольевич Лобанов-Ростовский. [205] Поговорить всем нам было о чем, и, оживленно беседуя, мы совсем не заметили, как к вечеру, вдали, уже вырос Севастополь.
И вскоре мы вышли на берег для новых и пестрых переживаний, ожидавших нас впереди, вместе со всеми тревогами и невзгодами.
1918 год на Украине / Составление, научная редакция, предисловие и комментарии д.и.н. С.В. Волкова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 414 с
ISBN 5-227-01476-0
© С.В. Волков, составление, предисловие, комментарии, 2001
© Художественное оформление серии, ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2001
© ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2001
Под общей редакцией предводителя Российского Дворянского Собрания князя А. К. Голицына
Авторы проекта Валентина Алексеевна БЛАГОВО, Сергей Алексеевич САПОЖНИКОВ
Оформление художника И. А. Озерова
Научно-просветительное издание
1918 год НА УКРАИНЕ
Составление, научная редакция и комментарии д.и.н. Сергея Владимировича Волкова
Ответственный редактор С.А. Сапожников
Художественный редактор И.А. Озеров
Технический редактор Л.И. Витушкина
Корректор Т.В. Вышегородцева
Изд лиц. ЛР № 065372 от 22.08.97 г.
Подписано к печати с готовых диапозитивов 27.07 2001
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная Гарнитура «Лазурского»
Печать офсетная Усл. печ. л. 26,0
Уч.-изд. л. 24,73 + 0,5 альбома = 25,26
Тираж 3000 экз Заказ № 1737
ЗАО «Издательство «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: [email protected]
Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14