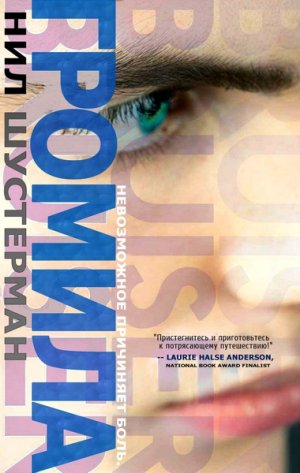
ТЕННИСОН
1) Симбиоз
Если он к ней только пальцем притронется, я ему голыми руками все кишки вырву и пошлю его родственничкам — пусть лопают вместо ланча!
О чём только моя сестрица думает? Этот тип… этот лу-у-узер! Да он даже одним воздухом с ней дышать не достоин, уже не говоря о том, чтобы приглашать её на свидание. Ну, подумаешь, позвал! Так что? Она же не обязана соглашаться!
— Боишься, что если ты ему откажешь, он тебя в дальнем углу двора зароет? — задаю я вопрос за обедом, всё ещё не отойдя от услышанной новости.
Моя сестра Бронте бросает на меня взгляд, означающий: «Прошу прощения, но я уж как-нибудь сама о себе позабочусь!», а вслух произносит:
— Прошу прощения, но я уж как-нибудь сама о себе позабочусь!
Она научилась этому взгляду у нашей мамули, упокой Господи её душу. Я бросаю на Бронте взгляд, означающий: «Куда тебе!», а вслух произношу:
— Ты этот кусок пиццы будешь?
Бронте сгребает с пиццы начинку, скидывает её на тарелку отцу и ест то, что остаётся. Она на высокоуглеводной диете, то есть питается как раз тем, чего не может есть папа, который сидит на низкоуглеводной. Такое распределение ролей делает их партнёрами в некоем симбиотическом союзе. Это я по-научному. Если человек отличный спортсмен, это ещё не значит, что у него пусто в голове.
Мамуля, упокой Господи её душу, всё ещё висит на телефоне. Пытается договориться с соседом, чтобы тот не косил свой газон в семь утра по воскресеньям. Не понимаю, на кой ей телефон — в открытое окно нам прекрасно слышно, что отвечает сосед. Чтобы добиться своего, мамуля прибегает к особой тактике: ходит вокруг да около и пытается сделать брешь в линии обороны соседа, задушевно пересказывая ему местные сплетни. Ну вы знаете — создаешь у противника впечатление ложной безопасности, а потом ка-а-ак вмажешь — и выноси готовенького. Это такая невероятно важная беседа, что мамуля даже еду готовить не стала, заказала пиццу. Причём заказывать пришлось по Интернету — телефон-то занят.
Мамуля больше не готовит. Вообще перестала вести себя как мать и жена, когда узнала, что папуля, впав в кризис среднего возраста, сотворил кое-что, о чём не говорят вслух. Мы с Бронте пришли к выводу, что мамуля, упокой Господи её душу, внутренне умерла и ещё не восстала из мёртвых. Мы терпеливо ждём, но пока что наш удел — пицца из соседней забегаловки.
— Мне шестнадцать, — говорит Бронте, — и я могу встречаться, с кем хочу!
— А мой священный долг старшего брата требует, чтобы я спас тебя от себя самой.
Она впечатывает оба кулака в крышку стола, отчего все тарелки подпрыгивают.
— Ну да, конечно, ты родился на пятнадцать минут раньше, а всё потому, что вечно норовишь пролезть без очереди!
В поисках союзника я поворачиваюсь к папуле:
— Пап, это вообще как — ты разрешаешь своей дочке встречаться с представителем другого биологического вида?
Папуля отрывает взгляд от наваленных на тарелке кружков пепперони и расползшегося сыра.
— Встречаться? — мямлит он. Похоже, мысль о том, что Бронте собирается на свидание, действует на его мозг, как электромагнит — из моей фразы высосались все слова, кроме слова «встречаться», только его он и расслышал.
— Не смешно! — говорит Бронте.
— Даже печально! — соглашаюсь я. — Он же вроде… не знаю… из рода снежных человеков, что ли?
— Встречаться? — Папулю заклинило.
— Если он большой, — подчёркнуто выговаривает Бронте, — то это ещё не значит, что он похож на обезьяну. Да если уж на то пошло, то самая примитивная обезьяна в нашем округе — это ты, Теннисон.
— Да брось ты! Он же для тебя просто очередная бродячая собачонка!
Бронте издаёт яростное рычание, совсем как те полубешеные твари, которых она вечно притаскивает домой. Вернее, притаскивала до тех пор, пока папе с мамой не надоело, что дом похож на приют для бесхозных животных, и они не положили этому конец. После чего мы перешли на рыбок. В доме теперь тихо, как в аквариуме.
— Мы знаем этого молодого человека? — спрашивает отец.
Бронте вздыхает и яростно вгрызается в свою обессыренную пиццу.
— Его зовут Брюстер Ролинс, и он совсем не такой, как про него говорят!
Кто же так представляет потенциального бойфренда своему отцу? Ура. Может, папуля устрашится и скажет своё веское слово?
— Конкретно — что про него говорят? — спрашивает он. Наш папа всегда начинает фразу со слова «конкретно» в тех случаях, когда подозревает, что ответ ему не понравится. Я едко хихикаю — Бронте влипла. Она двигает меня кулаком в плечо.
«Что говорят про Громилу? — думаю я. — Лучше сказать, чего про него не говорят!» А вслух произношу:
— Ну, например… В восьмом классе его единогласно признали Наиболее Подходящим Кандидатом На Высшую Меру.
— Он тихий, — возражает Бронте. — Он нелюдим, но это не значит, что он плохой. Сами знаете, как говорят — «тихие воды глубоки».
— Гораздо лучше подошла бы пословица про омут с чертями.
Бронте снова двигает меня по плечу.
— В следующий раз, — обещает она, — я тебе врежу твоей же лакроссной[1] клюшкой.
— Нелюдим… — задумчиво повторяет папа.
— Это значит, что он замкнутый, необщительный, — подаёт голос мамуля с того конца комнаты — как будто он сам не знает. Мама никогда не упустит возможности выставить папу дураком.
— Ваша мама, — угрюмо замечает папуля, — отлично знает, что «нелюдим» — это было моё слово.
— Как бы не так, — отзывается мамуля. — Моё!
С самого детсада мы с сестрой живём под гнётом проклятья — проклятья трудных слов. Мама с папой по очереди каждый день скармливают нам по одному заковыристому словечку, которое мы должны проглотить и не подавиться. Вот так вот бывает, когда оба твоих родителя — профессора литературы. А ещё нам выпала тяжкая судьба носить имена померших литераторов. Если хотите знать моё мнение, то это чересчур аберрантно[2] (мамино слово). Будучи учителями, они могли бы сообразить, что имечко типа «Теннисон Стернбергер» будет выглядеть нелепо на любом скантроне.[3]
— Громила — он из неблагополучной семьи, — поясняю я. — Они все там с вывихом.
— Вот не надо, — кривится Бронте. — Можно подумать, что у нас семья не с вывихом.
— Вывих только у вашего папы, — заявляет мамуля. — Но он с ним, кажется, сроднился.
Из мамы получился бы отличный снайпер, если бы она пошла по этой части. Каждый раз, когда она выстреливает каким-нибудь метким замечанием, у меня возникает крохотная надежда, что её душа умерла всё же не окончательно.
А вот у Громилы вообще нет матери. И отца тоже. Никто не знает, в чём там дело. Известно только, что он живёт со своим дядей и восьмилетним братом, который выглядит так, будто воспитывается в волчьей стае. Ну и семейка! Нет, что хотите, а Фея Здравого Смысла мою сестрицу не посещала никогда.
— Конкретно — когда ты собираешься встретиться с этим молодым человеком? — вопрошает папуля.
— В субботу вечером. Пойдём поиграть в мини-гольф.
— Ну прям тебе высший свет! — фыркаю я.
— Заткнись!
И я затыкаюсь, потому что узнал всё, что нужно.
2) Утешение
Думаю, в субботу мы с Катриной, моей девушкой, пойдём играть в мини-гольф. Совпадение или так задумано? Угадайте с трёх раз.
— А может, не надо? — мнётся она, когда я делаю ей это заманчивое предложение.
— Надо! — отрезаю я, не вдаваясь в дальнейшие подробности.
У Катрины отвращение к гольфу с детства. Говорит, это потому, что её отец слишком много времени проводил, кладя мячики в лунки, вместо того чтобы сидеть дома и играть с дочерью в куклы. Я полагаю, что «Уэкворлд Мини-гольф Эмпориум» напоминает ей о тех тяжёлых годах.
— Да там так классно! — расписываю я. — «Уэкворлд» нельзя не любить! Это всё равно что не любить Диснейленд.
— Ненавижу Диснейленд, — заявляет она, но не рассказывает, почему. Собственно, я боюсь проявлять любопытство.
— Ну ладно, пойду, — говорит она, — только очки не считаем!
Поскольку мне плевать, кто выиграет, кто проиграет — не за этим иду — то я соглашаюсь.
— Платишь ты, — продолжает Катрина. — Я не собираюсь отваливать денежки за то, чтобы треснуть палкой по мячу.
Подтверждаю — плачý я. Собственно, можно было и не подтверждать — я всегда плачý. Катрина страшно старомодна во всём, что касается отношений с парнями. Парень всегда платит и придерживает перед ней дверь, и отодвигает стул, и так далее. Мне вообще-то это даже где-то как-то нравится. Строить из себя джентльмена — это, что ни говори, круто.
У нас с Катриной закрутилось на почве неудавшихся отношений. Сейчас объясню. Она на самом деле хотела встречаться с моим другом, Энди Бомонтом, а я хотел гулять с её подружкой Стейси ФерМоот. Но так получилось, что Стейси и Энди нашли друг друга и срослись в районе бёдер, да так, что разделить их может только хирургическая операция. Нам с Катриной оставалось лишь утешать друг друга. Делу помогло то, что я в те самые дни вывихнул плечо; Катрина решила сыграть роль сестры милосердия, так что всё получилось вполне естественно.
— В жизни, — философски заметил как-то мой отец, — ко многому приходится приспосабливаться.
К несчастью, он сказал это в тот момент, когда мамуля готовила ужин.
— В жизни ко многому приходится приспосабливаться, — напомнила она, ставя перед ним тарелку, на которой красовался жуткий сэндвич с арахисовым маслом и луком.
Отец ответил тем, что съел весь этот кулинарный ужас — вот просто из чувства противоречия — а затем неожиданно подловил мамулю и влепил ей смачный, пахнущий арахисовым маслом и луком поцелуй. После этого они не разговаривали друг с другом полтора суток. Взрослые иногда хуже детей, ей-богу.
Я зашёл за Катриной, и мы отправились в «Уэкворлд» пешком, потому что все автобусы в нашем захолустье шли только до некоего места, называемого Центром Транспортировки, где у тебя был реальный шанс поймать дюжину других автобусов, которые не идут вообще никуда. Поскольку по возрасту я ещё не дотягивал до водительских прав, у меня был выбор между велосипедом, такси или своими двоими. Катрина всегда предпочитала моцион — ходьба предоставляла нам возможность поговорить. Вернее, она ей предоставляла возможность поговорить, а мне — послушать. Наши роли меняются исключительно только после матча по лакроссу, когда мне совершенно невозможно заткнуть рот.
— …а на математике, — щебечет Катрина, — у мисс Маркел с одного глаза отклеились накладные ресницы и повисли, как волосатая гусеница, и весь класс затаив дыхание ждал, когда же эта штука отпадёт…
У меня её рассказы больше не вызывают отторжения. Ещё когда мы только начали встречаться, я старался не слушать, думать о чём-нибудь другом. Но со временем привык, и они, как ни странно, даже начали мне нравиться.
— …не понимаю, зачем ей накладные ресницы, наверно, так было принято в её молодости, ну, знаешь, как некоторые женщины выщипывают себе брови, а потом рисуют их карандашом, или как бинтование ног в Индии…
— В Китае.
— Точно, а ещё я думаю, она носит парик. Так вот, наконец она резко дёргает головой, эта штука отрывается, летит через весь класс и приземляется — куда бы ты думал? Прямо на макушку Оззи О'Деллу, который как раз собирается на турнир по плаванию и поэтому сбрил все волосы на теле, в том числе и на голове. А на ресницах осталось ещё немного клея, и они приклеились к черепу, так что у него получился крошечный «ирокез», а он и не заметил…
Дело в том, что у Катрины какой-то гипнотический голос, завораживает, словно монотонные заклинания на незнакомом языке.
— … вот и скажи, как мне сосредоточиться на контрольной, когда передо мной сидит этот мини-ирокез Оззи, а в окно поддувает, и штуковина у него на башке колышется под ветерком?
— А Маркел что — так и не заметила?
— Заметила — за пять минут до звонка. Подошла, отклеила её с Оззиной головы и сунула в ящик стола — наверно, думала, никто не видел, хотя видели все, но к этому моменту у меня уже не было времени закончить контрольную, так что из-за этих дурацких накладных ресниц всё вылилось в катастрофу вселенских масштабов.
У Катрины не жизнь, а сплошная драма. Может, моя сестрица вообразила, что если она будет встречаться с Громилой, то ей тоже перепадёт чуточку драмы; вот только я разбираюсь в парнях лучше, чем она, и, зная этого типа, могу смело утверждать, что ей придётся столкнуться с другим жанром — хоррором.
3) Устрашение
Вход в «Уэкворлд Мини-гольф Эмпориум» украшен огромной вывеской с кричащими красными буквами на чрезвычайно серьёзном чёрном фоне. На вывеске перечисляется всё, чем в «Эмпориуме» не разрешено заниматься. Каждые несколько месяцев, по мере того, как посетители заведения изобретают очередной интересный способ нанесения ущерба жизни, здоровью и собственности, к списку добавляется новый пункт. Всякий раз, приходя сюда, я внимательно прочитываю весь список в поисках этих новых пунктов. Вот некоторые из моих излюбленных формулировок:
Не наполняйте фонтан алкоголем, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями!
Пришпиливать детей к крыльям ветряной мельницы с помощью степлера или любого другого подобного приспособления строго запрещается!
Использовать жаб, черепах и прочих мелких животных в качестве мячей для гольфа запрещается!
Большая просьба не пририсовывать русалкам половые органы!
Последний пункт появился пару лет назад, и я горжусь тем, что несу за него личную ответственность.
Пройдя сквозь ворота, я тут же принимаюсь высматривать среди бетонных холмиков и искусственных газонов Бронте и Громилу. Они у лунки номер три, но к тому времени как Катрина выторговывает себе у служителя подходящую клюшку и красный мячик, они уже перешли к четвёртой.
— Зачем тебе обязательно красный? — спрашиваю я.
— Его легче увидеть. К тому же красный — это последний писк.
— Я думал, розовый — последний писк.
— Нет, розовый — это последний крик.
Указываю на свою футболку:
— А как насчёт зелёного?
— Для зелёного настали плохие времена.
Она бьёт по мячу, тот ударяется о крыло ветряной мельницы, отскакивает и возвращается к нам.
— Ненавижу ветряные мельницы, — говорит Катрина.
— Ты прямо как Дон-Кихот.
— Кто?
— Неважно.
Литературные родители — это просто наказание какое-то. Благодарение Господу, что я хороший спортсмен, не то быть бы мне битым в школьных коридорах. Ведь затравили бы ещё в раннем детстве! Жизнь — штука жестокая.
Мы проходим первую лунку. Семья перед нами движется довольно медленно и пропускает нас вне очереди через вторую. Я беру её с одного маху, и наша скорость возрастает. Теперь Бронте с Громилой всего в двух лунках впереди.
— Эй, глянь, — говорит Катрина, — это там не твоя сестра?
— О, действительно! Надо же.
— А с кем это она?
Я лишь пожимаю плечами и продолжаю играть. Мы оба быстренько проходим третью лунку и сокращаем разрыв до одной.
Бронте заметила меня. Я строю ей улыбку и делаю ручкой. Она посылает мне такой ледяной взгляд, что он мог бы положить конец глобальному потеплению.
— Привет, Бронте! — говорит Катрина, когда мы наконец нагоняем их.
— Какой сюрприз! — добавляю я.
— Ага, — цедит Бронте. — Уж сюрприз так сюрприз.
Я вперяю взгляд в Громилу. Вообще-то, я оказываюсь от него на таком близком расстоянии впервые в жизни. Ну и амбал. Не просто большой, а массивный, словно шкаф. В шестнадцать лет у него уже щетина на подбородке и баки. Тёмная грива взлохмачена. То есть видно, что он пытался её расчесать, но явно бросил это бесполезное занятие на полпути. Вот бомж и всё, клейма ставить негде. Ненавижу этого типа. Ненавижу даже саму мысль о существовании подобных типов. Громила — это целый эшелон неприятностей, с дикой скоростью несущийся прямо на мою сестру.
— Ребята, а нам нельзя к вам присоединиться? — спрашивает Катрина. — Будем играть все вчетвером, а?
Громила пожимает плечами — ему без разницы. Бронте в безнадёжном жесте вскидывает ладони вверх, поняв, что от меня не избавиться.
— Конечно, — кисло отвечает она. — Почему бы и нет.
— Ты не представила меня своему другу, — говорю я, сияя, словно ромашковая полянка под солнышком.
Вид у Бронте такой, будто её вот-вот вывернет.
— Брюстер, это мой брат, Теннисон. Теннисон, это Брюстер.
— Привет, — гудит Громила и трясёт мне руку. Глаза у него отвратительно зелёные, а пальцы сальные, как будто он только что сожрал целый пакетище чипсов. Я вытираю руку о брюки. Он замечает это. Вот и отлично.
Катрина, сузив глаза, внимательно рассматривает Громилу.
— Кажется, у нас с тобой есть общие уроки?
Конечно, она знает Громилу, просто не сразу узнала вне привычной обстановки.
— Да, английский, — отвечает он глухим, безжизненным голосом. Должно быть, он из породы молчунов — наверно, потому, что у таких, как он, в мозгах больше одного слова не помещается. Он собирается ударить по мячу. Вот комедия. Клюшка слишком мала для него, как и его футболка — та либо села на несколько размеров, либо он из неё вырос. Общее впечатление — Винни-Пух-переросток, вместе с объёмистым брюшком утративший и всё своё обаяние. Он бьёт слишком сильно, мяч отлетает и исчезает в глубине декоративного куста, подстриженного в форме моржа.
— Слишком резко, — говорю я. — Это будет тебе стоить нескольких очков.
— Это только игра, — гудит он и топает за своим мячом. Катрина посылает свой в дальний угол и тоже уходит, так что я остаюсь один на один с Бронте, которая, убедившись, что Катрина нас не слышит, немедленно набрасывается на меня.
— Ну, ты за это поплатишься! — шипит она. — Я ещё не знаю как, но что-нибудь придумаю, и тогда тебе жить не захочется!
Я бросаю взгляд на моржа.
— Что-то мне сдаётся, твой друг сам не справится. Пойду-ка помогу ему найти мяч.
И с этими словами, пританцовывая, иду к Громиле, а Бронте остаётся на месте и исходит паром.
Громила возится с обратной стороны куста — прорывается сквозь колючие ветки и тычет в заросли клюшкой, пытаясь извлечь оттуда мяч. Я тоже зарываюсь в глубину, нахожу мяч, подаю ему; придурок поднимает руку, но тут я хватаю его за грудки, рывком подтягиваю к себе и тихо рычу прямо в морду:
— Что бы ты там ни навоображал себе насчёт моей сестры, этому не бывать, comprende?[4] Она не подозревает, что ты собой представляешь, зато я хорошо-о знаю таких отморозков, как ты.
В его глазах цвета гнилого болота горит тупая ненависть, но он молчит.
— Надеюсь, ты меня понял? Или надо проделать дырку в твоём твердокаменном черепе, чтобы лучше доходило?
— Убери руки.
Я крепче наворачиваю его футболку на руку. Наверно, прихватил и немного волос на груди, но он не показывает, что ему больно.
— Что ты говоришь? Не слышу! — цежу я.
— Я сказал, убери от меня свои вонючие руки, не то я найду другое применение для этой клюшки!
Вот! Как раз это и ожидаешь услышать от подобного субчика.
— А ну давай посмотрим, какое применение ты имеешь в виду!
Но он ничего не предпринимает. Так я и думал. Тогда я, наконец, отпускаю его.
— Держись подальше от моей сестры!
Он выхватывает мяч из моих пальцев и шагает обратно к Бронте.
— Что-то мне расхотелось играть, — бурчит он и уходит с площадки. Бронте бросается за ним, послав мне взгляд, полный чистейшей, неприкрытой ненависти. Я приветственно машу ей рукой. Миссия устрашения завершена.
Катрина, которая не сильно заморачивается тем, каким образом она прошла лунку, объявляет себя победительницей в этом раунде и, подойдя ко мне, смотрит вслед уходящим Бронте и Болотному Водяному.
— Чего это они?
— Ушли путями неисповедимыми, — отвечаю я.
Катрина взмахивает клюшкой, и её мяч отскакивает от изящных кружев миниатюрной Эйфелевой башни.
— Ненавижу Эйфелеву башню, — говорит она, и я улыбаюсь ей, втайне наслаждаясь своей победой.
Иногда необходимо взять ситуацию под свой контроль. Иногда приходится брать на себя роль высшей силы, иначе воцарится всеобщий хаос. Вот, к примеру, лакросс. Эту игру изобрели индейцы, и поначалу она была способом ведения войны: надо было пронести мяч несколько миль, при этом игроки особенно не церемонились — во всю дробили клюшками кости противника. Были времена, когда даже в футбол играли человеческими головами. Понадобилась жёсткая сила — цивилизация — чтобы превратить необузданную жестокость в мирное соревнование, подчиняющееся строгим правилам. Но стоит только взглянуть на такого вот Громилу — и понимаешь: какая там цивилизация! Какие там правила! Меня пугает, что Бронте не в состоянии видеть эту дикость. Ведь придёт время, и меня не будет рядом, чтобы защитить её. Вот тогда ей придётся на собственном печальном опыте испытать жестокость парней, смотрящих на жизнь как на постоянную войну или игру человеческими головами. Такие истории можно услышать на каждом шагу.
Так что можешь ненавидеть меня, сколько хочешь, Бронте, но я поступил правильно. Твоя ненависть пройдёт, и настанет день, когда мы оба оглянемся на нынешний день, и ты скажешь: «Спасибо тебе, Тенни, за то, что спас меня от этого ужасного людоеда».
4) Откровение
Вечером Бронте заявляется в мою комнату, хватает меня за плечи и толкает обратно на кровать с такой силой, что врезаюсь головой в стену.
— Ой! Ты чего?
— Ах ты подонок! — кричит она.
Не отрицаю. Подонок так подонок. Однако иногда подонкам в жизни больше везёт.
— Что ты сказал ему там, за моржом?
— Я зачитал ему его права. Он имеет право молчать, имеет право найти какую-нибудь другую девчонку и пускать над нею слюнки… словом, то, что обычно говорят преступникам.
— Да у него ни одного привода в полицию нет! — говорит Бронте. — Просто такие идиоты, как ты, выдумывают о нём всякие гадости. Его не понимают, вот и всё. Только я одна изо всех сил напрягаюсь, стараюсь понять его. Чихать ему на твои угрозы. И я не перестану встречаться с ним, как бы ты ни бесчинствовал!
Тут я не выдержал и заржал:
— Тоже мне, нашла дебошира!
— Теннисон, посмотри правде в глаза — ты самый настоящий хулиган и отморозок!
— Это кто так говорит?!
Ну, погоди же, кто б ты ни был — тот, кто обзывает меня отморозком! Доберусь да как набью морду! Уже воображаю себе эту упоительную картину, и тут вдруг до меня доходит, что она самым ясным образом доказывает правоту Бронте, из-за чего мне ещё больше хочется кого-нибудь отдубасить. Порочный круг.
Что-то мне немного не по себе… Неужели я и вправду хулиган? Надо признать — не впервые мне бросают такое обвинение, но сегодня случилось то, чего никогда не случалось раньше: оно проламывает мою оборону и бьёт в самое яблочко. Внезапно я осознаю, что по крайней мере в глазах некоторых я действительно хулиган и отморозок.
Это то, что люди называют откровением. Откровения никогда не бывают приятными, скорее наоборот. Отвратная штука.
— Держись подальше от Брюстера! — предупреждает сестра и поворачивается, чтобы уйти, но я говорю ей вдогонку:
— Хорошо-хорошо, я понял! — Она приостанавливается около двери. — Он — первый парень, который тебе нравится и которому при этом нравишься ты, так что, кажется, тут особый случай. Всё, усёк.
Она поворачивается ко мне; похоже, кипение в котле слегка улеглось.
— Не первый, — возражает она. — Просто первый в моей взрослой жизни.
Вот умора — мы с ней одного возраста, какие-то пятнадцать минут разницы, я, кстати, старше, и пожалуйста — она считает себя взрослой!
— Берегись, Бронте, потому что… признай — этот парень… ну, он ниже тебя.
Прежде чем выйти, она долго смотрит на меня и печально качает головой.
— Лучше ты берегись, Тенни. Снобизм — это очень, очень гадкая штука.
5) Факты
Я никогда не считал себя хулиганом. Я никогда не считал себя снобом. Но опять же — а кто считает себя всем этим? Впрочем, есть способ объективного анализа. Достаточно лишь взглянуть на факты.
Факт № 1. Я довольно умный. Не гений, но получаю хорошие отметки, не прикладывая особых усилий. Это бесит тех, кому приходится отсиживать себе задницу за зубрёжкой, чтобы получить приличную оценку. Я не хвастаюсь, просто, получается, что в некоторых кругах само моё существование порождает неприязнь.
Факт № 2. У меня хорошая координация. Тоже не моя заслуга, таким уродился. Поэтому мне было легко преуспеть в спорте, когда я был ещё пацаном, а потом оставалось только совершенствоваться. Так я и достиг неплохих результатов в довольно многих видах.
Факт № 3. Я неплохо выгляжу. Не красавец, и кубики на животе не выпирают, нет, ничего такого; но если уж говорить о внешности, то здесь большую роль играет уверенность в себе, а уж этого у меня хоть отбавляй. Между нами — я умею произвести впечатление, поэтому всем и кажется, что я парень хоть куда.
Факт № 4. Мы не особо нуждаемся в деньгах. То есть, мы не богачи, но и не из бедных. И папа, и мама преподают в университете, зарабатывают весьма неплохо. Они ездят на скромных, но приличных автомобилях, и, полагаю, когда мы с Бронте сами начнём ездить, то и нам достанутся скромные, но приличные автомобили.
Ну вот — судите сами, можно ли меня из-за всего этого считать снобом? Дают ли мне эти факты право смотреть на Громилу с его жуткой семейкой и отвратными манерами сверху вниз? «Да, ты сноб! — слышу я у себя в голове голос Бронте. — Ты сноб, Теннисон, потому что лишь тонкая линия отделяет уверенность в своей правоте от наглой самоуверенности. Лишь тонкая линия отделяет дерзкого от хулигана. И ты — не на той стороне обеих линий».
Нет, мы не близнецы-телепаты, но иногда мне кажется, что между мной и сестрой есть какая-то такая связь, потому что время от времени я веду с нею воображаемые беседы. И меня раздражает, что даже в этих беседах за ней, как правило, остаётся последнее слово.
6) Израненный
В понедельник не знаю, где моя голова — мысли путаются; наверно, из-за того, что я чувствую себя немного виноватым перед Громилой. Как бы там ни было, ради Бронте я пытаюсь не поддаваться предубеждениям. Попробую пересмотреть своё мнение о её друге.
Я натыкаюсь на Громилу лишь в самом конце дня, влипнув при этом в самую что ни на есть неловкую ситуацию.
Перед тренировкой по лакроссу я захожу в раздевалку раньше, чем обычно. Как раз недавно закончилась физкультура, и в раздевалке один Громила — по-видимому, он не переодевается вместе с другими ребятами, ждёт, когда все уйдут.
При первом же взгляде на него я понимаю, почему.
Я вижу его спину. Зрелище способно нагнать страху на кого угодно. Это не спина нормального человека. Шрам на шраме, синяки и кровоподтёки, под одним плечом длинный красный рубец, по краям подсвечивающий желтизной. Спина парня — сплошная рана; она похожа на испещрённую кратерами и разломами поверхность Луны.
Я безмолвно стою и пялюсь на его спину. Громила натягивает футболку, даже не подозревая о моём присутствии, потом поворачивается и обнаруживает меня. Он понимает — я видел. Я не успел вовремя отвести взгляд.
— Чего надо? — ворчит он, не поднимая на меня глаз.
Я бы хотел ответить ему в тон, но… Мне нужно обуздать свою хулиганско-снобистскую натуру — если дать подобным вещам волю, они превратят тебя в самого что ни на есть отвратного гада. Единственное, что я могу записать себе в плюс: настоящие гады не подозревают, что они гады; а поскольку я беспокоюсь, как бы им не стать, то, может, и не стану?
Ах да, надо что-то сказать. Ляпаю единственное, что приходит в голову:
— Что это за имя такое — Брюстер? Тебя так назвали в честь кого-то?
Он смотрит на меня так, будто ожидает какого-то подвоха:
— А тебе что за дело?
— Никакого. Просто интересно.
Он не отвечает. Надевает куртку — сильно поношенный, кожаный бомбер,[5] она выглядит так, будто прошла по крайней мере три войны. Однако рубцы и царапины на куртке не идут ни в какое сравнение с тем, что я видел на спине парня.
— Классная куртка, — говорю я. — Где достал?
— В секонд-хэнде.
Еле успеваю прикусить язык, чтобы не бухнуть: «Оно и видно», и вместо этого говорю:
— Круто.
Он стоит теперь прямо напротив меня, широко развернув плечи. Поза бандита, приготовившегося дать отпор. Она словно говорит: «Только тронь!» Он мне не доверяет, но это ничего. Я ведь ему тоже не доверяю. Не могу сказать, что моя неприязнь к нему уменьшилась, но всё же в ней теперь есть примесь любопытства и беспокойства — и не только за Бронте, но и — совсем чуть-чуть — за Громилу тоже. Кто мог сотворить с ним такое и выйти сухим из воды, особенно если принять во внимание размеры этого парня?
— Так что тебе нужно? — спрашивает он. — Мне некогда.
— А кто говорит, что мне что-то нужно?
И тут я обнаруживаю, что тоже стою в угрожающей позе, перекрывая ему выход. Делаю шаг в сторону. По-моему, он ожидает от меня какой-нибудь пакости, типа подножки или пинка в зад, или ещё чего-то в этом роде. Наверно, то, что я этого не делаю, повергает его в недоумение.
— Мой прадедушка, — бросает он, проходя мимо. — Меня назвали в его честь.
И он исчезает, разминувшись в дверях с группой наших ребят — игроков в лакросс.
7) Принимающий
Наши родители никогда нас пальцем не трогали. Они принадлежат к дивному новому миру, где исповедуются правила тайм-аута и положительного подкрепления.
Я всегда был крепышом и драчуном, в случае чего — сразу пускаю в ход кулаки, а то и бросаюсь на врага всем телом, как боевой таран. Сколько раз меня таскали на ковёр к директору за потасовки — не перечесть. Я раздал всем, кто этого хотел, их заслуженную долю «фонарей» и разбитых носов и, в свою очередь, получил полную квоту того же обратно. А уж про лакросс и не говорю — там без синяков и ссадин не обойдёшься, вечно у меня где-нибудь что-нибудь светится.
Но то, что я увидел на теле Громилы, не лезет ни в какие ворота. Эти раны не объяснишь какой-нибудь невинной дракой в школьном коридоре. Или травмой, полученной на физкультуре. Он заработал их, служа живой боксёрской грушей, принимающей на себя чью-то необузданную жестокость.
8) Ограниченный
У мамули по понедельникам вечерние курсы — она читает лекции по реализму девятнадцатого столетия, — так что в этот вечер наступает очередь папули готовить — вернее, не готовить — ужин. Он заказывает фаст-фуд. В этом деле он насобачился так же хорошо, как и мамуля. Мы все трое сидим за обеденным столом и уминаем цыплёнка по-кентуккийски с картонных тарелок, помогая себе пластиковыми виложками.[6] Того, кто изобрёл виложку, надо было удавить при рождении. Папуля сдирает корочку теста со своего куска цыплёнка и подсовывает её Бронте, позволяя той насладиться всеми одиннадцатью травами и специями, придающими этому блюду его восхитительный вкус.
— Я видел сегодня Громилу, — говорю я Бронте. — То есть, я хочу сказать Брюстера.
— И чем ты его мучил в этот раз? — мгновенно реагирует она.
Но я не хватаю наживку.
— Он был в раздевалке. Без рубашки. — Откусываю, жую, проглатываю. — Ты когда-нибудь видела его без рубашки?
Папа поднимает голову от своей тарелки и говорит с набитым ртом:
— Конкретно — с какой это стати ей видеть его без рубашки?
— Ой, па-ап! — протягивает Бронте. — Расслабься, нервные клетки не восстанавливаются. При мне он никогда не показывается с голым торсом.
Теперь она направляет всё своё внимание на меня, пронзает рентгеновским взглядом, словно пытается вызнать, что за коварные замыслы я вынашиваю. А никакого коварства — мне лишь любопытно, что ей известно. Или хотя бы о чём она подозревает.
— А с чего это ты об этом спрашиваешь? — интересуется она.
Однако поскольку я ничего толком не знаю — ну видел там что-то, мало ли — то предпочитаю не распространяться.
— Неважно, — говорю, — считай, что я ничего не говорил. — И принимаюсь безуспешно отскребать своей виложкой остатки картофельного пюре со дна пластиковой чашки.
— Ты такой ограниченный! — раздражённо бросает она.
Но я спокоен, как железобетон.
— Что ты имеешь в виду — глупый или тупой? Не будешь ли ты так добра поточнее формулировать свои оскорбления?
— Дубина!
— Да зачем мне дубина, — отвечаю, — я и лакроссной клюшкой неплохо управляюсь.
Наверно, в моих же собственных интересах было бы оставить Бронте в покое и не пытаться ни до чего докопаться. В интересах, но не в силах. Поэтому после ужина я направляюсь в комнату сестры.
Дверь распахнута настежь, но я смиренно стучу. Вообще-то я не робкого десятка, но только не сегодня.
Бронте, должно быть, тоже обратила на это внимание — она поднимает голову от уроков, и стандартное выражение досады при виде меня на её лице сменяется любопытством, а может, даже и некоторой озабоченностью, потому что она спрашивает:
— Что — что-нибудь не так?
Пожимаю плечами.
— Да нет. Просто хотел поговорить с тобой о Брюстере.
— Пошёл вон!
— Думаю всё же, тебе стоит меня выслушать.
Она скрещивает на груди руки с выражением типа: «говори-говори, а мы послушаем».
— Ты знаешь, где он живёт, так? — спрашиваю я.
— В доме он живёт, вот где, — отвечает она, — точно так же, как мы с тобой.
— Ты когда-нибудь встречалась с его семьёй? Я имею в виду, с его дядей, ведь он с дядей живёт?
— К чему ты клонишь?
— Он когда-нибудь рассказывает о своём дяде?
— Нет, — говорит Бронте.
— Может быть, тебе стоило бы его расспросить.
С этими словами я поворачиваюсь, но прежде чем уйти бросаю взгляд на сестру: она застыла над тетрадью с карандашом в руке. Не пишет. Отлично. Значит, мои слова заставили её призадуматься. Не знаю, что она предпримет, но так она этого дела не оставит. Впрочем, я и сам не знаю, что бы сделал на её месте.
9) Разложение
Наш район претендует на звание самого быстрорастущего жилого комплекса во всём штате. Вот только что перед вашими глазами простирался пустырь; теперь моргните — и на пустыре уже выросли дома; моргните снова — и рядом с домами уже торчит торговый центр. Так и представляю себе бедняг-фермеров, которые смотрят в замешательстве на скопление розовых стен и красных черепичных крыш, и не могут понять, когда это их кукурузные поля успели превратиться в благоустроенные пригороды.
На самом деле эти фермеры продали свои земельные наделы за невероятную цену и сорвали очень даже недурной куш, так что жалости они у меня не вызывают. А бывает и так, что хозяева земли всё выгадывают, всё выжидают, как бы продать подороже, да так и остаются у разбитого корыта.
Громила как раз в таком месте и живёт. Когда-то это была небольшая ферма, но хозяйство уже давно заглохло, овощные грядки заросли сорняками и кустарником. Ну просто разлагающаяся язва на теле нашего посёлка, щеголяющего своими опрятными лужайками.
У них на ферме есть бык. Самый настоящий, только слишком старый и слабый, чтобы вести себя как подобает быку. Похоже, он никому не нужен, даже самому себе. Бывает, по дороге в школу детишки дразнят беднягу, он фыркает, ярится, делает вид, что сейчас кинется бодать ограду, но быстро остывает, поняв, что это усилие ему не по плечу. Мне кажется, Громила чем-то смахивает на этого быка.
В тот день, когда я провожаю Громилу домой, быка настигает смерть.
10) Вмешательство
Шпик из меня никудышный, ну, да и Громила особой наблюдательностью не отличается, так что мне удаётся проследовать за ним к его дому. Не знаю, какие открытия я рассчитываю там совершить, но что поделаешь — любопытство родилось раньше меня. К тому же я уверяю себя, что мной движет не просто любопытство, а то, что юристы называют «тщательным исследованием обстоятельств дела»; мол, я совершаю это даже не ради себя, а ради Бронте. Хотя, конечно, узнай она, что я увязался хвостом за её парнем, — пришлось бы мне искать себе донора на новые печень с почками.
Вообще-то я знаю, где живёт Громила, но мне хочется подсмотреть, чем он занимается по дороге. Может, встречается с другими подозрительными личностями, типа торговцев наркотиками? Я клятвенно пообещал себе, что не буду делать никаких поспешных выводов, но решил смотреть в оба и держать ушки на макушке.
Но нет, сегодня он ни с кем не встречается. Настоящий волк-одиночка. Идёт, глубоко погружённый в свои мысли — о чём бы они ни были. За всё время он оглянулся только один раз, но между нами шли другие ребята, так что он меня не увидел. Я прихватил с собой клюшку для лакросса, но стараюсь, чтобы она не бросалась в глаза — если он её заметит, то может заинтересоваться, в чьей руке обретается данный снаряд.
Их ферма размером в акр окружена проволочной изгородью и выходит в небольшой переулок. Этот переулок, словно старинный крепостной ров, отгораживает модерновый пригород от покрытого сорняками пустыря — бывшего огорода. Напротив фермы, на другой стороне, расположен одноэтажный торговый центр — супермаркет, кафе-мороженое, Холлмарк, заведение с красноречивым названием «Счастливые ноготки» — туда, как я понимаю, дамы ходят, чтобы осчастливить свои ноготки. Вплотную к ограде фермы притулился ряд больших мусорных контейнеров, которые стоят там, как тёмно-зелёная баррикада, призванная охранять мир нормальных людей от мира Громилы.
Он открывает ржавую калитку с вывеской «Вход воспрещён», затем закрывает её за собой на засов и шагает по сорнякам к дому. Я прячусь между двумя контейнерами и подглядываю за ним. Не могу избавиться от мысли, что глядя сквозь эту покрытую ржавчиной проволочную сетку, я смотрю в другое пространство и время. Старый одноэтажный фермерский дом смахивает на хлев. Под стеной — большой поцарапанный баллон с пропаном, крыша дома вся в проплешинах — черепица осыпается. Строение, кажется, слегка косит на сторону, должно быть, фундамент осел. Вся халупа выкрашена в некий цвет, который, как я думаю, когда-то был зелёным, но с течением времени обрёл такие оттенки, которым нет названия в цветовом спектре. А запашок здесь такой, что… словом, несёт быком и тем, что быки оставляют за собой. Бедные соседи с подветренной стороны.
Сегодня старый бык выглядит каким-то вялым. Вернее, он вообще очень плохо выглядит. Я не слишком разбираюсь в скоте, но если большое животное лежит на боку, голова у него вывернута под нелепым углом, а глаза не мигая смотрят вдаль, шансы на то, что он просто прилёг вздремнуть, ничтожны.
Я некоторое время наблюдаю за быком, ожидая, что тот вот-вот пошевельнётся, но нет. Теперь-то я уверен — бедняга совсем плох, потому что Громила стоит над ним с тем же тупым выражением на лице, что, как я подозреваю, можно сейчас увидеть и на моём собственном. В этот момент на крыльце появляется его братец.
Моментальный снимок братца:
Босоногий, джинсы рваные, полосатая футболка такого же неопределённого цвета, что и стены старой развалюхи. Из носу у него течёт — даже с моего наблюдательного пункта видно, как блестит его верхняя губа. Песочные волосы, где слово «песочные» нужно понимать буквально — похоже, будто пацана возили головой по песку и по грязи. На макушке птицы могли бы свить себе гнездо, и никто бы этого не заметил. Не преувеличиваю. Ну разве чуть-чуть. Словом, зверёныш.
Этот оборванец выскакивает на крыльцо, путаясь в слезах и соплях, и обращается к Громиле:
— Филей заболел, Брю. Ты же поможешь ему, правда?
Громила стоит и молча смотрит на быка, затем, наконец, медленно поворачивается к брату:
— Ему уже ничего не поможет, Коди.
— Нет! — кричит Коди. — Нет! Не говори так, он только приболел! Ты сможешь, ты справишься, ты всегда справлялся!
— Прости, Коди, — отвечает Громила.
И тут разражается драма: обливающийся слезами Коди кидается к быку, падает на него и неловко пытается обнять, но руки у него слишком короткие.
— Нет, нет, нет! — плачет Коди.
Наверно, мне надо было бы в этом месте почувствовать что-то вроде грусти, ведь, по-видимому, этот старый бык — домашний любимец, но я не могу — уж больно всё это странно, можно сказать — из ряда вон. Напоминает сцену из «Кладбища домашних животных», где мёртвого пса с помощью компьютерной анимации подменили этим несчастным быком, который взирает на меня через заросший сорняками огород исполненными одиночества глазами. Эти глаза словно говорят: «А мне уже всё равно…»
И в этот момент на крыльце появляется третий и последний член жуткой семейки.
Портрет дяди:
Сильно поношенные остроносые сапоги, на ремне — тусклая пряжка размером с половину автомобильного колпака, в открытом вороте рубахи видна татуировка в виде каких-то щупалец, седые всклокоченные патлы и жёсткая щетина на подбородке. По тому, как он, пошатываясь, держится за дверной косяк, можно заключить, что он либо пьян, либо с похмелья. Меня так и подмывает крикнуть ему: «Эй ты, ходячий стереотип!». Старый, побитый жизнью работяга. Наверняка его зовут как-нибудь типа Клем или Уайт. Строит из себя ковбоя, у которого только что сдохла последняя корова.
Как будто подтверждая мою догадку, старикан пыхает окурком и произносит:
— Эх, надо было мне продать тварюку на собачий корм ещё лет десять тому!
— Не говори так, дядя Хойт, не надо! — воет Коди.
— Вишь, с чем мне приходится возиться? — говорит дядя Хойт Громиле, как будто это всё его, Громилы, вина. — Где тебя носило? Почему не пришёл домой вовремя?
— Я пришёл вовремя, — отвечает Громила. — Когда это произошло?
— Откуда, к чертям, мне знать?
А Коди около быка продолжает причитать:
— Не может быть… неправда…
— Заткни ему пасть! — гаркает дядя Хойт.
Громила подходит к брату и отдирает его от мёртвого животного, но мальчишка совсем шалеет: вопит, ругается, молотит руками и ногами; такое впечатление, что их у него целый десяток, как у паука.
— Коди, перестань! — орёт Громила.
Но пацана как будто демоны обуяли: он царапается, щипается и кусается, так что в конце концов единственное, что остаётся Громиле — это оторвать брательника от себя; и как только он с этим справляется, пацан прыгает обратно на быка и прилипает к нему, словно обёртка к леденцу. Рёв возобновляется с удвоенной силой.
Тогда дядя Хойт расстёгивает пряжку, одним плавным движением выдёргивает из пояса джинсов ремень и накручивает его конец себе на руку, да так ловко, будто проделывает это каждый день. Затем старый хрыч кидается к пацану, на ходу размахивая ремнём с болтающейся пряжкой.
— ОН СДОХ! — орёт дядя. — УБЕРИ ОТ НЕГО СВОЮ ТОЩУЮ ЖОПУ, НЕ ТО Я С ТЕБЯ ШКУРУ СПУЩУ! ТЫ У МЕНЯ ДО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ РЕВЕТЬ БУДЕШЬ!
Он замахивается, пряжка угрожающе рассекает воздух — а Громила ничего не предпринимает. Просто стоит и смотрит, будто не в силах прекратить это издевательство.
— Нет!
Это мой голос. Я не подозревал, что выкрикну это слово до того самого момента, как оно по собственной воле не сорвалось с моих уст. Нет, я не собирался вмешиваться, но спокойно смотреть на это безобразие просто не было сил.
Они резко оборачиваются ко мне. Вот тебе и пожалуйста: теперь я — часть этого безумного старомодного вестерна, и ничего не остаётся, как выступить на сцену. Я сбрасываю рюкзак, но продолжаю крепко сжимать в руках клюшку; затем вскарабкиваюсь на контейнер, прыгаю через ограду и мчусь к троице, застывшей около быка. Подбежав поближе, вздымаю клюшку, словно оружие — наверно, так оно и задумывалось в те времена, когда игра ещё была войной — и, уставившись прямо в выпученные, слезящиеся глаза старикана, заявляю:
— Только тронь этого пацана — башку снесу и на собачий корм продам!
Всё вокруг застывает, словно в стеклянном снежном шаре; я даже не удивился бы, если бы вокруг нас заплясали маленькие белые хлопья. Затем Громила делает ко мне шаг, обхватывает своими громадными ручищами и разъярённо шипит в ухо:
— Не лезь не в своё дело!
Я пытаюсь высвободиться из его хватки, но он слишком большой, слишком сильный. Клюшка падает на землю.
— Что это ещё за дьявол? — вопрошает дядя Хойт, поняв, что в ближайшее время его башке ничто не угрожает.
Громила отталкивает меня.
— Не лезь! — талдычит он. — Это не твоё дело.
— Пожа-алуйста, дядя Хойт, — ноет Коди, — оставь Филея в покое!
Дядя меряет меня взглядом.
— Это твой дружок? — спрашивает от Громилу.
— Нет! — быстро отвечает тот. — Просто… парень из нашей школы.
Дядя Хойт сплёвывает на землю, не сводя с меня угрюмого взгляда, затем поворачивается и уходит в дом; ремень тянется за ним по полу, как собачка на поводке. Сеточный экран на двери закрывается, и больше я не вижу старого хрыча, зато слышу, как он рычит из комнаты:
— Избавься от падали, Брюстер. Управляйся сам, я ничего не хочу об этом знать.
Громила взирает на меня со злобой, которую ему надо было бы направить на своего любезного дядюшку. Мы молчим, тишину нарушают только звон колёс тележек из супермаркета да вопли мальчишки, цепляющегося за дохлого быка, над которым уже вьются мухи.
Громила решает, что я не стою его усилий, отворачивается и идёт к своему брату, но вместо того чтобы утешать мальчишку, опускается рядом с ним на колени, обнимает быка — в точности, как его брат — и погружается в скорбь. Поначалу он только тихонько всхлипывает, но вскоре этот еле слышный звук вырастает в такие же неутешные рыдания, что издаёт его братец. Они воют в унисон. Прямо какая-то жуткая гармония печали.
Мне ужасно неловко, как будто я подсматриваю за чем-то очень личным, — но оторваться от этого зрелища не в силах. Поскорее бы убраться отсюда, но это же будет всё равно, что уйти в середине похорон.
Через короткое время рыдания Коди переходят в тихое подвывание, но Громила всё ещё сломлен горем, и весь сотрясается от плача; мне чудится даже, что при каждом его всхлипе у меня под ногами вздрагивает земля. Ещё мгновение — и Коди совершенно успокаивается, как будто всё, чего ему надо было — это чтобы кто-нибудь разделил его скорбь.
Страстные рыдания Громилы продолжаются ещё с минуту, а Коди терпеливо и беззаботно ждёт, рисуя в грязи крестики-нолики.
Наконец, и скорбь Громилы начинает угасать. Он постепенно овладевает собой, потом встаёт, подхватывает на руки Коди. Тот крепко обвивает шею старшего брата своими паучьими лапками, и Громила уносит его в дом, не удостоив меня даже взглядом.
Я стою, как примороженный. Понимаю же, что пора убираться, но что-то держит меня, что-то твердит: погоди, ещё не всё! Наконец, я поднимаю с земли свою клюшку и пытаюсь отряхнуть её от грязи… По крайней мере, я надеюсь, что это только грязь. Разворачиваюсь и направляюсь к забору, соображая по дороге, что припереться сюда, а потом вмешиваться в жизнь здешних обитателей было огромной ошибкой с моей стороны, но в это время сзади раздаётся скрип двери. Оглядываюсь и вижу Громилу — он выходит из дома.
— Может, ты объяснишь, что тебе здесь понадобилось? — спрашивает он.
Мне теперь плевать на всякие вежливые расшаркивания и плевать на то, что вылетит из моего рта. А когда тебе всё равно, что говорить, правда вырывается наружу на удивление легко.
— Я шпионил за тобой. Хотел выяснить, что ты за фрукт и что у тебя за семейка.
Я ожидаю, что вот теперь он вызверится на меня по полной, но он лишь усаживается на крыльцо и хмыкает:
— Ну и как? Узнал всё, что хотел?
— Достаточно. — И добавляю: — Неужели ты действительно собирался стоять и наблюдать, как твой дядя избивает пацана?
Он смотрит мне прямо в глаза.
— С чего ты взял, что он стал бы его избивать?
— Ну, знаешь… Никто не размахивает так ремнём, если не собирается пустить его в ход.
Громила лишь плечами пожимает.
— С чего ты взял? Думаешь, что знаешь моего дядю лучше меня? Может, ему просто нравится орать, он наслаждается собственными криками — такое тебе никогда в голову не приходило?
Что-то всё это не вяжется, однако Громиле удаётся заронить в моё сознание семена сомнения, чего, безусловно, он и добивался. Но тут я кое о чём вспоминаю.
— Я видел твою спину. И я вполне в состоянии сложить вместе два и два.
Снова в его глазах вспыхивает злобный огонёк. И одновременно я вижу в них испуг. Совсем немного, но всё же.
— Два и два не всегда четыре, — говорит он.
Что-то в его тоне подсказывает мне, что он, возможно, прав. Может, и в самом деле всё совсем не так, как я думаю… Но опять-таки — что-то в его голосе звучит такое, что я понимаю: дело обстоит куда хуже.
— Во всяком случае, — произносит он, — ты молодец — не спасовал перед дядей Хойтом.
— Ну, вообще-то…
— Хочешь зайти? — спрашивает он.
Вот уж чего не ожидал.
— С какой радости мне заходить?
Он снова пожимает плечами.
— Не знаю… Может, тебе будет интересно узнать, что мы не хлебаем из одной миски с собаками. Или что я не изготовляю бомбы у себя в подвале.
— Я никогда и не говорил…
— Спорим, что ты так думал?
Я отвожу глаза в сторону. Сказать по правде, с того самого момента, когда я услышал, что они с Бронте встречаются, чего только я о нём не передумал! Одно другого хуже. Бомбы в подвале — это ещё самое невинное из того, что я ему приписывал.
— Ну? — говорит он. — Пойдём, налью тебе чего-нибудь попить.
Может, это очень храбро с моей стороны — противостоять его размахивающему ремнём полоумному дяде, но, уверен, Громиле потребовалось куда больше мужества, чтобы пригласить меня к себе в дом.
11) Договорённость
Надо сказать, я немного разочарован. Дом как дом. Конечно, запущенный и без всяких финтифлюшек, придающих жилью уют, и всё-таки это просто дом. Единственное, что можно о нём сказать — это что кругом царит та же бесцветность, что и снаружи. Обои поблекли, диван весь в пятнах, синий ковёр на полу заляпан бордовым и коричневым. «Не дом, а какой-то огромный подживающий синяк», — размышляю я.
Откуда-то из глубины помещения доносится звук работающего телевизора. Арочный проём за кухней ведёт в темноту, в которой мерцает экран. Должно быть, там гостиная, хотя я подозреваю, что гостей в этом доме отродясь не бывало, и комнату правильнее было бы назвать «берлогой дядюшки Хойта». Представляю её себе, как наяву: огромное полуразвалившееся кресло с откидной спинкой, телевизор, цвета в котором поблекли так же, как и всё в этом доме, бесчисленные пустые банки из-под пива…
Громила наливает мне лимонада.
— Можешь пить спокойно, не отравленный, — говорит он.
Я избегаю прикасаться к чему-либо. Не потому, что оно грязное, а потому что… нечистое. Не могу толком объяснить разницу; наверно, это как-то связано с моим снобизмом. Однако преодолеваю свою брезгливость и опускаюсь на кухонный табурет. В раковине полно грязных тарелок. Громила замечает, что я это замечаю.
— Извини, — говорит он, — мыть посуду — моя обязанность. Обычно я это делаю, как только прихожу домой.
— Чем занимается твой дядя?
— Работает в государственной дорожной службе, — отвечает Брюстер. — Водит каток в ночную смену.
По-моему, очень подходящая профессия для этого маньяка. В воображении тут же возникают жутковатые картинки: дядюшка Хойт со злорадной ухмылкой раскатывает в лепёшку несчастных зверушек, увязших в горячем асфальте…
Я поднимаю стакан, выставляя на обозрение Громилы костяшки пальцев — ободранные, в кое-как подживших волдырях.
— Откуда это у тебя? — спрашивает он. — Ботаников колотишь?
Ага, провокация! Не поддамся.
— Лакросс.
— А, — говорит он, — спорт. Должно быть, жёсткая игра?
Я передёргиваю плечами.
— Нормальная. Отлично подходит, чтобы выпустить накопившийся пар.
Он кивает.
— А как же ты выпускаешь пар, когда не сезон?
— Разношу клюшкой почтовые ящики.
Он смотрит на меня так, будто всерьёз верит моей трепотне.
— Шучу, — успокаиваю я, но, кажется, убедить Громилу не получилось. Я немного не в своей тарелке, потому что до сих пор весь разговор шёл только обо мне, так что меняю тему.
— Так значит, твой дядя работает на государственной службе; наверно, неплохо зарабатывает?
То есть, другими словами: «Если он хорошо зарабатывает, то почему вы так плохо живёте?»
Громила бросает взгляд в сторону гостиной. Мерцающие отсветы экрана играют в арочном проёме, отчего он кажется порталом в другое измерение. Скорее всего — в личный ад дядюшки Хойта. «Оставь надежду всяк сюда входящий».
Громила вновь поворачивается ко мне и тихо произносит:
— Государство прибирает к рукам его зарплату.
— То есть как?
Громила усмехается.
— А вот так. Не слыхал, что так бывает? Значит, есть кое-что, о чём я имею понятие, а ты нет. — Он наслаждается моментом, а потом объясняет: — У него бывшая жена и трое детей в Атланте. Государство вычитает алименты из его зарплаты напрямую, до того, как ему выдают чек — знают, что иначе он платить не будет. — Он качает головой. — Смешно — он бросает жену и троих детей, и что в результате? Я и Коди у него на шее.
Меня подмывает спросить, как это случилось, но тут я соображаю, что история эта наверняка не из романтичных. Если мальчишки оказались на попечении своего дяди-лузера, то с их родителями, конечно же, приключилось что-то очень нехорошее. Либо мертвы, либо сидят, либо просто бросили детишек на произвол судьбы. Что ни возьми — всё пахнет плохо, так что я решаю не поднимать вопрос.
— Твой дядюшка, как я посмотрю, крутой мужик, — говорю я. Сарказм хлещет из меня через край и добавляет ещё одно пятно к тем, что уже имеются на ковре.
— Он не так уж плох. Бывают хуже.
Как раз в это мгновение из своей комнаты выходит Коди. Он без майки.
— Моя футболка воняет Филеем, — заявляет он, — а у меня больше нет чистых. Это ты виноват, что у меня больше нет чистых рубашек!
Громила вздыхает и поясняет:
— Стирка белья — тоже моя обязанность.
Я начинаю подозревать, что вся домашняя работа — его обязанность.
Окидываю взглядом голую спину Коди. Совсем иная картина, чем у его брата. Ни синяков, ни шрамов, вообще никаких признаков того, что необузданный дядя воспитывает племянника ремнём. Может, я действительно ошибаюсь, и мужик на самом деле мечет громы и молнии только на словах, а сам и пальцем не трогает своих подопечных? А как же тогда спина самого Громилы?
А он в это время идёт в маленький чулан, примыкающий к кухне и превращённый в прачечную, выбирает из вороха белья, громоздящегося на сушилке, маленькую футболку и бросает её Коди.
— Чистая?
— Нет, я ею в сортире подтёрся.
Коди бросает на брата косой взгляд, на всякий случай обнюхивает футболку и, удовлетворённый, шагает в свою комнату, на ходу по-гудиниевски пытаясь продеть одновременно голову и руки в соответствующие отверстия одёжки.
Громила возвращается на кухню.
— Ну что ж, наверно, тебе пора перейти к основной части нашего разговора — к тому, чтобы я держался от твоей сестры подальше. Угрозами ты ничего не добился, значит, теперь постараешься убедить меня более цивилизованным образом, я правильно понимаю?
У меня не достаёт смелости взглянуть ему в глаза. Знаю, что вид у меня виноватый, но, сказать по правде, я сердит на себя самого за то, что налетел тогда на Громилу, как самый настоящий отморозок.
— Бронте сама себе голова, — ворчу я. Потом добавляю: — Но мне бы очень не хотелось, чтобы она встретилась с дядюшкой Хойтом.
— Мне тоже, — соглашается он. — И, на всякий случай: я совсем не такой, как мой дядя.
— Сам вижу. — Протягиваю ему ладонь. — Ну… надеюсь, ты не в обиде?
Он несколько секунд молча взирает на мою руку, и у меня уже было возникает чувство, что он всё-таки в обиде, но тут он пожимает её — крепко, решительно, с достоинством.
Мы киваем друг другу — взаимопонимание достигнуто. Словно мы — две державы, договорившиеся о ненападении и тем самым предотвратившие войну.
Дядюшка Хойт выползает из своей берлоги, и Громила отдёргивает руку, как будто его поймали на краже леденцов из кондитерской лавки. Мужик окидывает нас недобрым взглядом — как будто подозревает нас в злоумышлениях против него.
— Что это он тут расселся? Я сказал тебе — займись падалью!
Громила открывает рот, но я встреваю раньше, чем он успевает что-то сказать:
— И что, по-вашему, он может сделать? Щёлкнуть пальцами — и всё, труп исчез?
Мужик ухмыляется. Тьфу, в жизни не видал такой противной ухмылки! Снова чувствую себя каким-то нечистым.
— Ясное дело, — кривится дядюшка, — всю тушу за раз не унесёшь. Там, в сарае — бензопила.
12) Отвлекающий манёвр
Вернувшись в тот вечер домой, я не докладываю Бронте о том, где был и что делал. Даже когда она за ужином замечает, что от меня как-то странно пахнет, я лишь отвечаю, что собираюсь принять душ. Хотя мылся уже дважды.
Не хочу вдаваться в подробности уборки туши несчастного Филея. Очень неаппетитное зрелище. Остаётся только благодарить Бога за то, что тут же, по другую сторону ограды старой фермы стоят мусорные контейнеры. Теперь я понимаю, почему мафиози так повязаны между собой: когда избавляешься от трупа, это как-то объединяет.
На следующий день я встречаю Громилу на перемене между вторым и третьим уроком. Мы киваем друг другу, как будто между нами существует общая тайна. Он поднимает руку, чтобы поправить свою сумку, и тут я замечаю, что костяшки его пальцев ободраны. Наверно, поранился во время наших вчерашних манипуляций с телом мёртвого быка.
Машинально бросаю взгляд на собственные пальцы и… Они чисты, волдырей как не бывало. Да нет, что это я… Просто на мне всё заживает как на собаке, вот и всё. Вообще — как часто я любуюсь своими костяшками? Я постоянно весь в ссадинах и синяках, есть мне время замечать, что там и когда появляется, а что исчезает!
Вот только… Я видел свои разбитые костяшки вчера. Вчера. И не я один. Громила тоже обратил на них внимание.
Пытаюсь уверить себя, что это чушь, ерунда, трюк из тех, что иногда выкидывает жизнь — словно ловкий фокусник, ложным манёвром отвлекающий внимание публики. И всё же в глубине души я осознаю, что здесь что-то очень не так. Я столкнулся с чем-то необъяснимым и боюсь признаться в этом даже самому себе.
БРОНТЕ
13) Предупреждающее
Мой брат — идиот.
То есть, Теннисон, конечно, не дурак, но в жизни он не смыслит ни черта. Взять хотя бы тот случай, когда он заявился на мини-гольф и пошёл сыпать угрозами, а всё только потому, что мы с Брюстером решили вместе поиграть. Это ведь было не вечернее свидание, а так — где-то в середине дня. Какое же это тогда свидание? Просто Теннисон такой — он должен всё всегда держать под контролем; наверно, боится, что если ослабит хватку, то мир рухнет. Братец убеждён, что без его железного кулака не выживет никто, а я так и подавно.
Пусть он там себе думает, что хочет, но у меня, слава Богу, с головой всё в порядке, спасибо всем большое! Я разбираюсь в парнях куда лучше, чем он в девчонках. Не верите? Тогда присмотритесь получше к его нынешней подружке — Катрине. Вот уж у кого правильное имечко! У неё на лбу большими буквами написано: «Вот идёт стихийное бедствие, спасайся кто может!»
Я твёрдо убеждена: любого парня надо узнать как следует ещё до того, как отношения с ним перейдут на серьёзный уровень. Конечно, опыта у меня пока ещё маловато, зато, к счастью, у моих подруг его достаточно. Я учусь на чужих ошибках — они служат мне дорожными знаками, предупреждающими об опасностях.
1) У Карли я научилась тому, что никогда не стоит встречаться с младшим братом самого популярного в школе парня. Младший брат, как правило, стремится доказать, что и он не лыком шит, и будет доказывать это за твой счёт.
2) У Венди я научилась тому, что если прикидываться дурочкой, то тебе достанутся парни, которые будут ещё глупее, чем ты пытаешься из себя изобразить.
3) У Дженнифер я научилась избегать любого парня, бывшая девушка которого ненавидит его всеми фибрами души. Скорее всего, у такой ненависти есть веская причина, и, возможно, тебе придётся испытать её на собственной шкуре.
4) У Мелани я научилась тому, что хотя у парней только одно на уме, со многими из них сразу становится легче работать, как только ты совершенно определённо дашь им понять, что этого самого «одного» в ближайшем обозримом будущем им не видать как своих ушей. Во всяком случае, от тебя. И всё, дело сделано — они либо принимают твои условия и остаются с тобой, либо отправляются на поиски девчонки, которой нет дела до предупреждающих знаков.
Год назад я применила пункт номер четыре к одному парню, и всё получилось как нельзя лучше. Его звали Макс, и он был моим единственным парнем до Брюстера. С ним мы прошли все общепринятые жизненные этапы: первое свидание, первый поцелуй, первый истерический припадок у моих родителей, когда я однажды заявилась домой слишком поздно. Ему достался первый подозрительный взгляд моего отца, а мне — первый косой взгляд его матери. Когда все эти эпохальные события остались позади, мы стали как все нормальные люди.
В конце концов мы, конечно, расстались, потому как подобные отношения долго не живут — они лишь подготовка к жизни, тренировка. Это как с велосипедом — начинаешь с трёхколёсного, но потом ведь приходится пересаживаться на двухколёсный. Однако мы остались хорошими друзьями, и это теперь очень помогает ему в отношениях с девушками (см. пункт № 3).
Я никогда особенно не заботилась о популярности. Мне хватает популярности у тех людей, к которым я сама испытываю дружеские чувства; меня, можно сказать, любят, ну, если не считать некоторых сучных Барби, обзывающих меня «мужичкой». У меня действительно плечи несколько более развиты, чем обычно у девочек, но это потому, что я занимаюсь плаванием и участвую в школьной команде. Я утешаюсь тем, что частенько приношу домой золото на шее, а всё, на что могут рассчитывать Барби — это камни на пальцах.
Так что, приняв во внимание все эти соображения и отдавая себе ясный отчёт в опасностях затеваемого предприятия, я решила, что полностью готова к отношениям с Брюстером Ролинсом.
Я коренным образом ошибалась.
14) Лось
Хотя мне и ужасно неприятно, но вынуждена признать: Теннисон прав насчёт того, что привлекло моё внимание к Брюстеру. Я имею в виду слова моего братца про бездомную собачонку.
Всякие несчастные зверушки всегда были моим слабым местом. Ну, не могу я перед ними устоять. Однажды, лет в десять, притащила домой одну совершенно психопатическую ши-тцу — та без конца кусала всех за пятки. В голове не укладывается, как такая крохотная собачка могла пролить столько нашей крови. Мы назвали её Пираньей и сдали в приют для бездомных животных, у которого был лозунг: убивать братьев наших меньших нельзя, какими бы они ни были. Правда, позже до меня дошёл слух, что из-за нашей Пираньи они едва не изменили своим принципам.
Кстати, о принципах. Поскольку девять из десяти моих бездомных питомцев не угрожают жизни и здоровью членов нашей семьи, я не собираюсь пересматривать свои жизненные установки, спасибо всем большое.
Брюстер Ролинс, хоть и имеет крышу над головой, — всё равно беспризорный во всех остальных смыслах этого слова.
Всё началось в тот день, когда он заявился в библиотеку.
Я как раз подвизалась там в качестве помощника библиотекаря, и мои обязанности заключались в том, чтобы праздно слоняться между полок, пока библиотекарша ломала себе голову, чем бы меня занять. Работа меня не напрягала — я люблю книги, да и времени для чтения было хоть отбавляй. Вы знаете, что если взять книги из обычной школьной библиотеки и выстроить все слова в одну линию, то она обовьётся вокруг всего земного шара?
Вообще-то, я это придумала, но разве это не звучит как самая настоящая правда?
В мои обязанности также входило помогать другим находить нужные книги. Соображалка у всех работает по-разному; встречаются тупицы, которые могут бродить по библиотеке часами без всякого толку. Для таких то, что написано на карточках каталога — китайская грамота, постигнуть которую может только гений.
И вот передо мной стоит один из таких — я поняла это по тому, как растерянно он застыл около полки с поэзией — словно олень, пойманный лучами фар на тёмной дороге. Очень большой олень. Можно даже сказать, лось.
— Я могла бы помочь тебе найти то, что ты ищешь, — сказала я как можно вежливее: я известна тем, что могу до смерти напугать робкую лесную дичь.
— Где у вас тут Аллен Гинзберг?[7] — спросил лось.
Я чуть не села. В нашей библиотеке ещё ни разу никто не спрашивал книг Аллена Гинзберга. Я принялась просматривать полку с поэтическими сборниками, стоящими в алфавитном порядке.
— Это вам такое задали?
Меня разбирало любопытство: кто из учителей задал своим ученикам читать поэзию битников? Скорее всего — мистер Беллини. Втайне мы все были убеждены, что нет такого психоделического средства, которое бы он в своей жизни не попробовал, так что мозги у него уже давно были набекрень.
— Нет, никто ничего не задавал, — сказал лось. — Просто захотелось перечитать Гинзберга.
Я даже забыла, на какой букве остановилась. По опыту знаю, что парень берёт в руки книгу стихов только по трём причинам: а) чтобы произвести впечатление на девушку, б) потому что задали и в) чтобы произвести впечатление на девушку.
Так что, довольная своей проницательностью (ах, какая я умница!), я нахально поинтересовалась:
— Как её зовут?
Он уставился на меня, моргая своими лосиными глазами. Красивого зелёного цвета, должна признать.
— Кого?
Ой, влипла. Но не объяснять же ему…
— Никого, забудь, — сказала я, быстренько нашла книжку и протянула ему. — Вот, пожалуйста.
— Да, как раз то, что нужно. Спасибо.
Всё равно я никак не могла поверить. В смысле, Аллен Гинзберг — это же авангард из авангардов, выходит за любые рамки, даже по стандартам модернистской поэзии.
— То есть ты… хочешь почитать его… так просто, для удовольствия?
— А что, нельзя?
— Нет, нет, что ты… просто… — Кажется, я выставила себя полной дурой, так что пора закругляться. — Забудь, что я вообще что-то говорила. Приятного чтения!
Он опустил глаза на книжку.
— Не могу объяснить… — сказал он. — Просто его стихи заставляют меня что-то чувствовать… Но мне не надо это чувствовать в отношении кого-то, так что я легко отделываюсь.
Это было настолько странно сказано, что я рассмеялась. Конечно, он обиделся и повернулся с намерением уйти.
Но что-то внутри меня сопротивлялось тому, чтобы наша внезапная встреча среди книжных полок закончилась подобным образом, поэтому не успел он дойти до конца ряда, как я бухнула:
— А ты знаешь, что Аллен Гинзберг пытался заставить Пентагон левитировать?
Он обернулся.
— Что, правда?
— Правда. Он и группа противников войны во Вьетнаме окружили Пентагон, уселись в позу лотоса и принялись медитировать с целью поднять военное ведомство в воздух.
— И как — получилось?
Я кивнула.
— Точнейшие приборы показали изменение высоты в ноль целых семь десятых миллиметра.
— Что, правда?!
— Нет, про высоту я выдумала. Вот была бы бомба, если бы это оказалось правдой, а?
Он рассмеялся. Похоже, самый подходящий момент протянуть руку и представиться.
— Меня зовут Бронте.
— Да, я знаю. — Моя рука почти исчезла в его ладони. — Наверно, тебя назвали в честь писательниц Шарлотты и Эмили Бронте. Не читал, но имена мне знакомы.
Я даже обрадовалась, что он их не читал — парень и так со странностями, а тут было бы уже совсем что-то запредельное.
— Мои родители — профессора литературы в университете. Моего брата назвали в честь знаменитого поэта — Теннисона.
— Наверно, терпеть не может своё имя? — предположил он. — Ведь он такой… медный лоб и клубок мускулов.
— Ты его знаешь?
— Понаслышке.
Ну да, понятно. Мой братец заслужил себе репутацию — будь здоров. Она несётся впереди него, как… ну, скажем, град перед торнадо.
— Вообще-то он любит своё имя. Люди не могут связать одно с другим и впадают в недоумение. Он обожает, когда люди впадают в недоумение.
Лось так и не сказал, как его зовут. Поскольку моё имя он знал, мне захотелось создать впечатление, что и я знаю, кто он такой. Придётся хитрить.
— Мне нужна твоя читательская карточка — зарегистрировать книгу.
Он протянул мне карточку, и я кинула быстрый взгляд на его имя.
— Ну, Брюстер, если тебе понадобится совет насчёт каких-нибудь других поэтов — дай знать.
— Мне нравятся только рассерженные, — сказал он. — Знаешь таких?
— Да сколько угодно!
Тут я слегка покривила душой, но не беда — зачем на свете существует Гугл?
Он пошёл к выходу, и у меня появилась возможность как следует рассмотреть всю его фигуру целиком. Он был большой, но не толстый, небрежный, но не неряшливый. Одежда — сильно изношенная; но не потому, что у него такой стиль — она просто старая; брючины короче, чем нужно, по крайней мере, на пару дюймов. Но вот что интересно: в то время как другие ребята выглядят в кожаном бомбере напыщенными петухами, Брюстер носил свою потрёпанную куртку с удивительной естественностью.
И тут, наконец, в голове у меня словно щёлкнуло, да так, что я ахнула. Брюстер Ролинс! Это же тот самый парень, которого все зовут Громилой! Слишком большой, чтобы над ним издеваться, и слишком не от мира сего, чтобы войти в чью-нибудь клику. Всегда держащийся на заднем плане, пытающийся слиться с фоном. В течение всех этих лет — и начальной школы, и средней — я даже была с ним пару раз в одном классе, но… мы как будто жили на разных планетах.
Я с трудом могла увязать воспоминания о тихом незаметном мальчике с парнем, которого встретила в тот день в библиотеке. Но одно можно утверждать точно: Брюстер был бесприютным, неприкаянным существом. Значит, кое-кому стало позарез нужно подобрать его.
15) Вопиющее
Как Теннисон ни старался устранить Брю из моей жизни, я делала всё от меня зависящее, чтобы встречаться с ним как можно чаще. Ну хорошо, признаю — поначалу мною двигали самые разные побуждения: желание сделать назло брату, сострадание к бесприютному бедняге, да и обыкновенное банальное любопытство — но они быстро уступили место чему-то более глубокому — более осязаемому и даже, можно сказать, опасному; потому что как только кто-то становится тебе небезразличен, ты сам становишься раним и уязвим со всех сторон. Уверена — Брюстеру это известно, как никому другому.
Наше первое свидание — на площадке для мини-гольфа — благодаря вмешательству Теннисона обернулось катастрофой, поэтому я твёрдо решила сделать всё, чтобы второе прошло как по маслу. Что б такое придумать? Всю неделю мы встречались в школе за ланчем, и он, как большинство парней, предложил сходить в кино. Голову даю на отсечение: ходить на свидании в кино придумали мужики. Разговоры разговаривать не надо, а темнота способствует другим видам общения. Очень удобно.
— Пойдём когда-нибудь, — сказала я Брюстеру. — Может быть. Но пока мне хотелось бы побыть с тобой в таком месте, где я смогу видеть твои глаза.
Он, кажется, слегка занервничал — его руки нырнули в карманы. Ясно, чего он боится: что я хочу в ресторан. А я знаю его уже достаточно хорошо, чтобы понять — с деньгами у него напряг.
— Как насчёт пикника? — спросила я.
У него явственно отлегло от сердца.
— А что, было бы весело… — сказал он и, помолчав, добавил: — если только твой братец не выскочит из корзины с едой.
Я засмеялась. Вышло немного неестественно, потому что узнай только Теннисон о нашей затее — наверняка придумает что-нибудь, чтобы всё испортить. Помните — это происходило сразу же после столкновения в «Уэкворлде», так что у меня были все причины считать родного брата самым своим лютым врагом.
— Он ничего не узнает, — успокоила я.
И он не узнал. Никто не узнал. В ту субботу вся моя семья пребывала в убеждении, что я встречаюсь с подругами в торговом центре; а поскольку лгунья из меня никакая, я подстроила всё так, чтобы это оказалось правдой. Я действительно побыла с подружками в центре — целых двадцать минут! — а потом рванула оттуда к началу тропы, ведущей на Маллиган Фоллз. Рюкзак я набила под завязку сэндвичами и всякими приправами. Ещё я сунула в него одеяло. Брю принесёт напитки. «Поскольку тебя зовут Брю,[8] это только логично» — заявила я, хотя мне и пришлось уточнить, что пиво вовсе не имелось в виду.
Когда я добралась до условленного места, он уже был там — мерил полянку шагами, должно быть, боялся, что не приду.
— Привет! — Я приобняла его.
От него пахло дезодорантом «Меннен» — не сильно, в самый раз. Мне нравится этот мягкий и ненавязчивый аромат. Парень, от которого так пахнет, для меня куда более привлекателен, чем тот, от которого разит одеколоном. Одеколон — вообще штука подозрительная. Как, например, дезодорирующее средство для ковров…
— Я сказал дяде, что пошёл в субботнюю школу, — произнёс Брю, — так что у нас есть несколько часов.
— Почему бы тебе просто не рассказать ему правду? — удивилась я.
— Он считает, что выходные человек должен проводить со своей семьёй.
Больше он о дяде не упоминал.
Мы стали рассматривать карту маршрута.
— Ты уверена, что хочешь пойти со мной? — спросил он. — Меня, как-никак, признали Наиболее Подходящим Кандидатом На Высшую Меру…
— О… Так ты слышал об этом?
Мне было стыдно, что я принадлежу к школьному сообществу, способному на такую жестокость. В «годовую книгу» факт голосования, правда, не вошёл, однако все о нём знали, как знали и имя «победителя».
— Знаешь что? — сказала я. — С тобой я чувствую себя куда спокойней, чем со многими другими парнями из нашей школы.
— Спасибо… наверно…
Мы двинулись по тропе. Жилые строения исчезли за высокими деревьями, и всего через несколько минут у меня появилось чувство, что мы далеко от всяческой цивилизации. Зима в этом году выдалась чрезвычайно снежная, талая вода наполнила водопады, и они бурлили с такой силой, что их рёв был слышен за полмили.
— Расскажи мне о себе что-то такое, чего я ещё не знаю, — попросила я. Попыталась заглянуть ему в глаза, но мой вопрос до того его смутил, что он отвёл их в сторону.
— А что бы ты хотела знать?
— Да что угодно. Что у тебя на ногах перепонки, а на спине — рудиментарный хвост, например. Или что ты дальтоник, или что ходишь во сне, или — кто знает — что ты пришелец из космоса, пытающийся внушить человечеству чувство ложной безопасности. Что-нибудь в этом роде.
Я ожидала, что Брю рассмеётся, но ничего подобного. Он лишь сказал:
— Ничего такого у меня нет. Извини.
Он помог мне перебраться через зазубренный камень на пути, подумал немного и добавил:
— Хотя вот, пожалуй: у меня фотографическая память.
— Да ты что!
Это было куда интереснее, чем всё то, что я перечислила, ну, разве что кроме пришельца; да и то сказать — я всё-таки предпочитаю, чтобы Брю был человеком, земным человеком…
— Так если у тебя фотографическая память, значит, ты уже должен бы знать все стихи в той книжке Аллена Гинзберга наизусть!
Само собой, я пошутила, но через секунду он начал декламировать «Вопль» — слово в слово, а ведь это стихотворение коротким не назовёшь. Оно из тех, что длятся и длятся без конца. Да, мой спутник произвёл на меня впечатление, должна признаться. И одновременно мне стало слегка не по себе: как он и говорил, он любил рассерженную поэзию, а «Вопль» — ну это просто какой-то праздник неистовства.[9] Ожесточённость против существующего порядка и всё такое прочее. Брюстер выплёвывал слова, и они становились всё более едкими и жгучими — словно извергались из жерла вулкана. Мне так и казалось, что воздух вокруг него раскалился и заструился потоками жара.
Дойдя до слов: «кто пожирал огонь в пьяных отелях Парадайз Аллей», он принудил себя остановиться. Он задыхался так, будто только что пробежал стометровку. Я видела: в душе его по-прежнему пылал вулканический огонь, но он быстро загасил его.
В этот момент любая другая девчонка сказала бы: «Спасибо, было очень интересно» — и выпустила бы сигнальную ракету: спасите! Но я не другая девчонка.
— Впечатляюще, — сказала я и добавила: — Так… вопиюще.
— Извини, я немного увлёкся. — Он набрал полную грудь воздуха и медленно выпустил его. — Понимаешь, иногда я чувствую всё так глубоко…
— Как глубоко?
— Как в бездонной пропасти, что ли…
И я сразу ему поверила. Было в его неистовстве и в том, как он его обуздал, нечто такое, что потрясло и захватило меня. Опасность под контролем. Угроза в надёжных путах. Неужели гнев — единственная эмоция, которую он переживает с такой невероятной силой? Или он таков во всех своих проявлениях?
И вдруг я потянулась к нему и поцеловала. Вы можете спросить — почему я это сделала? Не спрашивайте. У меня нет ответа, я просто не могла не поцеловать его. Собственно, даже не поцеловала, а чмокнула, да так быстро, что мы ударились зубами. Не особенно романтично в традиционном смысле этого слова, но, мне кажется, термин «традиционный» отсутствует как в моём, так и в его лексиконе.
Он на мгновение остолбенел, а потом вымолвил то, чего, возможно, не собирался произносить вслух:
— Ты очень странная девушка.
— Спасибо, — сказала я. — Я стараюсь.
И с этими словами повернулась и пошла по тропе дальше. Но вынуждена признать — я тоже была сама не своя, потому что совсем не смотрела, куда ступаю. Нога соскользнула с булыжника, застряла в расщелине между камнями; в щиколотке полыхнула боль, я вскрикнула и навзничь упала на землю. Рюкзак с одеялом спас меня от более тяжёлой травмы, ну да какая с этого польза, если щиколотка вышла из строя?
— С тобой всё в порядке?
Брю подлетел ко мне в тот момент, когда я выдернула ногу из расщелины с таким истошным воплем, что спугнула стайку птичек с ближайшего дерева.
— Нет! — раздражённо рявкнула я. Было так больно — ну никак не сдержаться. — Со мной всё совсем не в порядке! — Дело было даже не в том, что день пошёл насмарку; на носу был очень ответственный турнир по плаванию, а сами знаете, что для пловца, да и для любого спортсмена означает травма щиколотки. — Только не это! Кажется, я потянула лодыжку!
— Дай-ка посмотреть.
Брю опустился на колени. К этому времени болеть стало поменьше, особенно если не шевелить ногой, но лодыжка опухла и горела огнём.
— Уверен — это не растяжение, ты только подвернула её, — сказал Брю.
— Не трогай!
— Я осторожно.
Он бережно снял с моей ноги ботинок и носок. Оставалось надеяться, что он прав, и в действительности всё было не так плохо. Он взялся за мою ступню и покрутил её влево.
— Ай!
— Извини.
Потом осторожно покрутил её вправо.
— Так лучше?
— Чуть-чуть.
— Я немножко владею акупрессурой, — проговорил он и помассировал ступню и лодыжку. — А как сейчас?
— Н-не знаю… — пролепетала я. Но это была неправда. Мне было хорошо. И даже ещё лучше, чем просто хорошо. Его пальцы нежно скользили по моей покрасневшей коже, лаская сустав и разглаживая связки. Странное и могучее чувство покоя и удовлетворения разлилось по всему моему телу.
— Это называется рефлексотерапией, — пояснил он. — Некоторые считают, что ступни — зеркало души.
Я кивнула. Если бы он в этот миг заявил, что Земля сделана из шоколада, я бы тотчас ему поверила. Могу поклясться — я чувствовала биение пульса в кончиках его пальцев. А может, это был мой собственный пульс… И тут я поняла, что происходящее выходит далеко за рамки того, что можно было бы допустить на втором свидании.
Брю снова покрутил ступню.
— А сейчас как?
— Лучше.
В лодыжке немного покалывало, она слегка онемела, но боли больше не было. Так бывает, когда стукнешься локтем — сначала очень больно, а через секунду уже ничего нет.
Он отпустил мою щиколотку.
— Вот видишь, я же говорил — ты только подвернула её. Всё будет хорошо.
Я встала и осторожно оперлась на несчастную ногу. Он прав. Мне повезло.
— Но может будет лучше, — сказал он, вставая, — если мы не пойдём дальше, а устроим пикник прямо здесь. На всякий случай.
— Но… как же водопады? И если подняться повыше, там будет красивый вид…
— Это ничего, — заверил он и слегка скривился. — Если честно, я вырос из этих ботинок… к тому же они вообще не предназначены для далёких походов. Ногу растёр. Очень больно.
Он сделал пару шагов, прихрамывая и гримасничая. Я заулыбалась:
— Думаешь, я не знаю, что ты делаешь? Пытаешься изобразить больного, чтобы мне не было совестно за то, что мы не дошли до водопадов!
Он потряс головой.
— Нет, я правду говорю.
Он ещё немножко поковылял и покривился. Поняв, что он упорно держится за свою выдумку, я решила не спорить. Расстелила на полянке одеяло. Здесь так здесь.
Мы пили, ели, разговаривали, словом, чудесно провели время. Было так хорошо, что хотелось, чтобы этот день никогда не кончался! Не буду пороть сентиментальную чушь, что, дескать, вот тогда-то мы и полюбили друг друга и всё такое прочее. Однако в тот день и в самом деле кое-что произошло — каким-то неведомым образом между нами возникла незримая связь. Наши души сплелись.
Вне обыденности и вне моего контроля.
Тогда я поняла, что ошибалась с самого начала: Брюстер не был несчастным неприкаянным существом. Если кто-нибудь им и был — то это я. И что же мне ещё оставалось, как не ощущать безмерную благодарность за то, что меня подобрали?
16) Экзекуция
Весь следующий день во мне жило это необычное чувство. К вечеру оно чуть ослабло, но так и не ушло насовсем. В конце концов мне удалось привести самой себе достаточно разумных объяснений этому факту, чтобы он как-то уложился в логичную картину: гормоны взыграли; адреналин взбрыкнул; эндорфины, выделившиеся при акупрессуре, подействовали — словом, ничего экстраординарного не произошло, ситуация под моим полным контролем.
Ага, как же.
В следующее воскресенье я позвала Брю поплавать со мной в бассейне, и всё обернулось самым непредсказуемым образом.
По выходным школьный бассейн открыт для широкой публики. Он расположен под открытым небом, хотя климат в той части страны, где мы живём, суровый. Почему? Да потому что какой-то сверхгений решил, что будет дешевле зимой отапливать открытый бассейн, чем возводить вокруг него здание. В первых числах апреля здесь бывает не так много народу — только особо закалённые. Ну и отлично, это как раз то, что надо. О нас с Брю уже пошли гулять всякие небылицы, так что мне как-то не хотелось давать ещё больше пищи для пересудов, выставляя наши отношения напоказ широкой публике. Поскольку я знала, что деспотичный дядюшка Брюстера ведёт ночной образ жизни, я запланировала наше маленькое мероприятие на утро, когда он будет отсыпаться.
— По воскресеньям я сижу с братом, — ответил Брю, когда я изложила ему свой план.
Я сказала, чтобы взял брата с собой.
— У меня нет плавок. Я из них вырос.
Я сказала, что обычные шорты вполне сойдут.
— А если будет дождь?
Я сказала, что он может не приходить, если не хочет.
— Нет… нет, я хочу!
Когда он произносил эти слова — нельзя было сомневаться в его искренности. Слава богу, а то видя все его попытки отвертеться, я уже было подумала, что он больше не хочет иметь со мной дела. Может, он решил, что зашёл слишком далеко с этим массажем щиколотки? Может, у него теперь чувство, что он муха, а я мухоловка, готовая в любой момент захлопнуться? Но нет — Брю хотел встретиться со мной, в этом не могло быть сомнений.
Я как раз закончила свою обычную тренировку, когда в бассейне появились Брю с братом. К этому времени здесь осталась только одна из постоянных посетительниц — пожилая дама, которую я называю Водяной Лилией: во-первых, из-за её цветастого купального костюма, а во-вторых, хоть дамочка и молотит вовсю руками и ногами по-собачьи, со стороны кажется, что она всё время торчит на месте. Ни дать ни взять — цветочек, пустивший корни прямо в покрытое плиткой дно бассейна.
Брю по-прежнему прихрамывал, а ведь прошло уже восемь дней после нашего неудавшегося похода. Да, вот так один день в плохой обуви может испортить тебе жизнь на целую неделю.
Я поплыла к краю бассейна — поприветствовать Брю и познакомиться с его братом. Сорвала с головы шапочку — как хотите, но нет совершенно никакой возможности выглядеть хорошо в этой резиновой нашлёпке. Потом сделала короткий нырок к самому дну — когда вынырну на поверхность, волосы рассыплются красивым блестящим каскадом, а не будут гнездиться на макушке спутанной мочалкой.
— Это Коди, — представил Брю. — Коди, это Бронте.
Я протянула мальчишке мокрую руку. Он пожал её, потом поднял глаза на большое панно на задней стенке бассейна, изображавшее ощерившегося динозавра — школьный талисман — и прочёл под ящером название нашей команды.
— Ты «Раптор»? — спросил он.
— Нет, — ответила я. — Я Бронте-завр.
Мальчишка засмеялся, потом принялся стаскивать с себя многочисленные одёжки, пока не остался в плавках, и сиганул в бассейн, даже не проверив воду — а она была прохладноватой, даже по стандартам официальных соревнований.
Вместо Коди поёжился Брю.
— Видели? — восторженно возопил Коди, вынырнув на поверхность. — Правда, я как пушечное ядро?!
Вообще-то его нырок больше походил на отчаянный прыжок с тонущего «Титаника».
— Ух ты, сколько брызг! — восхитилась я.
Это было именно то, что ему хотелось услышать, и при этом я не произнесла ни слова неправды.
Брю наблюдал всю сцену, стоя на краю бассейна и сунув руки в карманы.
— А ты что? — обратилась я к нему. — Прыгай! Вода вовсе не холодная, надо только привыкнуть.
Коди, откочевавший в лягушатник, покричал нам:
— Эй, гляньте, я щас стойку на руках сделаю!
Он исчез под водой, взбил на поверхности немного пены, после чего его вынырнул обратно и раскинул руки в позиции «та-ДА!», ожидая оваций.
— Ну и как?!
— Попробуй ещё раз, — посоветовала я. — Получится лучше, если будешь держать ноги вместе.
Коди вновь принялся за свою подводную акробатику. Брю направился к лягушатнику, я последовала за ним, не выходя из воды.
— Ты плавать собираешься? — спросила я.
— Может, попозже. Я только что поел.
— Да ладно тебе, ты же не в открытое море бросаешься! Если у тебя случится судорога — торжественно клянусь спасти твою молодую жизнь.
Он неохотно направился к ступенькам, снял ботинки и носки, немного закатал брюки и осторожно побрёл через лягушатник. Вода едва доходила ему до талии. Его футболка с длинными рукавами промокла у пояса и на запястьях.
— Ты что, собрался плавать в футболке? — недоумевала я. Но прежде чем он ответил, какая-то своенравная клетка моего мозга выдала на-гора слова моего брата: «Ты когда-нибудь видела его без рубашки?» Только Теннисона мне здесь не хватало! Я тут же придавила эту клетку, словно клопа ногтем. Пошёл вон, братец.
— Это ничего, если я останусь в ней? — спросил Брю.
— Дело твоё. Знаешь, в старые времена мужчины плавали в рубашках. Такие тогда были купальные костюмы.
— Слышал.
— И если мужчина снимал с себя рубашку в общественном месте, его тут же бросали за решётку.
— Что, правда?
— Да нет. Но в те времена это вполне могло бы случиться. Викторианская эпоха — она такая, застёгнутая на все пуговицы.
Должно быть, я всё-таки придушила вопрос Теннисона недостаточно быстро. Он снова вырвался на свободу и засиял, неугасимый, как путеводная звезда. Брату удалось таки возбудить моё любопытство. В самом деле, почему Брю не хочет снять футболку? Конечно, люди частенько стесняются своего тела: то кожа у них мучнисто-белая, то телосложением они похожи на кукол «Мишлен»… А то вот ещё: я знаю одного парня, у него с раннего детства остался шрам после операции на сердце — он терпеть не мог снимать рубашку. Может, и с Брю что-то в этом роде? Как бы там ни было, я не дам воли своему любопытству и отнесусь с уважением к его скромности. Сказать по правде, его нежелание разоблачаться я нашла очаровательным.
Коди сотворил очередную стойку и, вынырнув, похвастался:
— Ну что, видели?
И поскольку я действительно краем глаза заметила пару ступней, высунувшихся из воды, то с чистой совестью сказала:
— Вот теперь намного лучше! Продолжай тренироваться.
Водяная Лилия вылезла из воды и улыбнулась мне, наверняка восклицая про себя: «Ах молодость! Ах любовь!» — как обычно думают старики. Теперь мы остались в бассейне втроём.
Брю прислонился спиной к стенке бассейна и, по-видимому, был вполне этим удовлетворён. Я приблизилась к нему, и он неохотно отодвинулся от стенки.
— Ты лучше окунись сразу, — посоветовала я. — Иначе никогда не привыкнешь к воде.
— А мне и так хорошо.
Теперь он стоял на более глубоком месте, и футболка в тех местах, где до неё доходила вода, намокла и потемнела.
— Давай наперегонки до конца дорожки? — подзадорила я.
Он отказался:
— Не стоит. Я не очень-то быстрый.
— Ну, тогда я дам тебе фору — буду работать только руками.
— Нет, — повторил он. — Не хочу.
Я потащила его на глубину.
— Да брось, здесь же всего двадцать пять ярдов!
— Нет! — Он вырвал свою ладонь из моих рук.
У меня было такое чувство, будто мне дали пощёчину, но я тут же опомнилась — сама виновата! Не надо было его принуждать. Но прежде чем кто-либо из нас что-то сказал, раздался голосок Коди:
— Брю не умеет плавать! А я умею! На старт, внимание, МАРШ! — И он рванул к дальнему концу дорожки.
Я взглянула на Брю, тот отвернулся. Я физически ощущала волны унижения, расходящиеся от него, словно круги по воде.
— Ты действительно не умеешь плавать?
Он помотал головой.
— Ну, и нечего тут стыдиться, подумаешь.
— Давай лучше не будем об этом, ладно?
В моей голове сверкнула гениальная идея.
— А давай я буду тебя учить!
Да! Отличный выход из неловкого положения! Но не только. Совместные занятия — идеальная основа для развития дальнейших отношений — это словно закадровая музыка, сплавляющая воедино кинофильм нашей жизни.
Но не успела я придумать, с чего начать, как Брю буркнул:
— Я подожду в фойе.
Повернулся и побрёл прочь из бассейна.
— Да что ты, будет здорово, я обещаю! — воскликнула я, и поскольку он не остановился, кинулась вслед и попыталась схватить его — наверно, немного слишком напористо. Его ноги скользнули по гладкому дну, и он упал на колени.
— Ой…
Здесь было мелко, так что ничего страшного не случилось, к тому же он сразу поднялся. Вот только его футболка задралась почти до шеи, и хотя он тут же одёрнул её, я на короткое мгновение увидела, что под нею скрывалось. И всё — сделать вид, что ничего не видела, невозможно, и мы оба знали это.
— Я выиграл! — крикнул Коди с того конца. На этот раз я ему не ответила. Всё моё внимание было отдано Брюстеру.
— Напрасно мы сюда пришли, — сказал он. — Наверно, лучше нам уйти.
Я опять потянулась к нему — на этот раз осторожнее — и взяла его за руку. Я держала его ладонь так, как никогда прежде — так, как он держал мою лодыжку. Бережно, нежно, словно что-то драгоценное и хрупкое, хотя его рука была вдвое больше обеих моих.
— Не уходи.
По нему было ясно видно, как сильно ему хочется удрать отсюда. Если бы он это сделал, я не стала бы его останавливать. Я и без того тянула и толкала его во всех тех направлениях, куда ему вовсе не хотелось. Если он решит уйти, удерживать не буду.
Но он не ушёл.
Я взглянула на его руку: на костяшках пальцев виднелись болячки, немного размякшие от воды. Я осторожно протянула руку и коснулась его футболки.
— Не надо…
— Пожалуйста… — сказала я. — Разреши мне посмотреть.
— Тебе не понравится то, что ты увидишь.
— Ты доверяешь мне? — спросила я и заглянула ему в глаза.
В них отражалось царящее в его душе смятение. Желание скрыть ужасную тайну боролось со столь же страстным желанием выпустить её на свободу.
Он повернулся ко мне спиной, и я подумала: ну вот, он уходит… Но он стоял, не двигаясь, твёрдо упершись ногами в гладкое дно бассейна. Затем он сказал, не оборачиваясь:
— Ладно. Можешь посмотреть, если хочешь.
Я медленно, аккуратно приподняла его футболку — словно занавес, за которым глазу открылось чудовищное, невыносимое зрелище.
Его спина напоминала поле битвы.
Старые, побледневшие шрамы, а на них наслаиваются свежие синяки и кровоподтёки. Помню, я где-то читала, как в старину наказывали матросов — их протаскивали под килем, с одного борта на другой, по обросшему острыми ракушками днищу.[10] Спина Брюстера выглядела так, будто его подвергли этому наказанию. Причём не один, а множество раз. И не только спина — то же самое было и на животе, и на груди; а когда я стянула с него футболку, то увидела, что и руки носят те же отметины. Под водой я не могла как следует разглядеть его ноги, но наверняка на них — та же картина. Когда он входил в воду, я ничего не заметила, ну, да я ведь особенно и не присматривалась.
Я редко когда испытываю настоящую ненависть к кому бы то ни было, но тут я возненавидела того, кто нанёс Брю все эти раны, горящие на его теле, словно грозные огненные письмена.
— Кто это сделал?!
— Никто.
Так и знала, что он скажет именно это!
— Ты должен обо всём рассказать! Полиции, социальной службе — всё равно, кому-нибудь! Это твой дядя?
— Нет! Говорю же тебе — никто!
— Если ты не пойдёшь в полицию, это сделаю я!
Он в ярости обернулся ко мне.
— Ты сказала, что я могу тебе доверять!
— Но ты же врёшь! Я тоже должна доверять тебе, а ты врёшь! Потому что такие вещи не возникают сами по себе из ниоткуда!
— Ты так в этом уверена?!
Я глубоко вдохнула и стиснула зубы. Очень не хотелось, чтобы хоть капля гнева, который клокотал во мне сейчас, выплеснулась на него.
— Если твой дядя избивает тебя, это будет продолжаться до бесконечности. Ты должен что-то сделать!
Он не ответил мне напрямую. Вместо этого он обратился к Коди, стоящему по грудь в воде в нескольких ярдах от нас:
— Коди, дядя Хойт бьёт меня?
На мордашке Коди появилось испуганное выражение. Его глаза метнулись к Брю, потом ко мне, потом снова к Брю.
— Всё в порядке, — успокоил его старший брат. — Скажи ей правду.
Коди повернулся ко мне и потряс головой.
— Не, дядя Хойт боится Брюстера.
— Он хоть когда-нибудь ударил меня, хоть один раз? — допытывался Брю.
И снова Коди потряс головой.
— Не-а. Никогда.
Брю обратился ко мне:
— Вот видишь.
Хотя я никак не могла в это поверить, но глаза Брюстера не лгали. Он говорил правду. Значит, надо искать другое объяснение. И это другое объяснение было такого свойства, что мне о нём даже думать не хотелось. И всё же я решилась:
— Но тогда… ты сделал это сам?
— Нет, — ответил он. — Ничего такого.
Ф-фу, какое облегчение. Однако ответа-то я так и не получила!
— Тогда кто?!
Он взглянул на братишку, потом обвёл глазами бассейн, как будто остерегался чужих ушей. Но кроме нас троих здесь больше никого не было.
Наконец он посмотрел мне в глаза долгим взглядом и пожал плечами, как ни в чём не бывало.
— Просто у меня такой организм, — проговорил он. — Очень легко возникают синяки и ссадины, и кожа слишком тонкая. Вот и всё. Прости, если разочаровал. Я такой, какой есть.
Я подождала, не добавит ли он ещё что-нибудь, но он замолчал. Знаю — есть люди с низким содержанием железа в крови, у них легко образуются кровоподтёки на теле, однако что-то в этом объяснении было не то… Не могла я этому поверить!
— Ты хочешь сказать… у тебя что-то вроде анемии?
Он кивнул. Этот простой жест был полон безмерной печали.
— Да, что-то вроде.
17) Сфинкс
В тот день за обедом царила более напряжённая атмосфера, чем обычно; а может, это просто я была на взводе. А как не быть? Я запуталась, не могла понять, что к чему, не знала, доверять ли собственным ощущениям. Все мои мысли были об одном — о Брюстере.
Родители, которые в другое время проявляли куда большую наблюдательность, чем сейчас, даже не подозревали, что со мной что-то не так. Они, как моллюски, нарастили такие прочные раковины вокруг своих личных вселенных, что, похоже, через них ничто не могло пробиться.
— Ты доела, Бронте? — спросила мама, протягивая руку за моей тарелкой, даже не заметив, что я ни к чему не прикоснулась. Углеводы, протеины и клетчатка — всё так и осталось нетронутым; они привлекали меня не больше, чем какая-нибудь пластмасса.
— Да, спасибо, — ответила я.
Она забрала тарелку и выбросила весь мой обед в мусорное ведро. Наверно, если бы я не была так зациклена на Брю, то поняла бы, насколько плохи дела в нашей семье, как быстро она соскальзывает в пропасть. Но в тот момент я словно ослепла и оглохла.
Зато Теннисон всё видел и всё подмечал. Именно он первым обратил внимание на то, что мама с папой за весь вечер не обменялись ни единым словом. Папа молча поглощал еду. Теннисон заметил и полное отсутствие аппетита у меня.
— Села на голодную диету? — спросил он.
— Может, я просто не хочу есть. Такое тебе в голову не приходило?
— Кажется, это заразно, — произнёс он.
Только тогда я обнаружила, что он тоже почти ничего не съел. Фактически, с его тарелки исчезли только овощи.
— С каких это пор ты заделался вегетарианцем? — спросила я.
Он бросил на меня оскорблённый взгляд.
— Если мне в последнее время не хочется мяса, это ещё не значит, что я заделался вегетарианцем! Никакой я не вегетарианец, понятно? — И вылетел из-за стола.
После обеда я засела за уроки, но сосредоточиться не удавалось. Понятно, почему. Всё это время я избегала разговоров с Теннисоном о Брюстере, но больше откладывать не было возможности. К сожалению, брат был единственным человеком, с кем я могла поговорить о том, что меня волновало.
Я нашла его в гостиной, он смотрел по телеку баскетбол, погрузившись в «людоеда» — такое прозвище мы дали нашему дивану. Он был такой необъятный и мягкий, что когда мы были мелкотнёй, то запросто тонули в нём, практически исчезая среди подушек. В этот вечер, похоже, Теннисону хотелось повторить этот трюк, но чем старше мы становились, тем труднее было растворяться в диване.
— Извини, пожалуйста, — сказала я. — Мне не следовало называть тебя вегетарианцем.
— Извинение принято, — буркнул он, не глядя на меня. А когда я не ушла, он спросил: — Будешь смотреть игру?
Я уселась рядом и погрязла в диване. Несколько минут мы смотрели телевизор, и наконец я сказала:
— Я видела.
Он обернулся ко мне и без особого интереса спросил:
— Видела что?
— Его спину. Он снял футболку, и я увидела его спину. И это не только на спине. У него это по всему телу.
Теннисон выпростался из «людоеда», дотянулся до пульта и выключил телевизор. Теперь всё его внимание принадлежало мне. Было приятно сознавать, что наш разговор представлялся ему более важным, чем баскетбольный матч.
— И как — есть какие-нибудь соображения? — спросил он. — Ты считаешь, это его дядя?
Ну, если на то пошло, я была в этом уверена, хотя Брю и клялся, что это не так.
— Не знаю, — ответила я. — Он такой загадочный — прямо сфинкс какой-то. Головоломка. Никак не пойму, что он собой представляет.
Чем бы ни был Брю, одна половинка моего сознания малодушно твердила: держись подальше от этой загадки, не то вовек не разгребёшь. Не залезай на тонкую веточку, если не уверена, что она выдержит твой вес.
Но другая половина, сильная и смелая, хотела знать всё о Брюстере Ролинсе, хотела стать частью его жизни, его истории, какой бы тяжёлой эта история не была.
Теннисон открыл рот, но я помешала ему:
— Знаю, знаю, что ты хочешь сказать: «А что я говорил!», а потом посмотришь на меня с этакой высокомерной ухмылочкой. Она у тебя появляется всегда, когда ты случайно оказываешься прав.
Но тут Теннисон сотворил кое-что такое, что ему удаётся крайне редко — он меня удивил.
— Нет, — сказал он. — Я считаю, тебе надо продолжать встречаться с ним.
Я попыталась разглядеть выражение его лица, но с выключенным телевизором, в погружённой в полумрак комнате это было трудновато сделать.
— Это у тебя шутки такие? — поинтересовалась я. — Потому что, знаешь ли, не смешно.
— Нет, — ответил брат. — Никаких шуток. Если он тебе небезразличен, ты должна продолжать видеться с ним. Он же тебе небезразличен?
Я ответила не сразу. Должна признать, поначалу вся затея была просто «Проектом Брюстер», но Брю быстро стал чем-то бóльшим. Проблема не в том, что он мне небезразличен; проблема в том, насколько. Слава богу, Теннисон спросил не об этом, не то мне пришлось бы задавать этот вопрос себе самой, а ответ был очевиден: Брю нравился мне настолько, что это становилось просто небезопасным.
— Да, — ответила я. — Он мне небезразличен.
Теннисон кивнул и без капли осуждения сказал:
— Хорошо. Потому что ты ему наверняка очень нужна. И, я думаю, тебе он тоже будет нужен.
Я не совсем поняла, что он хотел сказать этой последней фразой — всё пыталась уложить в сознании тот факт, что мой брат одобряет наши с Брю отношения.
— Я думала, ты его ненавидишь?..
— Ненавидел, — признал Теннисон, — но для ненависти нужна веская причина, а я что-то ни одной не нахожу.
Это вовсе не тот Теннисон, которого я знала всю жизнь. Потрясающе, какие сюрпризы иногда преподносят нам люди. Вот так думаешь, что знаешь собственного брата как облупленного, а он вдруг…
— Так вы что, друзья теперь?
— Э… ну, этого я не стал бы утверждать…
Теннисон поднял руку и сжал её в кулак. Я решила, что он таким образом хочет подчеркнуть свои слова, но нет — он просто принялся пристально рассматривать костяшки своих пальцев. По-моему, чересчур пристально.
— Ты мне вот что скажи, — промолвил Теннисон. — Ты, случаем, на прошлой неделе не поранила себе ногу?
Меня подбросило — откуда он знает?!
— Да, — подтвердила я. — То есть, нет. То есть, я имею в виду — я думала, что порвала связку на щиколотке, но оказалось, что нет.
— И Громила в этот момент был с тобой, — полувопросительно сказал он.
— Ты опять за нами шпионил?!
— Нет, просто догадался.
— Ну да, как же. Наверно, он тебе рассказал?
— Не-а. — И брат добавил с ухмылкой: — Может, я мысли умею читать.
А, ну, вот, наконец, тот Теннисон, которого я знаю.
— Братец, единственное, что в тебе паранормально — это как от тебя воняет, когда вспотеешь. Вот это действительно что-то сверхъестественное.
Он расхохотался, и атмосфера разрядилась. Но он тут же посерьёзнел.
— Только обещай мне, что будешь держаться подальше от его дома и его драгоценного дядюшки… Да, и обязательно расскажи мне, если случится что-нибудь невероятное.
— Невероятное? Да что такого невероятного может случиться?
— Просто пообещай и всё.
— Ладно. Обещаю.
Теннисон снова откинулся на диване-людоеде и включил телек. По-видимому, разговор окончен.
Я ушла из гостиной в ещё большем смятении, чем до разговора. Когда мы с Теннисоном ругались, мне было по крайней мере ясно, как себя вести. Но он стал моим союзником, и это пугало меня. Потому что я не знала теперь, кто враг.
18) Шоры
Лошадям на бегах надевают на глаза такие штуки, которые перекрывают им боковое зрение. Они называются «шоры». Шоры позволяют лошади видеть только то, что находится прямо перед ней; в противном случае, животное может испугаться и проиграть забег.
Люди тоже живут с шорами на глазах; но наши шоры невидимы и куда более изощрённы. По большей части мы даже не подозреваем, что носим их. Однако, наверно, обойтись без шор трудно — если бы мы попытались охватить своим внутренним оком всю картину мира, мы попросту потеряли бы разум. Или, что ещё хуже — душу. Нам тогда удалось бы проникнуть в самую глубину вещей, и, возможно, мы никогда не смогли бы вынырнуть на поверхность.
Поэтому мы принимаем решения и основываем на них нашу жизнь, не принимая во внимание, что видим лишь одну десятую долю сущего. А после цепляемся за свои ограниченные убеждения, как будто ослабь мы хватку — и вся жизнь полетит под откос.
Помните, Галилея посадили в тюрьму за то, что он утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца? Можно, конечно, считать осудивших его невеждами, но в этом кроется больше, чем простое невежество. Если бы они сорвали с себя шоры, то потеряли бы слишком многое. Вообразите только, каково это — обнаружить, что все твои представления о природе и вселенной неверны. Большинство людей понимают это только тогда, когда перемены грозят их собственному маленькому мирку.
Мой мир всегда вращался вокруг нашей семьи: мамы, папы, Теннисона и меня самой. Это атом, который иногда становился ионом, разбрасывался электронами направо и налево, и тем не менее я всегда была твёрдо убеждена, что это что-то такое стабильное, неделимое. Никто и никогда не ожидает, что крепчайшие внутриатомные связи его родной семьи могут разрушиться.
Мои шоры не позволили мне увидеть приближение атомного распада.
19) Гастрономическое
Я пообещала Теннисону, что и близко не подойду к дому Брюстера, но ведь это не означало, что я не могу пригласить его к нам.
Была пятница, и я уже вовсю готовила обед, когда мама возвратилась с работы. Я заранее известила родителей, что сегодня вечером к нам придёт Брю. Но с нашей мамой не угадаешь — она могла бы забыть об этом, и что тогда? Довольствоваться заказанным на дом фаст-фудом? А то и ещё лучше: она, чего доброго, вытащила бы из морозилки готовые бурритос[11] и попыталась бы выдать их за домашние, собственного приготовления. Чтобы не рисковать, я решила пропустить сегодняшнюю тренировку и приготовить обед сама, спасибо всем большое.
Как я и предполагала, мамины мысли витали где-то далеко, так что я, безусловно, приняла правильное решение.
— Брюстер придёт к шести, — объявила я. — Как раз к обеду. Пожалуйста, умоляю тебя, не вытаскивай мои детские фотки и не расспрашивай Брю насчёт его жизненной философии, как тогда, с Максом.
Мама кивнула, а потом проронила: «Извини, детка, что ты сказала?» — как будто находилась где-то в дальних закоулках космоса, куда не доходят звуковые сигналы. Я едва не взорвалась. Пришлось повторять дважды, но и после этого не было никакой уверенности в том, услышала ли она меня.
Если бы не шоры на моих глазах, я бы, наверно, смогла охватить взором более полную картину происходящего, но в тот момент я была полностью поглощена собой и своими делами.
— Пожалуйста, постарайся, чтобы он чувствовал себя как дома. Пожалуйста, постарайся не перепугать его насмерть.
— Ваш папа звонил? — спросила мама тусклым, бесцветным голосом, что я ошибочно истолковала как признак усталости.
— Не знаю, — ответила я. — Я выходила в магазин за продуктами.
Чуть позже появился Теннисон, весь в поту после лакросса.
— Живо в душ! — приказала я. — К обеду придёт Брюстер.
Он обеспокоенно взглянул на меня и тихо проговорил:
— Не уверен, что сегодня — подходящий вечер.
— А когда будет подходящий?
— Нет, Бронте, — сказал он всё так же тихо. — Ты не понимаешь. Происходит что-то не то. Сегодня за завтраком… Мама с папой вели себя так странно; ты разве не заметила?
— Нет…
— Как будто кто-то умер, а они никак не решаются нам об этом сказать. Во всяком случае…
— Во всяком случае, — перебила я, — это может и подождать. Я готовилась к сегодняшнему вечеру всю неделю, обед уже в духовке, и вообще — поздно всё отменять!
Он не стал спорить и отправился в ванную.
Пришёл папа и откупорил бутылку вина — дело, в общем, обычное. Как правило, по пятницам он выпивал бокал, просматривая по телевизору новости, и иногда ещё один за обедом, если вино хорошо дополняло еду — этим всё всегда и ограничивалось, он никогда не пил больше. Сегодня же он выглушил первый бокал, даже не успев поставить бутылку, и тут же налил второй. Я вспомнила предупреждение Теннисона, но решила: что бы ни случилось, отличный, вкусный обед поможет поправить положение.
— Папа, прибереги второй бокал для обеда, — попросила я. — Мерло очень хорошо пойдёт к тому, что я готовлю.
— Ты?
— Да, я. На обед к нам придёт гость. Ты же не забыл?
— А. Да, точно.
Едва я закончила накрывать на стол, как появился Брюстер.
— Я слишком рано? — забеспокоился он.
— Как раз вовремя, — заверила я его. — О, ты великолепно выглядишь!
На нём были приличные брюки и наглаженная рубашка, немножко маловатая, правда, но таков уж его стиль. Он же имеет право на собственный оригинальный стиль? Я считаю, что имеет. Брю так тщательно причесал свои волнистые волосы, что стал не похож сам на себя. Он был до того хорош, что мне захотелось поместить его в центр стола вместо вазы с цветами и гордо представить моим родителям, но пришлось обойтись без крайностей. Все просто обменялись рукопожатиями.
Затем, когда все расселись, я водрузила на стол громадное блюдо, провозгласив:
— Voila! Bon appetit, — и сняла крышку со своего гастрономического шедевра.
Теннисон с Брюстером уставились на него, как будто на блюде плавал в подливке марсианин.
— Что это? — дрожащим голосом спросил Теннисон.
— Это запечённый говяжий филей, — ответила я.
У брата было такое выражение, будто его вот-вот стошнит.
— Где ты его взяла?
— В магазине, где же ещё?
— Я, пожалуй, воздержусь.
— То есть как это «воздержусь»?! Я полдня с ним возилась, а он, видите ли, «воздержится»!
Теннисон обернулся к Брю. Тот с улыбкой спросил:
— Всё ещё отказываешься от мяса?
— Когда мне его захочется, тогда и стану есть! — заявил братец.
Меня по-настоящему задело, что у этих двоих есть общая тайна, о которой я не имею понятия.
— Может, вы всё-таки расскажете, в чём тут дело?
— Не за столом, — отрезал Теннисон и наполнил свою тарелку спаржей, присовокупив, что это ещё не делает его вегетарианцем.
— Прекрасный обед, Бронте, — сказала мама, но вместо того, чтобы есть, встала из-за стола и пошла перемывать противни и кастрюли, оставшиеся после моей готовки.
Папа никак не отозвался о кушаньях. Он вообще ни о чём не отозвался. Сидел и ковырялся в своей тарелке, уставившись на еду взглядом, в котором сочетались холод и жар — как будто он вёл против говяжьего филея яростную вендетту, а стебли спаржи, видимо, казались ему смертоносными копьями, которые он всей душой ненавидел.
Молчание за столом становилось невыносимым. Его необходимо было прервать, но, должно быть, кроме меня, этого некому было сделать.
— Обычно у нас за обедом всё совсем не так, — сказала я Брю. — То есть, так тихо никогда не бывает. Мы, в общем, всегда разговариваем, особенно когда у нас гости. Не так ли, папа?
Ага, папа понял намёк.
— Итак, конкретно — как давно вы знаете друг друга? — спросил он, но, как ни странно, тон его отдавал горечью.
— Мы начали встречаться три недели назад, если вы это имеете в виду, — ответил Брю. — Но мы знаем друг друга с начальной школы. Или, во всяком случае, знали друг о друге с начальной школы.
Папа сунул в рот кусочек мяса и заговорил, пережёвывая:
— Приятно слышать. — Он отрезал ещё кусочек. — Благословляю тебя, дитя моё, — сказал он, обращаясь ко мне. — Via con Dios.[12]
Такой ереси от своего отца я ещё никогда не слыхала. Я повернулась к маме — как она среагирует? Но она по-прежнему занималась мытьём посуды, повернувшись ко всем спиной.
Моему терпению пришёл конец.
— ДА ЧТО С ВАМИ СО ВСЕМИ ТАКОЕ?! — взвилась я.
Некоторое время все молчали. Потом папа проговорил:
— Ничего особенного, Бронте. Я просто волнуюсь за нашу маму. Она с такой самоотверженностью трудится на своих вечерних курсах по понедельникам, что я начинаю опасаться за её здоровье. — Он пронзил мамину спину таким взглядом, будто произнёс обвинение.
И тут я вдруг поняла, что это обвинение и есть.
На краткий миг я заглянула в глаза Брю — в них была паника. По тому, как он сжимал в руках вилку и нож, можно было подумать, что он в любой момент готов использовать их в качестве оружия. Посмотрев на Теннисона, я обнаружила, что он сидит, упершись раскрытыми ладонями в стол и не отрывая глаз от своей тарелки, будто произносит про себя молитву. «Нет, — внезапно осознала я. — Мой брат собирается с духом! Он к чему-то приготовился. К чему?»
И тут мои шоры упали. Полная картина происходящего вспыхнула в моём сознании во всём своём ужасающем великолепии.
20) Ослепление
«Enola Gay» — так назывался самолёт, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму и, тремя днями позже, на Нагасаки. Он летел на такой высоте, что бомбе понадобились минута и сорок три секунды, чтобы достичь земли. Собственно, это только мои грубые прикидки. Но знаете что? Мне плевать. Наверняка, я не сильно обсчиталась.
Интересно, о чём думали лётчики в этот промежуток между действием и его результатом? Чувствовали ли он раскаяние? Или страх? Или восторг? А может, им было всё равно? Может, всё, чего им хотелось — это поскорее отделаться и вернуться к своим семьям?
Дело в том, что как только бомба сброшена — обратной дороги нет. Единственное, что тебе остаётся — это беспомощно наблюдать и ждать ослепительной вспышки.
Я не видела летящей на нас бомбы. А вот Теннисон видел. Он наблюдал весь полёт, все эти минуту и сорок три секунды. Должно быть, его душа рвалась от отчаяния, от понимания того, что между мамой и папой сейчас произойдёт реакция ядерного распада, а он не в силах её остановить. Всё, что он мог сделать — это собраться с духом в преддверии конца. Он пытался предупредить меня, но в своём ослеплении ума я не успела нырнуть в убежище.
Хотя, может, мне как раз повезло: когда я увидела бомбу, от удара о спекшуюся землю её отделяло лишь мгновение, поэтому я так и не узнала, что это на меня обрушилось.
А Брю? Он был всего лишь ни в чём не повинным свидетелем конца, оказавшимся в совсем неподходящем месте в совсем неподходящий час.
21) Детонация
— Так как, Лиза? — язвительно произнёс папа, не вставая со своего места. — Может, поделишься с нами, что вы там изучаете на этих вечерних курсах? Или детям такое слышать не подобает?
Мама с силой швырнула в раковину очередную кастрюлю.
— Прекрати, Дэниел, — сказала она. — Нашёл время.
— Да, со временем действительно прокол, — согласился папа. — А впрочем, какая разница?
Он обратился к нам, словно к судьям в Верховном Суде.
— Давайте, я расскажу вам кое-что о жизни. Самое важное в ней — это месть. Во что бы то ни стало дать другому почувствовать на своей шкуре то, что испытал сам. Не правда ли, Лиза? Почему бы тебе не рассказать нам всем, что это у тебя за вечерние курсы такие?
— Я отказываюсь говорить об этом!
Однако мама стояла теперь лицом к папе, тем самым подтверждая, что она всё же «говорит об этом».
— Почему же, Лиза? Скажи нам! Я жажду услышать это из твоих уст.
— Папа! — воскликнул Теннисон. — Перестань! Оставь маму в покое!
Но папа властно поднял руку, и Теннисон утих. Отец — единственный человек, которому мой брат не решается перечить.
Папа посмотрел на маму долгим взглядом, она ответила ему тем же. В глазах обоих горело невысказанное обвинение… И на том всё кончилось. Папа сдался. Он обхватил голову руками и заплакал. Слёзы лились и лились, и, похоже, им не было конца.
Я взглянула на маму, отчаянно надеясь, что она скажет что-нибудь, и этот кошмар прекратится.
— Мам? Что происходит? О чём это папа?..
Она вдруг как-то вся сгорбилась, съёжилась и, боясь, что собственные эмоции возьмут над нею верх и голос откажет, торопливо проговорила:
— Нет никаких вечерних курсов по понедельникам, Бронте.
Вот тут Брюстер не выдержал. Он вскочил и рванулся к двери с такой стремительностью, что едва не опрокинул стол. И поскольку гораздо легче было побежать за ним, чем выносить происходящее в столовой и видеть, как рушится мой мир, я вылетела из комнаты.
— Брю! Подожди!
Он даже не оглянулся. Только выскочив за порог дома, он остановился.
— Я не должен был приходить, — промолвил он. — Дядя на работе, брат дома один…
— Я пойду с тобой!
Я протянула к нему руки, но он оттолкнул их.
— Я не могу! — Он был в ярости. Он был в ужасе. — Ты не понимаешь! Я не могу взять их на себя! И тебя тоже не могу!
— Что ты такое говоришь?!
Он отпрянул, продолжая жечь меня своим страшным, глубоким, изматывающим взглядом.
— Да, вот так. Мне нет до тебя дела. Всё кончено. Ты совсем, совсем мне не нужна!
С этими словами он повернулся и убежал, словно вор, растворившись во мраке ветреной ночи.
22) Рефлекторно
Вспоминая о событиях того вечера, я не стану смеяться. Ведь как люди обычно говорят? «Мол, когда-нибудь будешь вспоминать об этом и смеяться!» Тоже мне мудрость. Подавиться бы им собственным советом!
Стоять в дверном проёме было то же самое, что стоять на краю Земли. Я подставила лицо апрельскому ветру, испытывая лишь одно желание: прыгнуть за край или, ещё лучше, выскользнуть из тела, взмыть в воздух, и пусть бы ветер унёс меня от боли и испытаний этого вечера.
Беда в том, что если бы даже мне и удалось убежать от них, пусть лишь на короткий миг, знаю — они встретят меня снова, как только я вернусь обратно.
А пока моё состояние — что-то сродни контузии. Не совсем то же самое, что побег, но на худой конец сойдёт.
— Отлично, — сказала я бездушному дураку-ветру и вернулась в дом.
В столовой уже никого не было. Моё воображение живо нарисовало утешительную картину: папу с мамой, размолоченных в порошок кризисом среднего возраста, в одно мгновение унёс ветер, прихватив заодно и Теннисона. Знаю, мыслишка злобная, но в то мгновение я обозлилась на весь свет и считала, что имею на это полное право.
Из гостиной доносился звук работающего телевизора. Теннисон, наверное. Кто-то взбежал по лестнице наверх — кто-то один, либо мама, либо папа. Они разошлись по разным углам ринга — зализывать раны, и, конечно же, нашли для означенных углов самые удалённые друг от друга точки дома.
А прямо передо мной, на нашем лучшем сервизе, красовались руины моей затеи с обедом.
Я принялась убирать со стола — лучше заниматься простым, заурядным делом, чем размышлять, в каком круге ада обретаешься в настоящий момент.
Однако, сосредоточиться на уборке не получалось: взявшись за блюдо с жарким, я не доглядела, и большой палец напоролся на лезвие лежащего на блюде ножа. Я рефлекторно отдёрнула руку, но было поздно — у основания большого пальца появилась резаная рана глубиной в добрых полдюйма, из которой тут же потекла кровь.
— Чёрт!
Я обхватила ладонь другой рукой, стараясь остановить багровую струю, но ничего не помогало. Кровавые бусины градом сыпались на мой несчастный кулинарный шедевр и смешивались с подливкой.
Вот теперь я расплакалась.
Глупее не придумаешь. Мой парень бросил меня, моя семья разваливается, а я плачу над дурацким испорченным филеем.
— Бронте? — В дверях стоял Теннисон. — Что случилось?
Я схватила со стола нетронутую матерчатую салфетку, прижала её к ране. И тут осознала, что хнычу, как раскапризничавшийся ребёнок. Вот стыдобище!
— Всё пропало, Теннисон! Всё пропало!
— Пошли! — Он вцепился мне в локоть и потащил в ванную.
Там он принялся шарить в аптечке в поисках пластыря, а я тем временем промывала рану, наблюдая, как розоватая струя утекает в слив.
— Прижми посильнее, — посоветовал он.
— Не рассказывай мне, как надо останавливать кровотечения! — огрызнулась я. — Если помнишь, я даже на курсы первой помощи ходила!
— Ладно-ладно. Я всего лишь пытаюсь помочь, о-кей?
Я промыла рану перекисью, и брат протянул мне пластырь.
— Дай я заклею, — предложил он. — Ты не сможешь одной рукой.
Тут он был прав. Он аккуратно наложил пластырь и разровнял края.
— Ну вот, — удовлетворённо кивнул он. — Думаю, обойдётся без швов.
Я глубоко вздохнула.
— Спасибо, Теннисон.
— Не за что.
Приятно осознавать, что хоть мы с братом частенько ругаемся, такие моменты, как этот, всегда нас сближают.
Мы так и остались в ванной. Теннисон закрыл дверь и присел на крышку унитаза, а я расположилась в сухой ванне. Не слишком подходящее место для срочного совещания близких родственников, но, с другой стороны — в тесном пространстве семейной ванной есть что-то удивительно успокаивающее.
Я рассказала Теннисону о том, с какими словами Брюстер покинул меня.
Он рассказал о тех случаях, когда он поднимал трубку зазвонившего телефона, а на том конце её тут же бросали. А ещё брат как-то раз случайно подслушал, как мама говорила кому-то слова, которые ей не следовало бы говорить никому, кроме папы.
— У мамы есть любовник, — подвёл итог Теннисон.
Вот так, открытым текстом, без прикрас. Голый факт.
— Думаешь, это из-за того, что папа сделал в прошлом году?
— Может быть, — сказал брат. — А может, и нет. Может, так оно и должно было случиться?
В прошлом году мама с папой постарались скрыть от нас свои неурядицы, но мы с Теннисоном знали, какую штуку отколол наш папа. Она привела нас в ярость — папы не должны иметь… подруг, пусть даже на короткий срок. Пусть даже это случилось только один раз. Вот просто не должны — и всё. Но иногда такое случается. Факт, от которого не спрячешься. Не имею понятия, что там по статистике. Наверно, надо бы глянуть цифры.
Итак, это случилось, и папа был поставлен перед выбором: либо бросить свою… гм… подругу и перевернуть небо и землю, чтобы восстановить отношения с мамой, либо развестись. Он выбрал маму. Мы с Теннисоном видели, как он старается искупить свою вину — не только перед мамой, но и перед своими детьми. Похоже, нам вполне хватило этих его усилий, чтобы простить его — во всяком случае, частично. Я думала, что так же было и с мамой. Но, как выяснилось, её рана оказалась куда более глубокой.
Внезапно мои мысли устремились к Брюстеру. Хотя думать о нём было больно, но всё же легче, чем о родителях. Его легче обвинить. Чем дольше я размышляла о том, что он сделал, тем больше злилась. Когда надо было спасти этого парня от того неведомого ужаса, которым был полон его мир, то я протянула ему руку помощи, а вот когда что-то серьёзное случилось с моим собственным миром — он не просто ушёл, он сломя голову удрал!
— Он умыл руки, — пробормотала я. — Просто бросил меня в самый трудный момент…
— А ты ожидала, что он станет островком безопасности в бурном море жизни? — хмыкнул Теннисон. — Знаешь, репутация отпетой шпаны так просто с неба не падает.
Тоже мне оправдание. Его поведению нет оправданий! Если бы я могла быть хоть в чём-нибудь в этот вечер уверена, то это в том, что Брюстер поступил бесчестно.
— Ненавижу его, — сказала я и в этот момент верила всей душой в то, что говорила. — Ненавижу!
Заскрежетала открывающаяся дверь гаража, а затем мы услышали, как завёлся мотор. Кто-то уехал. Не знаю кто — мама или папа — да и знать не хочу.
— И что теперь? — проронил Теннисон.
Вот так сюрприз. Из нас двоих именно Теннисон всегда прикидывался, будто у него на всё имеется готовый ответ.
— Что-что, — буркнула я. — Дело дрянь, вот что.
— Думаешь, будет слово на букву «Р»?
— Сначала на букву «С», — возразила я. Не могу себе представить — наши родители в сепарации.[13] Кто выедет — мама или папа? Позволят ли нам выбрать? И если да, то как мы вообще можем кого-то выбрать?
Больше мы с Теннисоном не произнесли ни слова — а что тут ещё можно было сказать? Однако из ванной не ушли, потому что здесь было единственное место, где мы чувствовали себя в безопасности. Вот так мы и сидели в молчании, желая только одного — впасть в спячку и проспать все грядущие ужасы. А ещё — чтобы пришёл волшебник и забрал себе всю нашу боль.
23) Гравитация
Невероятно, как нам всегда хочется, чтобы другие чувствовали то же, что и мы! Наверно, это основной человеческий инстинкт. В компании несчастье переносится легче, так ведь? Когда тебе понравился какой-нибудь фильм, разве не хочется затащить на него всех своих друзей? Потому что делать что-либо во второй раз интересно только тогда, когда для кого-нибудь другого это впервые — как будто опыт, который для них внове, эхом отзывается в твоей душе. Мы любим делиться тем, что пережили — наверно, это так природа напоминает нам, что все люди связаны между собой.
К утру стало ясно, что дом покинула мама. Она не вернулась. Папа приготовил для нас завтрак — более-менее сносные блинчики, хотя подгоревший «первый ком» красноречиво покоился в мусорном ведре.
— Когда вы придёте из школы, она будет дома, — уверенно сказал папа. Слишком уверенно, из чего я сделала вывод, что он вовсе ни в чём не уверен.
По дороге в школу я всё время возвращалась мыслями к Брю. Я по-прежнему негодовала на него и, будь это в моих силах, заставила бы его прочувствовать на себе то, что сама во всей полноте ощутила вчера: беспомощность при виде распада моей семьи, жгучая обида от того, что он бросил меня в самый тяжёлый момент. Взять бы всё то, что кипело в моей душе, слепить в ядро, заложить в пушку и выпалить прямо в этого предателя!
Мы с Брю обязательно встретимся сегодня в школе. Самым неприятным было то, что я не представляла, как мне себя с ним вести. Хуже не придумаешь, когда нет чёткого плана действий. Я даже знала точно, где мы с ним столкнёмся: его шкафчик располагался рядом с дверью того класса, где у меня будет второй урок. Обычно мы радовались этим встречам и стремились к ним — хотя бы только затем, чтобы сказать друг другу «привет». Теперь же меня била нервная дрожь.
Я предположила, что он наверняка в критический момент постарается не приближаться к своему шкафчику, но я ошиблась. Я, со своей стороны, тоже могла бы войти в класс через запасную дверь, однако не сделала этого. Несмотря на весь свой страх, я понимала, что встречи с Брю лицом к лицу не избежать. Уж лучше разделаться с этим побыстрее.
Подходя к классу, я увидела его. Он не смотрел на меня, сосредоточив всё своё внимание на содержимом шкафчика. Стоял, перекладывал книжки с места на место…
— Брюстер?
Он повернулся, и тут внезапно моя рука сама собой размахнулась и… Должно быть, занятия плаванием сделали меня куда сильнее, чем я полагала, потому что когда я залепила ему пощёчину, его голова дёрнулась и ударилась о дверцу шкафа, отозвавшуюся колокольным гулом. Я еле справилась с собой, чтобы не забарабанить кулаками по его груди. Накопившаяся во мне злость требовала выхода.
Мы начали привлекать к себе внимание. Некоторые со смехом поглядывали на нас, другие старались обойти сцену боевых действий сторонкой.
— Ты закончила? — спросил Брюстер. — Если да, то я опаздываю на урок.
— Нет! — заорала я, — это только начало! — и толкнула его. Сообразила, что веду себя по-хулигански — так обычно разрешал свои конфликты мой братец, но мне было плевать. Всё равно от моего толчка мало толку — Брю был столь массивен, что даже с места не сдвинулся. Наоборот, это я отлетела назад.
— Есть кое-что, чего ты не знаешь, — сказал он.
— Воображаешь, что тебе поможет эта сказочка? — завопила я. — Тоже мне, оправдание нашёл! Да то, что ты сделал вчера… что ты сказал…
— Я солгал.
Его слова захватили меня врасплох. Я поперхнулась, замолчала и попыталась сообразить, что он имеет в виду. В чём солгал? Он сказал, что ему нет до меня дела, что ему плевать на нас на всех! В этом?! Значит, всё-таки я и моя семья ему небезразличны, так что ли?! А может, мне теперь плевать на то, что ему что-то там небезразлично?!
Прозвенел звонок. В коридоре остались только мы вдвоём. Я уже собиралась устремиться в класс, как вдруг почувствовала, как по моей ладони струится что-то тёплое и влажное. Кровь!
— О, нет! — простонала я.
Не нужно быть гением, чтобы понять — рана на моей руке вскрылась. Пластырь, и так еле державшийся, теперь промок и отклеился совсем. Я смахнула кровь… Но что это? Я с трудом нашла след пореза на своей ладони.
Похоже, вся эта кровь — не моя!
— Это не ты, это я, — сказал Брю.
М-да, разве не эту самую банальность говорит чуть ли не каждый парень, расставаясь со своей девушкой?
Но не в этом случае. Это действительно был он. Это у него шла кровь.
Он сжал губы.
— Вот чёрт, — пробормотал он. — Плохо дело.
Не могу сказать, что мой гнев тут же улёгся, совсем нет, но он, во всяком случае, отошёл на второй план.
— Наверно, я нечаянно порезала тебя своими часами, — сказала я, теряясь в догадках, как это могло произойти. Столько крови! Ну нет на моих часах ничего до такой степени острого! — Пошли в медпункт!
Брю придавил основание большого пальца, чтобы остановить кровотечение, а я полезла в свой рюкзак за пачкой салфеток. Прижала к его ране всю пачку и потащила беднягу по коридору.
— Я сам могу, — пробормотал он.
— А мне до лампочки, — отрезала я.
Мы влетели в медпункт, где какой-то незнакомый мальчишка воззрился на меня воспалёнными глазами и с выражением на лице, которое можно было расшифровать как «Прими мою душу, Господи», — словно собирался в любой момент откинуть коньки.
— В очередь! — вякнул он.
— Чёрта с два! — рявкнула я и отодвинула мальчишку в сторону.
К этому времени вся пачка салфеток на ладони Брю промокла насквозь, и стоило только медсестре увидеть это, как она тотчас переключилась в режим срочного реагирования. Она быстро осмотрела рану и принялась промывать её с помощью марлевого тампона, смоченного в антисептике.
— Как это случилось?
— Я поранился о дверь шкафчика, — пояснил Брю.
«Ага, как же! — подумала я. — Да твоей руки и близко не было ни от какого шкафчика!»
— Ну, ничего, — сказала медсестра, заканчивая обрабатывать рану. — Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Тебе, кажется, и швы не понадобятся. — Она добавила, что было бы неплохо сделать уколы от столбняка, и вручила Брю большой марлевый тампон со словами: — Прижми покрепче. — После чего, заметив, что мои пальцы все в крови, обратилась ко мне: — Ступай к умывальнику и хорошенько вымой руки до самого локтя. Дважды! — После чего, пообещав Брю скоро вернуться и перевязать рану, ушла к несчастному умирающему, томящемуся около двери.
Я направилась к умывальнику. Кажется, всё в порядке. Кроме одной мелочи.
Раны у меня на ладони больше не было.
Нет, она не зажила. Она просто исчезла, как будто её там не бывало никогда. Я мыла и мыла руки, уверенная, что порез, конечно же, окажется на прежнем месте, стоит мне только смыть пену. Куда там. Испарился бесследно.
Неясная мысль билась где-то на краю моего сознания. Догадка одновременно ужасающая и чудесная. Я стояла на грани чего-то таинственного, неизведанного. Да нет, уже не стояла — я уже переступила эту грань.
Я обернулась к Брю и встретила взгляд его поразительных глаз.
— Ни о какой шкафчик ты не резался, — полувопросительно сказала я.
Он помотал головой. Я присела рядом. То, что случилось, не укладывалось в голове, и я никак не могла этому поверить.
— Дай взглянуть.
Он приподнял тампон: рана чуть подсохла и больше не кровоточила. Теперь я могла рассмотреть её как следует. Это была моя рана. Тот же размер, на том же месте. Только теперь она расположилась на его ладони.
— Теперь ты понимаешь? — тихо спросил он.
Но как же вообще можно понять такое? Ответа не было, был вопрос, да к тому же я понятия не имела, как его сформулировать. Поэтому я только пролепетала:
— Но как?..
— Не знаю, — отозвался он. — Просто это происходит — и всё.
— Всегда? Со всеми?
— Нет. Не со всеми. — Из раны снова показалась кровь, и он опять прижал тампон. — Но если человек мне по-настоящему дорог…
Он мог не продолжать — всё сказали его глаза. Вот почему он убежал, вот почему солгал. Все думают, что Брюстер Ролинс — это тёмная неизвестность, чёрная дыра, от которой лучше держаться подальше. Ну, может, так оно и есть. Но о чём люди не догадываются — так это о том, что чёрные дыры излучают неимоверное количество света. Вот только при такой колоссальной гравитации свет не может вырваться на свободу, в космос.
Если Брю обладает свойством забирать себе раны, порезы и кровоподтёки всех тех, кого он любит, неудивительно, что он чурается людей. Как я могла теперь винить его за то, что он вчера скрылся? Ведь он всего лишь пытался убежать от собственной гравитации.
Больше во мне не осталось ни гнева, ни досады. Головоломка, похоже, начала складываться. Замкнутое выражение на лице Брю не поддавалось истолкованию; что творится у него в душе было тоже трудно угадать; зато в моих собственных чувствах можно было не сомневаться. Их половодье затопило ту пустоту, которую оставил после себя ушедший гнев. И так же неожиданно для себя самой, как с давешней пощёчиной, я наклонилась и поцеловала его. От двери доносились протесты медсестры, но мне казалось, что она где-то далеко-далеко, за сотни миль отсюда. Я попала в гравитационную ловушку и не могла из неё вырваться.
— Я люблю тебя, Брю.
— Нет, не любишь.
— Заткнись и бери, что дают.
Он улыбнулся.
— Ладно.
Ему ни к чему было говорить, что он чувствует то же самое — я и так это знала. Доказательство — здесь, на его ладони.
БРЮСТЕР
24) Зловредное
Я видел своих одноклассников с их слабыми сердцами, изуродованными во имя соответствия стандарту, истерзанными и онемевшими; они зализывали раны, полученные при распределении ролей в стае, надеясь вылизать себе дорогу в популярность,
Эти пластилиновые фигурки, пропущенные через пресс захудалых предместий, отлитые по одному образцу и носящие в своей груди кусок ледяной кометы,
Которые, морща хирургически выправленные носы, смотрят сверху вниз на меня — парня, которому, по всеобщему мнению, предстоит умереть от инъекции яда за то единственное преступление, что он не желает пустить в свою душу их грязный, отвратительный холод,
И всё же из этого ледяного пространства вышла Бронте, не поддавшаяся морозу, излучающая тепло, что ритмично пульсирует в её венах и отзывается теперь в моих, как порез на её ладони, который стал теперь моим — полученный случайно, он обратился красноречивым триумфом,
Теперь я дважды проверяю хлипкий замок на двери нашей ванной, не дающей никакого убежища, особенно от дяди Хойта, которому в его параноидальных припадках хочется знать всё, абсолютно всё, что творится под его изъеденной термитами дырявой крышей,
Где я осторожно снимаю повязку и обнажаю плоть, красно-коричневую, больную, поражённую, надеясь перебинтовать руку до того, как дядя узнает о ране, которая неизвестно как появилась у Бронте — в своём любовном ослеплении я позабыл расспросить её об этом,
И которая заживёт без магии, без волшебства, обычным путём — за неделю, за две или за три — так же, как и ободранные костяшки пальцев брата Бронте, теперь тоже мои; как и все те синяки, переломы, ссадины и шрамы, полученные мной в битве, которую я веду всю свою жизнь,
Как эта свежая рана, которую не скроешь, потому что мой дядя распахивает зловредную дверь ванной и враз охватывает взглядом новую красную полосу, рассекающую мою ладонь, и он знает по моим бегающим глазам, что я что-то скрываю, и это даёт ему право обращаться со мной как с заложником своей воли.
«Новый порез. Сегодня, э?»
«Да».
«Ты взял его у Коди?»
«Нет».
«Этот пацан способен запросто отчекрыжить себе башку безопасными ножницами».
«Я взял его не у Коди; это случилось в школе».
Дядя знает, что я могу забирать себе чужую боль, и это знание сводит его с ума, и он делает всё, чтобы оградить, защитить — но себя, не меня.
Моя рана кричит, и я затыкаю ей рот белым марлевым квадратом; но в смятении давлю чересчур сильно и вздрагиваю — почти незаметно, но дядя смотрит на меня, ловя жгучим взглядом каждое моё движение, и замечает всё.
«Болит?»
«Нет».
«Врёшь!»
«Не болит».
«Что-то не похоже!»
«Она заживёт».
«Ты собираешься рассказать мне, как ты её заработал?»
Он, никому и ничему не верящий, никого и ничего не терпящий, смотрит мне прямо в глаза, которые раньше лишь предавали меня, но со временем научились скрывать свои тайны, кодировать их с помощью шифра — его мой недалёкий дядя не может раскусить.
«Это не то, что вы думаете. Какая-то девчонка в коридоре…»
«„Какая-то девчонка“»?
«Наверно, у неё было что-то острое в рюкзаке… Ну, я не знаю!..»
«И ты думаешь, я этому поверю?»
«Я думаю, что вам пора отлить и оставить меня в покое!»
Покидая ванную, я вижу, как дядино лицо кривится, предупреждая, что если я буду несдержан на язык, наказание моё будет жестоким и мучительным, но не сегодня, сегодня ему лень, и он закрывает дверь и справляет нужду, а я ухожу с кружащейся от облегчения головой — в комнату, которую делю с братом,
Где Коди играет пластмассовыми солдатиками, а он сам — генерал, командующий армией; он бросает взгляд на мою забинтованную руку, но не задаёт вопросов; умненький брат знает, что я не скажу, потому что восьмилетки не умеют хранить секреты, они трубят о них направо и налево, а поскольку язык Коди предаёт его ещё чаще, чем меня мои глаза — он не спрашивает, понимая, что не сможет выдать дяде тайны, которую не знает,
И поэтому рана может чувствовать себя спокойно, когда я ложусь на свою койку; рана, которая, будто кровная клятва, чья сладкая боль служит постоянным напоминанием о нашей с Бронте тайне, впервые видится мне как чудо, а не как проклятие,
Потому что стоять между Коди и его болью — это моя обязанность, стоять между моим дядей и его болью — это моя плата; но боль, полученная от Бронте — это моё счастье.
25) Эпическое
Я не поддамся На расспросы Даже тебе, Бронте
В ветреный день в парке, когда рваные облака расчерчивают взбаламученное небо резкими ван-гоговскими штрихами, когда мы с Бронте валяемся в траве, читая Гомера, готовясь к циклопическому экзамену по литературе — я не поддамся на расспросы,
И когда Коди прыгает с дерева, не зная о том, какой спазм схватывает мои гудящие икры, а потом опять лезет на дерево — напропалую, не задумываясь о последствиях, ведь его навыки выживания обусловлены безболезненностью его существования — я не поддамся на расспросы,
И когда Бронте кладёт голову мне на колени, и я читаю вслух «Одиссею» и чувствую, как её желание узнать всё становится тем сильней, чем дольше я избегаю разговоров об этом, когда она замечает, что я декламирую поэму наизусть, и решается задать первый вопрос, который прорвёт плотину, но так же, как Одиссей не поддаётся на призывы сирен — я не поддамся на расспросы.
Когда солнце скрывается за обрезками облаков, температура падает и раздосадованные мамаши гоняются за своими детьми с пальтишками наготове, борясь с шизофреническим днём, Бронте не обращает внимания на посвежевший ветер, зная, что через несколько секунд солнце вернётся; но даже если она и мёрзнет, ей это безразлично, потому что она приступает к допросу с пристрастием,
И я не могу понять что сильнее — её желание познать или моё желание остаться непознанным.
Хотя всё, что я могу ей предложить — это молчание, её рука заползает под мою футболку, скользит по моей спине; Бронте осторожно исследует мои раны, спрашивает, болит ли, отвечаю: да, болит, но лишь чуть-чуть — но потом её рука передвигается мне на грудь, и не успеваю я сообразить, что раны её больше не занимают, как она начинает щекотать мне шею, тихонько смеётся и убирает руку, и меня поражает, насколько новы эти ощущения — ведь меня никогда никто не осмеливался дразнить, по крайней мере, не так, как поддразнивает девушка своего парня,
И обезоруживающая сила этой мысли ломает мою волю, и я поддаюсь на расспросы и охотно рассказываю о том, о чём не знает ни одна живая душа.
Внимательно слушая, не произнося ни слова осуждения, Бронте впитывает в себя мои слова, потом наклоняется и целует меня в ухо, даря мне исцеление, хотя она этого не понимает и никогда не поймёт, и шепчет: «Но ты выбрал, Брю, ты выбрал меня и Теннисона. Ты пустил нас к себе…»
И я киваю и шепчу в ответ: «Пообещай, что вы запрёте за собой двери».
26) Перечисление
Здесь десять вещей О которых я никогда никому не скажу, Даже Бронте:
27) Отверстия
С волосами на загривке дыбом, с терзающей мой мозг скрытой паникой я вхожу в чашку Петри отчаяния, в бездну хаоса — в школьную столовую,
Где личинки троглодитов, потомки синих и белых воротничков, практикуются в грязных социальных навыках — павлиньем хвостораспускании и обезьяньем грудоколочении, объятые сатанинским запахом столовских равиоли,
Где, неохотно становясь в очередь, я избегаю смотреть кому-либо в глаза, но вижу у дальней стены столовой Теннисона и его подружку, Катрину,
Которые льнут друг к другу, словно заряженные частицы, и мне интересно, отважилась бы Бронте вот так льнуть ко мне — под осуждающими злыми взглядами гормонально вздрюченного школьного зверинца, если бы не избегала столовки, как чумы,
Когда безволосая обезьяна по имени Оззи О'Делл протискивается в очередь впереди меня, как будто я — лишь кусок фальшивого мяса, которым начинены равиоли, и обращается ко мне по кличке, которую он с куда большим удовольствием прицепил бы какому-нибудь ученику из группы специального образования,[14] если бы это сошло ему с рук.
«Эй, дебил, подвинься!»
«Нет. Конец очереди — вон там».
«Разбежался! Я тороплюсь».
«Я тоже».
«Куда же это? На дополнительные занятия для придурков?»
И пока он ржёт над своей идиотской остротой, я думаю о том, что ещё недавно сдал бы назад, но знакомство с Бронте преобразило меня, и теперь я готов постоять за себя в моменты вроде этого, в которые раньше почувствовал бы лишь головокружение; так что когда сонноглазая повариха подаёт Оззи тарелку с равиоли, я говорю ему, что напрасно он обрил башку наголо ради соревнований по плаванию, потому что тогда все видят, сколь мал его мозг, точно так же, как обтягивающие плавки разоблачают перед всеми, сколь ничтожны и другие части его тела,
Отчего его друзья ржут над ним, а не надо мной, и сам Оззи ржёт, мол, это так смешно, что я заслуживаю получить равиоли первым, и вручает мне затем свою тарелку с раскисшими, слизнеподобными кусочками теста, и я озадачен до такой степени, что допускаю мысль о его искренности, ведь я не знаю правил игры,
В то время как он кладёт палец на мой поднос — исподтишка, так что сонноглазая повариха ничего не замечает, и нажимает, опрокидывая весь поднос, превращая равиоли в клейкую шрапнель, которая разлетается и заляпывает всё вокруг, в том числе и эксклюзивные наряды нескольких онемевших учеников,
Которые слышат, как Оззи называет меня неуклюжей ошибкой природы, и верят ему, и вся столовая взирает на меня так, будто это действительно моя вина, и я знаю, что это поражение, потому что как бы я ни хотел бросить всю мою ярость ему в морду, как бы ни желал поиграть в футбол его безволосой башкой — я не могу; и разве не стали бы они все — отсюда и до самых краёв их жалкой вселенной — ржать, как кони, узнав, что парень — кандидат на электрический стул — не может даже пальцем никого тронуть, не может причинить боль, даже если она заслужена.
Униженный и забрызганный томатным соусом, я готов сбежать куда подальше, но тут из ниоткуда, словно грозный мститель, выныривает Теннисон, расталкивает нас плечами и спрашивает:
«Ты чем-то недоволен, Оззи?»
В то время как сонноглазая повариха по ту сторону прилавка с жаровнями, ни о чём не подозревая, протягивает Оззи тарелку с равиоли, которую Теннисон выхватывает из-под его носа и отдаёт мне, спрашивая Оззи, нет ли у того каких возражений, потому как если есть, то пусть он напишет их в трёх экземплярах и засунет написанное в три отверстия своего тела,
На что Оззи не находится с ответом, поскольку он всё ещё пытается понять, какие три отверстия имеет Теннисон в виду, если Оззи вообще знает такое сложное слово, как «отверстие»; и хотя я не желаю, чтобы Теннисон вёл мою битву вместо меня, я ничего не могу поделать — я улыбаюсь, потому что, наконец, осознаю, что значит иметь друга, и, наверно, это стоит всей той боли, которую мне придётся вынести.
28) Спортивное
29) Тайное
КОДИ
30) Всякое
Брюстер всё время твердит, что мне надо бы быть тряпичной куклой. Вот заладил. Не хочу! Сказал ему, что хочу быть Пластик-Фантастиком, потому что это клёвое имя для супергероя.
— Ты не супергерой, — сказал Брю, — выбрось из головы! Думай, что ты — тряпичная кукла, так будет лучше.
Он говорит так, потому что я спрыгнул с крыши и сломал ему руку. Ну, может, он и прав — какой из меня Пластик-Фантастик, если у меня не получается растягиваться. Всё равно — вот было бы клёво, если бы я втайне был чем-то таким суперским, особенно когда дядя Хойт съезжает с катушек.
Хотел рассказать об этом Бронте-завру, но Брю сказал:
— Тайна должна оставаться тайной.
— Даже от неё?
— В особенности от неё, — сказал он.
Непонятно, почему. Они же так много разговаривают, что, кажется, могут читать друг у друга в мозгах.
Бронте-завр здорово плавает. Сам видел — я тогда учил её делать «пушечное ядро», а потом победил — проплыл быстрее до конца бассейна. Отличный был день, вот только под конец стало чуть страшно, потому что она увидела всю эту дрянь на теле у Брю. Нам про это разговаривать не положено, как и про моё тайное супергеройство. Ей захотелось узнать, откуда у него эти раны. Думала, что это дядя Хойт бьёт его и всё такое.
— Коди, дядя Хойт бьёт меня? — спросил Брю, глядя мне прямо в глаза. — Скажи правду.
Ну, я и сказал. Правду.
— Нет, — сказал я, — дядя Хойт боится Брюстера.
И это, ей-богу, истинная правда. Дядя никогда не подымает руку на Брю.
Но это только полуправда, и она хуже вранья, потому что тогда правду узнать труднее.
Я сразу понял, что Бронте-завр что-то поняла, но только она сама не поняла, чтó она поняла. И ещё кажется, Брю, будь его воля, так и оставил бы её в недоумении и растерянности, а это значит, что они вовсе не умеют читать друг у друга в мозгах, как я думал раньше, и мне стало клёво.
В тот день, когда мы ходили в бассейн, стояла классная погода: солнечно, прохладно, в точности как тогда, когда я прыгнул с крыши — это случилось в первом классе, когда я был ещё совсем дурак. Понимаете, я хотел стать супергероем и шёл к этой цели потихоньку, шаг за шагом: сперва спрыгнул со стула, потом с крыльца, а потом долго практиковался, прыгая из окна кухни — раз, и ещё раз, и ещё, пока не научился приземляться точно на ноги.
Короче, следующим шагом была крыша. Логично? Логично.
Так что я вытащил из сарая приставную лестницу и залез на верхотуру. А Брю, я так думаю, тогда уже вернулся из субботней школы; его заставляют отсиживать там за опоздания, потому что иногда дядю Хойта переклинивает, и он не выпускает Брю по утрам из дому.
Дело в том, что я не знал, что он уже дома. Я же не нарочно! Просто не думал, что так обернётся.
Короче, залез на крышу и начал отсчитывать, как при запуске космического шаттла. Вот смешно, думал я — ведь шаттл уходит вверх, а я-то собирался вниз!
Я отсчитывал целых три раза, потому что первые два никак не мог собраться с духом; а раз ты прозевал старт, приходится всё начинать сначала и считать заново. Наконец отсчитал третий раз и прыгнул.
Ну, скажу я вам! Это было вроде как в тысячу раз выше окна кухни, и хотя я и приземлился на обе ноги, они куда-то уехали из-под меня, потому что земля была мокрая. Я выбросил вперёд руки и почувствовал, как правая ударилась о большой камень, который торчал из земли. Кость хрустнула. Я, кажется, даже услышал этот хруст.
Я сразу понял, что дело плохо, потому как должен был ощутить боль — должно же болеть, когда что-нибудь себе ломаешь, правда? — но её не было. Вместо этого, когда я поднял руку, перелом исчез, зато я услышал, как в глубине дома страшно закричал Брю. Дядя Хойт проснулся, а это пахло уже совсем большими проблемами.
— Коди! — орёт брат. — Что ты натворил? Что ты натворил?!
Он выходит из дома, и я объясняю ему, как логично и толково дошёл до прыжка с крыши. Вижу — его рука торчит как-то не по-человечески, и понимаю — я и вправду сделал что-то нехорошее.
Выходит дядя Хойт, замечает руку, и теперь его черёд истошно вопить, потому что ему до смерти не хочется везти Брю в больницу, но куда деваться. Дядя Хойт всегда делает то, что положено, хотя и орёт.
Брю наложили гипс до самого локтя. Он смастерил гипс и для меня — из оконной замазки и газетных полос. Сказал, что я тоже должен таскать гипс, иначе никогда не научусь. Только из этого ничего не вышло — моя учительница узнала, что я ношу гипс, а перелома под ним нет, и позвонила нам домой. Пришлось всем тащиться в школу на разборки.
Брю сказал, что я спрыгнул с крыши и попал на него, что, в общем, было враньё, но только на половину, а его так же трудно разоблачить, как и полуправду. Но директор сказал, что заставлять меня носить гипс без перелома — это издевательство над ребёнком. Но потому как это сделал другой малолетка, то решили, что он просто заблуждился… заблужднулся… В общем, был неправ. Брю сказал, что раскаивается и больше не будет, тут же срезал с меня гипс, взяв страшную клятву, что я никогда-никогда не стану прыгать с крыш.
Если бы Брю не оказалось дома, когда я прыгал, правильно — рука была бы сломана у меня, во всяком случае, до тех пор, пока брат не вернулся бы домой, а тогда перелом перешёл бы к нему. Так что хоть так, хоть этак, а ходить ему со сломанной рукой. Ну разве что я сбежал бы из дому и шлялся бы где-нибудь несколько месяцев, пока перелом бы не сросся.
Вообще-то не надо думать, что я не знаю, что такое боль. Мне тоже бывает больно, когда Брю нет поблизости. Правда, недолго. Но дядя Хойт тщательно следит за тем, чтобы Брю не уходил из дому, когда мы не в школе, так что брат всегда где-то рядом.
— За порогом этого дома тебя подстерегают всякие опасности, — постоянно твердит он Брюстеру. — Так что из школы — сразу домой!
У меня в школе завелись приятели, а вот у Брю — нет.
— От школьных корешей добра не жди! — внушает ему дядя Хойт. Он не знает о Бронте-завре.
Большинство ребят просят своих друзей расписаться на гипсе, и те пишут свои имена и всякие другие слова, но у Брю гипс был чистый. Он сказал, что ему по барабану. Вот ещё — не больно надо кого-то просить чего-то там писать.
Короче, когда Брю снял свой гипс, он положил его на полку в нашей комнате — как напоминание, чтобы я не делал глупостей.
Сколько себя помню — Брюстер перенимал мои болячки. Иногда кажется, что он переносит это спокойно, в другое время он просто становится очень тихим и вроде как бесчувственным. Я опасаюсь, что когда-нибудь он разозлится, совсем как дядя Хойт, но Брюстер никогда не сердится на меня так сильно, или, может, и сердится, но держит злость в себе, пока не пройдёт.
То, что дядя боится его — ей-богу, правда. Он считает, что Брюстер ангел — или дьявол. Неважно, брат пугает его до… в общем, очень сильно. А теперь, когда Брю вырос таким огромным, дядя боится, что в один прекрасный день брата переклинит и он задаст ему, дяде Хойту, перцу. Но Брюстер никогда в жизни никого пальцем не тронул. Ни одну живую душу. Даже паука никогда не прибил. Я всё время таскаю пауков в нашу комнату, и Брю не придавил ни одного.
— Я люблю природу, — говорит он.
Короче — раз он что-то любит, то не может это убить, потому что если он наступит на своего обожаемого паука, то убьёт частичку себя самого. Он будет чувствовать, как этот паук умирает у него под ногой. Ну, может, не так сильно, как с людьми, о которых он заботится, но всё равно. Вот почему он собирает всех пауков в банку и выносит во двор.
А я их запросто убиваю. Пауков, и тараканов, и комаров, и мне без разницы, потому что я, конечно, люблю природу, но только когда она на улице, а не в доме.
Брю говорит, что он не может так поступать ни с козявками, ни с людьми, потому что его руки отказываются бить, а ноги — наступать, даже когда он их заставляет. Кто его знает — скорее всего, он таким родился. Про такое говорят — родовая травма.
Когда Брюстер начал проводить всё своё свободное время с этим Бронте-завром (Бронте для краткости), меня это немножко напугало. Во-первых, если дядя Хойт узнает, он чокнется от бешенства, а во-вторых, потому что Брю больше не идёт домой сразу после школы. «Мне назначили дополнительные занятия по математике», — говорит он дяде, и тот верит; вот Брю и гуляет с Бронте, приходит домой только в пять или в шесть. А я тоже хочу, чтобы он был дома, со мной, потому что дядя в последнее время уж больно часто съезжает с катушек. Правда, до сих пор он выкидывал номера только тогда, когда Брюстер был дома. Но что, если его когда-нибудь накроет на работе, он заявится домой совсем ополоумевший и так и не отойдёт до вечера? Или если он получит письмо от адвоката тёти Дебби и напьётся вдрызг? Вот почему он пьёт — ему хочется обозлиться до сумасшествия, супер-обозлиться, а не просто так, по мелочи; и для этого ему нужна выпивка — как топливо для злости. И что я буду делать, если он слетит с катушек, а Брю не будет дома?
Однажды по дороге в школу я сказал про это Брю — как я боюсь и всё такое.
— Знаешь что, — сказал Брюстер, — почему бы тебе не отправиться в библиотеку, а я заберу тебя оттуда, когда пойду домой?
Я так и сделал, и всё пошло как по маслу. Иногда он забирает меня из библиотеки пораньше, и тогда мы все втроём идём в парк, и Бронте качает меня на качелях — ужас, как высоко, выше, чем Брю, потому что он всё время боится, что я выпаду и сломаю ему рёбра или ещё что.
Короче, в один из таких дней Брюстер, Бронте и я были в парке. Она раскачивала мои качели и сказала:
— Я знаю про твоего брата.
Я улетел вверх, а когда вернулся, спросил:
— Какую часть ты знаешь?
Похоже, она удивилась.
— А что, там больше, чем одна часть?
Я понимал, что должен подбирать слова реально аккуратно.
— Ну, — сказал я, — ты имеешь в виду ту часть, где он сходу всё запоминает, или ту, которая про боль?
— О… — сказала она. — Думаю, и ту, и другую.
А я вот даже не удивился, что Бронте знает. Нашу тайну легко хранить от людей, которых Брю не любит, но как только ты начинаешь ему нравиться — тут уж ничего не поделаешь, ты сразу всё узнаёшь.
— Он забрал что-то у тебя? — спросил я.
Она кивнула:
— Я повредила лодыжку. А ещё порезала ладонь.
— А, так это твоё? Я всё гадал, откуда оно у него, но Брю не любит, когда я любопытничаю, а то я могу случайно разболтать дяде Хойту.
Она чуть напряглась при упоминании о дяде Хойте.
— Ваш дядя знает о способностях Брю?
— Ага, знает. Думаю, он страшно рад. — И после этого я сменил тему, потому что дядя Хойт очень не любит, когда про него треплются за его спиной. — А Брю больше ничего у тебя не забирал?
Она явно стала в тупик.
— Да нет, насколько я знаю… — Она задумалась и забыла толкнуть качели. Пришлось ей напомнить.
— Иногда, — пояснил я, — он забирает у тебя всякое такое, о чём ты и не догадываешься. Ты не ощущаешь ничего, вот и не знаешь, что пропало. Но это бывает только тогда, когда он реально любит тебя. Со мной всё идёт на автомате — я ничего не чувствую. Даже в тот раз, когда упал на пчелиный улей, не почувствовал.
Тут я замолчал, дёрнул рычаг тормоза, качели остановились, и я сошёл с них. Дело в том, что на соседние качели залез какой-то малыш, рядом стояла его мама, и я не хотел, чтобы нас услышали.
— Нам не разрешается болтать об этом, — сказал я, — потому что люди не поймут. Они заберут Брю, навтыкают в него иголок и превратят в ходячее оружие против террористов и всё такое.
— Ну что ты! Никто его никуда не заберёт! — Она засмеялась, но я-то говорил серьёзно!
— Могут забрать, — возразил я. — Если кто-нибудь узнает — точно заберут. Но ты же никому не скажешь, да?
— Нет, — сказала она, — но мой брат знает. Обещаю — никто из нас ничего никому не скажет.
Когда мы с Брю в тот день добрались домой, уже почти стемнело. Дядя Хойт, конечно, уже встал и собирается на работу. Наверно, готовит нам обед, а себе завтрак. У него, кстати, здорово получается — он клёво делает жаркое, спагетти, там, разные, иногда даже соус сам придумывает. Хотя чаще всего мы вместо обеда получаем завтрак — знаете, трудновато человеку, который только что продрал глаза, готовить и то, и другое одновременно.
Мы зашли в дом, но там тоже было совсем темно, и на кухне никто не возился.
— Дядя Хойт? — позвал Брю.
— Я здесь. — Мы повернулись на голос, но я увидел дядю не сразу — он сидел в гостиной в полной темноте. — Ну наконец-то, заявились!
Через секунду я разглядел его чуть получше. Дядино колено ходило ходуном — это с ним случается. Говорит — это из-за кофе и стресса, но я втайне убеждён, что это из-за нас.
Мы с Брю стояли и не двигались. Дядя сидит в тёмноте. Не к добру.
— Может, мне разморозить курицу на обед? — спросил Брю.
— Размораживай.
Брю включил на кухне свет, и я успел заглянуть дяде Хойту в глаза, прежде чем тот успел спрятать их. Нет, его сегодня не накрыло. Он просто выглядел как-то странно, словно его что-то заботило. Слава Богу.
Я напился из-под крана, а Брю вытащил из морозилки курицу. Дядя выбрался из кресла и стал в дверном проёме.
— Я получил А[15] за контрольную по правописанию, — похвастался я.
— Молодец, Коди, — отозвался он, но я чувствовал, что на самом деле он меня не слушает, поэтому положил раскрытую тетрадь на морозилку — может, он взглянет, когда ему придёт такая охота.
Он не сводил глаз с Брю, который заткнул дырку в раковине и пустил в неё горячую воду.
— Я вот тут подумал… — сказал дядя, — и решил, что ни к чему тебе все эти дополнительные занятия.
Брю застыл. Я присел за стол — поспешил убраться с линии огня.
— Без них у меня не получается, — ответил Брю. — Математика — не мой предмет.
— Я мог бы тебе помочь, — сказал дядя.
— Вы знаете алгебру?
Дядя Хойт оскорбился.
— Я же не дурак! Помню. А чего не помню — могу подучить.
Интересно, зачем дяде Хойту напрягаться, если брат может получить помощь в школе, к тому же бесплатно? И тут до меня дошло, что Брю ведь вовсе не ходил ни на какие дополнительные уроки. Он встречался с Бронте.
— Да и зачем тебе таскаться на эти занятия? — продолжал дядя. — Тебе же стоит только раз глянуть в учебник — и ты всё запоминаешь наизусть!
— Слова — да, но не числа, — возразил Брю. — С числами всё иначе.
Он бросил куски замороженной курицы в горячую воду и замолчал. Ну и правильно. С нашим дядей лучше помолчать, пока не узнаешь, к чему он клонит.
— Они не имеют права задерживать тебя в школе так надолго, — сказал дядя. — Это неправильно. Ты должен быть со своей семьёй!
— Вы хотите, чтобы мы учились дома, не в школе? — спросил Брю.
— Я этого не говорил.
Вот теперь у Брю нога задёргалась, как недавно у дяди Хойта.
— Я беспокоюсь за тебя, Брюски. Вот и всё. Тебя почти никогда нет дома. Как мы можем жить одной семьёй, если тебя постоянно где-то носит?
Брю закрутил кран. На дядю он не смотрел.
— Похоже, что вам надо бы завести собаку, — пробурчал он. — Чтобы она дожидалась, когда вы возвращаетесь с работы, и приносила тапки, когда вы встаёте.
Мне идея ужасно понравилась.
— Собаку?! — воскликнул я. — Это было бы клёво! Я буду заботиться о ней лучше, чем о бедном Филее. Обещаю!
Дядя Хойт улыбнулся, но только так как-то… неприятно.
— У вас с Брю была собака, — сказал он. — Тогда ваша мама ещё была жива. Ты, Коди, конечно, не помнишь, а вот твой брат — бьюсь об заклад, помнит. Брю, ты не расскажешь, что сталось с этой собакой?
Но Брюстер, казалось, с головой ушёл в разглядывание кусков курицы, плавающих в раковине, и не ответил. Тогда дядя очень громко расхохотался. Он изменился с того времени, как мы вошли в дом. Тогда он был какой-то нервный и суетливый, зато теперь весь напыжился, довольный такой, даже вроде как стал выше ростом. Таким он мне больше нравился.
— Вам теперь лучше, дядя Хойт? — спросил я.
— Коди, — сказал он, — я чувствую себя на миллион баксов! — Думаю, это означало «да». — Брось ты возиться с этой курицей, Брю. Я сам пожарю. А тебе оставлю самый большой кусок.
После этого дядя вышел на веранду покурить, а брат ломанулся в нашу комнату, чуть ли не сметя меня с дороги. Я пошёл следом — надо было оставить там школьный рюкзак — и увидел, что он сидит на своей кровати, прислонившись к стене, как будто подпирает её.
— Брю, ты как?
— Он никогда не отпустит меня, Коди. — Он потёр руки, словно ему было холодно, а потом плечи — как будто они болели. — Он будет держать меня здесь, чтобы я избавлял его от воспалений, язв и всех прочих болячек. Чтобы забирал себе все его муки, все до одной, Коди!
— Он только пытается тебя защитить, — напомнил я ему.
— От чего? От мира? От Бронте?
Я не знал, что ему сказать, но мысль о том, что Брюстер может куда-нибудь от нас уйти, испугала меня.
— Но зачем тебе уходить от нас?!
— Ладно, забудь, — сказал он. — Иди, посмотри телевизор.
Но я не пошёл смотреть телевизор. Я вышел на веранду, к дяде Хойту. А что, когда он в хорошем настроении, с ним клёво.
— Вот теперь всё как положено, — сказал он. — Вечер на веранде, обед в духовке…
— Он пока ещё не в духовке.
Он засмеялся, потом затих и глубоко затянулся.
— Твой брат на самом деле ведь не ходит ни на какие занятия по математике, э?
Вот теперь мне надо было придумать собственную полуправду.
— Я сижу в библиотеке, — сказал я наконец. — Понятия не имею, с кем он проводит это время.
— А! Так он, значит, с кем-то!
— Нет! — Я попытался исправить то, что сболтнул, но иногда слова — как зыбучий песок, увязаешь и не можешь выбраться. — Я сказал, что не знаю! Я даже как её зовут не знаю!
Он опять заулыбался — точно так же, как и тогда, когда мы говорили про собаку. Поскольку я не знал, что означает эта улыбка, то немножко отодвинулся от него — он, конечно, понял, что я вру. А ну как врежет по ушам?
— Ах вот оно что, — сказал дядя. — Брюски завёл себе подружку. — На этот раз я вообще промолчал, потому что уже с головой ушёл в зыбучий песок. — Ну что ж, рано или поздно так и должно было случиться. Но это ничего — пока она не знает, на что он способен. Ведь твой брат не такой дурень, чтобы рассказать ей об этом, э?
Он вынул сигарету изо рта, пару секунд полюбовался на неё… а затем медленно опустил горящий кончик к собственной руке, чуть пониже локтя и прижал огонёк к коже. Скривился, выругался и отбросил бычок в сторону. На его руке появилось красное пятно, но через мгновение его не стало.
А из комнаты донёсся жуткий крик Брю.
Дядя смахнул пепел с руки — на ней не было ни следа ожога.
— Видишь, Коди? — сказал он. — Это о нас Брю заботится, Господь его благослови. Девчонка не значит ничего, совсем ничего. А теперь будь пай-мальчиком и пойди поухаживай за своим братом.
Я ушёл в дом — поискать пластырь. Хорошо, что дядя Хойт был в хорошем настроении и не съехал с катушек.
ТЕННИСОН
31) Нешуточное
Если он к ней только пальцем прикоснётся, клянусь — так огрею клюшкой по кумполу, что мозги из ушей вылезут, а я потом сгребу их в крохотную серую кучку и отошлю в музей, в отдел, рассказывающий про доисторических людей!
О чём только моя мать думает?! Что это за дела — шнырять повсюду с подобным типом? Этот нелепый коротышка не имеет никакого права жрать в общественном месте, сидя за одним столом с моей матерью! Да еще в открытом кафе, где её дети могут их увидеть! Единственное, чего у этого гада в достатке — так это растительность; ну, да и что с того? Бабуины тоже косматые. Под этой дурацкой бородой даже морды не видать. Да и чёрт с ней, на кой мне его морда! И чего он без конца ковыряется в своей сальной бородище? Не иначе, вшей ловит!
Ну, скажите — как я могу сосредоточиться на сегодняшней игре, если у меня перед глазами так и стоит картинка, где они вместе кушают крем-брюле? Вот впечаталась мне в сетчатку, словно клеймо в корову. Голову даю на отсечение — мать меня видела. А когда я вечером приду домой — ведь ничего же не скажет, как будто так и надо!
Единственный проблеск надежды — это то, что чемоданы так пока и валяются в подвале пустые. Папуля, само собой, перебрался в комнату для гостей — как и в прошлом году, когда он сам ел десерт со всякими посторонними личностями. «Ничего, всё перемелется», — внушаю я себе. Эх, как бы заставить самого себя в это поверить!
Так, хватит, выбрось из головы. Игра — вот о чём надо думать прежде всего.
До сих пор мы всё время выигрывали. Вот пусть так и остаётся.
Когда я выхожу на поле, то вижу Катрину — пришла поболеть за меня. Рядом с ней — Оззи О'Делл с его идиотским налысо обритым телом и полдюжины других наших одноклассников. Что-то не припомню, чтобы Оззи раньше интересовался лакроссом; с чего бы это он?
Не хочется мне ни с кем разговаривать, но Катрина подваливает ко мне.
— … ну вот, мистер Мартинес ему: «“¿Donde esta su tarea?[16]”, а Оззи зазубрил наизусть десяток разных причин, почему он не сделал домашнее задание — и всё на великолепном испанском, так что больше никто в классе не понял, что он сказал; а мистер Мартинес как засмеётся: «Да это ещё лучше!» — и не только засчитал Оззи домашнее задание, но ещё и extra credito добавил — по-испански это значит «дополнительное очко», и… Теннисон, ты вообще меня слушаешь?
— Да, да. Точно, что очко. Очень смешно.
В моём состоянии духа мне только ещё не хватало игры против «Аллигаторов». Эти парни такие амбалы, что, кажется, им бы не в лакросс играть, а вольной борьбой пополам с боксом заниматься. В тяжёлом весе. Чуть ли не после каждой их игры кого-нибудь из соперников увозят в больницу. Но последние несколько матчей я чувствую себя на высоте — столько силы, собранности и упорства у меня ещё никогда не было. Не могу позволить, чтобы история с мамулей выбила меня из колеи.
Бронте тоже пришла, думаю, потому, что в эти дни уж лучше быть здесь, а не дома. Чуть не выложил ей про то, что видел нашу мамулю с какой-то коротконогой волосатой обезьяной, но решил, что не стоит, незачем причинять ей лишнюю боль.
— Ну-ка дай взглянуть на твои пальцы, — говорит она.
Я издаю досадливый стон.
— Чего на них смотреть? Зажили. Оставь меня в покое! Я же не бегаю за тобой и не прошу показать твой несуществующий порез! Вот и не лезь ко мне с моими несуществующими волдырями!
Бронте поражается тому, что я принимаю способности Брюстера забирать боль как нечто само собой разумеющееся.
— Ведь это же совершенно невозможно! А тебя это, похоже, не колышет?
— Как же невозможно, — возражаю, — если он это проделывает?
От моего ответа она прямо взвивается. Обожаю доводить сестрёнку до бешенства.
Честно признаться, в моей черепушке сейчас попросту нет места всяким бесконечным раздумьям по поводу сверхъестественных талантов Брю. Мне и без того есть о чём думать: школа, лакросс, папа, который спит на раскладушке, и мама, завтракающая с недостающим звеном в человеческой эволюции. Что совсем плохо — так это что мама с родители упорно не желают говорить о том, что происходит. Как по мне — так всё это куда больший сюр, чем все трюки Брюстера, вместе взятые.
Начинается игра, и я сразу включаюсь в неё, живу одним мгновением, выкинув из головы всё остальное. Я центральный нападающий, а «Аллигаторы» — такие соперники, с которыми шутки не проходят. Если я хочу забить им гол, придётся показать всё, на что способен.
Звучит свисток, мяч вброшен. Он достаётся одному из наших полузащитников, который пасует его мне. Подхватив мяч на свою клюшку, мчусь к воротам, уворачиваясь от «Аллигаторов»-защитников. Перебрасываю мяч на правый край, ожидая, что получу его обратно — ведь у меня теперь отличная позиция, но правый нападающий бьёт по воротам сам и мажет на чуть ли не на целую милю.
Вратарь «Аллигаторов» мгновенно подхватывает мяч и бросает его на нашу сторону площадки. Почему-то именно в этот миг до меня доходит, что впервые за все годы, что я играю в лакросс, наших с Бронте родителей нет на решающем матче.
Свисток. Я так углубился в свои мысли, что даже не заметил, когда «Аллигаторы» забили гол. Вот осёл! Ну-ка соберись!
— Не парьтесь! — говорю я товарищам по команде. — Ведь это только первый период. Отыграемся!
Занимаю своё место в первой линии. Не помню себя от злости, но обуздываю её, ставлю на службу своим целям — она придаст мне воли к победе.
Снова мяч у меня; прорываюсь сквозь прореху в обороне «Аллигаторов» и бросаюсь к их воротам. Я уже почти у цели, и тут краем глаза замечаю, что на меня несётся защитник — огромный, просто гора мышц. Он врезается в меня с такой силой, что я лечу и падаю ничком. Внутренности сводит от боли, не могу вздохнуть — словно с планеты вдруг исчезла её воздушная оболочка. Прихожу в ужас: ну всё, я вне игры по крайней мере на полминуты.
Но ничего подобного. Через мгновение всё проходит. Недаром я так извожу себя на тренировках — мышцы брюшного пресса поглотили удар. Все последние матчи я меньше устаю, быстрее прихожу в себя после силовых приёмов. Да, в этом сезоне я отличной форме!
Мяча я, оказывается, не потерял. Вскакиваю на ноги и — бросок! Вратарь прыгает, но куда там!
Гол!
Болельщики ревут от восторга. Ну, всё, меня теперь не остановишь! Эта игра — моя!
Во втором периоде я по-прежнему пылаю и рвусь в бой.
Мы, правда, пропускаем один гол, но я опять забиваю. 2:2. Подгадав момент, когда судьи смотрят в другую сторону, один из полузащитников «Аллигаторов» вламывает мне локтем. Рёбра отзываются резкой болью. Я охаю… но через пару секунд боли уже нет в помине. Я прогнал её! Вот что значит сила воли!
Половина матча сыграна.
Обычно к третьему периоду всё моё тело начинает ныть от усталости, но в последнее время я, кажется, могу носиться по полю часами и даже не запыхаюсь. Тренер, который обычно сажает меня в третьем периоде на скамью запасных, видит, что я в ударе, и даёт поиграть. Держитесь, «Аллигаторы»! Теперь это вам надо меня опасаться, я с вами шутки шутить не намерен!
Третий период.
Счёт 4:2. Я забил три из четырёх наших голов. «Аллигаторы» психуют, допускают массу ошибок, играют как бог на душу положит. Их вратарь бросает мяч на нашу сторону, я перехватываю его и мчусь к воротам соперников, но на этот раз атака не удаётся: один из их защитников даёт мне подножку, и я взлетаю в воздух, теряю клюшку. Ещё не долетев до земли, слышу свисток судьи. Отлично, пенальти! Вот только… падаю я очень неудачно — головой прямо на торчащий из травы камень. Сотрясение обеспечено. В этих случаях даже шлем не спасает.
Кажется, я даже ощутил, как затарахтели мои мозги. Но что странно — я очень быстро прихожу в себя. Слишком быстро. Да как это вообще может быть — что мне как с гуся вода?! Через секунду я уже на ногах — даже судьи обалдели.
И тут я вижу его.
Брюстер здесь. Вон он — среди зрителей, корчится от боли на траве. Над ним суетится Бронте. Вот теперь мне понятно, почему рёбра у меня ныли только одно мгновение, почему я не задохнулся, когда грохнулся, почему мои мускулы не болят от изнурения после трёх периодов. Потому что Брюстер берёт всё на себя. Моя боль уходит к нему — и не только сегодня, но на всех последних играх. В том, что я провожу свой лучший матч, нет моей заслуги. Это всё Брюстер.
Игра возобновляется. Я получаю право забить пенальти. Снова гол. Но я никак не могу сосредоточиться — всё смотрю за боковую. Брю уже не валяется на земле, он сидит, придя в себя после моего падения. Должно быть, у него моё сотрясение мозга.
В середине четвёртого периода тренер сажает меня на скамеечку, но снова выпускает на поле ближе к концу матча. Однако я уже совсем не тот боец, каким был всего десять минут назад. Я чересчур осторожен, двигаюсь слишком медленно — может быть, потому, что не хочу, чтобы меня снова травмировали. Мне вломят, а болеть опять будет у Брю — нет, совесть мне этого не позволяет. Так что последние пять минут я лишь бегаю трусцой по полю, словно сделанный из яичной скорлупы — только тронь — и разобьюсь.
Ну, вот и финальный свисток. Мы выиграли 5:2. Я герой команды, но что-то меня это не радует. Такое чувство, будто я всех обвёл вокруг пальца. Как будто исход игры был заранее предрешён, и об этом знаю только я. Все кому не лень шлёпают меня по спине и вскидывают раскрытые ладони — дай пять. Похоже, никто не заметил, как я стушевался на последних минутах. Наверно, думают, ну, устал парень, ведь весь матч играл с полной отдачей…
Я улучаю момент, когда могу высвободиться из объятий своих собратьев по команде, и кидаюсь к Брюстеру, на ходу срывая с головы шлем. Он стоит рядом с Бронте и ведёт себя точно так же, как все остальные болельщики, но мне сразу бросаются в глаза его многочисленные ссадины и синяки — безмолвные свидетельства этого беспощадного матча. Наверно, я должен бы испытывать благодарность, но вместо этого во мне всё кипит от злости. Такое чувство, будто меня ограбили. Лучше честный проигрыш, чем такая отвратительная победа! Сегодня Брюстер украл не только мою боль.
— Теннисон, ты был великолепен! — ликует Бронте.
Поначалу я думаю, что она ни о чём не догадывается, но — нет, моя сестра не дурочка. Конечно, она знает! Может, даже с самой первой игры! А может, только начиная с сегодняшнего матча. Она знает, и, похоже, её это не волнует. Но почему, почему она относится к происходящему так легко?!
Подлетаю к Брюстеру, заношу кулак… Нет, я не могу ударить того, кто и так уже измочален до последней степени. Поэтому я только впиваюсь в него лютым взглядом, обвиняюще наставляю палец и рычу:
— Чтоб ноги твоей больше не было ни на одной моей игре!
— Но ты же выиграл, ведь так?
— Нет! Не я! Это ты выиграл! — выкрикиваю я, поворачиваюсь и устремляюсь прочь. Все вокруг стоят с разинутыми ртами.
Катрина пытается перехватить меня:
— Что с тобой, Теннисон? Что-то не так?
Но я не в духе.
— Мне нужно назад, к команде. — Отмахиваюсь от неё и выскакиваю на поле, стараясь убежать как можно дальше от Брюстера Ролинса.
32) Раскаяние
— Ну, прости, я виноват, признаю! — повторяю я уже в десятый, а может, и в двадцатый раз.
— Это ты не мне — ему скажи! — отвечает Бронте.
— И скажу! В понедельник.
— Никаких понедельников! Отправляйся к нему домой немедленно!
— Не хочу я к нему домой! Больно мне охота столкнуться с его полоумным дядькой!
Глубоко вздыхаю и принимаюсь мерить комнату шагами. Мама ещё не вернулась домой, и я ничего не могу с собой поделать — всё время думаю, не на Планете ли Обезьян она сейчас обретается. Папы, который в последнее время, можно сказать, не вылезает из университета, тоже нет дома. Не стану утверждать, что так уж позарез хочется видеть их именно сейчас, но и то, что они где-то болтаются, мне тоже не нравится.
— Я не дам тебе покоя ни днём, ни ночью, пока ты не извинишься!
Ух, с каким удовольствием я сейчас придушил бы сестрёнку! Но стараюсь держать себя в руках. Моя учительница в подготовительном классе говорила: «Теннисон, ну у тебя и характерец! Смотри, не доведёт он тебя до добра». Даже досадно, что я до сих пор это помню — вплоть до её писклявого голоска. И ещё более неприятно то, что она права.
— Мне надо во всём разобраться, подумать, понимаешь? — говорю я Бронте, пытаясь придать своему тону хоть какую-то убедительность. — Если я попрусь сейчас туда, то даже если извинюсь, боюсь, мы с ним ещё больше погрызёмся.
— Почему? Что такого ужасного он сделал?
Ну почему она не может посмотреть на всё это дело с моей точки зрения?!
— Он чувствует вместо меня! — возмущаюсь я. Такое ощущение, что мои права жестоко нарушили. Хотя, по-моему, это так и есть. — Ведь это меня дубасят там, на поле! А вся боль уходит к нему! Это ненормально!
Бронте улыбается, и не просто улыбается, а язвительно так, с подковыркой:
— Наконец-то! Дошло!
— Заткнись!
— Ты ему нравишься, Теннисон. Похоже, ты у него первый настоящий друг.
— Ну и что? Это ещё не даёт ему права лезть в мои внутренние дела! Может, тебе это и по душе, потому как ты его девушка и всё такое, но я-то — нет!
— Но он же не нарочно, он не может иначе. Просто это происходит — и всё.
— Он должен был предупредить меня! Или вообще свалить с игры!
— Он не захотел. Это был его собственный выбор — остаться.
— А мне, значит, выбора не положено?!
Мой голос срывается на крик, когда я опять вспоминаю матч. Не скрою, это здорово — купаться в лучах славы, когда она досталась по праву. А если нет? Тогда это всё равно что обман! Может, у других парней и сносит крышу, когда им оказывают внимание, пусть и незаслуженное, но я ведь не из их числа!
— Я только говорю, — продолжаю я, — что когда занимаешься таким жёстким видом спорта, то приходится считаться с угрозой травм. Знаешь, как в поговорке: «Не срубишь дубка, не надсадив пупка». То есть, если нет боли, то и радости тоже нет!
Бронте обдумывает мои слова и наконец кивает, хотя бы частично признавая мою правоту.
— Отлично. Вот и объясни это ему.
— И объясню, но только когда перестану бурлить!
И вот тут Бронте, благослови Бог её сердечко, хоть она и противная, произносит фразу, от которой весь мой пыл мгновенно гаснет. Она тяжко-тяжко вздыхает и говорит:
— Нет, нас послушать — мы в точности как мама с папой!
А поскольку мне совсем не улыбается подражать ссорам наших родителей, моя злость улетучивается, и единственное, чего хочется — это надуться, как малое дитя, и забиться куда-нибудь в уголок.
— Ну что, договорились? — спрашиваю я.
— Да. Но не сердись на него, пожалуйста. Это ранит его больнее, чем любой лакросс.
33) Затухание
Сперва дома появляется мама, за нею, минут через пятнадцать — папа. Оба купили экзотическую еду на обед: мама — китайскую, папа — индийскую. Странновато, когда родители в сепарации, но продолжают жить под одной крышей. Как и раньше, мы с Бронте питаемся фаст-фудом, но только теперь его в два раза больше: и мама, и папа считают каждый своим долгом кормить нас. Ещё ничего, когда обеды прибывают один за другим; но когда это происходит одновременно, как сейчас, то положение создаётся не из лёгких. Чью еду выбрать? Не будет ли это расценено, как будто мы выбираем не только обед, но и сторону в конфликте? А может, съесть и то и другое? Если не стошнит, конечно. Да, скажу я вам, уж если пара спрингроллов[17] вызывает кризис — дела совсем плохи.
В ту ночь я растягиваюсь на постели с чувством, что вот-вот лопну. Я съел за обедом столько, что хватило бы накормить весь Индокитай. Мозг мой тоже раздулся, обленился, и заставить его осмыслить события этого дня оказалось трудновато.
Я не из тех, кто проводит бессчётные часы, копаясь в собственных переживаниях — Бронте занимается этим за нас обоих. Когда наступает время вот таких рвущих душу размышлений, я становлюсь твёрдым приверженцем веры в так называемый «эффект наблюдателя», который гласит: всё, что подвергается наблюдению, изменяется благодаря самому факту наблюдения. Вот как я это понимаю: если ты рассматриваешь свои чувства под микроскопом, максимум того, что тебе удастся выяснить — это как они меняются под направленным на них увеличительным стеклом.
Лёжа в постели и прислушиваясь к идущей в моих кишках войне Индии с Китаем, я пытаюсь понять эмоции, захлестнувшие меня под конец матча. Может, это просто «эффект наблюдателя» и моё восприятие событий изменяется именно потому, что я внимательно рассматриваю их, но мне кажется, что моя злоба по отношению к Брюстеру — она только на поверхности, а под ней есть ещё кое-что, чего я пока не могу ни осмыслить, ни объяснить. Что-то вроде скрытого подводного течения, тянущего тебя в море тогда, когда прибой несёт к берегу.
Дело в том, что произошло вот что: мой гнев и досада внезапно испарились, как будто их что-то загасило — мгновенно и полностью. И случилось это как раз в тот момент, когда я налетел на Брю. Я не мог заставить себя рассердиться на него как следует. К тому времени, когда я вернулся к своим друзьям по команде, я уже совершенно успокоился и чувствовал, что жизнь хороша и всё у меня в порядке. Но ведь это же неправильно! Какое там «в порядке»! Это опять обман!
Я видел, с какой яростью Брюстер устремился прочь от поля. Сердился ли он на меня за то, что я набросился на него, или тут что-то другое?..
Вот почему мне не хочется пока встречаться с ним лицом к лицу. Потому что я не уверен: то ли я заблуждаюсь, то ли это скрытое подводное течение — лишь первый признак куда более мощной стихии…
34) Траектория
Случается, мы с папой идём побросать мяч в кольцо. Он делает это с удовольствием, потому что баскетбол — единственный вид спорта, в котором у него есть передо мной маленькое преимущество: он пока ещё выше меня ростом. Утром в воскресенье забегаю к Брю и зову его с нами. Это у меня такой способ извиняться. Мне ужасно тяжело выдавить из себя «прости меня», ну разве что я говорю эти слова Бронте. Похоже, я вечно за что-то перед нею извиняюсь.
Мы стоим на веранде, потому что дядя Хойт спит — он всю ночь укатывал асфальт. Коди носится по их заросшему огороду, пытаясь запустить дешёвого пластикового змея; вот только сорняки такие высокие, что мальчишке никак не удаётся как следует разбежаться и набрать скорость.
— Считай это следующей стадией наших совместных тренировок, — внушаю я Брюстеру. — Баскетбол развивает ловкость и подвижность. Со штангой этого не достигнешь.
— Вот как? И тебя не беспокоит, что ты можешь ободрать себе локти… вернее, ободрать мне локти?
На что я отвечаю:
— Вот как? Ты, значит, считаешь, что я — увалень, повернуться толком не умею?
И тут-то до меня и доходит, почему он так страшно устаёт после наших тренировок, а я — как огурчик. И ведь никогда даже словом не обмолвился! Ладно, не буду ему ничего говорить. Не хватает опять поцапаться.
— Спасибо за приглашение, — произносит Брюстер, — но я не могу. Дядя считает, что выходные человек должен проводить в кругу семьи.
Ну и смехота! Ведь этот самый поборник семейных ценностей продрыхнет весь день!
— Для всех будет легче, если я останусь дома, — добавляет Брю.
— Легче — не значит «лучше», — резонно возражаю я.
И тут откуда-то сзади слышится голос:
— А ты скажи дяде Хойту, что больше не любишь его!
Оборачиваюсь и вижу Коди — он стоит, сжимая в руке своего жалкого змея. Малявки вечно болтают всякую ерунду, вроде этой; однако Брю слова брата, кажется, поразили — как будто в них ему почудилась какая-то божественная мудрость. Ума не приложу, какое дело такому, как дядя Хойт, до чувств его племянника.
Брю касается свежего пластыря на своём предплечье. Интересно, откуда у него эта рана. Он потирает её, раздумывая над словами Коди, потом поворачивается ко мне:
— В каком парке вы будете?
Не знаю, что там Брю наговорил своему дядюшке, но оба брата появляются в парке. Настроение и у меня, и у папы — хуже некуда, но мы стараемся этого не показывать. Мамы не было дома, когда мы уходили. Подозреваю, что она гуляет со своим обезьяном. Всё совершенно непонятно: то ли она собирается бросить нас, то ли желает сделать папе больно, то ли просто бежит от разборок куда глаза глядят. Думаю, что папа тоже не знает. Уныние окутывает нас, словно облако, но при появлении Брю оно рассеивается. Наверно, потому, что теперь у нас есть повод сосредоточиться на чём-то другом.
Коди тут же улетучивается с площадки — ему баскетбол до фонаря. Куда интересней испорченный оросительный фонтанчик, прячущийся в траве.
Нам с папой сразу же становится понятно, что баскетбольные навыки Брю не идут дальше тех, что можно получить в школе на занятиях физкультурой. То есть, он может «вести» мяч, стоя при этом на месте, иногда его «штрафные» летят по правильной траектории, правда, при этом редко ложатся в корзину, однако настоящей игры он и не нюхал.
— Разве вы с дядей никогда не бросаете мяч? — спрашивает папа. М-да, откуда же ему знать, что у Брюстера за дядюшка.
— Мой дядя больше интересуется бейсболом.
Папе становится всё понятно: у Брю тяжёлая, лишённая баскетбола жизнь. Это надо поправить. Мой папа в родной стихии. К тому же, впервые за много лет учитель в нём сочетается со спортсменом, и он с воодушевлением принимается обучать нового студента премудростям баскетбола.
— Знаешь, я ведь играл в университетской команде, — похваляется папа, выполняя какие-то заумные финты, которые производят впечатление только первые сто раз — однако Брю в полном восторге. Даже Коди отрывается от своего ирригационного прожекта, когда папа проводит особо эффектный приёмчик. Я еле подавляю желание закатить глаза. Надеюсь, что когда-нибудь мои собственные дети будут так же деликатны со своим отцом.
— Держись меня, — внушает папа, — и ты станешь королём площадки!
Отец переменился — и как же здорово видеть его таким! Он в приподнятом настроении, позабыл о маме и том, что наша семья вот-вот рухнет, словно дом, подточенный термитами. Могу даже сказать, что и меня это тоже как-то не очень заботит. Вся эта суета кажется теперь где-то далеко-далеко…
Брю с его моментальной памятью — отличный ученик. К тому времени, как мы решаем, что пора закругляться, он выглядит на площадке очень даже неплохо.
— Спасибо вам, мистер Стернбергер. — Его благодарность идёт от сердца.
— Да не за что, Брюстер.
— Зовите меня Брю.
Эх, как хорошо здесь — вдали от всех досадных мелочей жизни! Вообще — весь день я ношусь как на крыльях. С чего бы это? Какое-то непонятное, неописуемое состояние, этакое солнечное воскресное настроение, о котором слагают смешные и нелепые песенки — ну, вы знаете, те, которых и на вашем iPod’е целая куча, хотя вы в этом ни за что не признаетесь. А папа — так того я уже несколько недель не видел в таком превосходном расположении духа.
— Часок на площадке — и всё становится на свои места, — говорит папа, передавая Брю мяч для финального броска. — У меня такое чувство, что всё у нас наладится.
Как потом выяснится, он был прав. И одновременно очень неправ. Страшно неправ.
КОДИ
35) Всякое
На следующей неделе дядю Хойта переклинило. Давненько с ним такого не бывало. То есть, дядя вечно ворчит, ругается, постоянно всем недоволен, но всё-таки не съезжает с катушек окончательно. Иногда он совсем даже хороший, например, как в тот вечер, когда умер Филей — дядя тогда почитал мне на ночь сказку и даже поцеловал перед сном. Представляете, постарался меня утешить! Он сказал:
— Не горюй по Филею. Он сейчас в лучшем из миров.
Вообще-то, я слышал, как бензопила визжала целых два часа подряд, так что в «в лучший мир», Филей попал по частям; но, наверно, дядя имел в виду царствие небесное для коров.
Таким нашего дядю увидишь не часто; поэтому когда у него хорошее настроение, я очень радуюсь. А когда ему сносит крышу, всегда стараюсь помнить, что он бывает и другим.
Так я сделал и в тот день, когда он наехал своим катком на чью-то машину.
Я сам при этом не был, потому как ему не разрешается никого брать с собой — даже в те особенные дни, когда каждый может привести на работу своих детей. У него работа слишком опасная, к тому же ещё и по ночам. Так что я узнал обо всём только на следующий день, когда пришёл из школы.
Короче, был вторник. Брю отправился в торговый центр на встречу с Бронте. Я тоже хотел с ним, но он сказал, что на этот раз меня не приглашали. С того дня, когда мы пошли в парк и он играл в баскетбол с Теннисоном и его папой, Брю перестал придумывать всякие отговорки для дяди. В то воскресенье что-то переменилось. Понимаете, дядя Хойт не хотел никуда нас отпускать, но Брю сказал, что всё равно уйдёт.
— Куда? С кем? — всполошился дядя, но Брю ответил:
— Не ваше дело, и не ваше дело.
Я думал, дядя Хойт начнёт орать, но он только сказал:
— Поосторожнее, Брю.
Я не понял, что он имел в виду: то ли будь осторожней там, куда идёшь, то ли не задирайся с ним, с дядей.
Тут Брю кивнул на ожог от сигареты и сказал:
— Уверен — на днях вам захочется поизмываться надо мной, но предупреждаю: больно тогда будет вам самому.
— Это ещё что такое, парень? Ты мне угрожаешь?
— Нет, говорю, как есть. Сами подумайте: какие я могу испытывать чувства к человеку, который держит меня взаперти?
Хотя это я подал Брю мысль сказать, что дядя ему больше не нравится, но вот уж не думал, что до этого дойдёт. Поэтому, пока всё окончательно не перевернулось вверх тормашками, я закричал:
— Баскетбол! Мы с Брю пойдём в парк поиграть в баскетбол.
Дядя Хойт кивнул, не отрывая глаз от Брю.
— Хорошо, — сказал он, правда, таким голосом, что становилось ясно — ничего хорошего. — Хочешь на собственной шкуре узнать, каково оно там — давай, парень, иди. Но потом не говори, что я тебя не предупреждал!
Вот после этого всё и пошло кувырком, хотя брат с дядей, вроде бы, и не ругаются, всё больше помалкивают; а когда я с ними обоими в одной комнате, то мне хочется поскорей оттуда смыться.
Короче, во вторник, когда уже начало смеркаться, я бросил своего дурацкого змея — всё пытаюсь запустить его, но теперь он так истрепался, что ветер всё равно не смог бы его поднять, он бы просто продувал сквозь дырки — ну вот, я бросил это дело и пошёл в дом. Слышу — дядя Хойт разговаривает по телефону, вернее, кричит в трубку. Оказывается, прошлой ночью у него на работе случилась авария. Ну вот, он бегает туда-сюда по кухне и орёт, что не виноват, что машина сбила дорожные конусы, заехала на ту полосу, где они работали, и врезалась в его каток. Вот так всё было, а вовсе не наоборот, они просто хотят свалить с больной головы на здоровую. Из дядиных слов я понял, что водитель той машины сейчас в больнице и «его положение стабильно». Значит, не помер, я так думаю.
Наверно, дядя правду говорил, что ни в чём не виноват, потому как он страшно гордится тем, как клёво он водит свой каток. Как будто в этом деле с ним не может сравниться никто в мире.
Короче, стою в гостиной, слушаю, как дядя вопит в трубку. А он, кстати, уже хорошенько выпил, и язык у него заплетается. Ясное дело, что от этого его положение лучше не становится. Похоже, босс снял дядю с катка и перевёл на самую грязную и тяжёлую работу.
— Битум?! — вопит дядя. — Я столько лет водил каток, а теперь должен битум мешать?!
На том конце провода тоже кто-то орёт, даже мне слышно. Потом дядя говорит:
— Ну и хорошо, плевать я хотел на вашу работу! — и вешает трубку.
То есть, это только так говорится, что он её вешает; на самом деле он ка-ак треснет трубкой по холодильнику! Трубка — вдребезги. И тут он наконец замечает меня.
— Чего уставился? — рявкает он. — Иди делай уроки!
— А нам ничего не задавали.
— Тогда пошёл с глаз!
— Вас уволят, дядя Хойт?
— Пошёл вон, кому говорят!
Лучше мне смыться в свою комнату от греха. Так и делаю, а дядя продолжает пить.
Сижу у себя и смотрю в окно — на пустой двор, на ограду, дома по ту сторону переулка… Жду, не появится ли Брю. Скорей бы он пришёл! Он, конечно, всё ещё с Бронте и неизвестно, когда вернётся. А я всё сижу и думаю — наверно, я тоже виноват в том, что у дяди такое плохое настроение. Ведь это я предложил Брю сказать, что больше он дядю не любит. Если бы не я, брат был бы дома, и тогда дядя, может, так бы не рассердился…
На закате вместо того, чтобы, как обычно, отправиться на работу, дядя выходит на веранду и усаживается в раскладное кресло — слышу, как оно скрипнуло под его весом — и начинает говорить. Там никого нет, так что он разговаривает сам с собой. Он выкладывает всё то, что думает о своём боссе, но сказать ему в глаза никогда бы не решился. Вот и сидит, вещает для сверчков. А мне как раз приспичило, и я отправился в туалет.
Эх, вот подумал бы я хоть немножко головой — то сообразил бы, что случится дальше! Понимаете, на прошлой неделе ручка на нашей входной двери, той, которая с сеткой, сломалась. То есть, если дверь толкнуть изнутри, она откроется; но если ты снаружи, то можешь скрестись, пока все ногти не переломаешь — ничего не выйдет, открыть почти невозможно. И совсем невозможно, если ты под мухой.
Слышу, как дядя кричит: «Коди!» — но я всё ещё в ванной, занимаюсь делом.
— Коди! — снова вопит он. — Открой чёртову дверь!
Пытаюсь побыстрее закончить своё дело, но вы же понимаете, не так-то это просто. А он уже разорался, как будто его режут; наконец, я вбегаю в гостиную и за сеткой вижу…
…его глаза.
Я знаю эти глаза.
С дядей Хойтом плохо, а Брю нету, и я не знаю, куда кинуться, стою, пялюсь на дядю и боюсь открывать; и хоть знаю, что от этого только хуже, но не могу пошевельнуться; только смотрю на него и вижу, как эти глаза становятся всё шальнее, и слышу, как он визжит: «Открой эту проклятую дверь!» И тут он ударяет в сетку кулаком, пробивает её, просовывает руку внутрь и дёргает створку.
Теперь между ним и мной нет ничего.
Я пячусь — может, удастся сбежать через заднюю дверь… Но дядя Хойт хоть и пьяный, но быстрый — не успеваю дёрнуться, как он уже тут как тут. Хватает меня за футболку, я падаю, трескаюсь головой о телек, и сразу ясно — Брю где-то далеко, потому что мне больно.
— Смеёшься, гадёныш? — ревёт дядя. — Я там стою, а ты тут ржёшь, э?
Он снова вцепляется в меня, и я думаю: «Кукла, кукла, я тряпичная кукла» — так, как Брю учил; но что толку, если его здесь нет! Дядя Хойт швыряет меня, как будто я и в самом деле сшит из тряпок. Наверно, он хотел бросить меня на диван, но промахнулся, и я врезаюсь в стол, сбиваю светильник, лампочка разбивается… Эх, надо бы мне поосторожнее, а то дядя потом будет на меня ругаться, как его босс ругается на него за ту машину, что врезалась в каток.
— Ах ты дармоед! — кричит он. — Дармоед поганый!
Когда дядя Хойт пьян, он любит повторять по два раза.
— Оба — и ты, и твой братец ни на что не годны! — продолжает он орать. — Он решил, что может уходить и творить всё, что ему заблагорассудится? Если бы не вы, щенки, я бы жил, как король! Вы у меня по уши в долгу!
Да, всё это моя вина; дядя сердится на Брю куда больше, чем на меня, а Брю здесь нет, потому что я тогда так сказал, значит, во всём виноват я сам…
Он подходит ближе. Поднимает кулак, и я знаю — сейчас он обрушит его на меня, щупаю вокруг руками — не найдётся ли что; и находится — стеклянная пепельница, квадратная, тяжёлая; бросаю её в дядю Хойта. Понятия не имею, чем это мне поможет, но должен же я хоть как-нибудь защититься!
Пепельница попадает ему в лоб, я даже слышу «бум!», и через секунду на этом месте выступает кровь. Дядя смотрит на меня так, что мне сразу ясно: всё, Коди, тебе конец.
— Ты бросил в меня этой штукой? — ошеломлённо говорит он. — Ты бросил в меня этой штукой?!
А у меня в башке полная каша. Трясу головой и лепечу: «Нет, сэр!» — как будто это сможет его успокоить; но куда там — у дяди сегодня плохой день, а это значит, что мой собственный день грозит стать совсем чёрным.
Кидаюсь к несчастной сеточной двери. Изнутри она открывается легко — только толкнуть, но не успеваю — дядя хватает меня за ногу и втягивает обратно.
— Ты ещё пожалеешь об этом, парень! — рычит он. — Я тебя научу уважать старших! Слышишь, щенок? Слышишь, говорю?
Он кладёт руку на пояс — вытащить ремень, но на нём нет ремня. А если он отправится на поиски, то я сбегу, и дядя это отлично понимает, поэтому хватает меня поперёк тела и тащит под мышкой, как футбольный мяч. Извиваюсь, брыкаюсь, пытаюсь вырваться, но всё напрасно.
— Я вам задам урок! Обоим. Убью двух зайцев разом. Дома ему, видите ли, не сидится! Он у меня поплатится!
И вот мы уже снаружи, хлопает сеточная дверь.
— Вы у меня шёлковые будете!
Я не вижу, куда мы идём. Да мне и не надо видеть, и так знаю. Он всегда тащит меня в одно и то же место, когда его накрывает. В дальнем углу нашей фермы есть сарай, он стоит на отшибе, так что если в нём какой-то шум — никто не услышит. А если бы даже и услышали, то что? Соседям плевать. Они, кажется, вообще нас не знают.
Помощи ждать неоткуда. Я боюсь. Так боюсь, как никогда в жизни ничего не боялся. Я даже не испугался, когда мне сказали, что умерла мама, потому что был совсем маленький и не понимал, что это такое. Но сейчас-то я всё понимаю. Дядя не раз уже задавал мне всякие уроки, правда, это всегда случалось, когда Брю был рядом; к тому же таким злым-презлым он ещё никогда не бывал.
Сегодня мне крышка.
Дядя Хойт свободной рукой толкает дверь сарая, входит и запирает её за собой. Потом дёргает за верёвку, и под потолком загорается лампочка. Первое, что попадается мне на глаза — это стенка, на которой висят всякие инструменты: молотки, отвёртки, лопаты… Неужели дядя собирается… Нет, не может быть! У него снесло крышу, но он же не сумасшедший — тут есть разница. То есть, я хочу сказать — не станет же он меня убивать! Ну, разве что не нарочно — он ведь только хочет поучить меня, как надо себя вести; просто я боюсь, что он перестарается, окажется слишком хорошим учителем…
— Пожа-алуйста, дядя Хойт! — ною я. — Давайте вы дадите мне урок завтра! С утра уроки запоминаются лучше!
— Никаких завтра! Никаких завтра! Ты меня довёл!
Я вырываюсь от него и пытаюсь спрятаться под верстаком. Там полно паутины и всяких тараканов, да плевать — забиваюсь как можно дальше в угол, но дядя хватает меня за ногу и вытаскивает оттуда. Обдираю локти на цементном полу. Как только выдаётся такая возможность, со всей силы вонзаю зубы ему в руку — кто знает, может, это приведёт его в себя. Он страшно ругается и бьёт меня наотмашь тыльной стороной ладони по лицу. Это сегодня, можно сказать, первый удар, но уж точно не последний: лиха беда начало. Лицо горит, я плачу, а это уже совсем плохо: когда слёзы застилают глаза, трудно вовремя увернуться от кулаков. Дядя порядочно пьян, так что если я постараюсь шевелиться побыстрее, то, может, мне достанется не так сильно. Это как когда мы играем в вышибалу — надо только вовремя отскочить в сторону. Я всегда побеждал в вышибалу. Но попробуйте-ка увильнуть, когда ничего не видно!
— Я вас не перевариваю! — орёт дядя. — Обоих— и тебя, и твоего братца! И тебя, и твоего братца!
Это было бы очень обидно, если бы я не слышал от него этих слов уже раз сто и если бы не знал, что на самом деле он так не думает.
— Всё пошло наперекосяк, как только вы навязались на мою голову, — продолжает он и снова хватает меня, — но уж если так вышло, то я научу тебя относиться ко мне с уважением, как к настоящему отцу!
Я взбрыкиваю, вырываюсь из его рук и врезаюсь спиной в стенку. Инструменты с грохотом падают на пол. От такого удара спине должно стать очень больно, но… не стало. И не только это — моё лицо больше не горит после оплеухи, которую отвесил мне дядя.
В этот миг я понимаю.
Я знаю — он здесь.
Брю дома! Он спасёт меня! Бросаю взгляд в окошко — там темно, но я вижу его лицо. Он стоит и смотрит на нас.
Нет, он не выбивает дверь — ничего такого. Не врывается в сарай и не пытается остановить дядю Хойта. Он никогда так не поступает. Говорит — не может. Ну и ладно. Зато он умеет кое-что другое. Вот это он сейчас и делает.
Дядя Хойт пока ни о чём не догадывается.
— А ну вставай! — орёт он на меня.
Как бы не так. Вместо этого я делаю то, чему меня учил Брю: становлюсь тряпичной куклой, валюсь бесформенной кучей на пол, как будто у меня нет ни мяса, ни костей — только тряпки, набитые ватой.
А вот теперь и дядя соображает, что Брю здесь, потому что маленькая ссадина на его лбу, которую оставила пепельница, понемногу затягивается. Это происходит не так быстро, как со мной — я для Брю важнее, но всё же брат беспокоится и о дяде, поэтому его рана тоже исчезает. Дядя смотрит в окно, видит Брю, и направляет на него всю свою злость.
— Ну, наконец-то, изволил явиться! — рычит дядя Хойт, ну прямо как медведь, если бы только медведи умели разговаривать. — Поздновато! Пусть пацан на этот раз расплачивается собственной шкурой!
Но Брю стоит с каменным лицом и ничего не говорит.
— Ну и ладно. Тогда пусть достаётся вам обоим!
И принимается молотить меня. Но мне-то что — я тряпичная кукла.
Снаружи доносятся сдавленные стоны. Не крики, только стоны — Брю всегда держит всё в себе. А ведь больно наверняка ужасно, я знаю. Дядя видит, что его урок мне по барабану, и злится ещё больше. Он орёт и ругается, но мне плевать.
Закрываю глаза. Я тряпичная кукла. Пересчитываю боками все углы, стенки и выступы в сарае. Пусть он колошматит меня, пинает ногами, толкает, возит по полу! Даже начинаю улыбаться, потому что всё это довольно весело — как будто меня качают в колыбельке.
Бесись сколько хочешь, дядя Хойт — ты не сможешь причинить мне вреда. Брю защищает меня. Он никогда не позволит тебе сделать мне больно. Никогда, никогда, никогда.
БРЮСТЕР
36) Принимающий
БРОНТЕ
37) Фосфоресцирование
На мой взгляд, невозможное происходит в этом мире постоянно, просто мы принимаем его как должное, забываем, что когда-то оно считалось невозможным.
Взять хотя бы самолёты. Эти гигантские металлические штуковины не оторвёшь от земли без мощной гидравлической лебёдки, а они летают! Вам не кажется это невозможным? Когда-то все твердили: «Если бы человек был предназначен для полёта, у него были бы крылья», однако это не остановило поэтов — они продолжали мечтать. А потом, несколько сот лет назад, человек по имени Бернулли свёл в одну формулу давление, плотность воздуха и скорость — и бинго! Поэзия стиха стала поэзией движения, и теперь машины, по размерам превосходящие синего кита, летают в небе, и никого это не удивляет, спасибо всем большое.
Мне кажется, маленькие дети, в отличие от нас, «разумных» и «взрослых», умеют удивляться чудесам. Они вникают во всё, что им попадается в жизни — от светлячка до молнии, и поражаются, что такие необыкновенные вещи существуют на свете. Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь хоть изредка напоминал нам: вот так мы все должны смотреть на мир. Но с другой стороны — если бы мы только и знали, что бесконечно чем-то восторгались, ничего полезного мы бы так и не сделали.
С неохотой должна признать: я типичная представительница нашего биологического вида с его равнодушием к чудесам. Мне тоже доводилось сталкиваться с волшебством и превращать его в нечто обыденное. У светлячков в брюшке светится фосфор, а молния — всего лишь электрический разряд. Скучища.
Ещё приходится признать, что мы с Теннисоном слишком быстро свыклись с мистическими способностями Брюстера. Хотя я отчаянно пыталась смотреть на них, как на чудо, ничего не выходило. То, что он был в состоянии исцелять — или красть — чужую боль, больше не изумляло, стало для нас привычно. Это была моя первая ошибка.
Потому что как только ты перестаёшь удивляться светлячку, которого посадил в банку — ты забываешь о нём. Банка стоит на полке, и некому выпустить светлячка на волю.
38) Первый бал
До того как случилась авария с паровым катком и дядюшка Хойт избил Брю до полусмерти, я была полностью поглощена тем, как бы выманить Брюстера из его раковины. Теннисон стал его личным тренером. А вот моя роль была более тонкой: я попыталась ненавязчиво привить ему интерес к общению с другими людьми. Начиталась книжек по психологии и решила, что разобралась в его характере. Мне казалось, что всё, чего ему не достаёт — это лишь немного поддержки и ободрения. Разумеется, я глубоко ошибалась, но так уж я устроена: если вобью себе что-то в голову, то выбить это оттуда непросто.
— Тебе нужно пересмотреть свои взгляды на отношения с людьми, — объявила я ему как-то за ланчем, когда мы сидели в школьной столовой. Я накрыла его руку, лежащую на столе, своей — пусть все видят.
— А по мне и так хорошо, — ответил он. — Люди не трогают меня, я не трогаю их.
Я потрясла головой.
— Хватит. Ты, мой печальный поэт, — не недотёпа какой-нибудь, и пора тебе перестать прятаться по тёмным углам. Прошли те времена.
Он попытался есть, но поскольку я держала его правую руку в своей, он только неловко тыкал в тарелку вилкой, зажатой в левом кулаке.
— Может, мне нравится прятаться по углам.
— Поверь, тебе больше понравится общаться с друзьями.
Похоже, мои слова его не только не убедили, но скорее наоборот — встревожили.
— Ну-ка посмотри мне в глаза и скажи, что тебе не хочется иметь друзей! — настаивала я. Отпустила его руку, но он не торопился взять в неё вилку, оставил свободной — для меня. Я улыбнулась: поразительно, как много в нашей жизни мелочей, которые исполнены столь глубокого смысла!
Интересно, и когда это я стала такой приторно сентиментальной? Как надписи на открытках Холлмарк.
— Не скажу, — ответил он. — Просто не думаю, что это хорошая мысль.
Хорошая или нет, а обзавестись друзьями ему придётся. Это — следующая в длинном ряду стоящих передо мной задач. Как уже упоминалось, я не самая популярная девочка в школе, но непопулярной меня тоже не назовёшь. Я как раз в золотой середине, а это значит, что и мои друзья тоже в золотой середине — и Брю, скорее всего, придётся им по сердцу.
Я подозвала к нам свою хорошую подругу Ханну Гарсиа — она даже черепаху выманит из панциря, а та и не заметит.
— Ханна, — сказала я, когда та присела за наш стол, — Брюстер воображает, что не способен к нормальному человеческому общению.
Брю вскинул руки:
— Бронте!
— Ой, только не надо изображать врача с дефибриллятором! — фыркнула я и снова обратилась к Ханне: — Да, так вот. Обстоятельства сложились так, что он внушил себе, будто он — человек второго сорта. Нам необходимо независимое суждение.
— Бронте! — воскликнул он. — Ну хватит! Мне же неудобно.
Ханна махнула рукой:
— Да брось ты! — и принялась добросовестно и объективно изучать его. — Ну что ж, — сказала она наконец, — во-первых, он высокого роста. Во-вторых, симпатяга. В-третьих, он твой парень, а ты превосходно умеешь выбирать себе друзей, тут у тебя безупречный вкус.
— Спасибо.
— Так что, — заключила Ханна, — даю ему девять баллов из десяти по шкале социальной пригодности.
— Почему только девять? — возмутилась я.
— Если бы он тянул на десять, он встречался бы со мной! — заявила Ханна, подмигнула Брюстеру и упорхнула.
Брю сидел весь пунцовый, но на губах его сияла самая широкая улыбка, которую я когда-либо видела. Я взяла его за обе руки — всё равно с едой, кажется, покончено.
— Знаешь, что я думаю? — сказала я. — Я думаю, что нам надо как-нибудь выбраться в город с целой компанией моих друзей. Немножко поживёшь моей жизнью. Это будет просто здорово!
— Ладно, — согласился он, всё ещё с румянцем на щеках. Он постарался придать своему голосу всю беспечность, на какую был способен.
Я готовилась к этому событию так, будто это был не выход в город, а первый выход в свет. Бал для одного, смокинг не обязателен. Вообще-то, всё было гораздо проще: мы целой компанией выбрались во вторник после школы в торговый центр поесть гамбургеров, только и всего. Зато к подбору членов компании я подошла очень серьёзно и выбрала тех, с кем Брю не чувствовал бы себя неловко, даже чувствуя себя неловко. Нас было шестеро — ни слишком мало, ни слишком много, в самый раз.
— Я не смогу быть долго, — сказал он. Эту фразу он произносил всегда — куда бы и когда бы ни шёл.
Я поцеловала его, а потом зашептала ему на ухо, временами приостанавливаясь, чтобы украдкой втянуть в себя запах кокосового кондиционера, исходивший от его волос — по непонятной причине этот аромат сводил меня с ума:
— Поверь мне, — проговорила я, — тебе не захочется уходить.
Но эти слова лишь обеспокоили его.
В тот вечер мы все очень славно провели время; и хотя Брю по большей части помалкивал, мои друзья признали его за своего, приняли как равного — такого с ним никогда раньше не случалось. Он вышел за рамки тесного круга своей семьи, стал частью общества. Как я и предсказывала, он оставался с нами гораздо дольше, чем намеревался вначале.
— Мне нравятся твои друзья, Бронте, — сказал он, уходя. — Вот уж не ожидал, но они мне нравятся. Очень.
Я отправилась домой — с чувством, что сделала что-то замечательное.
Он отправился домой — где в это время его дядя вымещал на его младшем брате всю свою жесточайшую обиду на судьбу.
39) Уловка
Во всём мире дедушки и бабушки рассказывают, как они каждый день ходили в школу за пять миль по снегу босиком, а по пятам неслись волки; но те дни уже давно миновали. Почти все теперь либо сами ездят, либо их везут. А вот мы с Теннисоном в последнее время предпочитаем ходить в школу пешком, хотя туда почти целая миля. Просто у нас тогда есть повод убраться из дому пораньше. К тому же, если мы идём пешком, нам не надо сидеть в маминой машине и гадать, чьим ужасным одеколоном в ней воняет. Если мы идём пешком, нам не надо сидеть в папиной машине — папа, который раньше любил поболтать, теперь, похоже, дал обет молчания за рулём. Когда мы с Теннисоном идём пешком, то, по крайней мере, можем поговорить друг с другом, даже если мы просто переругиваемся.
— В прошедшие выходные папа, кажется, был вполне ничего, — сообщил брат, когда мы топали рано утром под моросящим дождём. Была пятница, а накануне Брю впервые вышел в свет со мной и моими друзьями. Так что у меня настроение было самое радужное.
— Это когда? — спросила я.
— Когда мы играли в баскетбол. Брю был с нами.
Я представила себе эту картину и пожалела, что меня не там не было: вот было бы здорово снова увидеть нашего папу таким, как прежде. А заодно и посмотреть, как Брюстер играет в баскетбол. Его тренировки с Теннисоном дают весьма ощутимые результаты и… Ну, ладно, признаю, видно, во мне говорит первобытный инстинкт — хотелось бы полюбоваться этими мускулами в движении…
— Папа просто преобразился, — продолжал брат. — Но, ты знаешь, что-то в этом было не то…
Я не улавливала, к чему Теннисон ведёт, да и он сам, кажется, не совсем это понимал, ведь предложение он так и не закончил.
Когда мы уже были в двух кварталах от школы, впереди показалась высокая угловатая фигура в кожаном бомбере. Под бомбер парень надел спортивную куртку, капюшон которой натянул на голову. Мне не обязательно было видеть его лицо, чтобы понять, кто это.
— Брю! — окликнула я.
Он на мгновение обернулся, но вместо того, чтобы подождать нас, прибавил шагу.
— Ты посмотри, он от тебя удирает! — сказал Теннисон. — Мне этот парень определённо нравится!
Я кинулась за Брю. Да что с ним такое?! Несмотря на широкие, размашистые шаги, двигался он не слишком быстро, и я успела нагнать его в начале следующего квартала. Я потянула его за рукав, но он отвернулся, загородившись от меня плечом. Тогда я потянула сильнее и тут увидела его лицо под низко опущенным капюшоном. От этого зрелища я чуть не выпала на мостовую под проезжающую мимо машину.
Разбитые, распухшие губы, чёрный заплывший глаз. Всё лицо в пятнах тонального крема — видно, он пытался замазать синяки.
— Как… Что это?.. Что произошло?!
Он пожал плечами.
— Мы с Коди играли в мяч, и я оступился.
— Врёшь!
Он не стал запираться.
— Вру. И что?
Вот теперь я увидела, что заплывший глаз — это не всё; по его походке, по тому, как он держал себя, становилось ясно — на нём живого места нет. Мне хотелось обнять его, но я побоялась, как бы сделать ему ещё больнее.
— Это твой дядя?
Он мгновение помолчал, глянул в сторону школы…
— Нет. — А потом: — Да.
Похоже, для него это слово — «да» — оказалось ещё большей неожиданностью, чем для меня. Судя по всему, он намеревался хранить свою тайну вечно. И вдруг он страшно побледнел. Он боялся меня. Вернее, боялся, что я пойму, в чём дело.
Вообще-то, я была не готова к правде. Она потрясла меня. С другой стороны улицы послышался смех — там веселились какие-то детишки. Они смеялись не над нами, но всё равно — как они могут смеяться, когда здесь раскрывается такая ужасная правда?
— А что с Коди? — спросила я.
— С Коди всё хорошо. Даже лучше, чем просто хорошо.
— Ты должен кому-нибудь рассказать об этом!
— Я и рассказываю. Тебе.
— Я имею в виду — кому-нибудь из властей!
— Кому? Директору? Полиции?
— Именно!
Теннисон уже давно поравнялся с нами, но лишь стоял, словно в столбняке, и не мог вымолвить ни слова. В школе раздался звонок; я пропустила его мимо ушей. Пусть записывают опоздание.
— Если я кому-нибудь скажу, они заберут нас от дяди, — пояснил Брю. — А тогда всё станет гораздо хуже.
— Да что может быть хуже?! Ты же еле ходишь!
Он не ответил. Точнее, не на словах — ответ был в его взгляде. Его глаза светились такой холодной решимостью, что меня и в самом деле пробрала дрожь.
— Я сам справлюсь, — сказал он. — Я уже всё продумал. Через несколько месяцев мне будет шестнадцать, и я смогу стать «эмансипированным несовершеннолетним[18]». Тогда я перееду от дяди и заберу Коди с собой. Дядя Хойт не сможет мне помешать.
— Это в том случае, если ты всё ещё будешь жив!
— Ничего со мной не станется. Но если нас с Коди заберут от дяди сейчас, то поместят в приёмный дом. Может, даже разведут по разным домам. В любом случае — я не смогу сохранить свою тайну, люди сразу узнают. И как только они узнают…
Снова его глаза полыхнули холодом. Мне хотелось поспорить с ним, доказать, что всё не так, но этот ледяной взор заставил меня замолчать.
— Кто знает, — проговорил Брю. — Может, дядя изменится?
Но тут вмешался Теннисон. Я о нём и позабыла.
— Как же, изменится он! — фыркнул брат. — Таких только могила исправит! Уж поверь мне.
Надо идти к властям. Надо! Хрестоматийный случай насилия над детьми. Этот человек должен понести наказание! Вот только… Дело-то касается Брюстера Ролинса. Если бы на его месте был кто-то другой, я бы сразу отправилась куда надо и заложила бы его дядюшку, ни секунды не раздумывая. Но в отношении Брю не действовали никакие нормальные, естественные законы; нельзя было с уверенностью определить, что правильно, а что неправильно. Какой толк с хрестоматийного случая, если никто не удосужился составить саму хрестоматию?
Внезапно мне вспомнилось то, что мы учили на уроках биологии. Есть животные, которые умирают, если вырвать их из привычной среды. Даже если эта самая среда ужасна, враждебна жизни, они всё равно не могут жить вне её.
— Ты должна доверять мне, Бронте, — сказал Брю. — Пожалуйста…
Что может быть хуже его дяди?! Ответ известен только Брюстеру. И хотя это противоречило всему, что я считала правильным, я неохотно присоединилась к его заговору молчания.
И, кажется, не я одна.
— Тогда тебе надо придумать какую-то правдоподобную историю, не то все учителя всполошатся, — проговорил Теннисон. — Если кто спросит про твой глаз, скажи, что это я тебя отколотил за то, что встречаешься с Бронте. Я подтвержу, если что.
У меня челюсть отпала. Ничего себе предложение!
— Нет!
— А у тебя что — есть идея получше? — огрызнулся брат.
Я отвернулась. Идеи не было.
Брю, со своей стороны, был искренне тронут предложением моего братца.
— Правда? Ты мне поможешь?!
Теннисон ответил со своей обычной ухмылочкой:
— Само собой. Для чего ещё человеку друзья, как не для того, чтобы вовремя набить морду, пусть чисто теоретически?
Брю воспользовался предложением моего брата, так что ещё до ланча вся школа гудела: только подумайте, Теннисон избил Громилу до полусмерти! Мои подруги сбежались, чтобы выразить мне сочувствие и поддержку, в качестве утешения обозвав Теннисона всеми нехорошими именами, какие им только были известны; а друзья Теннисона, естественно, окружили его, ликовали, требовали дать пять, и он — куда деваться? — принимал похвалы не моргнув глазом, чтобы никому не пришло в голову усомниться в этой истории. Так и получилось, что в глазах одноклассников мы с братом внезапно оказались в состоянии войны, и никто, кроме Брю, не догадывался, что всё это — враньё, отвратительная уловка, призванная сбить всех с толку.
И всё же я ничего не могла поделать — в глубине души я ощущала, что совершила страшную, ужасную ошибку. Не могу перечислить, сколько раз за этот день я набирала 911 и держала палец на клавише «звонить», но так и не нажала её!
Не знаю, как бы обернулась жизнь, если бы я сделала этот звонок. Возможно, он спас бы Брю от того, что случилось потом. Но с другой стороны — это всё равно бы произошло, что бы мы ни предпринимали.
БРЮСТЕР
40) Эмболия
«Думаешь, он уже успокоился?» «Думаешь, ему вернули работу?»
Я хочу сказать: мне всё равно; ведь дядя вырвал душу из моего тела, оставив лишь горечь; и напрасно я сжимаю губы, ведь всё, что происходит с дядей, происходит и со мной.
Сгорела его надежда — сгорела и моя, сломанная, словно рёбра под тяжёлым сапогом, погасла, как свеча, у которой слишком короток фитиль, и даже Бронте не в силах вновь зажечь её.
То, что он сделал, нельзя простить.
«Может быть, ему уже лучше, а?» «Может быть, он жалеет, а?»
Со скрипом открывается калитка — тридцать восемь шагов через пустырь до двери; я иду медленно, не тороплюсь узнать ответы на вопросы Коди; и вдруг резкий звук скребёт по нашим напряжённым нервам, и мы останавливаемся как вкопанные посреди раскисшего поля.
«Ты слышал?»
Что-то разбилось внутри, за закрытыми окнами; и снова звон — теперь другой, более плотный. Первое было из стекла, второе — из фарфора; и Коди смотрит на меня огромными глазами, в которых страх милосердно приглушён незнанием.
«Что он делает, Брю?»
Порывшись в кармане, выуживаю из него несколько долларов и протягиваю Коди: «Пойди купи себе мороженое»; он хватает бумажки и пятится к калитке; в доме опять что-то бьётся, на этот раз ещё громче.
«Кажется, работу ему не вернули».
Коди бежит усыпить свой страх вишнёвым мороженым, и я иду один — встретиться с дядей лицом к лицу.
«Ззабери, ЗзабериЭттПарень, ВедьДляТогоТтСсоздан, ЯТеперьТвёрдоЗзнаю… ДляЭтогоТтПришшёлКкМнеМногоЛетНаззад, ВотПочемуТвояМатьСсделалаТоШштоСсделала… ТыМмояВтораяЖжизнь, ВторойМойШшанс, ВтораяВззможностьЧего-ТоДостичь, СсделатьСсёПравильно, БольшшеЯНеБудуХодить По КраюСобственнойВшшивойЖиззни, Больше Никаких ЗакрытыхДверей, Упущщенных Возможностей… Ты Изменишшь Это, ты Сделаешь ЭтоДля меня, Брюсстер, Ты Сделаешь Ссё как надо, МойСсломленныйДухПерейдёт к тебе, МоёЖалкоеТело Сстанет твоим, ЯЧувствую, это уже происходит, МнеУже лучше, Речь возвращается… ЗабериЭтоПрочь, мальчик, ВедьТыБолеешьДушойЗаМеня, Ты Любишь меня, Это Правда, Сердцем чую, и ты Знаешшь это тоже, вссе эти годы я ДавалТебе крышшу НадГоловой, кормил тебя, ведь это же Что-тоЗначит, пусть не всё было как надо, нет, НеВсё, но была семья, НастоящаяСемья, мы ЗаботилисьДругОДруге, как ты заботишься обо МнеСейчас, ну что же, что я иной раз ВёлСсебяПлохо, сс кем не бывает, НоТыЖеПрощаешь меня за это, ты же всё понимаешь, ТебеНаМеня не плевать, и я благодарен тебе, Брю… благодарен, потому что сегодня ты осознал своё место на этой грешной земле… своё место и свою цель — СпастиМеня, ТвоегоБедногоСтарого дядю Хойта… я чувствую, ОноУходит, онемение, тяжесть уходят… укради их, Да, ВотТак… А я этого не забуду, Брю, я ПоставлюТебе самый большой, самый роскошный памятник из мрамора, и мы с Коди будем приходить часто-часто, и приноссить тебе цветы на день рожждения, и врата рая Расспахнутся Для тебя за то, что ты сделал сегодня, поэтому забери это, забери это от меня, Брю, как тебе на роду написано… Это то, для чего ты здесь…»
Пытаюсь говорить, но язык не слушается, он ленив и неповоротлив, и жизнь иссякает, покидает меня… Нет, это не может так кончиться, разве такова моя цель — умереть вместо дяди, но моя плоть угасает, левая нога, левая рука, левая половина тела умерла, и за нею следует вторая, это катастрофа, коллапс, потому что я всё ещё волнуюсь за дядю — достаточно, чтобы попасться в ловушку; мысль о том, что он выйдет отсюда живой и здоровый слишком невыносима — я не хочу этого — я хочу прожить СВОЮ жизнь, а не ЕГО смерть, а тогда я должен прекратить его жалеть — должен убить собственную душу задушить сострадание и сочувствие к человеку который растил меня долгие годы — смогу ли я сделать это дядя Хойт сейчас когда либо вы либо я? Смогу ли найти в своём сердце силы отказаться от собственного сердца? Я погружаюсь в себя глубоко-глубоко даю онемению захватить всё моё тело проникнуть в то место где живёт сострадание и очистить его так чтобы я мог оставить вас — вас, но не любовь, не ненависть, оставить вас во тьме и арктическом холоде — вы мне безразличны, вы мне не нужны, ни сейчас, ни когда-либо… и вот… и вот… Моё лицо медленно оживает — мне плевать, что станется с вами, дядя Хойт — я могу теперь пошевелить ногами — и вы, чувствуя, как возвращается ваша судьба, пытаетесь ухватиться за меня — но своей здоровой рукой я делаю то, чего никогда не смог бы раньше — размахиваюсь и всаживаю кулак в вашу скулу, и вы падаете — я вижу ваше лицо — оно оплывает, немеет, инсульт возвращается к вам, как жидкая грязь, стекающая в яму — оживает и моя вторая рука — ноги ещё слишком слабы и не удержат меня, но я ползу к двери на четвереньках, и вы воете в ожесточении — ваша судьба теперь снова ваша, не моя — и если мне удастся уйти подальше и забыть о вас на достаточно долгий срок, ваша судьба настигнет вас — и я выбираюсь за дверь, падаю с крыльца, барахтаюсь в грязи, пока неспособный встать на ноги, но я ползу, ползу, и чем дальше от дома, тем мне легче, и вот я уже могу подняться, я на краю того круга, до которого простирается мой дар — и больше не чувствую вас, дядя Хойт, не чувствую совсем. Теперь я могу идти — прихрамываю, но могу, и изо всех сил мчусь к воротам. Ваша смерть теперь ваша, дядя Хойт, что посеешь, то и пожнёшь. А скоро вы узнаете, вправду ли Господь настолько милостив, чтобы простить вас. Потому что я не прощу.
ТЕННИСОН
41) Incommunicado[19]
У дяди Хойта не было похорон.
Его бывшая супруга попросила кремировать его, а урну отослать ей в Атланту. Интересно, чтó горящие гневом женщины делают с прахом их бывших мужей? Во всяком случае, дядюшке легче, чем Брюстеру, у которого выдалась просто адская неделька.
ПЯТНИЦА: Дядя Хойт умирает при таинственных обстоятельствах.
СУББОТА: От Брюстера нет никаких вестей, так что нам приходится довольствоваться слухами, и не только о том, как всё это произошло, но и о том, где Брю с Коди сейчас. Мы с Бронте ничего, совсем ничего не знаем и попросту сходим с ума. Достоверных сведений нет вообще, а от того, что мы слышим, волосы встают дыбом. Варианты ответов, выберите верный:
А) «Говорят, Громила застрелил дядюшку и дал дёру».
Б) «Говорят, Громила задушил дядюшку, и теперь с этим разбирается ФБР»
В) «Говорят, дядюшку замочила мафия, а Громила теперь под программой защиты свидетелей».
Г) «Говорят, у Громилы вообще никогда не было дяди, а Ральфи Шерман[20] утверждает, что у них в подвале нашли материалы для изготовления атомной бомбы».
Мы — единственные, кто близко знает Брю, и потому можем смело утверждать, что правильный ответ — это.
Д) Ни один из вышеперечисленных.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: Бронте, в жизни никого не ударившая — если не считать меня — на улице вцепляется в волосья какой-то чирлидерше, посмевшей обозвать Брюстера психом. Молодая леди теперь ещё долго будет лишена возможности трясти своими помпонами. «Добро пожаловать на Тёмную Сторону», — говорю я сестрице. Она почему-то не смеётся.
ПОНЕДЕЛЬНИК: По школе проносится известие, что при вскрытии в мозгу дяди Хойта обнаружили тромб. Инсульт. Однако слухи уже разгулялись вовсю, их не остановить, и особо тупые шепчутся по углам: мол, инсульт — это для отвода глаз, на самом деле Громила укокошил своего родственничка. От самого Брюстера — ни слова.
ВТОРНИК: Бронте берёт в оборот нашего школьного психолога — долговязого, похожего на удава типа, который, по моему мнению, отнюдь не распространяет вокруг себя ауру безопасности и доверия. Поначалу тот ни в какую не колется, отговариваясь личной тайной пациента, но Бронте мастерски умеет заговаривать змей.
Наконец, она немного успокаивается — ей удаётся вытащить из удава кое-какие достоверные сведения. Брю и Коди сейчас живут у соседки, миссис Гортон — когда-то она была учительницей Коди в подготовительном классе, а теперь на пенсии. Миссис Гортон увидела полицию у дома Брю, забеспокоилась, а поскольку социальные службы так и не отреагировали, то она забрала ребят к себе.
Прошли ещё целые сутки, прежде чем социальный работник соизволил появиться на пороге её дома.
СРЕДА: Наконец-то Брю позвонил нам. Теперь картина немножко прояснилась. По всей вероятности, мистер и миссис Гортон — важные персоны в их церковном приходе, что означает: они — Столпы Нравственности, Образцы Добродетели, и вся их жизнь строится на принципе «Что бы в этом случае сделал Иисус». Проблема в том, что поскольку они сами — образцы, то и Брюстер с Коди тоже должны стать таковыми, то есть живыми свидетельствами милости Божией. Уж кому-кому, а Брю совсем не улыбается привлекать к себе внимание подобным образом.
— Что-то это всё сильно по-гекльберрифински, если хочешь знать моё мнение, — заявляет Бронте, кладя трубку. — Они там держат Брю с Коди под замком и пытаются их «окультурить». Оказывается, это они до сегодняшнего дня не разрешали Брю позвонить мне. А ведь даже в тюрьме узник имеет право на один звонок, разве не так?
Я подозреваю, однако, что у Брю несколько другие причины для того, чтобы стать incommunicado, но на этот счёт я не распространяюсь.
ЧЕТВЕРГ: В школе Брю пока ещё не появился, и никаких сведений о том, когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще, нет. Может, социалка переведёт их с братом в какое-то другое место.
Во второй половине дня Бронте наносит Гортонам визит. Она тащит меня с собой — для моральной поддержки.
Дверь нам открывает миссис Гортон.
— Брюстера и Коди нет дома, — говорит она, но её враньё тут же разоблачено: из дверей вылетает Коди и набрасывается на мою сестру с объятиями, едва не сбивая её с ног.
— Брюстер спит, — говорит миссис Гортон, но я успеваю заметить его в окне второго этажа — он выглянул между ставнями и тут же спрятался. Что-то для Образца Добродетели миссис Гортон слишком много врёт.
Она рассказывает, что всю эту неделю врачи мучают мальчиков всякими медицинскими и психологическими обследованиями. Принимая во внимание многочисленные следы побоев на теле Брюстера — без сомнения, причинённые его покойным дядей — у врачей полно работы.
— Мне всего лишь нужно поговорить с ним, — умоляет Бронте.
— Он никого не хочет видеть.
На этот раз миссис Гортон говорит правду, и Бронте это понимает. Вижу, как больно ранит её нежелание Брю увидеться с нею.
— Пожалуйста, передайте ему вот это, — говорит она. — Скажите, что это от Бронте.
Она протягивает бывшей учительнице небольшой томик в обложке пастельных тонов — слащавые стишки, какие продают обычно в киосках с поздравительными открытками. Уж конечно это не та поэзия, которая по душе Брюстеру. Однако миссис Гортон при взгляде на расписанную розочками книжку растрогана почти до слёз.
— Конечно, передам, дорогая.
Мы уходим домой. Миссия провалилась.
— Неужели ты думаешь, что он будет в восторге от этого сюсюканья? — спрашиваю я.
— Это не для него, — объясняет Бронте. — Это для неё. Надо же к ней подмазаться. Тогда в следующий раз она впустит меня!
Поправка: миссия завершилась успехом.
ПЯТНИЦА: Бронте предпринимает собственное расследование и не гнушается подслушиванием. Из разговоров учителей между собой мы узнаём о проблеме:
В ситуациях, подобных нынешней, социальная служба готова перепрыгнуть через собственную голову, чтобы как можно скорее поместить детей к приёмным родителям. Фактически, любой, у кого полицейское досье чисто, может стать опекуном. А поскольку Гортоны уже забрали себе Брю и Коди, они в списке потенциальных опекунов стоят на первом месте. Однако выяснилось, что мистер Гортон в молодости, ещё до того, как нашёл Бога, отсидел шесть месяцев за угон автомобиля; хотя его преступление давно стало достоянием истории и Бог скушал его и не подавился, в глазах закона он запятнан. Чета Гортонов не сможет стать приёмными родителями.
Им, без сомнения, откажут, это лишь вопрос времени. А тогда Брюстера и Коди заберут из дома Гортонов и поместят в государственный дом, где любовь и внимание распределяются по принципу свадебного пирога: чем больше едоков, тем меньше достанется каждому.
42) Диккенсовское
В эти выходные Бронте осеняет Великая Идея. Как я и предчувствовал.
Воскресенье. Мы моем мамину машину. Похоже, скоро начнётся дождь, но эта работа даёт нам возможность ускользнуть из дому. Наши мозги и руки заняты — ну, вы знаете, что говорят про безделье, которое корень всякого зла и всё такое. Мы обрызгиваем машину шампунем, не обращая ни малейшего внимания на то, что одно из окон открыто и внутренняя обивка уже вся насквозь мокрая — всё равно мама ругаться не будет. Она больше на нас не кричит — боится, что мы закричим в ответ; ведь в последнее время у нас против неё куда более мощное оружие, чем у неё против нас. Из чего недвусмысленно следует, что теперь мы с Бронте обладаем сверхвластью в рамках нашей отдельно взятой семьи, а сверхвласти никто в здравом уме не осмеливается бросить вызов. Но если честно, я бы предпочёл, чтобы всё вернулось на свои места и в регионе воцарилась стабильность.
— Гортоны получат отказ, это ясно. — говорит Бронте. — И ты знаешь, что тогда произойдёт. Их засунут в какой-нибудь приют, или в богадельню, или ещё куда…
— Сейчас не времена Диккенса, — возражаю я. — Богаделен давно уже нет. Двадцать первый век на дворе!
Правда, я не имею понятия, что собой представляют современные сиротские приюты. Раз в месяц на ручке нашей входной двери появляется пластиковый пакет жеманного розового цвета с надписью: «Подайте ненужную вам одежду такому-то дому для таких-то-растаких-то детей!» Ещё я в курсе, что Брюстера ужасает перспектива угодить в один из этих приютов.
— Куда бы они ни угодили, ничего хорошего их там не ждёт, — произносит Бронте, выкручивая свою губку так, будто жаждет придушить её.
Я точно знаю, к чему она ведёт — говорю же, что уже давно этого жду, но решаю не портить ей удовольствие самой высказать свои соображения. Прикидываюсь дураком.
— Может, найдутся какие-нибудь другие приёмные родители? — предполагаю я.
— Только этого ещё Брюстеру с Коди не хватало, чтобы их только и знали перекидывали из одного дома в другой! — Она разбрызгивает шампунь по капоту широкими извилистыми линиями, и переходит к сути: — Да это просто курам на смех! Ведь у нас свободна большая комната — как раз для них обоих!
Я накладываю маленькие, ровные завитки пены на заднее стекло и не тороплюсь отвечать. Наконец, выдаю фразу, которую она так ждёт:
— Но в комнате для гостей живёт папа.
Она пожимает плечами.
— Подумаешь. Не навечно же он там обосновался.
На это я ничего не возражаю — а зачем? Ведь у нашего папы в том, что касается ночлега, целый набор вариантов: он может, например, вернуться в свою прежнюю спальню и делить её с мамой; или он может переехать жить в другое место; может, в конце концов, разбить палатку на заднем дворе — словом, колесо рулетки всё ещё вращается, и неизвестно, какой цвет — красный или чёрный — выпадет нашему папе, упокой Господи его душу.
— Даже если бы мы отдали им свою гостевую, — рассуждаю я, — неужели ты думаешь, что наши родители позволят твоему бойфренду жить с тобой под одной крышей?
— Они не ретрограды какие-нибудь, — парирует Бронте, — а кроме того, мы сексуально неактивны, чтобы ты знал, спасибо всем большое.
Я ухмыляюсь.
— Это ты сейчас так говоришь.
Она швыряет в меня мокрой губкой. Я уклоняюсь, и губка шмякается о почтовый ящик.
— А, забудь, — сердито ворчит она. — Я ничего не говорила. Всё равно идея глупая.
Но она ошибается. Я вспоминаю тот день, когда мы играли в баскетбол. Как отлично мы с папой чувствовали себя — словно прежняя, сплочённая семья! И Брю в неё неплохо вписывался. Может, нашей рулетке вовсе не обязательно выбирать между чёрным и красным? Ведь есть ещё и чудесное зелёное двойное зеро…
Я подбираю упавшую губку и отдаю её сестре.
— Значит, так, — говорю. — Это предложение должно исходить от меня, потому что если они услышат это от тебя, то — ретрограды, там, не ретрограды — они просто попáдают в обморок.
— Нет, забудь; мама с папой и так как кошка с собакой, им только ещё двух проблемных детей в доме не хватает.
Снова ухмыляюсь.
— Ты хочешь сказать — четырёх?
Она передразнивает мою ухмылку, страшно оскалив зубы, однако губками больше не швыряется; наверно, находит меня недостойным мокрой мыльной губки.
— Если уж на то пошло, то шестерых, — говорит она. — Считая мамулю и папулю.
Я обдаю машину водой из шланга, смываю пену и протягиваю Бронте полотенце — пусть вытирает.
— Предоставь переговоры мне, — заявляю я.
Я не очень часто морочу голову предкам, но уж если берусь за дело — мне равных нет.
43) Дерзость
Папа сидит у себя в гостевой и проверяет сочинения по Эмерсону.[21] Мамы нет — наверно, гуляет со своим ивоком.[22] Родители редко бывают дома одновременно — если не считать вечеров. Первое, что я замечаю, входя в комнату — это чемоданы. Две штуки. Перекочевали сюда из подвала. Пара небольших, снабжённых колёсами чемоданов, сделанных из сверхпрочного и лёгкого серого пластика. Его и пуля не пробьёт — отскочит, а содержимое останется целёхоньким.
Чемоданы пока пусты, но всё равно — зрелище зловещее. Стоят в углу, поджидают того дня, того часа, той минуты, когда папа решит воспользоваться ими и съехать от нас. Стараюсь не думать об этом.
Подхожу к отцу и спрашиваю:
— Проверяешь работы аспирантов?
— Да, — отвечает он, — хотя когда читаешь эти шедевры, можно подумать, что их писали полные недоумки.
Присматриваюсь и замечаю, что всё пространство между строчками заполнено замечаниями, написанными аккуратным папиным почерком. Из его правок можно было бы составить по второму сочинению.
— Трудотерапия, — киваю я.
— Прости, не улавливаю.
— Ты заполняешь всё своё время работой, лишь бы не думать о том, что происходит между тобой и мамой. Я понимаю.
Он трёт лоб, как будто у него болит голова.
— Ты что-то хотел, Теннисон?
Я поднимаю какое-то сочинение и старательно делаю вид, будто читаю его. Потом произношу:
— Всё в мире относительно. Я хочу сказать: положение в нашей семье — это цветочки по сравнению с тем, что случилось с Брюстером Ролинсом. Вернее, с тем, что с ним происходит сейчас.
Папа продолжает пачкать красными чернилами работы своих студентов.
— Да, иногда собственные невзгоды кажутся пустяком на фоне чужих несчастий.
— Бронте совсем разбита.
Наконец, папа откладывает работу, которую правит, в сторону.
— Они всё ещё встречаются?
Ну и ну, он, оказывается, не знает, что они по-прежнему вместе! Впрочем, в эти дни меня, наверное, уже ничто не должно удивлять. Не тратя времени даром на попытки выяснить, сколько ему известно, я выкладываю последние новости: что у Брю и Коди нет родственников и что ошибка, совершённая мистером Гортоном в молодости, похерила все шансы семьи Гортонов на опеку над несчастными братьями. Про способности Брюстера молчок — я же не идиот.
Когда сага о злоключениях Брю и Коди окончена, папа бросает на меня взгляд, в котором явственно сквозит подозрение — он догадывается, что последует дальше — и возвращается к своей работе.
— Очень жаль, что мы ничем не можем помочь, — роняет он.
— Вообще-то, можем.
— А я говорю — нет!
Ничего, всё нормально, я этого ожидал. Хочешь снести стену — не жалей тарана.
— У нас не то положение, чтобы принять их, — продолжает отец. — К тому же, наверняка другие захотят их взять, а если и нет, то о них прекрасно позаботится социальная служба.
— Ты и в самом деле в это веришь?
Папа вздыхает.
— Теннисон, ты что — совсем ничего не соображаешь? Не понимаешь, что сейчас не время для таких дел? Не видишь, что происходит между мной и вашей мамой?
— Я всё вижу и понимаю, — холодно возражаю я. — Гораздо больше, чем ты думаешь.
— Вот видишь, что значит приличный багаж знаний, — говорит отец. — Всё схватываешь на лету.
Услышав про багаж, бросаю взгляд на чемоданы — те стоят в углу, словно печальные надгробные камни.
— Может быть, если мы примем Брю и Коди, всё изменится, — предполагаю я. — Может, это как раз то, что нам всем необходимо — забыть о себе ради счастья других? Может, вы с мамой…
Папа опять вздыхает.
— Может, может… «Забыть о себе ради счастья других»? Да ты рассуждаешь, как твоя сестра!
— Тогда тебе лучше прислушаться к тому, что я говорю, потому что если уж я начинаю вещать словами Бронте — это первый признак того, что апокалипсис не за горами. И если уж мы говорим о конце света, то хорошие поступки заработают тебе на Судном дне неплохие дополнительные очки.
Папа не смеётся — сидит, понурившись, опустил плечи. Однако он непоколебим:
— Это был бы прекрасный поступок, но мы не можем этого сделать. А сейчас, пожалуйста… Мне надо работать.
Но я не трогаюсь с места: делаю вид, будто тщательно обдумываю его аргументы. Прикидываюсь, что наконец до меня начинает доходить их глубочайший, сокровенный смысл.
— Ты прав, — говорю я. — Извини, что помешал. — Привстаю со стула, якобы собираясь уходить, и задумчиво произношу: — Всё равно мама бы никогда этого не позволила.
Клянусь — слышу, как у него на загривке трещат встающие дыбом волоски.
— Тогда это будет единственный случай, когда мы с вашей мамой придём к одному мнению.
— А, ну да, хорошо… — мямлю я. — Но даже если бы ты захотел принять их, она бы сделала всё, чтобы этому помешать.
Он по-прежнему не смотрит на меня.
— Ваша мама — не единственная, кто принимает решения в этом доме.
— Да ну?
Он постукивает своей красной ручкой по стопке сочинений. Постукивает, постукивает… и наконец оборачивается ко мне:
— Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?
— А чего я добиваюсь?
— Ты пытаешься манипулировать мною, чтобы я согласился принять к нам Брюстера с братом.
А я и не собираюсь отрицать.
— И как — у меня получается?
Вот тут он смеётся. Ну вот, я выложил все свои карты, теперь остаётся ждать, во что выльются мои усилия.
Затем папа говорит:
— Если ты хочешь, чтобы твой трюк прошёл, заставь меня поверить, будто это моя собственная идея.
— Она действительно твоя. — Я произношу это с полной убеждённостью. — Ты же сам её высказал всего секунду назад!
Он опять смеётся.
— И как это я запамятовал!
Он качает головой, поражаясь моей безграничной дерзости. Я сохраняю непроницаемо-серьёзно-нахальное лицо. Он с минуту раздумывает — или делает вид, что раздумывает… Я уже не знаю, кто тут кем манипулирует.
Наконец, он говорит:
— Мы с мамой обсудим это вместе и примем общее решение.
— Это всё, чего я прошу — чтобы вы с мамой серьёзно подумали. Ведь ваше решение мы с Бронте будем помнить всю оставшуюся жизнь.
Он изучает меня этаким особенным взглядом вдумчивого родителя — ну, вы понимаете: «Мы с тобой оба немного гордимся и немного боимся того, что собираемся сделать» — а затем добавляет:
— «Так добрые дела блестят в злом мире».[23]
Ага, я знаю, откуда это! Щёлкаю пальцами и выдаю:
— Шекспир, «Венецианский купец»!
— На самом деле, — смущается папа, — я скорее имел в виду Джина Уайлдера в роли Вилли Вонки,[24] но оба ответа — и А, и Б — засчитываются.
Мама с папой всё обсудили. Ответ — нет. Через неделю Гортоны получили отказ, и теперь как только органы социальной защиты продерутся сквозь горы своих бумажек, Брю и Коди сошлют в «такой-то дом для таких-то-растаких-то детей» и пиши пропало — они растворятся в системе, и мы никогда их больше не увидим.
Если стене, которую возвели наши дражайшие родители, суждено пасть, то лучше бы это случилось как можно скорее. Бронте — вот та сила, которая свалит эту стену. Она из человека превратилась в сверхсилу — в цунами, в стихию, которую не остановить. Никогда ей в этом не признаюсь, но я испытываю перед нею благоговейный трепет и даже, можно сказать, чуть-чуть её побаиваюсь.
Падение Иерихона происходит на моих глазах. Оно начинается с телефонного звонка; я чуть было не поднял трубку, но Бронте, увидев номер того, кто звонит, останавливает меня. Телефон звонит ещё раз, и я слышу, как мама берёт его в коридоре. Мы с сестрой обращаемся в слух.
— Простите, кто вы? — говорит мама. — Адвокат? Ничего не пойму. О чём речь?
Что-то мне это не нравится. Когда твои родители не живут, а словно бы танцуют на канате, который от натяжения уже начал расползаться, звонок от адвоката — очень дурной знак. Поворачиваюсь к Бронте, однако на её лице написано нетерпеливое ожидание, а не страх.
— Я вас правильно поняла — вы звоните Бронте? С какой стати вам разговаривать с моей дочерью?
Мама молча слушает, а Бронте шепчет мне:
— Они ей ничего не скажут! Адвокат обязан молчать о делах своего клиента.
— Ты наняла адвоката?!
— Всего лишь проконсультировалась. Это бесплатно.
И тут мама восклицает:
— Нет-нет, подождите, не вешайте трубку!.. — но, похоже, на том конце разговор закончили.
Мы теперь обедаем каждый сам по себе. Бронте, однако, — о, это неспроста! — садится за стол вместе с мамой. Я присоединяюсь — обожаю боевики с непрерывной пальбой и грохотом разрывов. Но, к моему разочарованию, царит тишина… пока мама не произносит:
— Бронте, мне надо с тобой поговорить.
Ага, мамуля явно собирается обсудить тот таинственный телефонный звонок. Но Бронте делает отвлекающий манёвр и ошеломляет её неожиданным заявлением:
— Я решила бросить плавание.
— Я не об этом хоте… что?!
— Я решила вместо этого пойти работать. Мне сказали, первый шаг — это обеспечивать себя самому.
Шестерёнки в маминой голове всё ещё включены на заднюю передачу, и она в панике рвёт рычаг переключения скоростей.
— Первый шаг… к чему?
— К тому, чтобы стать эмансипированным несовершеннолетним.[25]
Мама набирает полную грудь воздуха и медленно выпускает его — шестерёнки в её голове наконец-то сцепились друг с другом. То, что Бронте ни много ни мало связалась с адвокатом, бьёт наповал.
— Что это ты такое выдумала? — говорит мамуля, стараясь скрыть тревогу за бодрым и беспечным тоном.
— Мама, признай, что вас с папой в последнее время никак нельзя назвать любящими и заботливыми родителями. А то, что вы напрочь отказываетесь помочь Брюстеру и Коди, наглядно доказывает, что в этом доме мне не место.
Мама пронзает Бронте холодным взглядом: мол, полегче, доченька, я тебя предупреждаю!
— Слушай меня внимательно, Бронте, потому что повторять я не стану. Я НЕ ПОЗВОЛЮ ТЕБЕ ШАНТАЖИРОВАТЬ МЕНЯ!
Бронте выдерживает мамин взгляд. Её ответный удар столь же мощен:
— Наши поступки всегда имеют те или иные последствия, мама. Ты сама меня этому учила. Твои действия — не исключение.
С этими словами она встаёт и удаляется из столовой.
Мы остаёмся вдвоём. По-видимому, маме еда не лезет в горло.
— Вот это да. — Поскольку я в полном улёте от того, что вытворила Бронте, всё, что я могу сказать — это ещё раз повторить: «Вот это да…» Кажется, я потерял дар речи.
Вечером интересуюсь у сестры — она на самом деле или только так? Похоже, мой вопрос её пугает.
— Я никогда не бросаюсь пустыми угрозами, — молвит она, и тут я понимаю, что именно повергает её в страх: вовсе не реакция родителей на ультиматум, а собственная решимость. Мама и папа не желают помочь Брю и Коди, и поэтому Бронте, без всякого сомнения, бросит занятия плаванием, найдёт себе работу и, чем чёрт не шутит, на самом деле пойдёт до конца и избавится от опеки родителей.
Хочется как-то поддержать её, но всё, что мне удаётся выдавить — это лишь ещё одно «вот это да».
Больше о случившемся мы не говорим, но на следующий день папа объявляет, что они с мамой «не исключают возможности рассмотреть вопрос о временном взятии Брю и Коди под свою опеку, если не найдётся других соискателей».
Они договариваются о встрече с социальным работником, и она заявляется в наш дом в тот же день — наверно, пытается загладить вину за своё промедление в ту роковую пятницу, когда умер дядя Хойт. Она, я так думаю, в своей предыдущей жизни занималась продажей подержанных автомобилей, потому что несмотря на громкие заявления наших родителей о том, что им нужна всего лишь информация и ничего больше, встреча заканчивается подписанием заявления, снятием отпечатков пальцев и проверкой полицейского досье.
— Это на тот случай, — говорит социальная дама, — что если вы всё же решите пойти дальше, то всё уже будет заранее готово; вы будете признаны в качестве приёмных родителей без проволочек.
Думаю, предки уже сообразили, что им не отвертеться: коготок увяз — всей птичке пропасть.
— Господь вас благослови, — говорит дама. — Господь благослови вас обоих.
После этого Бронте душит маму с папой в объятиях и топит в поцелуях, чего не делала с раннего детства.
— Я так люблю вас обоих! — кричит она. — Я знала, что вы всё сделаете как надо!
Неделей позже звонит телефон. Иногда, когда ты ожидаешь невероятно важного звонка и он раздаётся, ты, не снимая трубки, знаешь — это тот самый звонок. Я никогда не верил в подобные штучки, но в последнее время пришлось выйти за рамки обычного здравого рассудка — уж очень много наслучалось такого, что раньше я отмёл бы как побасёнки. Телефон звонит, и не успевает папа ответить: «Алло?» — как я уже совершенно уверен — это Тот Самый Звонок.
44) Катарсис
Гортоны привезли братьев к нам ранним вечером в среду. Когда миссис Гортон обнимает Коди, в глазах её стоят слёзы, как будто она отсылает его в летний лагерь. Да нет, какой там летний лагерь — как будто она передаёт мальчишку посланцам самого Сатаны.
Взрослые перебрасываются несколькими фразами. Наши родители радушно приветствуют ребят, и Брю робко пожимает им руки. Коди не морочит себе голову всякими церемониями — он сразу врывается в дом и ведёт себя так, будто всю жизнь здесь жил. Вот что интересно: Гортоны всё время своего визита избегают смотреть Брюстеру в глаза; их прощание лишено тепла — это всего лишь формальность, словно они предпочли бы вообще ничего ему не говорить, а как можно скорее сесть в машину и укатить. Так они и делают. И вот, полюбуйтесь: Брюстер Ролинс, жуткий тип de lux[26] и по общему признанию, Кандидат На Высшую Меру — теперь мой приёмный брат.
В первый раз мы встречаемся с Брю лицом к лицу после смерти его дяди. По мне — так ничего особенного, а вот для сестры всё совсем наоборот. Брю застенчиво топчется на пороге, держа маленький чемоданчик со всеми своими пожитками. Они с Бронте насторожённо приветствуют друг друга и произносят лишь несколько неловких слов.
— Привет.
— Привет.
— Ты как?
— Ничего, а ты?
— Ничего.
Лучше всего для описания этого момента подошло бы выражение «словно ходят по тонкому льду». Обед проходит в такой же неловкой обстановке. По крайней мере, вначале.
Тон задаёт Коди — он, не переставая, трещит о том, как они нашли тело своего дядюшки.
— Он был весь белый, как будто в нём вообще крови не осталось.
Послушать его, так со стариканом расправилась чупакабра.[27] Уверен, чем больше он рассказывает эту историю, тем более живописными подробностями она обрастает. У Коди теперь — спасибо Гортонам — неплохая стрижка, и выглядит он уже, можно сказать наполовину «окультуренным»; однако он по-прежнему встряхивает головой, будто чёлка падает ему на глаза и он хочет её смахнуть. Привычка, что поделаешь, он от неё ещё не скоро избавится.
— А глаза у него, — продолжает Коди, — совсем-совсем открытые и такие выкаченные, как будто он увидел привидение!
— Очень грустная история, — молвит Бронте. — Кто-нибудь хочет молока?
Коди несётся дальше.
— А вы слышали, что в доме всё было разбито? Совсем ничего не осталось — как будто он взорвал всю обстановку, ну, вроде как мысленно, как раз перед тем, как помереть!
— Хватит, Коди, — еле слышно бормочет Брю, но мама ласково похлопывает Коди по руке.
— Ничего, Коди, продолжай, — успокаивает она. — Когда говоришь о таких вещах — наступает катарсис.
Коди беззвучно повторяет слово «катарсис», перекатывает его во рту, словно горох. Неужели теперь проклятие коснётся и их с братом? Неужели наши родители собираются и им скармливать каждый день по одному мудрёному слову?
Уже то хорошо, что новая ситуация в доме принуждает маму с папой сидеть за одним столом. Мама даже обед приготовила! Ну, ладно, ладно, это всего лишь замороженная лазанья, но мамуля, во всяком случае, взяла на себя труд сунуть её в горячую духовку.
— Я понимаю — вам пришлось нелегко, — произносит мама, обращаясь в основном к Брю, — но с нынешнего дня всё пойдёт хорошо, вам не о чем волноваться.
— Ещё лазаньи? — спрашивает Бронте. Наверно, думает, что если у всех рты будут заняты пережёвыванием, меньше вероятность, что кто-нибудь сболтнёт какую-нибудь глупость.
— Как там у тебя с баскетболом? — спрашивает папа у Брю.
— Не играл с того раза, когда был с вами.
— Ничего, мы обязательно повторим.
Похоже, наши родители вступили в новую фазу соперничества, проходящую под девизом: «Кто больше выразит сочувствия трудным подросткам».
— Надеюсь, вас, мальчики, устроит комната для гостей, — говорит мама.
И тут я ляпаю:
— Папа, а где ты будешь спать?
Я ничего такого не имел в виду, просто было интересно, и только потом сообразил, что это как раз один из тех неловких моментов, которых так старалась избежать Бронте. Я тут же запихиваю в свой непутёвый рот солидную порцию лазаньи, но поздно. Мамуля теребит салфетку, не глядя мне в глаза. С Бронте и со мной никто не удосужился обсудить, как оно всё теперь будет, и это ясно говорит о том, что с взаимопониманием и общением в нашей семье очень большие нелады.
— Теннисон, — отзывается папа, — ты же, наверно, не будешь против, если я поселюсь у тебя…
Он пытается отшутиться, но как ни старается, ему не удаётся скрыть звенящего в его фразе напряжения.
— Валяй, мне пофиг, — говорю я.
Кажется, впервые за многие годы я употребил слово «пофиг» — сленг в стенах этого дома не приветствуется; однако когда я произношу его, оба родителя облегчённо вздыхают.
Затем говорит своё веское слово Бронте:
— Вы с мамой делили одну постель семнадцать лет. Думаю, ничего с вами не станется, если вы поспите в ней ещё какое-то время.
Папа несколько секунд молча жуёт, потом роняет:
— Ты права.
Однако никаких эмоций в его фразе не слышно — ни положительных, ни отрицательных.
Бронте, которая ещё минуту назад готова была всем заткнуть рот, теперь сама никак не может угомониться:
— Я хочу сказать: обстановка сложилась нелёгкая, и мы обязаны сделать всё, чтобы улучшить её, разве не так, мама?
— Мы приложим все усилия, — отвечает мама.
Как хотите, а ей надо бы баллотироваться в Конгресс.
— Вы же знаете, что это не навсегда, — напоминает папа.
— Да, сэр, — говорит Брю.
— Но мы вам очень рады, мальчики, и вы будете у нас столько времени, сколько понадобится, — заверяет мама.
— Да, мэм, — говорит Брю.
На моей памяти никто никогда не называл наших родителей «сэр» и «мэм».
— Я уверена, вам скоро подыщут более подходящую семью, которая захочет взять вас обоих.
— И, — добавляет папа, — которая будет не такой странной, как наша.
— Не беспокойтесь, — говорит Брю, с улыбкой взглядывая на Бронте. — Я люблю всё странное.
Она игриво шлёпает его. Папуле становится не по себе.
— В гостевой есть собственная ванная, — объявляет он. — Очень удобно — вам не придётся ночью ходить на второй этаж.
Бронте негодует и бросает свою вилку на тарелку для пущего эффекта.
— Господи Боже, папа, почему бы вам не установить детектор движения? Уж тогда вы точно будете знать, что он не заявится ночью в мою комнату!
— Не думай, милая, что мы не обсуждали эту возможность, — говорит мамуля тоном, который я расшифровал бы как «поверь, ты здесь не одна такая умная».
И на краткий миг — но только на миг — кажется, что всё у нас в семье почти нормально.
45) Контраст
Через час после обеда я слышу голоса: мама с папой в своей спальне обсуждают последние события.
В своей спальне.
Как здорово, что опять можно так сказать! Родители уже много недель не вели между собой таких долгих разговоров. Наверное, они почувствовали облегчение, когда могли переключить мысли со своих бед на чужие. Слушаю их приглушённые голоса и всё больше уверяюсь, что жизнь нашей семьи наладится. Брю с Коди здесь всего каких-то два часа, а обстановка в доме уже значительно улучшилась. Остаётся только надеяться, что так пойдёт и дальше.
Коди уже прочно укоренился в гостиной — его не оторвать от видеоигр. Мама специально удалила все игры, в которых что-то хотя бы отдалённо намекает на насилие и убийство, но Коди и здесь на высоте: изобретает для безобидных мультяшных персонажей ранее невиданные, изощрённые страдания.
— Дурацкая игра, — заявляет он, — но мне нравится.
Из комнаты для гостей (которая, по-видимому, уже больше не комната для гостей), доносятся голоса — там разговаривают Брю и Бронте. Стоит мне только войти — и они замолкают.
— Я тут просвещаю Брю насчёт положения дел, — сообщает Бронте.
— В международных отношениях?
— В междуродительских отношениях.
— Думаю, что он и сам в состоянии разобраться.
Но что это?! На лице Брю написано такое мучительное беспокойство, граничащее с ужасом, что кажется, будто тревога расходится от него волнами, как жар от топки. Просто невероятный контраст с моим собственным чувством полного довольства жизнью. Интересно, а Бронте тоже видит это? Или она от радости позабыла всё на свете и не замечает, что с ним творится что-то неладное? Вопрос, впрочем, в другом: откуда эта тревога? Что его так заботит?
— Наверно, мне лучше уйти, — говорит Бронте, — пока папа не обнаружил меня здесь и не решил заточить в башню.
Она чмокает Брю и уходит. По-моему, она так ни о чём и не догадалась, не поняла, какая бездна страха открылась в душе её парня.
— Думаешь, она всё ещё сердится на меня за то, что я не позвонил сразу?
Я немного медлю, подбирая правильные слова.
— Она на тебя и не сердилась, — наконец отвечаю я. — Просто волновалась, вот и всё.
— Волновалась… Я, правда, не хотел, чтобы она…
Я выставил руку — остановить его, прежде чем он пустится в извинения.
— Уверен — Бронте всё понимает. Но, знаешь, просто она такая: её хлебом не корми — только дай где-нибудь навести в порядок. Если её лишить этого удовольствия, она чокнется.
— С этим она не смогла бы справиться.
— Вообще-то, как раз с этим-то она справилась! — напомнил я. — Ты ведь здесь, разве не так?
Брю потупляет взгляд, в волнении обрывает заусеницы на пальцах и наконец задаёт вопрос вопросов:
— Ваши родители знают о… о том, что я делаю?
Я трясу головой.
— Нет. И если они не начнут лупить друг друга досками от штакетника, то вряд ли когда-либо узнают.
— А если кто-нибудь из них сильно порежется, и порез вдруг исчезнет…
— Давай будем надеяться, что не порежется, — перебил я его.
Он принимается аккуратно и не торопясь распаковывать свой чемодан.
— Наверно, о нас сейчас вся школа гудит, верно?
Понимаю — предстоящее возвращение в школу нагоняет на него страх. Я бы с удовольствием сказал ему, что всё нормально, но лгать не хочется, поэтому только пожимаю плечами.
— Они думают, что это я его убил, ведь так?
Кажется, отвечать всё же придётся. И я сообщаю ему правду со всей тактичностью, на которую способен:
— Ну, есть имбецилы — придумали собственную версию смерти твоего дяди… Но большинство всё же не такие придурки. Правда, приготовься к тому, что первое время народ будет тебя сторониться.
— К этому я давно привык.
Брю идёт к комоду — сложить туда свою одежду, и я вижу, что он подволакивает правую ногу. Собственно, я заметил, что он прихрамывает, как только он переступил порог нашего дома, причём совсем не так, как когда он перенял боль из повреждённой лодыжки Бронте. Интересно, где он подцепил эту хромоту? Однако расспрашивать не хочу.
Он застыл над открытым ящиком комода. Мысли его витают где-то далеко.
— Теннисон… Я не убивал дядю.
Я вижу, как отчаянно ему хочется, чтобы я поверил ему.
— А я никогда так и не думал!
Однако не похоже, чтобы мои слова принесли ему облегчение. Возможно, потому, что это вовсе не меня он старается убедить в своей невиновности. И поскольку разговор, кажется, собирается принять очень опасное направление, я быстренько перевожу стрелку:
— Как там было — у Гортонов?
— Они мне не нравились, — отвечает Брю.
— Вообще-то да, особой задушевности я в них не заметил…
Брю задвигает ящик.
— Нет, ты не понял. Я не мог допустить, чтобы они мне понравились. Иначе пришлось бы взять себе остеопороз, артрит, варикозные вены и Бог знает что ещё.
Я не сразу понимаю, о чём он толкует, но потом до меня доходит. Если бы он полюбил этих людей, к нему перешли бы все их болячки, в том числе и те, о которых он и не подозревал.
— Мне с самого начала пришлось вытворять всякие гадости, лишь бы они возненавидели меня, — поясняет Брю. — Крал, ломал вещи… Людей легче не любить, когда они сами тебя не любят.
— Понял — это было что-то вроде упреждающего удара.
Только сейчас я во всей полноте начинаю осознавать, какой непомерный груз накладывает на этого парня его необычайная способность. Ему приходится жить в эмоциональном коконе, никого не любя — иначе ему не выжить. Невероятно, как он решился впустить нас с Бронте на свою запретную территорию. Вспоминаю тот момент, когда он пожал мне руку в самый первый раз, тогда, на кухне — он помедлил, не сразу ответил на рукопожатие. Я ведь и понятия не имел, насколько важное решение он в тот миг принял.
— Ты вот что, — говорю я, — не вздумай и тут что-нибудь ломать, не то нам обоим придётся ходить с синяками под глазом.
— Не буду, — обещает он.
— Я имею в виду… Тебе же нравится наша семья, правда?
Он колеблется — в точности как тогда, когда пожимал мне руку. У меня такое чувство, будто от его ответа зависят судьбы мира. Не пойму, почему.
— Да, — наконец говорит он. — Да, нравится.
46) Подкожное
— Так что — это правда?! Не поверю, пока ты сам не скажешь! Правда, что Громила теперь живёт у вас?
— Ага, — отвечаю я Катрине. — И он, и его брат.
Мы в школьной столовой, время ланча. Брю сегодня впервые после долгого перерыва пришёл в школу. Мы с Катриной сидим по разные стороны стола, и я вижу, как она в изумлении раскрыла рот — того и гляди недожёванный салат вывалится обратно на тарелку.
— Вы что там — с ума все посходили?!
— Я к этому отношения не имею, — говорю я и тут же проклинаю себя за враньё. С какой стати? Почему это мне захотелось выгородить себя перед Катриной?
— Надеюсь, ты запираешь свою дверь на ночь? Мне вовсе не улыбается давать интервью CNN о том, как моего бойфренда зарезали во сне.
Я ёрзаю на стуле — такое впечатление, что под кожей у меня поселился целый муравейник. Впрочем, это же Катрина, что с неё взять.
— Оставь беднягу в покое, — говорю я. — Не настолько он ужасен, как ты себе воображаешь.
— Да что ты? А вот Оззи О'Делл говорит…
— Мне плевать на то, что там мелет Оззи — он дурак.
Катрина теряет дар речи, как будто я только что оскорбил её, а не Оззи.
— Извини, — говорит она, видимо, сообразив, что травля Громилы — вид спорта, который меня больше не привлекает. — Ну, тогда я всем стану рассказывать, какой расчудесный парень этот Громила — нормальный, отличный парень. Ради твоего счастья, Теннисон — всё что угодно!
Интересно, она хоть знает его настоящее имя? А я сам — я знал его до того, как Бронте начала встречаться с Брю?
— Этого тоже не надо, — бормочу я.
Она склоняет голову набок и вглядывается в меня, поджав губы.
— Слушай, я знаю, тебе не сладко приходится. Когда мои родители расходились, со мной творилось то же самое.
— Мои родители не разводятся!
— Развод, сепарация — какая разница. Важно другое: такие дела очень сильно действуют на психику, так что я понимаю, почему ты в последнее время какой-то обалдевший. Так и должно быть.
Услышав такое, я обалдеваю ещё больше, скорее всего потому, что в чём-то она права. Но с другой стороны, ссоры между родителями прекратились, обстановка в доме постепенно налаживается. Нет, налаживается — не то слово. Скорее всё наше семейное пространство, весь наш дом превратился в надувной замок: сколько ни бейся о стену — всего лишь отскочишь без всякого вреда для себя и для стены.
— С моими родителями всё в полном порядке, — отрезаю я.
Она вздыхает.
— Закрывать глаза на правду — это тоже нормально. Это пройдёт. — Она одаривает меня тонкой улыбкой и понимающим кивком. — Ну, что, сегодня вечером будем делать уроки?
— Нет, сегодня не получится. Дома слишком много дел.
Это и правда, и неправда. Собственно, у меня нет никаких особенных дел, но в последнее время я всё больше становлюсь домоседом, нет совершенно никакой охоты куда-то выходить. А если и выхожу, то стремлюсь как можно скорее вернуться домой. Наверно, Катрина права, и непорядок в семье оказывает таки своё действие на мою психику. Однако одно я знаю точно: когда я дома, во мне оживает чувство полной защищённости, уверенности в том, что ничто не может причинить мне вреда.
47) Расправа
Иногда в нашей школе бывают сокращённые учебные дни — после ланча все учителя отправляются на некое совещание; я думаю, на самом деле они проводят сеанс групповой терапии, ведь каждый день общаться с ученичками вроде нас — да тут никакие нервы не выдержат. В такие дни мы всей компанией обычно отправляемся на другую сторону улицы, в торговый центр, и веселимся в Бургер-Кинге, или Кофейне Ахава, или в смузи[28] — кафе — выбор зависит от длины очереди.
По большей части мои приятели — ребята что надо, кроме, разумеется, тех моментов, когда они совсем не то, «что надо». Правда, зачастую я провожу время не только со своими друзьями — ведь у них тоже есть друзья, а среди последних попадаются такие экземпляры… Но ничего не поделаешь, приходится терпеть этих идиотов, раз уж они сидят с тобой за одним столом.
Ну вот, сидим мы в смузи-кафе вместе с обычной бандой — пьём смузи, хрустим чипсами… И тут входит Брюстер и становится в очередь. Я его сначала не заметил. Мой приятель Джо Криппендорф кивает мне на него и еле слышно бормочет:
— Ты глянь, этот сброд тоже сюда прётся. Ходят тут всякие…
Раздаются смешки. Делаю большой глоток смузи и отвечаю Криппендорфу — тоже еле слышно:
— Зря ты так.
Он усекает сходу, и у него хватает ума не продолжать. Однако сегодня роль записного придурка исполняет не кто-нибудь, а сам Оззи О'Делл, это безволосое чудо природы — вот он-то и подхватывает эстафету:
— Он здесь, потому что они стали делать новый смузи под названием «Фрукт мочёный». — Снова раздаются смешки, и Оззи несётся дальше, ободрённый поддержкой. — Не надо объяснять, что за фрукт и кто его замочил.
Криппендорф и пара других парней советуют Оззи заткнуться, но другие продолжают хихикать.
— На твоём месте, Оззи, — предупреждаю я, — я бы послушался Джо.
Но Оззи уже понесло — не остановить. Он встаёт и направляется к Брю.
— Ну что, Громила, обратно в школу? Поделись, как тебе удалось отвертеться от тюряги? Должно быть, адвокат у тебя классный?
Теперь хихикают только двое недоумков, остальные сообразили, что Оззи перешёл черту. Но сам Оззи из тех кретинов, кому для вдохновения вполне достаточно, если смеётся только одна персона — его собственная.
Я встаю.
— О'Делл, сядь обратно на свою эпилированную задницу и оставь парня в покое!
— Ах, простите, — кочевряжится тот, — я забыл, что вы теперь вроде как братья! Или, может, сёстры?
Вот теперь все уставились на меня — слышу всеобщее тихое «у-у-у». Всем ясно — сейчас будет весело.
— И ты так это оставишь? — вопрошает Криппендорф. Друзья на то и друзья, чтобы вовремя подлить масла в огонь.
Я холоден; но взглянув на Брю и увидев выражение его лица, понимаю, что придётся ответить на вызов. Подхватываю со стола Оззин стакан, набираю полный рот смузи, полощу им себе глотку и в процессе приговариваю:
— Похоже, в этом кафе стали делать новый вид смузи. Называется «Слюнки текут».
После чего сую в стакан соломинку и спускаю по ней всё, что было у меня во рту, включая и кусочки картофельного чипса, которые не успел проглотить.
Даже Брю прыскает, глядя на эту картину, но Оззи замечает его улыбку и набрасывается на него:
— А ты-то чего лыбишься, а? — и толкает Брю на стеклянный прилавок-витрину. Та дребезжит так громко, что продавец обращает на нас внимание.
— Эй! — орёт он. — А ну-ка валите на улицу с вашими разборками!
Оззи оборачивается ко мне. Он весь побагровел — не только лицо, но и макушка на бритой башке малиновая.
— Сейчас ты купишь мне новый смузи! — рявкает он.
Однако оба мы понимаем, что этого ему вовек не дождаться. Он подступает ко мне и толкает обеими руками.
Я дрался с Оззи только один раз — ещё во втором классе. У него тогда была такая странная манера: он размахивал руками, словно ветряная мельница крыльями. Наверно, это был ранний признак того, что ему прямая дорога в пловцы.
— Пошли вон! — повторяет продавец, — не то копов вызову!
По-видимому, ему до лампочки, сколько крови прольётся — лишь бы вверенная ему собственность не пострадала.
Я вылетаю наружу, Оззи следом, а за ним высыпают все остальные.
Наверно, вид у меня очень свирепый, но на самом деле — вот странно! — я не чувствую гнева, просто хочется поскорей покончить с этим делом, вот и всё. Но бросаю взгляд на Брю и вижу, что он сжал кулаки и стиснул зубы. Похоже, той ярости, что кипит сейчас в нём, достаточно на нас обоих. Я осознаю, что просто обязан проучить Оззи, иначе это никогда не кончится: он будет по-прежнему разносить повсюду враньё и сплетни, изводить Брю и превратит его жизнь в кошмар.
Я цежу Оззи прямо в лицо:
— Ты понятия ни о чём не имеешь, так что закрой свой вонючий рот, иначе, попомни моё слово, я у тебя селезёнку вырву и заставлю сожрать!
Обычно упоминание селезёнки бьёт без промаха: это один из самых загадочных органов человеческого тела, и любая угроза, связанная с ним, ввергает противника в глубочайшее беспокойство. Но только не в случае с Оззи О'Деллом. У него, оказывается, припасён аргумент, который повергает в упомянутое беспокойство меня самого:
— Ты тоже чокнутый, в точности, как твой новый братец — даже Катрина так считает! Она сама мне сказала!
Вот это удар! Ниже пояса. Пока я прихожу в себя, вокруг нас собирается приличная кучка ребят.
Мой голос превращается в угрожающий рык:
— Считаю до трёх — и чтоб я тебя больше здесь не видел!
Он не дожидается начала отсчёта, а приступает прямо к делу: щедро замахивается обеими руками. Следует всё та же знакомая серия ударов — словно ветряная мельница крыльями, вот только силы у него теперь намного больше. Я не успеваю вовремя среагировать, и его кулак обрушивается на моё лицо. Оззи тут же отпрыгивает назад.
Меня так и подмывает воспользоваться возможностью и поставить этого зарвавшегося дурака на место… и тут у меня словно сигнальная лампочка в мозгу включается: Брю держится за свой рот — из разбитых губ течёт кровь… Он принял на себя предназначенный мне удар! Я уверен, что одержу верх в драке с Оззи, но при этом мне тоже нехило достанется. Вот только — мои травмы тут же перейдут к Брю, и все это увидят. Все узнают его тайну, и тогда случится то, чего он так боится: его жизнь будет уже не просто кошмаром — она превратится в сущий ад.
Я не могу этого допустить.
Единственный способ избежать разоблачения — это покончить с Оззи быстро и решительно. Его надо не просто побить, а вырубить сразу и надолго.
Я блокирую следующую серию молотящих ударов, и он опять отскакивает назад: пришло время словесной перепалки.
— Думаешь, ты такой умный, такой крутой, — визжит Оззи, — прямо пуп земли!
— Я не хочу драться с тобой, Оззи.
— Ещё бы тебе хотеть! — И он опять кидается на меня.
У драк есть свои неписанные законы, и мы обязаны их придерживаться — ведь мы живём в цивилизованном мире. Даже когда вступаешь в самую ожесточённую схватку, всё равно где-то в глубине души осознаёшь, как далеко тебе позволено зайти. Но сегодня все эти правила побоку. Сегодня не просто драка. Это — расправа. Моя цель — уничтожить противника.
Я спокоен и собран. Я методичен — делаю всё по порядку:
Сначала прицельный удар в глаз. Оззи слегка ошеломлён.
Затем апперкот в челюсть. Его голова дёргается назад.
А теперь кулаком в солнечное сплетение. Он сгибается пополам.
А теперь четвёртый, решающий удар. Я вкладываю в него всю свою силу, всю волю и обрушиваю кулак на лицо Оззи.
Мои костяшки впечатываются ему в нос. Крак! — под ними ломается кость. Оззи отшатывается назад, кровь бьёт фонтаном, капли стекают на асфальт. Он хватается за лицо и со страшным криком падает на колени. Для него сейчас ничего не существует: нет ни драки, ни меня, ни всего остального мира — только кровь, боль и жёсткий асфальт.
Толпа вокруг нас, ещё недавно улюлюкавшая и подбивавшая нас на схватку, мгновенно замолкает — слышны только гнусавые завывания Оззи.
Криппендорф смотрит на меня и качает головой.
— Чувак, ну ты того… Вот это точно было зря!
А я застыл, как в столбняке. Стою и смотрю на истекающего кровью Оззи, пока Брю не хватает меня и не утаскивает прочь.
48) Последствия
— Спасибо тебе, братец. Лишил нас лучшего пловца на короткие дистанции.
Такими словами встречает нас Бронте, когда мы с Брю приходим домой. Каким-то сверхъестественным образом новости добрались сюда раньше нас.
— Ты хоть соображаешь, что превратил Оззи из обычной сволочи в жертву, в мученика, которому все сочувствуют? Ты этого добивался?!
— Это была самозащита! — возражаю я. — У меня и свидетели есть!
— Думаешь, их свидетельства спасут тебя от колонии для малолетних преступников?!
Мысль о подобном мне даже в голову не приходила.
— Да! — бухаю я, но тут вмешивается Брю:
— Это правда. Драку затеял Оззи. Все слышали, как Теннисон говорил, что не хочет с ним драться, но Оззи сам кинулся на него.
Он подробно рассказывает всю историю. Бронте и в восхищении, и в ужасе от изобретённого мной нового вида смузи — кстати, подозреваю, что это событие войдёт в местные анналы.
— У меня такое чувство, Теннисон, — подводит она итог, — что кончится всё тем, что мы с тобой будем вести разговоры через пуленепробиваемое стекло и в присутствии вооружённой охраны.
— У Оззи очень много друзей, — вторит Брю. — А если они скажут, что драку затеял ты?
— Расслабься, — отвечаю я ему, поражаясь собственному спокойствию.
Даже родители — и те ведут себя на удивление уравновешенно, а ведь обычно они обрушивают на мою бедную голову такие громы и молнии, что весь дом трясётся. Папа проводит среди меня воспитательную работу на тему «Ты соображаешь, что наделал?» и рассуждает, не пора ли отправлять его сына на терапию для тех, кто не умеет держать свою злобу в узде.
— Да я вовсе не злился на Оззи, когда бил его! — возражаю я — и это чистая правда. Наверно, я должен был исходить гневом — но не исходил. Просто решал возникшую проблему, вот и всё.
Родители звонят О'Деллам и предлагают взять на себя все расходы по лечению Оззи; но О'Деллы, в ярости и на меня, и на собственного сына, отказываются и заявляют, что не хотят иметь с нашей семейкой ничего общего. Угроза судебного разбирательства нависает надо мной, словно грозовая туча.
Но несмотря ни на что, жизнь, кажется, течёт совершенно нормально, так, как будто ничего не происходит: мама с папой сидят в гостиной — правда, в разных креслах, но, во всяком случае, в одной комнате — смотрят какой-то дурацкий комедийный сериал и оба смеются вместе с несуществующей публикой на экране.
Весь вечер я провожу за своим письменным столом — пытаюсь делать уроки в перерывах между телефонными звонками. Мои приятели — из тех, что не присутствовали при потасовке — желают знать все подробности из первых рук.
Кладу трубку после очередного звонка, поворачиваюсь и вздрагиваю — рядом стоит Коди.
— Это правда, что ты кого-то убил? — спрашивает он.
— Нет! Я всего лишь разбил ему нос.
— А. — Коди, похоже, и обрадован, и разочарован. — Знаешь, ниндзя умеют так сломать человеку нос, что кость вонзается прямо в мозг, и человек умирает.
— Но я же не ниндзя, — возражаю я. Кажется, он опять и обрадован, и разочарован.
Потом, немного подумав, он спрашивает:
— Ты сделаешься таким, как дядя Хойт? — и в ожидании ответа смотрит на меня так пристально, что мне становится не по себе. Я понимаю — он пытается найти в моих глазах что-то такое, что он, возможно, видел в глазах дяди; и я лишь молю Бога, чтобы Коди ничего такого там не углядел.
— Я никогда пальцем не трону ни тебя, ни твоего брата, Коди.
— Я не это имел в виду… — Он не опускает взгляда. Глаза маленьких детей, такие невинные, наивные, по временам распахиваются столь широко, смотрят так пристально, что видят то, что незаметно глазам взрослых. Вроде радиотелескопов, которые нацелены в пустое космическое пространство — те тоже долго-долго вслушиваются и вглядываются и в результате находят в бесконечном мраке тысячи неизвестных галактик. Взор Коди проникает в меня так глубоко, что я вынужден отвести глаза.
— Не делайся таким, как дядя Хойт, ладно? — говорит он и уходит.
И слава богу, что уходит, потому что мне сразу становится легче на душе. Значительно легче. Даже ещё больше: я чувствую себя словно на крыльях.
В этот вечер я засыпаю с ощущением необъяснимого блаженства и осознанием того, что жизнь удалась. Понимаю, что подобное состояние должно было насторожить меня, но разве вы будете копаться в себе, когда у вас так невероятно хорошо на душе? Вы просто наслаждаетесь этим чувством. Расправа над Оззи кажется теперь такой далекой, такой незначительной… В точности как старые ссоры между мамой и папой. Ну прямо античная история. И все эти негативные последствия — лишь космическая пыль, оседающая мне на плечи.
Умиротворённость. Чувство, к которому быстро привыкаешь.
КОДИ
49) Всякое
Я вовсе не хотел, чтобы это случилось! Просто я не подумал. Нет, неправда, я думал, вот только неправильно думал, не так, как надо было. Дядя Хойт поучил бы меня уму-разуму, увидь он, что я сотворил.
Мы опять были в парке, играли в баскетбол. То есть, это Тенни, Брю и мистер Стернбергер играли, а я — нет, потому что я люблю только то, что у меня классно получается — ну, там, ручной мяч, или бег, да много ещё чего, а всё остальное мне до лампочки. Тенни подарил мне новенького змея, потом отвёл на соседнее футбольное поле — оно как раз было пустое — и сказал: «Валяй, развлекайся напропалую!»
Вот только со змеями никогда не угадаешь — у них вроде как свой ум. Мой новый был сделан в виде ястреба — по-моему, подходяще, потому что всё время нырял к земле, как будто и вправду решил поохотиться.
Короче, я пошёл к баскетбольной площадке — может, Тенни, или Брю, или мистер Стернбергер помогут мне управиться со змеем. Куда там! Игра в разгаре, и на площадке уже целая уйма народу. Брю — прямо совсем как один из них, у него клёво получается. Ну, может, не так клёво, как у меня с плаванием или бегом, но всё равно здорово, он даже кладёт пару мячей в корзину у меня на глазах.
Дядя Хойт никогда бы ему этого не разрешил. То есть, никогда бы не отпустил его гулять вместе с целой оравой чужаков, как сейчас. Он бы заявился прям сюда и отволок Брю домой.
«Тебе нельзя связываться с кем попало, парень! — сказал бы дядя. — Уж таким ты уродился, и сам это прекрасно знаешь!»
И Брю повесил бы голову и пошёл бы домой, ведь он понимает — дядя о нём же заботится.
Но больше Брю оберегать некому, и вот пожалста: носится тут с кучей незнакомых парней и ему хоть бы что, а ведь они незнакомые только сейчас, а скоро могут стать очень даже знакомыми! Дяде Хойту это никак не понравилось бы. Вот, вспомнил о дяде, и стало грустно. Мне его не хватает, вернее, не хватает тех моментов, когда он был нормальный. Вот, наверно, он бы обрадовался и похвалил меня, если бы я сумел запустить змея повыше! Всё, решено — справлюсь сам.
Иду обратно на футбольное поле к своему змееястребу, который такой дурак, что неба от земли отличить не может; иду — и вдруг соображаю, что ветер-то переменился! Он сначала тоже был дурак, никак не мог решить, куда дуть, но вот, наконец, взялся за ум и дует ровно, так что если я побегу ему навстречу, то, может, научу эту глупую птицу летать.
Короче, разбегаюсь, порядочный конец бечёвки оставляю за спиной, и — есть! Змей поднялся в воздух! Правда, вихляется и норовит упасть, но как же, так я ему и дал! Ветер наподдаёт ему в крылья, но они не рвутся — это тебе не мой старый змей. Продолжаю бежать, понемногу отпуская бечёвку, потому что если остановиться, он тут же упадёт, и придётся всё начинать сначала. Загвоздка в том, что поле — оно же не бесконечное. Через минуту я уже домчался до края, и побежал дальше — ну и что, что уже не по траве. Выпускаю ещё немного бечёвки и выбегаю прямо на дорогу. Она тут не сильно загруженная, но машины по ней всё же ездят, а некоторые даже, кажется, немножко слишком быстро ездят, но что прикажете делать? Не бросать же после всех моих усилий!
Ну вот, я, значит, на улице; одна машина резко тормозит, другая успевает увернуться, но это ничего — водители здесь классные; уверен — увидев мальчика со змеем, сообразят, что к чему и будут поосторожнее. Меня же не задавили — только чуть не задавили, а чуть не считается.
Когда я оказываюсь на той стороне дороги, мой ястреб уже жуть как высоко и держится в воздухе сам по себе. А потому как дальше передо мной только склон холма, весь заросший кустами — наверняка там полно змей и прочей гадости — то я поворачиваюсь и бегу по обочине.
Короче, я даже не видел, откуда она взялась — эта дурацкая мачта с проводами, вынырнула из ниоткуда и схватила моего змея своими уродливыми серым лапами. Ястреб теперь болтается там беспомощный, ветер мотает его туда-сюда, словом, ужас. А мачта смотрит на меня сверху вниз, и я, можно сказать, слышу, как она хохочет надо мной: «Бу-га-га!» Знаете, я уверен, что иногда неживые вещи осознают, что творят пакости.
Ну, я этого так не оставлю, не на такого напала! Это же совсем новый змей! Стою и соображаю: мачта — она вроде как дерево, только ветки у неё металлические и растут равномерно. Короче, кладу бечёвку на землю и лезу вверх. А глаз от змея не отрываю, потому что дядя Хойт твердил: «Всегда смотри на приз!», хотя, по правде, я думаю, ему не мешало бы иногда говорить: «Сам приз в руки не даётся, к нему надо стремиться»; ведь ему потому никогда ничего не перепадало, что он и пальцем не шевелил ради приза. А вот я молодец, делаю и то, и другое: стремлюсь за призом и не спускаю с него глаз.
Лезу и лезу вверх, а до змея, кажется, всё так же далеко. Продолжаю карабкаться и, наконец, взбираюсь на ту же высоту, на которой завис змей — и всё равно до него не достать: он болтается на конце одной из этих корявых лап, хвост закрутился вокруг толстенного (гораздо толще, чем кажется снизу) провода; и все провода зудят, как сумасшедшие, точнее, не зудят, а гудят — как будто поют с закрытым ртом. Такой электрический хор.
Меня учили не касаться проводов, если не хочу поджариться; но я-то видел, как птицы сидят на них — и ничего, так что, может, это не так опасно, как нам внушают? А, да ладно, змея-то мне нужно достать? Нужно! И вот я уже потихоньку двигаюсь по железной балке к своей цели, а волосы на руках встают торчком от электричества — их даже ветер не колышет. До змея осталось совсем чуть-чуть, но дотянуться трудновато; он раскачивается, крутится, дразнит меня… Ах, ты так, да? Вытягиваю руку — сейчас я тебя достану…
И тут я бросаю взгляд вниз.
Наверно, если бы я посмотрел туда раньше, я бы сдрейфил, наплевал на змея и спустился бы с мачты, потому что сколько я ни карабкался на деревья, а на такую высоту никогда не забирался. Кажется, я сразу позабыл, как надо лазить по деревьям. Прилип к железной лапе руками, ногами и всем остальным, сдвинуться не могу. И только тут замечаю — а ветер-то холодный, просто ледяной! Змей, который ещё секунду назад дразнил меня, теперь выглядит каким-то потерянным и вроде как бы печальным…
С такой верхотуры всё внизу — как на ладони. Футбольное поле кажется больше, чем с земли, а баскетбольная площадка — наоборот, меньше. На ней уже никого нет — все бегут через поле к моей мачте, даже те, незнакомые, и все вопят: «Смотри, смотри, вон он!», и «О Господи!», и «Держись!», и так далее в том же духе.
Брю добегает первым, Тенни — сразу за ним. Они перебрасываются парой слов, и Тенни куда-то уносится — наверное, за помощью; хотя не пойму, зачем это — вон, целая куча помощников уже на пути сюда. Потом Брю начинает карабкаться на мачту. Он никогда не любил лазить по деревьям, но нужно — значит, нужно, и у него классно получается. А внизу уже целая толпа — миллион человек стоят и пялятся на меня. Можно сказать, не сводят глаз с приза.
На половине пути Брю срывается, но успевает ухватиться за перекладину, его здорово швыряет об мачту, металл звенит, как колокол.
— Иди туда! — кричу я брату, показывая на то место, где железо немного поржавело и стало шершавым — там кроссовки меньше скользят.
Он подбирается всё ближе, и мой страх постепенно уходит — я знаю, брат спасёт меня. Когда он уже почти на моей высоте, я говорю ему, что очень сожалею, что застрял на этой дурацкой мачте.
— Не двигайся и не разговаривай! — велит он и подбирается ещё немножко поближе.
У подножия мачты я вижу Теннисона — он вернулся с чем-то в руках, по виду — с букетом цветов; он отдаёт букет мистеру Стернбергеру, тот берётся за его край, и букет почему-то становится больше. Мистер Стернбергер что-то командует другим людям, и они тоже берутся за букет. Вот теперь я соображаю, что это вовсе не букет — это большое цветастое полотнище; мистер Стенбергер и остальные растягивают его прямо под нами — ну, в точности как батут, только сделанный из розочек и ромашек. Натянут туго-туго, его держат целых десять человек, и всё равно отсюда, с высоты, кажется, что он жутко маленький.
Короче, Брю уже рядом со мной, но достать до меня ещё не может. Он перепуган, перепуган насмерть, а я вот — нет. Потому что он не позволяет мне бояться. Он никогда не позволяет мне чего-нибудь бояться.
— Я уже почти рядом! Не двигайся! — говорит он.
— А как же я отсюда слезу, если не буду двигаться?
Он крепко цепляется за мачту и смотрит на меня таким особенным, глубоким взглядом, каким обычно смотрят учителя — перед тем, как отправить тебя к директору.
— Ты должен перестать вытворять глупости, Коди.
— Это не глупости! Мой змей застрял, и мне надо было его снять. Я просто ответственный!
— А ты не мог бы быть ответственным внизу, на земле?
Брю пытается подобраться поближе — не получается. Но он не сдаётся.
— С тобой всё будет хорошо, Коди.
— Конечно, я знаю.
Это правда. Со мной всё будет в порядке, потому что Брю здесь.
Слышу, как завывают сирены; они приближаются, и вскорости из-за одного поворота показывается полицейская машина, а из-за другого — пожарная. Оглядываюсь по сторонам: клёво, если где-то пожар, я его отсюда точно увижу! Но обе машины останавливаются прямо под мачтой, и тогда до меня доходит. Пожарные машины не всегда приезжают, потому что пожар, иногда они снимают кошек с деревьев. Или людей с мачт.
Может, потому что я отвлёкся на пожарную машину, а может, потому что пальцы совсем заледенели, но одна моя рука срывается с балки.
— Нет! — слышу я крик Брю.
Я изо всех сил опять цепляюсь за балку, тогда соскальзывают ноги, но мне удаётся снова обхватить ими поперечину; кроссовка с одной ноги слетает (должно быть, шнурок развязался, а я и не заметил) и падает, кувыркаясь, вниз, вниз, вниз, мимо цветастого полотнища, и попадает прямо по голове какой-то дамочке; та тоненько охает. Вот смехота! Я б поржал, но нельзя — могу опять сорваться.
У пожарной машины есть длиннющая лестница, но она ползёт вверх очень медленно, а я, по-моему, долго не продержусь — пальцы больше не хотят цепляться за балку. К тому же, если я упаду, то опять свалюсь на голову той даме. Брю, конечно, заберёт себе удар, я его даже не почувствую, но вот Брю… Ему-то точно придётся плохо. Будет потом сердиться на меня — как тогда, когда я сломал ему руку.
Я снова соскальзываю — на этот раз мне точно не удержаться, но вместо того, чтобы упасть прямиком вниз, я выбрасываю обе руки навстречу Брю.
— Коди!
Он ловит меня за одну руку, и мы теперь держимся друг за друга. Я болтаюсь и раскачиваюсь, как мой несчастный змей на своём хвосте.
Брю напрягает все силы, чтобы не отпустить меня.
— Ты не волнуйся, — говорю я, — со мной всё будет о-кей!
— Зато со мной не будет! — рычит он сквозь стиснутые зубы.
— Но ты же поправишься.
На этот раз он не отвечает.
— Ты же всегда поправляешься…
Он молчит, потому что все его силы, даже голос, направлены на то, чтобы удержать меня.
И тут я впервые в жизни сознаю, что, наверно, может случиться такое, от чего он не сможет оправиться. Что, если он тоже умрёт — совсем как дядя Хойт, и его сожгут и запакуют в картонную коробку? Эта мысль нагоняет на меня жуткий страх, даже ещё больше, чем мачта, больше, чем падение, больше, чем… даже не знаю… да чем что угодно!
Чувствую, как мой страх пытается переползти от меня к Брю, но я не позволяю, держу свой страх в себе, потому что он делает мои руки сильнее — я знаю, я чувствую. Без этого страха я упаду. Это единственное, что не позволяет моим пальцам разжаться.
И ещё я знаю, что только что сделал невозможное, потому что удержать в себе что-то плохое, когда рядом Брю — раньше мне это никогда не удавалось. Не только всякие болячки, но и нехорошие чувства тоже — он всё забирал себе. А вдруг… а вдруг это не невозможно? Ведь вот получилось же у меня, потому что я не хотел с ним делиться… потому что я висю… вишу здесь и боюсь до… ну, очень сильно боюсь — потому что хочу бояться?!
Страх заставляет мои пальцы сжаться вокруг его руки так, что костяшки становятся белыми, так, что похоже, будто у меня вовсе нет руки, занемела. И тут я слышу сзади: «Держу, сынок!», и чья-то рука подхватывает меня из-за спины и ставит на лестницу, которая наконец-то доросла до нас.
— Ты в безопасности, сынок, — говорит пожарный.
Он помогает мне спуститься, и я знаю, что со мной всё будет хорошо, и с Брю тоже всё будет хорошо. Потому что понимаю: пусть Брю под силу делать своё Великое Невозможное, но я сегодня сумел не отдать ему свой страх, и потому совершил своё, хоть и маленькое, но тоже Невозможное.
БРОНТЕ
50) На краю пропасти
Не могу не признать: обстановка в нашей семье изменилась. Эти изменения начались с той самой минуты, когда Брюстер с Коди появились на нашем пороге, но происходили они так медленно, так незаметно, что я попросту думала, будто всё дело только в моём неисправимом оптимизме. Видите ли, когда после широчайшей чёрной полосы дела наконец начинают потихоньку налаживаться, остаётся лишь одно из двух: либо сосредоточиться на хорошем, либо наоборот — не видеть ничего хорошего.
Большинство делает только один выбор: стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Мало кто в состоянии осознавать события в их целостности. К сожалению, я не отношусь к этому замечательному меньшинству. Я лишь видела, что Брю с братом спасены и едва не слетевший под откос поезд нашей семьи вернулся обратно на рельсы. На том я и успокоилась, спасибо всем большое.
И хотя казалось, что всё идёт отлично, для Брю настали тяжёлые времена, и чем дальше, тем хуже. Особенно плохо ему было дома. Возникало впечатление, что он страшно измотан, будто сами стены высасывают из него жизнь. Он находился в постоянном напряжении, словно наш дом стоял на самом краю обрыва — того и гляди, сорвётся в пропасть — и только один Брю понимал это.
А потом он спас Коди, когда тот висел на мачте высоковольтной линии.
Меня не было на месте происшествия, но с пол-десятка людей засняли всё происшествие на видео. Эпизод показали в новостях, и Брю, что называется, «наутро проснулся знаменитым»; и хотя его слава длилась всего лишь те самые тривиальные «пятнадцать минут», направленный на Брю прожектор всеобщего внимания рассеял тень, под которой он вынужденно жил всю свою жизнь. Но ведь это же хорошо, правда?
51) Фанфары
— Привет, Бронте! Ничего, если мы присядем за ваш стол?
Так-так — Аманда Милнер и Джо Криппендорф. То ли они вместе, то ли нет — никто этого толком не знает, а сами они не торопятся раскрывать тайну. Это был уже третий неожиданный визит к нашему столу за время ланча.
— Мы уже уходим, — буркнул Брю.
Я накрыла его руку своей — этого оказалось достаточно, чтобы он не сорвался с места.
— Нет, не уходим. — И я принялась ковыряться в сомнительного вида желе, которое ещё минуту назад хотела выбросить в мусорник. — Присаживайтесь.
Они устроились за нашим столом. Аманда — она из тех, кого я называю «друзьями среднего круга», то есть мы не настолько близки, чтобы делиться самыми заветными тайнами, но всё же в достаточно хороших отношениях, чтобы вместе делать лабораторные. Джо — ненавязчивый простак, каких ты обычно не замечаешь и они тебе не досаждают — ну разве что вокруг него соберётся целая толпа таких же простофиль.
— Брюстер, мы считаем — ты просто герой! — сказала Аманда.
О его поступке знают теперь все — если не из новостей, переданных по местным каналам, то из утренней школьной трансляции. Сам директор в хвалебных выражениях отозвался о подвиге Брю и наградил его почётным знаком.
— Да ничего такого особенного, — скромно проговорил Брю. Я видела, что ему очень хочется, чтобы все поскорее забыли и о происшествии, и о нём самом.
Джо шлёпнул его по плечу:
— Мужик, да я б такого нипочём бы не сделал, мамой клянусь! Ничего себе — на такую верхотуру, да ещё и всё это жуткое количество вольт! Бр-р!
Брю лишь пожал плечами.
— Я не мог иначе — он же мой брат.
— Ну да, — согласился Джо. — У меня тоже есть брат. Так вот — если бы это он застрял там, наверху, и от меня зависело, спасти его или нет — думаю, что сейчас его прозвище было бы что-то вроде «Великий Шмяк».
Они расспросили нас о всех подробностях; потом мы немного поговорили о том, что теперь Брю с братом под опекой нашей семьи, и как здорово, что родители позволили нам с Брю жить под одной крышей.
— У нас очень строгое правило: дома мы только друзья, — разъяснила я. — Мы ведём себя как парень и девушка только когда выходим из дому.
И воспользовавшись тем, что сейчас мы на нейтральной территории, я погладила Брю по руке. Не пропадать же такой возможности, в самом деле.
— Я бы нарушил это правило в первые же четверть часа! — заявил Джо. Аманда легонько ткнула его локтем, и он расхохотался. Брю тоже было засмеялся, но тут же осёкся.
— Слушайте, — проговорила Аманда, вытаскивая на свет пару конвертов с сердечками в качестве печаток. — Я знаю, это мещанство и дурной вкус, но мои родители устраивают мне день рождения… вы понимаете — «милые шестнадцать», всё такое… и я хочу пригласить вас обоих. — Она протянула приглашение Брю, и тот уставился на него, как на ядовитую змею. — Надеюсь, что вы сможете прийти.
— Конечно, придём, — заверила я, прежде чем Брю успел отказаться. — Спасибо!
Аманда поднялась и ушла довольная, но Джо на минутку задержался.
— Эй, Брюстер, — произнёс он, — я вот что хочу сказать. Я тебя знаю уже вон сколько лет, и все эти годы я был полный козёл. Может, не такой, как Оззи, но всё равно.
— Да ладно тебе, — пробормотал Брю.
Но от Джо так легко не отделаться. По-моему мнению, он был просто очарователен.
— Ну, в общем, это было неправильно. Ты того, прости меня. Я просто хочу, чтобы ты знал: я считаю — ты парень что надо.
— Спасибо, Криппендорф, — отозвался Брю. Он не случайно назвал Джо по фамилии — это как бы скрепило их дружбу.
Джо ушёл, а Брю остался сидеть словно оглушённый. И было отчего. Это ведь не то, что мой круг тщательно отобранных и проверенных друзей, это — признание всего общества. Люди обожают примазываться к героям, а уж если героем оказывается тот, от кого никто подвигов не ожидал, то народ вообще готов носить его на руках. Конечно, через неделю все позабудут о Брю и его поступке, но всё равно — он завязал несколько новых дружеских связей, и некоторые из них останутся надолго. Я от всей души обняла его — так обнимают своих пациентов врачи-хиропрактики, когда хотят поставить позвонки на место.
— Вот видишь! — воскликнула я. — Как всё для тебя изменилось!
Он сунул своё приглашение в карман и не сказал ни слова.
52) Сокровенное
Поздним вечером, после того как все улеглись, я прокралась на первый этаж, в кухню, за чем-нибудь вкусненьким. Проходя мимо бывшей гостевой комнаты, я не смогла побороть любопытство и заглянула в открытую дверь — сознаюсь, надеялась хотя бы мельком узреть Брю в трусах, которые мне пока что удаётся увидеть лишь когда складываю выстиранное бельё.
Не вышло. Брю, полностью одетый, сидел на кровати, прижав колени к груди; на его лбу блестели крупные капли пота.
— Брю?
Он распрямил плечи.
— У Коди был кошмар, — сказал он, хотя, насколько я могла видеть, младший брат крепко и безмятежно спал. Сам же Брю, судя по всему, не сомкнул глаз.
Я присела на краешек его кровати.
— Если что-то не так, и ты хотел бы поговорить об этом…
Несколько секунд он молчал. Потом опустил голову и покачал ею.
— Я просто… Я просто боюсь, что не справлюсь со всем этим, Бронте.
— С чем не справишься? Никто ведь не ждёт от тебя чего-то особенного.
Он воззрился на меня, и его изумительные глаза говорили об обратном. Я отвела взгляд.
— Я думал о дяде Хойте.
Упоминание об этом человеке привело меня в замешательство. Нет, я понимаю, что к мёртвым надо относиться с уважением, но как быть, если они при жизни не заслужили этого самого уважения?
— Дядя Хойт говорил мне, что я должен ненавидеть весь мир — только так я смогу выжить.
— Но это же ужасно!
— А что если он прав?
Он с мольбой заглянул мне в глаза — ему хотелось услышать заверения в том, что его покойный дядя неправ. Мне так хотелось обнять Брю, приласкать… но это стало бы нарушением золотого правила. Пока мы под крышей этого дома — Брю не мой парень. Отвратительное правило. Но если принять во внимание, что я сижу сейчас в его комнате, на его кровати, в сокровенный полуночный час, и меня обуревают некие чувства… сами понимаете, какие… Словом, это гадкое правило просто необходимо.
— Не был твой дядя прав! — воскликнула я. — Ни в чём! Какой смысл жить, если ты ненавидишь весь мир? Оберегай своё сердце, если тебе это необходимо, но не запирай его на замок.
Он улыбнулся.
— «Оберегай своё сердце»… Моя мама часто это повторяла.
Впервые за всё время нашего знакомства он упомянул о своей матери. Я сидела затаив дыхание и ждала большего, но это было всё, чем он решился поделиться.
— Всё образуется, — сказала я. — Всё будет хорошо. Увидимся утром.
Я поднялась и пошла к двери, но ещё не успела перенести ногу через порог, как сзади послышалось:
— Я убил дядю.
Я так и застыла. В сознании вихрем пронеслась целая сотня разных мыслей: от «Наиболее Подходящего Кандидата На Высшую Меру» до немыслимого «а что если все идиотские школьные слухи — правда?» Но в этом потоке мыслей было достаточно рациональных соображений, чтобы я смогла уловить истинный смысл, стоящий за его страшными словами.
— Твой дядя умер от инсульта!
— Да, — согласился Брю. — Но я был там. Я мог бы его спасти. Он просил меня, но… я позволил ему умереть.
Вот это да! Несколько секунд я не могла вымолвить ни слова. Взглянула на его ногу — ту, которую он подволакивал, и никто не мог догадаться, откуда у него эта внезапная, странная хромота. Подвернул лодыжку? Нет, потому что хромота не проходила. Только теперь до меня дошло, чтó случилось на самом деле и почему Брю так угнетает чувство вины. Дядя Хойт и раньше ничего кроме злости у меня не вызывал, а при мысли, что он поставил своего племянника в такое тяжелейшее положение — потребовал, чтобы тот умер за него — я возненавидела этого подонка вдвойне.
— Ты забрал у него много боли. Больше, чем достаточно! — твёрдо сказала я. — И в тот день, и во все предыдущие. Уйти должен был он, не ты!
Брю кивнул, но я видела — это было признание, но не принятие. Не знаю, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь сказать что-то такое, что переубедит его. Очень трудно понять, как человек, обладающий столь невероятной способностью менять жизнь окружающих, так отчаянно жаждет избавиться от чувства вины за то, чего не совершил.
— Твой дядя использовал тебя всю жизнь, вплоть до момента своей смерти, — промолвила я. — Клянусь тебе, Брю: никто и никогда больше не посмеет так над тобой издеваться.
ТЕННИСОН
53) Извлечение
Я не в игре. И мне страшно плохо.
Тренер понимает, что со мной происходит что-то не то — снял с игры после второго периода. Счёт 3:6 против слабенькой команды. Я не забил ни одного гола.
Я какой-то несобранный, не могу сосредоточиться на игре. Внушаю себе, что это из-за Катрины — она не пришла на матч. А ведь Катрина присутствует на всех моих матчах, она для меня что-то вроде талисмана. Нет, она, конечно, появится, и тогда у меня прояснится в голове. Что ещё хуже — моя рассеянность заразительна. Кажется, я влияю на настроение команды куда сильней, чем всегда казалось самому: мои сотоварищи мажут по воротам, делают пасы в никуда — словом, команда разваливается на глазах.
Это всё Катрина. А кто же ещё? Она даже смску не прислала, что не придёт. Впрочем, от неё уже два дня ни слуху ни духу; а когда я звоню ей, то всё время натыкаюсь на автоответчик.
Я потерянно сижу на скамейке и наблюдаю за игрой. Мы пропускаем ещё один мяч. К началу четвёртого периода у меня остаётся лишь одно желание — поскорее попасть домой.
Нам накостыляла одна из худших в лиге команд. Пока соперники ликуют, в восторженном одурении от этой неправдоподобной, свалившейся с неба победы, тренер устраивает нам грандиозный разнос. Куда деваться — что заслужили, то заслужили. Вернее, я заслужил. Если мы проиграем хотя бы ещё только одну игру — о финале чемпионата можно забыть. Всю следующую неделю тренировки будут убийственные.
Надо было бы мне отправиться прямо домой, но я делаю крюк и захожу к Ахаву — в наш местный кофе-бар, который изо всех силёнок старается создать впечатление, что он ничуть не хуже «Старбакса», даже имена своим напиткам придумывает какие-то забойные. Залью-ка я своё горе «Фраппуччино», вот что. Однако ещё не дойдя до двери, вижу их.
За одним столом, рядышком, сидят Катрина и лысый парень с забинтованным лицом.
Его рука покоится на её колене.
Вот так. По-моему, я что-то наподобие уже видел. Мама и её патлатый бабуин. Шагаю мимо: мимо двери, мимо кафешки, мимо этой парочки. Пытаюсь понять, которая из картин отвратнее — мама с любовником или Катрина с Оззи. Желание поскорее попасть домой становится почти невыносимым.
Значит, Катрина снова превратилась в сестру милосердия, так же, как тогда, когда мы с ней начали встречаться. Одно лёгкое движение изящного пальчика: нажала на кнопку «Извлечь диск» — и диск, то есть я, вылетел, а на моё место прыгнул новоявленный мученик. И ведь какая несправедливость: я даже не могу ворваться в этот недостарбакс и набить Оззи морду, потому что у него нет второго носа, который можно было бы сломать!
Домой, скорее домой!
В ту же секунду, когда я переступаю родной порог, мне сразу становится легче. Бронте с Брюстером сидят в гостиной — работают над каким-то школьным проектом, весь журнальный столик завалили своими бумажками.
Бронте поднимает голову.
— Как игра?
— Они проиграли, — подаёт голос Брю.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает она.
— А что — по нему не видно?
— Да всё с ней в порядке, с игрой, — говорю я. Мне лень пускаться в объяснения, всё это уже позади, далеко в прошлом. Даже мысли о Катрине с Оззи доставляют куда меньшую боль.
На кухне мама маринует мясо для папы — тот на заднем дворе растапливает рашпер. Барбекю? В это время года? Редкое явление. Залезаю в холодильник, но мама прикрикивает:
— Не порть аппетит!
Нормально.
Разве может где-то что-то идти не так, если дома всё настолько нормально?!
К тому времени, когда я добираюсь до своей комнаты и падаю на постель, вся моя злость и досада уходят без следа. Такое чувство, будто меня завернули в невидимый, но очень прочный кокон, покрыли защитным слоем. В мире всё прекрасно. И с Катриной тоже всё будет прекрасно, потому что у меня уже, можно сказать, готов план. Две вещи действуют на сердце Катрины без промаха: увечье и победа. Ладно, увечье досталось на долю Оззи. Значит, мне остаётся победа.
54) Равновесие
Я думаю, меня нельзя назвать законченным эгоистом. Во всяком случае, не больше, чем кого-либо другого. Если уж на то пошло, то в каждом из нас того и другого поровну, и зачастую мы не догадываемся о побудительных мотивах нашего поведения. Наверняка во многих случаях я буду поступать наперекор своим собственным интересам — всё зависит от обстоятельств. Словом, существует равновесие между эгоизмом и самоотверженностью. Но иногда случается кое-что такое, что нарушает это равновесие. Когда этим вечером я захожу в комнату Брюстера и Коди, я ясно отдаю себе отчёт в том, в какую сторону сместилась стрелка весов в моей душе.
Коди валяется на надувном матрасе, он с головой погрузился в какой-то комикс; Брю читает тощую книжечку — стихи, конечно. Нормальный парень взял бы такое в руки только под страхом смерти.
Брю взглядывает на меня поверх страницы.
— Ты был прав насчёт игры, мы проиграли, — сообщаю я.
Он переворачивает страницу.
— Чтобы это понять, не нужно быть гением.
— Конечно, нет. — Я пару секунд тереблю дверную ручку. — Вот что… я только хотел, чтобы ты знал — я передумал.
— Насчёт чего?
— Ну, помнишь, я запретил тебе приходить на мои игры… Я передумал.
Похоже, это его заинтересовало — он опускает книжку.
— Почему?
Пожимаю плечами — мол, ничего, так просто.
— Да ничего, так просто.
— А может, мне и самому теперь неохота смотреть твои игры.
— Как знаешь. — Я поворачиваюсь к двери.
Он останавливает меня.
— Может, я тоже передумаю — если ты скажешь мне правду.
Ну, я и выкладываю правду. Или, по крайней мере, её часть.
— Нашей команде позарез нужно выиграть несколько следующих матчей, чтобы попасть в финал чемпионата лиги. — О Катрине я помалкиваю — всё равно Брюстеру она не нравится. — Если я буду хорошо играть, то мне, может, даже дадут «лучшего игрока лиги»…
В этот момент Коди выныривает из своих комиксов, и я осознаю, что он в них и не погружался — он очень внимательно прислушивался ко всему, что было сказано в комнате. Он понимает, о чём я прошу Брю. Он знает, о чём на самом деле разговор. Внезапно мне становится стыдно. М-да, лучше бы обойтись без свидетелей…
Брю поднимает свою книжку и делает вид, что читает, но мыслями он явно в другом месте.
— Я думал, ты считаешь это мошенничеством, — наконец произносит он.
— Я сказал, что у меня такое чувство, будто я смошенничал. Тут есть разница.
— Я подумаю, — говорит Брю, но я знаю — он уже решил сделать это. Всё бы хорошо, если бы не Коди. Его глаза с расширенными зрачками смотрят на меня — бездонные, чёрные, они вглядываются в космическое пространство в поисках неизвестных галактик.
55) Беспрецедентное
Мы с Брю — заговорщики. Мы с Брю — единая команда. Что с того, что тренер не подозревает о дополнительном, потаённом игроке? Я начинаю игру с таким чувством, словно собираюсь завоевать весь мир, хотя на самом деле нам сегодня предстоит всего лишь встреча с «Ракетами» из Биллингтона. Они довольно высоко в турнирной таблице, и к тому же это очень «неудобная» команда; но я сразу же даю им понять: сегодня им придётся несладко. И забиваю на первой же минуте. Я — владыка площадки, мои скорость и точность беспрецедентны; меня не щадят, сбивают с ног, проверяют на прочность, но я поднимаюсь после самых крутых силовых приёмов, после самых болезненных ударов клюшкой; я не теряю ни унции энергии и напора. Я непобедим.
Катрина видит это. Я взял с неё обещание прийти на игру.
— Мне необходимо твоё присутствие, — умолял я её. — Пожалуйста, приди. Ты меня вдохновляешь.
Ненавижу просить и унижаться, но всё будет ни к чему, если она не увидит моего триумфа.
Я постоянно посматриваю на Брю — как он там, держится? Он прохаживается в одиночестве у края поля — немного усталый, слегка запыхавшийся. Прислоняется спиной к ограде и поднимает большие пальцы вверх. Я решаю, что если получу звание лучшего игрока, то отдам кубок ему. А себе оставлю Катрину.
Половина матча позади. Счёт 4:1, и все четыре гола забил я. Тренер улыбается и смотрит на меня таким взглядом, будто я — его собственный сын.
— Вот это то, что я называю настоящей игрой, Теннисон! — ликует он. — Покажи этим недотёпам, из чего сделаны наши парни!
— Я могу остаться на площадке?
— Если будешь играть, как сейчас, то оставайся на ней хоть до второго пришествия!
Остаток матча — сплошное унижение для «Ракет». За тридцать секунд до конца я забиваю свой шестой гол. Да — из восьми забитых нашей командой голов шесть — мои.
Финальный свисток — конец! Мои сотоварищи набрасываются на меня и через секунду я взмываю в воздух. Вот это триумф! Но я не позволяю себе наслаждаться им слишком долго. Как только меня опускают на землю, я тут же кидаюсь к Катрине.
— Я так рад, что ты пришла! — кричу я и притягиваю её к себе, чтобы поцеловать. Она не сопротивляется, хотя через секунду отстраняется — я же весь в поту, как лошадь.
— Извини, — тороплюсь я, — сейчас побегу в душ, а потом мы с тобой пойдём праздновать!
— Разве ты не собираешься праздновать с командой?
— Ещё успеется!
— Слушай, Теннисон… Нет, я, конечно, рада за тебя и ты сегодня великолепен и всё такое, но… понимаешь, я теперь с Оззи.
Я слышу её слова, но их смысл до меня пока не доходит — я ещё весь в восторге и ликовании.
— Ну так в чём дело — пошли его подальше! Знаю, ты питаешь к нему жалость… Я, конечно, не должен был так его отделывать; и ты права насчёт моих родителей, я и в самом деле словно сбрендил, но сейчас со мной всё в порядке!
Обнимаю её за плечи, но она вновь отстраняется.
— Дело не в жалости, Теннисон… Я начала встречаться с ним ещё до того, как ты сломал ему нос.
Внезапно у меня возникает ощущение, будто мне кто-то пробил башку лакроссной клюшкой. Осмысленные слова вылетели через дырку в черепе, и всё, что мне удаётся из себя выдавить — это:
— А?
— Вообще-то, — продолжает она, — я так поняла, что ты, должно быть, отлупил его из-за меня?
— А?
— Мне это польстило, не скрою.
Тут она наклоняется и целует меня, но в лоб, как маленького ребёнка… или как старую больную собаку — перед тем, как ветеринар всадит ей последнюю в её жизни иглу.
— Может, ты позвонил бы Кэти Барнетт? Я знаю совершенно точно — она умирает по тебе чуть ли не с самого пластилинового периода.
— Плейстоценового, — мямлю я на автомате.
— Да, точно, этого самого. Ну, я побежала!
И она лёгкой походкой устремляется прочь, унося с собой все распрекрасные чувства, которые, как я думал ещё минуту назад, она должна была бы направить на меня.
От постигшего моё сердце удара могла бы содрогнуться планета. Я словно в огне. Я словно в лихорадке. А команда всё ещё празднует победу. Мы выиграли, вышли в финал… Почему же я не радуюсь?
И нет поблизости такого громадного камня, под который я мог бы заползти и свернуться клубком. Единственное, чего мне сейчас хочется — домой. Я не прочь бы даже телепортироваться туда, если бы это было возможно. Домой — прямо свою комнату.
Во всей этой суматохе я совершенно позабыл про Брю. Ищу его глазами, но он исчез. Наверно, ушёл в ту самую секунду, когда прозвучал финальный свисток — отправился домой зализывать мои раны. Интересно, меня сильно побили в этом матче? Да нет, наверно, не очень, так, средне; во всяком случае, он всё забрал себе. Надо найти его и поговорить. Мне позарез нужно поделиться с кем-нибудь своим несчастьем. Неважно, он может и не отвечать, лишь бы слушал.
Я наскоро прощаюсь с товарищами по команде, подхватываю свою клюшку и лечу домой. По дороге мне смертельно хочется разнести клюшкой все почтовые ящики подряд. С чего это я так распсиховался?
56) Умиротворённый
Я не успеваю даже в ворота войти — Бронте перехватывает меня на улице и бьёт в плечо с силой чемпиона-тяжеловеса.
— Ой!
— Это за то, что ты заставил его пойти на твой матч!
Должно быть, Брю вернулся домой раньше меня. Нажаловался. Нет, скорее, она увидела, как он выглядит, и всё вытянула из него сама.
— Я никого не заставлял. Он пришёл потому, что хотел прийти!
Как же, так она на это и купилась.
— Ты — эгоцентричный, самовлюблённый…
— Да? А когда я его прогнал с игры — тогда я, по-твоему, тоже был неправ?!
Она мгновение собирается с мыслями.
— Да, неправ! Но тогда ты, по крайней мере, думал о нём, а не о себе, любимом!
Мне неохота ссориться с ней, мне охота лишь оказаться в доме. Мои чувства сейчас настолько пропитаны ядом и горечью, что нет никакого желания выплёскивать их на кого бы то ни было. Я лишь хочу, чтобы она меня пропустила. Я лишь хочу пройти в ворота.
— Вместо того, чтобы устраивать мне разнос, ты бы лучше подумала, чтó ты сама только что сделала с ним! — говорю я. Она озадаченно хлопает глазами. Я потираю ушиб в том месте, где она огрела меня и поясняю: — Как только я переступлю порог, у Брю появится ещё один синяк. Благодаря тебе.
Она столбенеет, и я бочком протискиваюсь мимо неё в ворота. Вот так-то, пусть поразмыслит!
Войдя в гостиную, я бросаю клюшку на пол и падаю на диван. Сворачиваюсь клубком и закрываю глаза — так я поступаю обычно, когда болит живот. Чувствую, как в груди что-то закипает, и совсем свирепею при мысли, что сейчас разревусь. Это я-то. Я никогда не плачу! Меня в жизни никто не видел в слезах! Неужели всем так же ужасно, как мне, когда их бросают? Да и в Катрине ли здесь вообще дело? Не знаю. Не знаю и знать не хочу. Хочу только, чтобы эти муки прекратились.
Слышу, как кто-то включает телевизор. Открываю глаза — Коди. Он рассматривает валяющийся на диване жалкий клубок нервов и спрашивает:
— Можно мне посмотреть мультики?
— Делай что хочешь.
Он опускается на пол, однако громкость не подкручивает — трудновато будет ему что-нибудь расслышать.
— Ты просто устал или с тобой по-другому нехорошо? — спрашивает он.
— Не суй нос не в свои дела.
— Если тебе нехорошо, тебе лучше уйти, — молвит Коди.
— Ты это о чём? Я только что пришёл!
— Всё равно ты должен уйти.
Он жмёт на кнопку на пульте, и громкость растёт и растёт, пока у меня чуть барабанные перепонки не лопаются.
Забираю у него пульт и выключаю телевизор.
— Что, совсем ошалел?
Тогда он поворачивается ко мне:
— Это нечестно! Он МОЙ брат, а не твой! Ты не имеешь права!
Меня так и подмывает тоже повести себя как малолетний хулиган в песочнице и наорать на него; но тут вдруг что-то начинает меняться. Я чувствую, как нечто нарастает во мне, словно волна, набирающая силу, прежде чем обрушиться на берег.
Облегчение — вот что это. Я глубоко, удовлетворённо вдыхаю. Покой. Медленно выпускаю воздух. Довольство. Я умиротворён — как всегда, когда прихожу домой. Обычно это происходит не так заметно, но, с другой стороны, я ещё никогда не был так измотан, как сегодня. Я просто разбит.
Неприятные эмоции, владевшие мною всего несколько секунд назад, бесследно исчезают. Остаётся только лёгкое головокружение и чувство, будто вот-вот вспорхну, словно птичка. Чудесное ощущение!
Коди весь как-то опадает, сутулится. Он снова опускается на пол.
— Слишком поздно.
Вот теперь я уже не могу закрывать глаза на то, здесь речь не только о покое, который обычно все находят в уютных и безопасных стенах родного дома.
— Коди… что это было?!
— Плохое ушло, — говорит он таким тоном, будто это само собой и вполне естественно. — Раны и всё такое — это легко, они проходят быстрее. А вот то, что внутри — это трудно. Оно вроде как должно само сначала прорваться наружу.
Из-за стены до моего слуха доносятся глухие всхлипы. Там бывшая гостевая. Это плачет Брю. Глубокие, горестные рыдания. Мои рыдания. Вернее, больше не мои.
— Он и это может забрать, — отрешённо говорит Коди. — Он забирает всё что угодно.
Когда я врываюсь в гостевую, там уже Бронте — сидит, обнимает Брю, пытается обхватить тонкими руками всю его мощную фигуру, а он весь содрогается от слёз, и непонятно, чего в его рыданиях больше — скорби или ярости. На плече у него налился синяк — след от удара, которым меня одарила Бронте.
— Что с тобой, Брю, что с тобой? — причитает Бронте, но ей не удаётся утешить его. — Ну скажи мне, пожалуйста, скажи! Я хочу помочь!
Он вскидывает на меня умоляющие глаза — он знает: это пришло от меня. Он знает!
— Что случилось, Теннисон? — хрипит он. — Ты же выиграл! Так что же случилось?!
Но я лишь молча топчусь в дверном проёме.
Глаза Бронте сужаются.
— Убирайся! — шипит она, но я не двигаюсь. Тогда она встаёт и протягивает руку к двери. — Я сказала — убирайся!
И с этими словами хлопает дверью прямо перед моим носом. Интересно, в курсе ли она, что, собственно, происходит? Скажет он ей или нет? Бронте, сострадательная, вдумчивая, внимательная Бронте… Уверен — она совершенно не подозревает об этой тайной стороне дарования Брю.
Зато я знаю, и это знание выгоняет меня из дому. Я не могу так поступать. Не имею права взваливать на него весь тяжкий груз моих бед.
Устремляюсь к воротам, ведущим на улицу, стараясь уйти как можно дальше, прежде чем мой порыв угаснет. Здесь, в нескольких шагах от улицы, я ощущаю край, до которого дотягивается душевное поле Брюстера. Я могу ускользнуть из под его влияния. По другую сторону ворот меня поджидают все прежние ужасы: боль предательства, злость, чувство беспомощности… Всего один шаг — и они вновь навалятся на меня. Однако как бы мне ни хотелось сделать этот шаг, как бы я ни желал избавить Брю от мучений — я… не могу. Я всегда считал себя сильным, волевым человеком, но вот вам правда без прикрас: у меня не хватает сил забрать обратно свои собственные сердечные муки.
Подавленный, пристыжённый, я возвращаюсь в дом; через несколько секунд ощущение сокрушительного поражения проходит, улетучивается; и вот мы оба с Коди сидим в гостиной, смотрим мультики, и ничто, никакие заботы мира нас не волнуют.
БРОНТЕ
57) Молящий
Теннисон вёл себя странно. Это началось тогда, когда они с Катриной расстались, и с каждым днём он становился всё чуднéй и чуднéй. Всё шло по нарастающей и достигло вершины в тот день, когда мы с Брю пошли на «милые шестнадцать» к Аманде Милнер. Когда мы вечером вернулись домой, он накинулся на нас, едва мы переступили порог:
— Где вас носило? Вы вообще знаете, который час?
Будто какой-то разъярённый папаша, честное слово! А глаза… Глаза у Теннисона были дикие. Я встревожилась. Теннисон постоянно рвётся меня защищать, хотя ни в чьей защите я не нуждаюсь; но этот взрыв уже просто не лез ни в какие ворота. Брю забеспокоился, заволновался и пошёл прямиком в ванную, лишь бы убраться с линии огня, который обрушил на нас мой братец.
— Да что это с тобой? — прикрикнула я на него, как только Брю скрылся.
— Ты не должна вот так надолго уводить его из дома!
— Как это — «уводить»? Он что — собачка на поводке?
— Нет, конечно, просто… просто ты должна быть осторожна.
Я обвиняюще наставила на него палец.
— И это ты мне советуешь быть осторожной? Ты, который правдами и неправдами добился лёгкой и безболезненной победы за его счёт?!
Стоило только об этом упомянуть — и братец сдулся. Теперь он стоял и смотрел на меня глазами побитой собачонки; такого в арсенале его мимики раньше не наблюдалось. Правда, в последнее время и в его лице, и в его поступках сквозило какое-то непонятное отчаяние. Я могла бы заподозрить Теннисона в пристрастии к наркотикам, если бы не была уверена, что это не так.
— Мама с папой поругались, когда вас не было.
Я удивилась — такого с ними уже давно не случалось.
— Как так — поругались?
— Как, как… как обычно.
Ещё какое-то время он смотрел на меня всё теми же молящими глазами, затем выражение его лица изменилось. Я бы даже сказала — перестроилось. Словно каждый мускул, повинуясь невидимому и неслышимому выключателю, занял новое положение. Брат глубоко вдохнул и расслабился, его тревога растворилась, как растворяется в небе тёмное облако. Я обращала на это внимание и раньше — уж очень быстро волнение и страх на его лице сменялись спокойствием и удовлетворённостью….
Теннисон ещё раз глубоко вдохнул и выдохнул.
— Ну вот, теперь всё в порядке, — сказал он. — Ладно, всё хорошо, но тебе не следует таскать Брю по всем этим вечеринкам — он к ним не привык. Он должен возвращаться домой, а не болтаться невесть где!
— Вот сейчас ты в точности как его дядя, — чуть язвительно проговорила я.
Мне хотелось всего лишь уколоть его, а получился тяжёлый удар, потрясший брата до глубины души. Он даже не смог ничего ответить, лишь повернулся и ушёл к себе.
Я могла бы пойти следом и вытянуть из него, что, собственно, происходит в этом доме, но, скажу честно, не хотелось — настолько противен мне был сейчас мой собственный брат. Вместо этого я пошла проверить, как дела у мамы с папой. Если они поссорились, значит, нам всем грозит свеженький, с иголочки, ад.
Я нашла обоих в их постели, рядышком — они сидели и спокойно читали каждый своё.
— Ну, как вечеринка, солнышко? — спросила мама, увидев меня в дверях.
Ни у неё, ни у папы я не заметила никаких эмоциональных боевых шрамов: они не разбежались по разным углам дома, никто не мерил комнату неистовыми шагами, никто не сидел, зажав голову в ладонях, и не опустошал холодильник в попытке заесть своё горе.
— Вечеринка чудесная, — отозвалась я и чтобы не бродить вокруг да около, в лоб спросила: — Из-за чего вы ссорились?
Вопрос их слегка огорошил, они переглянулись. На мгновение я даже подумала, что Теннисон соврал насчёт ссоры, но тут папа сказал:
— Э-э… хм… да наверно из-за какого-то пустяка. Неважно.
Мама мурлыкнула что-то в знак согласия, и оба вернулись к чтению.
Пожелав им спокойной ночи, я ушла к себе в комнату, донельзя довольная и их ответами, и этим вечером, и собой самой. Даже злость на брата исчезла — а уж это-то должно было меня насторожить! Что-то явно было не так, причём не только вокруг меня, но во мне самой. Однако я предпочла закрыть на это глаза, подсознательно призвав на помощь все известные мне на этот счёт пословицы, как-то:
Меньше знаешь — крепче спишь.
Не буди спящую собаку.
Дарёному коню в зубы не смотрят.
И сейчас я говорю себе: если бы я тогда поставила перед собой верные вопросы, если бы уразумела, насколько глубоко и прочно Брю проник в нашу жизнь — я бы повела себя по-другому. Я бы тогда сделала всё правильно. Но кого я пытаюсь одурачить? Как можно сделать что-то правильно, если ты даже не понимаешь, что собой представляет это «что-то»? Если все решения, которые ты принимаешь — заранее неверны и различаются лишь степенью неверности?
58) Чужак
Мы с Теннисоном всегда смеялись над теми, кто слепо следует за толпой. Мы называем их леммингами. Эти несчастные создания при малейшем признаке опасности сбиваются в огромные стаи и в полном исступлении несутся неведомо куда. В худших случаях безумие гонит их на скалы, откуда они падают в море и погибают. Но смешно это только тогда, когда ты наблюдатель. Когда ты сам — лемминг, это уже трагедия.
Я теперь понимаю бедных животных. Я понимаю, что для создания толпы достаточно всего двух индивидов. Например, брата и сестры. Не могу сказать, что я слепо следовала за Теннисоном, но, видно, меня так занимало происходящее с братом, что я не замечала, как на полной скорости несусь вслед за ним к тому же роковому обрыву.
На следующий день в наш дом заявился нежданный гость.
Мне, можно сказать, капитально не повезло — это я открыла ему дверь. На пороге стоял невысокий волосатый мужчина с густой, но весьма ухоженной бородой. Я частенько бывала в университете на различных мероприятиях и потому узнала его — это был один из коллег наших родителей.
— Мне хотелось бы поговорить с вашей матерью, — сказал мужчина с едва заметным непонятным акцентом.
В его манере держаться сочетались решительность и нервозность, взгляд напряжённых глаз был слегка диковат. Я мгновенно сообразила, кто это. Мамин друг. Мистер Понедельник.
Я почувствовала, как в душе поднялась было паника, смешанная со злостью, поднялась и… улеглась. Это мой дом, это моя дверь, и чужак через неё не пролезет!
— Вам бы лучше убраться отсюда подобру-поздорову, — холодно сказала я, глядя на него сверху вниз, — пока папа вас не увидел.
— Я уже увидел, — раздалось за моей спиной.
На середине лестницы, ведущей на второй этаж, стоял, крепко ухватившись за перила, мой отец. Несколько секунд он не двигался, и я видела, как в его душе происходит то же самое, что и в моей: нарастает и иссякает гнев; хотя, уверена, его гнев, прежде чем исчезнуть, расцвёл куда более пышным цветом, чем мой.
Папа спустился по ступенькам, и когда он заговорил, то можно было подумать, что перед тобой дипломат — так авторитетно и с таким достоинством звучал его голос. Свой гнев он держал в прочной узде.
— Только посмотри, поговорка о варварах у ворот, оказывается, верна и в наши дни! — сказал папа. — Ну что, Боб, зайдёшь или так и будешь весь вечер торчать в дверях?
Мужчина вошёл. Папа приблизился к нему, глянул сверху вниз и презрительно хмыкнул:
— Это доктор Торлок с кафедры антропологии. Эксперт по доисторическому человеку и прочим безмозглым существам.
Я услышала, как за моей спиной гоготнул Теннисон — тот стоял на верхней площадке лестницы и взирал на картину внизу; но как только я обратила к нему свой взор, он тут же скрылся.
— Пришёл нас повеселить, Боб? — продолжал ёрничать папа. — Или наоборот, привнести в нашу жизнь чуточку драмы? Неужели собираешься вызвать меня на дуэль?
Похоже, этого Торлока было трудно пронять насмешками.
— Мне только хотелось бы поговорить с Лизой.
— Бронте, — обратился ко мне папа, — пойди позови маму.
Мама возилась в прачечной, и когда я сказала, что к нам пришёл Торлок, на её лице появилось выражение растерянности, но через мгновение оно исчезло.
— Что ж, — сказала она с лёгким вздохом — слишком лёгким, если принять во внимание обстоятельства. — Было ясно, что когда-нибудь до этого дойдёт. Ни к чему откладывать неизбежное.
— О каком неизбежном ты говоришь? — осмелилась я спросить.
Но мама ответила всего лишь: «Увидишь» — и отправилась вниз, в прихожую.
Наверно, к этому времени я должна была бы не помнить себя от тревоги и волнения, но на самом деле мною владело всего лишь любопытство, сродни любопытству зевак, взирающих на последствия дорожной аварии. Бесчувственность словно окутала меня невидимой оболочкой — наверно, такова защитная реакция психики. Я бы, пожалуй, подслушала их разговор, если бы из гостевой до моих ушей не донёсся горестный стон.
Я влетела в комнату приёмных братьев. Брю сидел на постели, согнувшись и обхватив себя руками, и монотонно раскачивался взад-вперёд. Он был один — Коди уже обзавёлся парочкой друзей и отправился к одному из них с ночёвкой.
— С тобой всё в порядке? — спросила я.
— Нет! — резко выдохнул он. — То есть, да. Просто оставь меня в покое, хорошо?
Он снова согнулся; сквозь стиснутые зубы пробился мучительный стон.
— У тебя болит живот? — спросила я.
— Да, живот, — выдавил он. — Живот болит.
Я пощупала его лоб. Температура нормальная, но Брю был весь в поту. Я провела пальцами по его руке — кожа на ней покрылась гусиными пупырышками, да такими, что мне казалось, будто я читаю книгу по методу Брайля.
— Я принесу тебе чего-нибудь, — сказала я, пытаясь припомнить, что за биологический кошмар нам сегодня скормили в школьной столовке. Боль в желудке — это понятно, с этим я справлюсь. Проблема легко решалась с помощью содержимого небольшой бутылочки, вкусом похожего на мел.
По дороге в ванную, где была аптечка, я специально сделала небольшой крюк, чтобы пройти мимо прихожей — оттуда доносился неясный голос мамы. Папа сидел на ступеньке лестницы, наблюдая за происходящим. Вид у него был совершенно спокойный, даже беззаботный, и я, помню, ещё подумала тогда, до чего же это странно. Но поскольку с подобными эпизодами в семейной драме — когда мамин любовник заявляется с визитом — мне сталкиваться ещё не доводилось, то как я могла судить, что нормально, а что нет? Вместо того, чтобы ломать себе над этим голову, я отправилась дальше, а вскоре вернулась к Брю с флаконом Maalox. Он выглотал лекарство прямо из горлышка.
— Спасибо, — сказал он всё так же сквозь зубы. — Мне теперь лучше. Прошу тебя, уйди.
Он повернулся к стене лицом и натянул одеяло на голову, давая понять, что разговор окончен.
К тому времени, когда я покинула гостевую, Торлок уже ушёл. Родители сидели на кухне. Папа обшаривал холодильник в поисках какого-нибудь низкоуглеродного лакомства. Мама листала поваренную книгу. У меня возникло впечатление, что петля времени забросила меня в какой-то другой день.
— Э… Как оно всё прошло?..
Никто из них ничего не ответил; но когда они поняли, что я не отстану, папа смилостивился:
— Мама попросила его уйти, и он ушёл.
— И всё? — изумилась я. — Просто ушёл? Насовсем?
— Мы установили границы, — отозвалась мама. — Границы и правила.
— Какие правила? Вроде «придёшь сюда ещё раз, и я получу решение суда, чтобы ты не приближался ко мне на милю» — так, что ли?
Папа засмеялся, и мама бросила на него недовольный взгляд. Впрочем, не очень сильно недовольный.
— Нет, — сказала она. — Не совсем.
Она перелистнула страницу, и я захлопнула её книгу, придавив ей палец.
— А какие тогда?
Она вздохнула — опять этот неглубокий вздох, словно речь шла о каких-то пустяках.
— Понедельники остаются понедельниками, — сказала она. — Вечер понедельника я провожу вне дома.
Обычно я соображаю быстро, но сейчас мне понадобилось несколько минут, прежде чем её слова прошли через мои уши, достигли мозга, а потом камнем ринулись вниз, в солнечное сплетение. И вновь из-за стены раздался стон Брю. Я повернулась к папе — у того изо рта свисал кусочек швейцарского сыра.
— И ты… и тебя это устраивает?
Папины глаза забегали.
— Нет, — признался он. — Но придётся научиться с этим жить. — И добавил: — Может быть, тогда я тоже буду кое-какие вечера проводить вне дома, например, по вторникам…
Я перевела взгляд на маму, уверенная, что сейчас она выдаст что-то вроде: «Через мой хладный труп!», но ничего подобного — она лишь вновь углубилась в свою поваренную книгу.
— Как думаешь, уже слишком поздно начинать возиться с жарким? — только и сказала она.
Происходило что-то очень странное, очень неправильное.
Всё, что они говорили, да даже сами их чувства — всё было неправильно! И не только у них. Мои собственные чувства и ощущения тоже были притуплены — я должна была быть куда более на взводе. На деле же все мои эмоции стали поверхностными и неглубокими, как лягушатник в нашем бассейне. Я ничего не чувствовала, кроме приятной воздушной лёгкости, столь же неуместной сейчас, как ясное солнышко во время урагана.
Я ушла из кухни, оставив родителей в их непонятном блаженном ступоре, и по дороге в свою комнату заглянула к Брю. Он больше не стонал, лишь лежал, закутавшись в одеяло, и тяжело, прерывисто дышал.
— Может, тебе ещё что-нибудь нужно? — спросила я, чувствуя себя абсолютно беспомощной и отчаянно желая облегчить его боль.
— Нет, — слабым голосом отозвался он. — Голове уже лучше. Спасибо.
— Ты же сказал, что у тебя болит живот!
— Я так сказал?
Вот только теперь у меня в мозгах, кажется, прояснилось, и я, наконец, соединила между собой множество оборванных концов. Брю вёл себя подобным образом с того самого дня, когда состоялся злополучный матч по лакроссу, с того дня, когда Катрина порвала с Теннисоном. Во мне окрепло подозрение, что брату известно кое-что, о чём я не имею понятия.
59) Бесчувственные
Я влетела в комнату брата, не постучавшись. Он сидел на кровати с учебником на коленях, рядом — тарелка с овощным салатом; по телевизору шёл какой-то пошлый фильм ужасов.
— Да?
Кажется, он даже не удивился моему бесцеремонному визиту, даже больше — похоже, он его ожидал.
— Мама с папой ведут себя как ненормальные! — выпалила я. — А Брю из-за чего-то мучается, непонятно из-за чего.
— Что ещё новенького расскажешь? — Он выудил из салата морковку и захрустел ею. — Этот клубок меха ушёл?
— И да, и нет. Ну да бог с ним, с Торлоком. Ты мне вот что скажи: тебе что-то известно, ведь так?
— Мне много чего известно. Не могла бы ты уточнить, что именно тебя интересует?
— Не выпендривайся, отвечай на вопрос.
— Варианты ответов: да/нет/и то и другое?
— Как насчёт подробного изложения?
Он молчал, постукивая ручкой по книжке. Я упорно ждала. На экране женщина с дынеподобными, явно искусственного происхождения грудями спасалась от карлика, орудующего огромным, не по росту, мясницким ножом. Я выключила телевизор.
— Злишься? — осведомился Теннисон. — Чувствуешь себя так, будто вот-вот взорвёшься?
— Вообще-то нет, — честно ответила я.
— Забавно. Я тоже.
— Ты не мог бы перестать строить из себя этакого загадочного мудреца?
— И да, и нет.
Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Вечно мы братом соревнуемся, кто из нас умнее. Я скрестила руки на груди и решила: не пророню ни звука, пока он не перестанет выделываться.
— Я не смогу поделиться с тобой тем, чего не знаю, — наконец проговорил Теннисон. — И не сумею объяснить то, в чём ничего не соображаю.
— Тогда поделись тем, в чём соображаешь.
Он немного подумал.
— Знаешь, я, кажется, начинаю понимать его дядю. Я знаю, почему он не хотел, чтобы Брю с кем-то подружился. И почему он изо всех сил старался не выпускать его из дому.
— Потому что его дядя был больной на всю голову!
— Точно, — согласился Теннисон. — Больной на голову, алкоголик и очень жестокий человек. Но то, что он не давал Брю выходить на люди — это, возможно, единственное доброе дело, которое он совершил за всю свою жалкую жизнь. — Теннисон включил телек, и с экрана раздался душераздирающий вопль силиконовой красотки. — Теперь, если ты не возражаешь, я вернусь к более приятному занятию. Ты только посмотри на эти габариты!
Я хотела разозлиться на Теннисона, на его непонятную бесчувственность, но… у меня не получалось. Мне хотелось бы рвать и метать при виде безмятежного спокойствия наших родителей: это же просто ненормально — так себя вести, но… я и этого не могла. Волна тревоги и беспокойства, за которую я изо всех сил цеплялась, стала как утекающий между пальцев песок: тяжёлый, плотный, а удержать невозможно. Тогда я схватила тарелку с овощами и грохнула её о стенку — ну хоть что-нибудь, чтобы прорвать завесу бесчувственности!
Тарелка даже не треснула. Она перевернулась, овощи вывалились на постель, заправка забрызгала всё покрывало.
Теннисон, которому в этот момент полагалось бы вскочить на ноги и завопить на меня, всего лишь покосился на тарелку и проворчал:
— Смотри, что ты натворила.
— Вмажь мне! — заорала я на него. — Обзови меня кретинкой! Скажи, что я — ошибка природы! Наори на меня, чёрт возьми! — Я перешла к мольбам: — Прошу тебя, Теннисон, надавай мне как следует! Давай поругаемся! Ведь мы же всегда ругаемся, всегда!..
Он встал, но даже пальцем не шевельнул, чтобы выполнить мою просьбу, только посмотрел на меня и покачал головой, как делал всегда, когда до меня не доходил какой-нибудь анекдот:
— Всё ведь так хорошо, Бронте, — промолвил он. — Всё просто великолепно — для всех нас. Зачем тебе надо ворошить это и всё испортить?
Я хотела бы ему ответить, но как можно подобрать слова для того, чего не чувствуешь?
— Ну вот и отлично, — сказал он. — Если тебе охота подраться — ну, давай подерёмся. — И он осторожненько ткнул меня по плечу. — Теперь твой черёд.
Но вместо того, чтобы стукнуть брата в ответ, я обняла его и крепко прижалась к нему — до того мне вдруг захотелось той самой близости, которая, как я подозреваю, осталась в далёком прошлом, когда мы вместе находились в мамином животе.
— А это за что? — осведомился Теннисон.
— Не знаю… Не знаю…
Единственное, что я тогда осознавала — это что мне хочется расплакаться, а я не могу, и потому мне ещё больше хотелось плакать.
60) Знание
Если сердце говорит тебе одно, а ум другое — чему ты поверишь? Оба одинаково склонны ко лжи. Да что там — они обманывают нас постоянно. Обычно они уравновешивают друг друга, давая нам возможность поверить свои выводы реальностью. Но что, если в некоторых редких случаях эти два мошенника устраивают совместный заговор?
«Всё ведь так хорошо, Бронте».
Теннисон прав! Моё сердце утверждало, что жизнь прекрасна, лучше, чем когда-либо; мозг советовал не копать слишком глубоко, иначе можно всё потерять. И сердце, и мозг в один голос твердили: отведай настоящего домашнего обеда, который впервые за многие месяцы приготовила мама, потом скользни под тёплое, мягкое одеяло и сладко спи до утра.
Но вам не кажется, что в каждом из нас стоит защитное устройство, не позволяющее совершить ошибку? Когда наши сердце и мозг подводят нас, остаётся интуиция. И моя интуиция говорила, что если я не дознаюсь до всего сегодня вечером, то не сделаю этого никогда. Поэтому после обеда я потихоньку покинула кухню, на цыпочках прокралась к гостевой и резко распахнула дверь, ведущую во мрак.
Брю лежал, укутавшись в одеяло, но я знала — он не спит. Я включила свет.
— Я желаю знать, что происходит в этом доме. И упаси тебя Господь, Брюстер, если ты мне соврёшь!
Он повернулся ко мне лицом, прищурился — внезапная иллюминация ослепила его.
— Всё будет хорошо, — сказал он. — А если что не так, то утром ты почувствуешь себя лучше.
О, это мне и без него известно! В том-то и проблема! Уже в этот момент я ощущала, как бурлящие во мне досада и возмущение успокаиваются и улетучиваются, словно дым через открытое окно. Однако оказалось, что я могу возобновлять их запас с большей скоростью, чем они исчезали, а это значит — меня не сбить с толку, я узнаю всё, что мне нужно!
— Выкладывай начистоту! — потребовала я.
Он сел на кровати.
— Ты уверена, что действительно хочешь знать правду?
Я кивнула, хотя моя решимость таяла с каждой секундой.
Брю встал, прошёл к двери и закрыл её.
— Почему бы мне просто не показать? — И он принялся медленно расстёгивать рубашку.
Человек думает, что хочет знать все тайны вселенной. Думает, что хочет увидеть, как всё вокруг связано одно с другим. Он в глубине души свято верит в то, что знание спасёт мир и сделает его свободным.
Может, так оно и случится.
Но путь к знанию редко бывает гладок и приятен.
Расстёгнута последняя пуговица, и вот Брю стоит передо мной с обнажённым торсом. Его тело выглядит не как нормальное человеческое тело. Кровоподтёк на кровоподтёке на кровоподтёке: пурпурные и жёлтые, болезненно красные, бескровно белые. Всё: и грудь, и плечи, и спина — выглядит так, будто его молотили цепами, избивали дубинами и неисчислимым количеством прочих тупых предметов. Это было хуже, чем все те увечья, которые когда-либо наносил ему дядя Хойт. Я вижу: синяки на лице и шее он замаскировал с помощью тонального крема — куда более умело, чем в тот день, когда он заявился в школу с чёрным глазом. Сейчас можно лишь с трудом различить, что это грим. Уверена: на всём его теле в самом широком смысле нет живого места. И все эти травмы — свежие, все они появились у него уже после смерти дяди.
— Кто это сделал?!
Он показал на одно пятно на плече:
— Это твоего отца, когда он упал на баскетбольной площадке. — Потом на другое: — Это Теннисона — на лакроссе. — Потом на третье: — Это твоё, не знаю, откуда оно у тебя.
Зато я знаю.
— Кто-то открывал машину и ударил меня дверцей… — глухо сказала я.
Он кивнул и продолжил своё перечисление, показывая на отметины на теле, как опытный астроном, называющий созвездия на небе:
— Это Джо Криппендорфа… Это Ханны Гарсиа… Это Энди Бомонта…
И так далее, и так далее. Этот монотонный речитатив, казалось, никогда не кончится. Кажется, он знал точно, откуда к нему пришла каждая рана — не всегда как и когда, но всегда от кого. Я кое-что вспомнила: «Мне нравятся твои друзья» — вот что он однажды сказал мне. До нынешнего мгновения мне и в голову не приходило, что для Брюстера Ролинса цена дружбы исчислялась травмами на его теле.
— Это Аманды Милнер… Это Мэтта Голдмана…
Я хотела бы, чтобы все слёзы мира хлынули из моих глаз и пролились ради него, но… у меня не получалось! Они тоже были украдены у меня. Мои слёзы наполнили теперь его глаза — и вот тут-то я и поняла, что всё зашло слишком далеко.
Затем он взял мою руку и крепко прижал к своей груди. Я услышала, как под моей ладонью бьётся его сердце.
— А это… — сказал он, — …это развод твоих родителей.
Я отдёрнула руку, словно дотронулась до тлеющих углей.
— Нет! Они не разведутся! Они обо всём договорились! Они счастливы!
Он одарил меня грустной, но удовлетворённой улыбкой и с полной уверенностью сказал:
— Я знаю.
61) Угасание
Я сбежала от него.
Это было бессердечно с моей стороны, это было трусливо, это было куда хуже, чем когда он сбежал от меня — в тот злополучный вечер с неудавшимся обедом. Но я же человек, как и Брю. Сработал инстинкт: мне необходимо убраться куда-нибудь подальше, в такое место, где я окажусь достаточно далеко от Брюстера, чтобы понять свои чувства и научиться управляться с ними. Я не могла позволить миру воцариться в моей душе за счёт Брю. Я должна научиться это делать сама.
И лишь когда я оказалась на улице, за воротами — только тогда все тревоги, сомнения и злость начали просачиваться обратно в мою душу. Нет, они не набросились на меня все разом, но границу влияния Брю я ощутила достаточно чётко.
Мои ноги работали на автопилоте — я даже не подозревала, куда они несут меня, пока не оказалась на месте.
Бассейн.
Было около девяти. Бассейн закрывали для публики в восемь, но подводное освещение не выключалось всю ночь. Входные ворота были закрыты, впрочем, я знала бассейн как свои пять пальцев: имелось с полдюжины способов проникнуть туда помимо главного входа. У меня не было купальника, но это не беда — дверь в кладовку никогда не закрывалась, и в ней стояла корзина с забытыми вещами — там полным-полно купальников.
Меня всегда завораживает самый первый момент, когда ныряешь в бассейн: пронзаешь стеклянно-застывшую толщу воды, и по её гладкой поверхности скользит лёгкая рябь. Совсем как когда ступаешь по первому, нетронутому снегу. Вот чего мне надо было — остаться наедине с собой и моей текучей вселенной.
Бр-р, прохладно! Чтобы согреться, решила сплавать свои обычные двадцать отрезков для разминки, но вскоре потеряла счёт — моя голова, словно компьютер, перешла в режим дефрагментации и попыталась сложить все случившиеся за последние несколько недель события в одну более-менее осмысленную картину.
Я хотела собрать вместе свою злость и досаду и направить их, словно луч прожектора, на тех, кто явился источником всех этих бед, поджарить их на огне своего негодования — и тем покончить дело. Но на кого же направить? Уж конечно, не на Брю: его дар — не его выбор. Не на Теннисона: не он это всё начал. Не на родителей: они вообще ни о чём не подозревают и понятия не имеют, откуда взялось их безоблачное душевное спокойствие.
Оставалась я сама.
Можно ли винить меня за то, что я вытащила Брю из его раковины и оставила беззащитным перед всей той массой яда, что мы носим в своих душах? Наша семья, казалось бы, сама по себе выбралась из пропасти, куда скатилась по собственной же воле, и как же я могла не догадаться, в чём причина этого возрождения?! Это я-то, которая всегда так гордилась тем, что могу смотреть в корень и докапываться до сути, судя по мельчайшим, еле заметным глазу зацепкам!
Ответ был только один.
Да, я виновата. Я знала.
Может, бессознательно, но всё равно — где-то в глубине глубин души я знала, что Брю пропускает через себя и те травмы, которые мы не в состоянии видеть — душевные. Я оставила это без внимания, потому что мне хотелось оставить это без внимания! Я любой ценой стремилась к тому, чтобы мой мирок был уютным, целостным и безопасным. Я использовала Брю — точно так же, как его использовали Теннисон, или Коди, или дядя Хойт. Так что обвиняющий луч выхватывал из тьмы не какого-то одного человека. Этот прожектор бил по всем нам.
А всё потому, что мы стремились к здоровью и счастью, как будто счастье — это состояние души. Но это не так. Счастье — это вектор. Это движение. Подобно моему собственному скольжению из одного конца бассейна в другой, счастье и радость определяются той скоростью, с которой ты уходишь от боли.
Само собой, наша семья могла бы достичь за счёт Брю состояния полного и неизменного блаженства; но в ту секунду, как мы придём к нему, как только перестанем двигаться, счастье станет столь же застойным и безнадёжным, что и постоянное мрачное отчаяние. «И жили они в вечном счастье…» Вечное счастье? Какое же это страшное проклятие!
Время движется не в такт с гребками моих рук, поэтому понятия не имею, как долго я плаваю. Больше получаса, но меньше, чем два часа. Наверно. Как бы там ни было, но теперь я обрела внутреннее равновесие, разобралась со своими эмоциями. Я поняла, что должен быть способ удерживать их в себе в присутствии Брю. Должен! Ведь дяде Хойту это удавалось. Я в жизни не видела более злобного человека, и он был способен оставаться таким, даже когда Брю был рядом с ним целыми днями.
Похоже, что моё душевное равновесие никак не отразилось на телесном. Я проплыла очень много, от усталости не держали ноги и немного кружилась голова. Выбираясь из воды, я слишком далеко отклонилась назад, и ноги соскользнули с мокрой стальной перекладины.
Я упала обратно в бассейн, но так и не почувствовала, как моё тело вошло в воду.
Потому что, падая, ударилась головой о бетонную кромку и потеряла сознание. И в эту секунду всё, что переполняло меня: счастье, скорбь, покой и гнев — умолкло и угасло во мраке.
БРЮСТЕР
62) Поединок
Наедине со своими мыслями Я рассекаю холодную ночь, Полную воспоминаний…
63) Мембрана
ТЕННИСОН
64) Преодоление
Если он умрёт, я никогда не прощу этого ему. Я никогда не прощу этого себе.
Он такой тяжёлый — лежит на дне бассейна, словно обломок гранита. Он такой плотный, что вода не выталкивает его. Мы с Бронте из сил выбиваемся, пытаясь поднять его на поверхность.
Почему я последовал за ним, когда он вышел на поиски Бронте? М-да, мои мотивы благородными не назовёшь. Я превратился в такого жалкого нытика, что не мог вынести противостояния со всеми моими страхами и душевными муками — ведь они наверняка бы набросились на меня, как только эффект присутствия Брю сошёл на нет. Я хотел оставаться в его поле влияния, пусть хотя бы на самом краю, и поэтому следовал в одном квартале за ним. Сегодня вечером я опустился до преследования.
Когда я подошёл к бассейну, Бронте как раз выбиралась из воды. Она была словно в тумане, никак не могла сообразить, что случилось. Я полез через ограду. Знать бы мне, что произошло — шевелился бы быстрей. Мы заметили его не раньше, чем через десять секунд. Десять секунд — это цена жизни или смерти.
Наша первая попытка вытащить его из воды проваливается. Мы оба выныриваем на поверхность, глотаем воздуха и снова устремляемся на дно. Я толкаю его снизу, Бронте перехватывает его поперёк груди и тащит вверх, исступлённо отталкивалась ногами.
Наконец, мы ухитряемся поднять его и каким-то неведомым образом подвести к кромке, затем оба забираемся на бортик бассейна и, схватившись за его безжизненные руки, дёргаем и тянем, пока не втаскиваем тело Брю на кафельный пол.
— Ты вроде знаешь, как оказывать первую помощь?
Бронте кивает и без разговоров начинает реанимацию, лихорадочно делая всё, чему её учили.
— Ты слишком торопишься! — говорю я.
— Мне никогда не приходилось делать это по-настоящему!
Она замедляет темп. Два вдувания, тридцать нажимов на грудь.
— Я позвоню в скорую! — говорю я и вытаскиваю телефон.
Однако на экране лишь мельтешение пятен. Бедняга сплавал со мной ко дну бассейна, и теперь совершенно бесполезен.
Два вдувания, тридцать нажимов, и опять, и снова. Бронте захлёбывается слезами — слезами, которые не забирает себе Брю, и я впадаю в панику. Может, это значит, что он уже…
— Тащи сюда дефибриллятор! — кричит Бронте. — Где-то в кладовке есть, я видела, но не помню, где!..
Я мчусь в кладовку, а Бронте продолжает делать массаж сердца:
— …девять, десять, одиннадцать, проклятье, Брю, дыши!.. четырнадцать…
Я обшариваю кладовку: раскидываю вещи по полу, сгребаю с полок, опустошаю шкафы, пока, наконец, не нахожу то, что требуется, и сломя голову несусь обратно.
— …двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…
Падаю на колени рядом с ними, достаю из коробки дефибриллятор. Что-то на пластинах слишком много инструкций…
— Что надо делать?!
— Нас этому не учили! — кричит Бронте, однако перегибается через меня и нажимает на кнопку «Вкл.».
Пока всё просто. Загорается красный огонёк, слышно гудение — аппарат набирает заряд, я хватаю электроды; огонёк сменяется на зелёный. Прижимаю металлические поверхности электродов к груди Брю. Бронте едва успевает отшатнуться за мгновение до того, как я нажимаю на красные кнопки на электродах. Тело Брю сотрясается, выгибается дугой.
— Ты должен сказать «РАЗРЯД»! — кричит сестра.
— Я забыл!
Жду, когда снова появится зелёный огонёк, означающий, что аппарат снова зарядился, и пытаюсь возродить в памяти все телесериалы на медицинскую тему.
Бронте кладёт два пальца на шею Брю и качает головой — пульса нет.
Брю надо бороться за возвращение к жизни… но он не будет бороться. Не сможет. Он не боец, это не в его природе.
Зато я боец по самой своей сути! Если Брюстер не хочет драться, я буду драться за него.
— РАЗРЯД!
Спина Брю снова резко выгибается. Пульса по-прежнему нет.
— Не получается! — воет Бронте. — Всё напрасно!
Но сегодня у нас нет права на ошибку.
В ожидании, пока аппарат зарядится, я заглядываю в его полуоткрытые, невидящие глаза и внезапно осознаю, что искусственного дыхания и сердечного дефибриллятора недостаточно. Мы должны дать ему нечто большее.
— Нам надо забрать всё обратно! — говорю я сестре.
Я даже сам не совсем понимаю, что имею в виду. Это даже не мысль, это чувство, наскоро облечённое в слова — ведь у нас так мало времени.
— Что забрать? — недоумевает Бронте.
И тут меня озаряет. Вот что нужно Брю. Вот что нужно ВСЕМ НАМ. Это единственная возможность спасти его. Просто и — невозможно. Но ведь и Брю тоже совершил много невозможного, значит…
— Нам надо взять обратно всё, что мы позволили ему украсть у нас! Мы должны украсть это у него!
В её глазах загорается искорка — она поняла.
— Как?!
Дядя Хойт!
— А как делал его дядя! Он всё время злился. Потому что ему этого хотелось! Мы много чего отдали Брю — теперь нам надо захотеть забрать это обратно. Мы должны сделать это опять своим!
Бронте кивает. Огонёк дефибриллятора сменяется на зелёный.
— Последний раз, — говорит сестра.
Прижимаю электродные пластины к груди Брю, но мысли мои — не здесь. Они — обо всех синяках, которые я отдал ему, о сотрясениях, которые я отказался взять себе, о душевных муках и печалях, которые я с такой лёгкостью перевалил на другого человека. Я иду наперекор инстинкту самосохранения и борюсь за то, что утратил, за то, от чего раньше отказался. Мои раны — это мои раны, и я хочу сам нести их.
— РАЗРЯД!
Я накачиваю тело Брю электричеством, а сам в это время пытаюсь украсть у него хотя бы крошечную часть того, что вообще не должен был ему отдавать: удары, сыпавшиеся на меня на лакроссном поле, сердечные муки, от которых он избавлял меня дома… Стоило мне поддаться в малом — и я легко отдал ему и всё остальное. Но как бы трудно мне теперь ни пришлось, я возьму всё-всё обратно, если хочу спасти его! Заберу всё и даже больше. И я безмолвно молюсь о том, чтобы почувствовать боль — хоть маленькую, хоть где-нибудь, а ещё лучше — везде.
Бронте проверяет пульс.
— Ничего!
Но я что-то чувствую… Вот, вот оно — крохотное покалывание в плече — в том самом месте, куда Бронте двинула меня в тот злополучный день после лакросса. Я поднимаю руку и вижу еле заметную желтоватую тень — там проступает синяк, которого ещё минуту назад не было! Всё, что мне удалось отобрать у Брюстера — лишь крохотный синяк…
… и всё же этого хватает.
— Постой! — вскрикивает Бронте. — Кажется, есть пульс!
И вдруг Брю разражается кашлем, изо рта фонтаном бьёт вода. Мы с Бронте кричим от радости. Переворачиваем его набок — пусть вытечет всё, что есть. Брю кашляет и кашляет. Его глаза распахиваются и… тут же закрываются вновь.
Мы спасли тебя, Брю! Мы спасли тебя! Сейчас, в эту самую минуту, ничто в мире ни для Бронте, ни для меня не имеет значения. Мы спасли тебя!
Но он без сознания.
Поскольку телефона у нас нет, единственным средством сообщения с внешним миром являются мои ноги. Бронте держит голову Брю на своих коленях, а я на полной скорости лечу к ближайшему дому, колочу в дверь и отказываюсь уйти до тех пор, пока меня не впускают.
Когда я, позвав на помощь, возвращаюсь назад в бассейн, Брю всё ещё не очнулся. И когда прибывает «скорая», он по-прежнему без сознания. Его забирают, персонал «скорой» работает с лихорадочной поспешностью, и встревоженное выражение лиц врачей ясно говорит о том, о чём мы с Бронте не решаемся сказать вслух. Что-то очень не так.
Мы спасли тебя, Брю. Мы вернули тебя обратно. Так почему ты не хочешь вернуться?
65) Нечувствительный
Коди сидит на скамейке во дворе Детского дома Рузвельта, смотрит на детишек, лазающих по искусно устроенным «джангл джим»,[29] и на его лице написано отвращение.
— Это несправедливо! — хнычет Коди.
— Сам виноват, ведёшь себя как дурак, — втолковываю я.
Он хватает один из двух своих костылей и долбает меня им по ноге:
— Вот тебе за «дурака»!
Мы с Бронте навещаем его несколько раз в неделю. Вообще-то, мы здесь работаем на добровольных началах — нас сагитировали, и после второго-третьего визита мы увязли. Они в таких вещах отменные мастера. Да и сезон лакросса кончился, а заниматься-то чем-то надо. Опять же «активно содействовал работе местного детского дома» очень красиво выглядит на заявлении в колледж.
— Может, мне можно забраться на самую нижнюю площадку, а? Ну, она же не высо-окая…
— Если ты это сделаешь, — грозит Бронте, — тебя вообще больше во двор не выпустят.
Коди с остервенением лупит кулаками по своему гипсу; тот глухо отзывается — такой звук можно услышать, если постучать по манекену. Да, гипс у Коди солидный — от самой лодыжки до верхней части бедра.
— Ненавижу! — говорит Коди. — И ещё оно всё время чешется!
Вокруг того, что случилось с Брю, поднялся слишком большой шум. Настолько большой, что Служба охраны детей поспешила вмешаться и забрала Коди из нашей неудавшейся приёмной семьи. Я сам не видел, как он сломал ногу, но судя по официальным отчётам, это произошло так.
Коди тогда находился в кабинете социального работника на собеседовании. Стоило только ему услышать, что он больше не будет жить с нами, как пацан просто-напросто рехнулся и выпрыгнул из окна второго этажа на растущее у стены дерево. Всё бы ничего, если бы он не пролетел мимо цели.
Он сломал ногу в трёх местах.
— Тебе очень повезло, — сказали ему доктора, но мне почему-то кажется, что Коди с этим несогласен. Этот мальчишка из тех, в кого жизнь вколачивает свои уроки кувалдой. Но во всяком случае, этот урок, похоже, он запомнит надолго.
Папа забирает нас из детдома в пять. Мы все: Бронте, Коди и я — отправляемся в больницу. Иногда нас забирает мама, иногда папа, но никогда — оба вместе. Папа снова поселился в гостевой — она ведь теперь свободна; всякие дипломатические отношения между родителями прекратились, и мы опять питаемся фаст-фудом.
В палате Брюстера медсестра делает заметки в его журнале.
— Всегда приятно вас видеть! — с улыбкой говорит она и выходит, оставляя нас наедине с больным.
Коди допрыгивает на своих костылях до стула у койки брата, плюхается вниз и начинает дотошно, в подробностях пересказывать Брю всё, что случилось во Вселенной Коди с того момента, когда он был здесь в последний раз, то есть три дня назад. Он говорит и говорит, не дожидаясь реакции — потому что уже привык к тому, что её нет.
Над койкой на стене висят рисунки, сделанные рукой Коди. К ножке кровати привязан серебристый воздушный шарик с надписью «Выздоравливай поскорей!» — он лениво плавает в воздухе и, по всей вероятности, так будет продолжаться до скончания времён, потому что эти штуки никогда не сдуваются. На тумбочке букет увядших цветов в вазочке; Бронте заменяет его свежим. Рядом с цветами — кубок «Лучшему игроку лиги».
Брю лежит в постели, его глаза закрыты; провода и трубки тянутся от него к множеству различных приборов; первое время они нагоняли на нас страх, но теперь мы привыкли. Электроэнцефалограф, кардиограф, аппарат искусственного кровообращения и ещё одна машина, которая время от времени испускает тоненький писк, словно сонар, стремящийся обнаружить вражескую подлодку.
Бронте тоже присаживается и начинает разминать пальцы Брю.
— Он выглядит неплохо, — произносит папа.
Думаю, всё в мире относительно. С тела Брю сошли все следы травм, хотя некоторые шрамы остались — они, как я подозреваю, не исчезнут никогда. Он лежит тихо и не забирает у нас ни одной из наших болячек. И сам не чувствует никакой боли.
Если продолжать поддерживать в нём жизнь — это ошибка, то я беру ответственность на себя. Признаю — мною движет эгоизм. Я не хочу терять самого странного и, наверно, самого близкого своего друга. Можете обвинять меня за то, что я принуждаю его к этой нежизни. Готов жить с этой виной, потому что я не из тех, кто легко сдаётся. То, что сидит во мне — не позволяет.
Через некоторое время папа уходит, чтобы убрать машину из зоны двадцатиминутной стоянки. А мы остаёмся.
— Когда Брю проснётся, — заявляет Коди, — я не отдам ему свою сломанную ногу. Как тогда, на той мачте, не отдал страх, так и ногу не отдам.
И я уверен — он и в самом деле выполнит своё обещание. Это невероятно, но если ты твёрдо решил — ты действительно можешь удерживать всё в себе и даже постепенно выработаешь иммунитет. Мы с Бронте специально трудимся над этим — стараемся внушить себе желание оставить у себя всё то неприятное, что при других обстоятельствах с радостью перевалили бы на кого-то другого.
Уходя, мы останавливаемся у дежурки медсестёр.
— Какие-нибудь изменения есть? — спрашивает Бронте. — Ну хоть что-нибудь?
— Как вам сказать… — отвечает одна из сестёр. — Наблюдаются необычные всплески его мозговых волн. Одно то, что у него вообще есть какая-то мозговая активность — это уже хороший знак.
— Насколько хороший? — не отступает Бронте.
Сестра прячет вздох под сердечной улыбкой.
— Дорогая, люди лежат в коме месяцами, а то и годами. Иногда они просыпаются, когда этого никто не ждёт, а иногда — не просыпаются вообще. То, что мы знаем о деятельности головного мозга — ничто по сравнению с тем, чего мы не знаем.
Эту речь медсестра, кажется, заучила наизусть, потому что она выдала нам её слово в слово две недели назад. Я не могу винить её за формальный ответ — такова её работа; она обязана говорить это всем, кто не теряет надежды и ждёт, когда очнётся дорогой им человек. И всё же мне эта уклончивость так надоела, что я заканчиваю вместо неё, повторяя то, что она говорила нам в прошлый раз:
— «Но каждый день делаются новые открытия, и, может статься, когда-нибудь нам присудят Нобелевскую премию за исследования в области мозговой деятельности».
Вместо того, чтобы рассердиться на меня за передразнивание, она снова вздыхает-улыбается:
— Определённо, мне пора в отпуск…
— Но если он проснётся, — умоляет Бронте, — вы же позвоните нам, правда? Обещайте, что позвоните!
— Обещаю, — заверяет медсестра. — У нас есть ваш номер.
— У нас есть номера всей вашей семьи, — добавляет другая медсестра.
— И мы помним их наизусть! — подаёт голос третья.
Может, это нам, а не им, пора в отпуск.
66) Алло!
В День поминовения,[30] когда погода ну просто издевательски хороша и все радуются лишнему выходному дню, мама с папой усаживают нас за стол на кухне для серьёзного разговора. Мы догадываемся, о чём пойдёт речь. Догадываемся, потому что два серых чемодана опять поднялись из подвала и уже несколько дней тихо живут бок о бок в комнате для гостей.
— Мы с вашей мамой решили, что настала пора мне переехать, — говорит папа. Это те слова, которых мы с Бронте как огня боимся уже так давно, что я даже не помню, когда этот страх возник впервые.
— Это временно, — добавляет мама, но мы-то понимаем, что это то же самое, что закрывать дверь конюшни, когда адвокаты уже сбежали.[31]
На глаза Бронте наворачиваются слёзы.
— Не лгите нам! Ничего это не «временно».
Глаза родителей тоже увлажняются.
— Наверно, ты права, — говорит папа. — Быть может, это навсегда. Возможно.
При слове на букву «Н», начинает работать и мой водопровод. «Навсегда». Перепускное отверстие открыто, я быстро вытираю глаза. Перепускное отверстие закрыто.
«Навсегда» — отвратное слово.
Пока Бронте пытается овладеть собой, я говорю:
— Когда дела становятся совсем никуда, дальше будет лучше.
— Теннисон прав, — соглашается Бронте. — Не смотрите, что мы восприняли всё так спокойно — по временам мы наверняка будем впадать в истерику.
— Ага, — киваю я и добавляю: — Это-то как раз нормально. Вот если мы не станем закатывать истерики хотя бы время от времени — вот тогда надо бить тревогу.
Родители взирают на нас с благоговейным изумлением — так обычно смотрят на папу римского или на игровой автомат, на котором сверкают три семёрки.
— И когда это вы оба успели так постареть? — с недоумением спрашивает папа.
Я подхватываю:
— Слишком долго жаримся на солнце! — и изображаю «гусиные лапки» в уголках своих глаз.
— Угу, — вторит Бронте. — А в двадцать два нам уже понадобятся инъекции ботокса.
И несмотря на всю серьёзность положения мама с папой не могут удержаться от улыбки.
Боль приходит, когда родители покидают комнату. Я обнимаю Бронте — не только для того, чтобы утешить её, но чтобы утешиться самому; ведь мне так же плохо, как и ей, хотя я стараюсь ничего не показывать снаружи.
Но в этот момент бездонного отчаяния, когда весь мир, кажется, разорван напополам, я вдруг в глубине души понимаю, что мы ждали этого с того самого дня, когда Брю ушёл в безмолвие. Мы наконец вернулись к прежнему положению вещей, каким оно было до того, как Брюстер и Коди Ролинсы вошли в наш дом…
…и это означает, что вот теперь мы окончательно и несомненно забрали всю свою боль обратно.
В ту ночь у бассейна мы вернули Брю в наш мир только наполовину; чтобы он завершил свой путь домой, нужно было что-то ещё. И вот теперь мы получили назад всё, что принадлежит нам по праву — потому что свою боль каждый должен нести сам; и как бы тяжела ни была такая ноша, она прекрасна, потому что…
…это не телефон там звонит?
Да не один, а все разом: домашний здесь, на кухне, мобильник Бронте в её комнате, мамин в её сумочке… Словом, все в мире телефоны затрезвонили в эту самую минуту. Однако моё внимание в особенности привлекает один из звонков.
В ящике кухонного стола, где мы храним всякий ни на что не годный хлам, который, однако, жалко выбросить, лежит мой мобильник-водоплаватель — я пока не успел подыскать ему замену. Он не работал с того самого дня, как совершил вместе со мной путешествие ко дну бассейна; и всё же я открываю ящик — и вот он, во всей красе: играет знакомый рингтон, подмигивает кнопка вызова — такая же волшебная и невозможно яркая, как светлячок в ночи.
Бронте тоже поражена; она смотрит на телефон с тем же трепетом, что и я, и с некоторой долей страха — оттого, что есть на свете вещи, о которых ты просто знаешь. Это уже даже и не интуиция, а что-то совсем сверхъестественное: ты просто знаешь, что в судьбе наступил поворот.
— Возьми телефон, — шепчет она.
Но я улыбаюсь и протягиваю трубку ей:
— Думаю, это тебе.
Она подносит телефон к уху, и мы оба застываем в ожидании и предвкушении. Изумительно, до чего быстро всё произошло после того, как родители сообщили нам своё известие! Я всегда был человеком рассудочным, верил лишь в то, что мог увидеть и пощупать; но теперь я твёрдо знаю: в мире есть место чудесам. Может, не тем, которых мы ожидаем, но всё равно это чудеса. Они случаются каждый день, мы просто должны научиться их видеть.
— Алло? — говорит Бронте в телефон, который по идее не должен работать — и из улыбки, расцветшей на её лице, из внезапной радости в её глазах я узнаю всё, что мне нужно. Да, сегодня день печали, но это также и день ликования!
Так открой глаза, Брю. Открой глаза и поговори с нами. Мы не отдадим свою боль тебе, но я обещаю делиться с тобой счастьем. Поговори с нами Брю… потому что мы, наконец, готовы услышать твой зов.
Приложение
Аллен Гинзберг
Вопль
(фрагмент)
Пер. Д. Храмцева
Посвящается Карлу Соломону
Я видел лучшие умы моего поколения разрушенные безумием, умирающие от голода истерически обнажённые,
волочащие свои тела по улицам чёрным кварталов ищущие болезненную дозу на рассвете,
ангелоголовые хиппи сгорающие для древнего божественного совокупления со звёздным динамо в механизмах ночи,
кто беден и одет в лохмотья со впалыми глазами бодрствовал курил в призрачной темноте холодноводных квартир плывущих по небу через городские купола в созерцании живой энергии джаза,
кто распахнул свой разум для Рая под Луной и видел мусульманских ангелов колеблющимися на светящейся крыше обители,
кто прошёл свои университеты с дерзким сиянием в глазах галлюцинируя о трагедии Арканзаса и знаменитости Блейка среди знатоков войны,
кто был изгнан из академий за безумие и начертание грязных од в глазницах черепа,
кто трясся в страхе в неприбранных комнатах в нижнем белье сжигая деньги в корзинах для мусора прислушиваясь к Ужасам за стеной,
кто был схвачен в лобковых джунглях возвращаясь из Ларедо с взрывной эйфорией травки для Нью-Йорка,
кто пожирал огонь в пьяных отелях Парадайз Аллей или пил скипидар в переулках рая, или истязали свои тела ночь за ночью,
с мечтами, с наркотиками, с ночными кошмарами, алкоголем и членом и бесконечными совокуплениями,
несравнимые слепые улицы дрожащих облаков и молний скачущие к полюсам Канады и Патерсона освещая неподвижный мир времени лежащий меж ними,
пейотовая надёжность залов кладбищенские рассветы зелёных деревьев на заднем дворе, винное опьянение над крышами, витрины магазинов Нью-Йорка последний приход джанки мигающий неон габаритных огней, солнце и Луна и дрожь деревьев в ревущие зимние сумерки Бруклина, пепельная напыщенность и податливое восприятие королевского ума,
кто приковал себя к подземке для вечного пути от Бэтери к святому Бронксу на бензендрине пока шум колёс не свалили их дрожащих с разорванными ртами и разбитых в унынии прилежного ученика высушенном блеском в сумрачном сиянии Хаоса,
кто всю ночь тонул в наркотическом сиянии Бикфорда всплывал и просиживал день над выдохшемся пивом в опустошённом Фугази, слушая треск страшного суда из атомного музыкального автомата,
кто семьдесят часов беспрерывно говорил от парка до своей берлоги бара Бельвью музея Бруклинского моста,
потерянные армии платонических болтунов прыгающих в чаши со святой водой с пожарных лестниц подоконников Эмпайр Стейт луны,
треплющихся кричащих блюющих шепчущих факты воспоминания анекдоты удары в глаз и потрясения больниц тюрем войн,
разум изрыгнут в последнем воспоминании в семь дней и ночей с сияющими глазами, мясо для Синагоги как блевотина на тротуаре,
кто исчез в небытии Дзена Нью Джерси оставив след неясных открыток из Атлантик Сити,
страдая от восточной жары и танжерской ломоты в костях китайских мигреней и синдрома острого отнятия в меблированных комнатах Нью Арка,
кто странствовал по вокзальной площади в полночь раздумывая куда пойти, и уходил, не оставляя разбитых сердец,
кто судорожно курил в товарных вагонах товарных вагонах товарных вагонах грохочущих сквозь снега навстречу одиноким фермам нарушая тишину патриархальной ночи,
кто разучивал Плотина По Сан Хуана де Ла Круса телепатию и бит Каббалу потому что мировая гармония инстинктивно билась у их ног в Канзасе,
кто скитался по улицам Айдахо в поисках химерических индейских ангелов обернувшихся химерическими индейскими ангелами,
кто думал что лишь сошёл с ума когда Балтимор мерцал в фантастическом экстазе,
кто прыгал в лимузины с китайцем из Оклахомы в порыве зимнего полуночного уличного света дождя в маленьком городе,
кто голодный и одинокий бездельничал в Хьюстоне в поисках джаза секса нитроглицерина, бежал за прекрасным испанцем чтобы поспорить об Америке и Вечности, безнадёжный разговор, а затем уплывал в Африку,
кто исчезал в вулканах Мексики оставляя лишь тени рабочих брюк лаву пепел поэзии рассеянный в камине Чикаго,
кто появлялся на Западном побережье следил за ФБР бородатый в шортах с огромными пацифистскими глазами сексуальным загаром разбрасывающий странные листовки,
кто сигаретами прожигал дыры в руках протестуя против наркотического дурмана капиталистического табака,
кто раздавал сверхкоммунистические памфлеты в Юнион Сквер стеная и обнажаясь пока сирены Лос-Аламоса заглушали их причитаниями, и плакали у Стены, и паром на Стейтен Айленд тоже ревел от отчаяния,
кто плача падал на колени в белых спортивных залах обнажённые и дрожащие перед механизмами других скелетов,
кто кусал детективов в шею и восторженно вопил в полицейских машинах будучи виновны лишь в сфабрикованной педерастии и пьяном возбуждении,
кто вопил на коленях в подземке и его стаскивали с крыши а он тряс гениталиями и святыми манускриптами,
кто позволял байкерам-святошам оттрахать себя в зад, и стонали от удовольствия,
кто отсасывал и кому отсасывали эти человеческие серафимы, морячки, ласки Атлантики и Карибской любви,
кто дрочил утром вечером в цветниках траве парков и кладбищ одаряя своим семенем каждого кто шёл кто мог,
кто лишь безостановочно икал пытаясь засмеяться и задыхался в рыданьях за перегородкой в турецкой бане когда светловолосый и обнажённый ангел приходил чтобы пронзить его мечом,
кто потерял своих любовников у трёх дряхлых мегер судьбы одноглазая мегера гетеросексуального доллара одноглазая мегера что мерцает во тьме утробы одноглазая мегера что лишь протирает задницу обрезая золотую нить сознания на галлюциногенном ткацком станке,
кто совокуплялся исступленно и жадно с бутылкой пива любовником пачкой сигарет свечой и валился с кровати, продолжал на полу и дальше по комнате ослабев замирал у стены с видением Великой Пизды кончая ускользающим сознанием,
кто наполнял благоуханьем объятья миллионов девушек дрожащих на закате, и просыпался с красными глазами готовый усладить мгновение рассвета, сверкающие ягодицы под амбаром обнажённую в озере,
кто прошёл разврат в Колорадо в мириадах угнанных ночью машин, Н.К., тайный герой этих стихов, человек-член и денверский Адонис в восхищённых воспоминаниях бесчисленных девчонок ложившихся с ним на пустых стоянках и задних дворах закусочных, шатких рядах кинотеатров, на вершинах гор в пещерах или задранных юбок суровых официанток в знакомых придорожных кафе конечно же солипсизмов туалетов тайных заправок, и аллей родного города,
кто медленно исчезал в бесконечно мерзких фильмах, переносился в мечты, внезапно очнувшись на Манхэттене, выползал из подвала с похмельем от бессердечного Токайского и ужасов непробудных снов Третьей авеню и спотыкался о пороги бирж труда,
кто брёл всю ночь в ботинках полных крови по заснеженным докам ожидая открытия дверей в Ист-Ривер ведущих в комнаты полные жестокой жары и опиума,
кто создавал великие драмы суицида в квартирах в кренящихся небоскрёбах Гудзона в голубом свете военных прожекторов луны и кто будет коронован забвением,
кто ел баранье жаркое воображения и переваривал краба у илистого устья рек в Бауэри,
кто плакал над любовными приключениями улиц с тележками полными слёз и плохой музыки,
кто сидел в гробу под мостом пытаясь дышать в темноте, поднимаясь чтобы поставить клавесин в голубятне,
кто заходился в кашле на шестом этаже в Гарлеме оглушён страстью под чахоточным небом окружён апельсиновыми клетями богословия,
кто всю ночь марал бумагу трясся и вертелся над божественными заговорами которые наутро оказывались стансами безумию,
кто варил борщ и тортильи из гниющих зверей лёгких сердец лап хвостов мечтая о царстве чистого вегетарианства,
кто кидался под грузовики с мясом в поисках колёс,
кто бросал часы с крыш отдавая свой голос за Вечность вне времени, и каждый день будильники падали им на головы ещё десять лет,
кто трижды резал вены последовательно безуспешно, сдавались и были вынуждены открыть антикварные магазинчики где думал что стареет и плакал,
кто заживо сгорел в невинных фланелевых пижамах на Мэдисон Авеню среди разрывов свинцовых строк и нестройной дроби каблуков солдат моды и нитроглицериновых воплей рекламных фей и горчичного газа зловещих интеллигентных редакторов, или был раздавлен пьяными таксистами Абсолютной Реальности,
кто прыгнул с Бруклинского моста и это действительно было и ушёл не узнанный и всеми забытый в призрачное оцепенение ресторанных аллей Чайнатауна и пожарные машины, без халявного пива,
кто пел в окнах от безысходности, выпав из окна метро, прыгнул в презренный Пассаик, набрасывался на негров, крича на улицах, танцуя босиком на битых винных бокалах разбивая пластинки с ностальгическим немецким джазом Европы тридцатых хлестал виски блевал в туалетах тяжело дыша, стоны и грохот огромных паровых гудков ушах,
кто нёсся по дорогам прошлого странствуя друг к другу хотрод Голгофа видение тюремного одиночества или инкарнации джаза в Бирмингеме,
кто проносился сквозь страну за семьдесят два часа чтобы узнать было ли у меня у тебя у него видение чтобы познать Вечность,
кто приехал в Денвер, умер в Денвере, вернулся в Денвер в тщетном ожидании, кто затаился и размышлял в одиночестве в Денвере и наконец уехал чтобы догнать Время, и теперь Денвер одинок без своего героя,
кто падал на колени в безбожных храмах молясь за спасение друг друга за свет и груди, пока душа на мгновение не вспыхивала в волосах,
кто без приглашения врывался в тюрьму своего разума ожидая невероятных златоглавых преступников с шармом реальности в сердце которые пели сладкий блюз Алькатрасу,
кто возносился в Мексику чтобы привить привычку, или в Скалистые горы оказать уважение Будде в Танжер к мальчикам в Сазерн Пасифик к чёрному локомотиву, в Гарвард к Нарциссу в Вудлоун к гирлянде маргариток или могиле,
кто нуждался в приговоре здравого ума обвиняя радио в гипнотизме оставлен со своим безумием руками и повесившимися присяжными,
кто кидался картофельным салатом на лекциях по дадаизму а потом оказывался на гранитных ступенях сумасшедшего дома с бритыми головами бурлескными речами о самоубийстве, настаивая на немедленной лоботомии,
и кому давали взамен каменную пустоту инсулина метразола электричества гидротерапии психотерапии трудотерапии пинг-понга и амнезии,
кто всерьёз протестуя перевернул лишь один символичный стол для пинг-понга, заканчивая выступление краткой кататонией,
кто годы спустя вернулся весь лысый только кровавый парик, слёзы и полицейские ищейки, к страшному приговору сумасшедшим в тюрьмах бешеных городов Востока,
зловонные залы штата Пилигримов Рокленда Грейстоуна, пререкания с отзвуками души, колеблясь и гремя на скамьях полуночного одиночества в каменных королевствах любви, сны о жизни становятся кошмарами, тела обращены в камни огромные как луна,
с навсегда за***нной матерью, последней волшебной книгой выброшенной из окна обители, и последней дверью закрытой в четыре утра, и последним телефоном брошенным в стену в ответ, и последней меблированной комнатой душевно опустошённой, жёлтая бумажная роза накрученная на проволоку виселицы в клозете, да и то в мечтах, ничего кроме бессмысленной частички галлюцинации — о, Карл, я беспокоюсь когда ты в опасности, и теперь ты в самом деле в животной похлёбке времён,
и кто бежал по ледяным улицам преследуем внезапным алхимическим озарением о применении эллипса каталога переменной степени и самолётной вибрации,
кто грезил совершал телесные прорывы во времени и пространстве сопоставлением образов, и загнал архангела души в угол между 2 визуальными образами и соединил простые глаголы и существительные и энергию сознания скача с ощущением Pater Omnipotens Aeterna Deus,
чтобы воссоздать синтаксис и размер жалкой людской прозы и встать перед тобой бессловесным жалостливо дрожащим, отвергнутым но признающим душу подчиняющимся ритму разума в нагом и бессчётном стаде,
безумные бродяги и ангелы битники во времени, безвестные, но оставляющие слова что могут быть сказаны после их смерти,
и воскресающие перевоплощёнными в призрачных одеяниях джаза в златой тени горна выдувающие ради любви страдания нагого разума Америки eli eli lamma lamma sabacthani саксофонного соло заставлявшего город трепетать перед радио с сердцем полным поэзии жизни вырванным из собственного тела годным в пищу тысячи лет.
Переведено в феврале 2002 года, Москва.