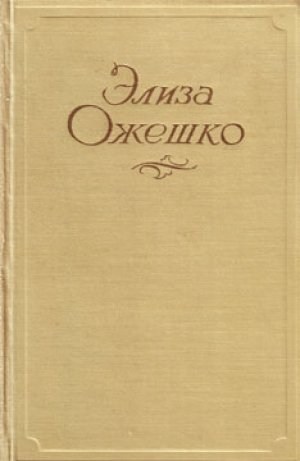
На одной из самых глухих и дальних улиц Онгрода, в глубине огромного двора, обнесенного некогда высокой, а ныне обвалившейся каменной стеной, стоит большой красный дом. Унылый фасад этого старого заброшенного здания изборожден рядами оконных проемов, зияющих мраком и пустотой; лишь кое-где наверху или на уровне земли тускло светятся зеленоватые стекла, свидетельствуя о том, что в этих развалинах нашли пристанище какие-то бедняки. То здесь, то там над карнизами и уступами свешиваются переплетенные ветви повилики и плюща, а из щелей выглядывают палевые чашечки диких левкоев.
Дом вместе с окружавшими его небольшими пристройками и расстилавшимся перед ним обширным двором принадлежал когда-то богатой семье, но потом по стечению обстоятельств перешел к местным властям, которые, не используя его, разрешали иногда жить в нем за ничтожную плату бедным людям, таким бедным, что их не пугало ни запустение, ни развалины.
Былое богатство оставило здесь следы, которые сохранились наперекор прошедшим десятилетиям. Во всех четырех углах двора старые развесистые липы бросают тень на буйно разросшуюся сорную траву; среди листьев лопуха и репейника торчит то здесь, то там хилый гиацинт или цветет чахлая астра, колючий чертополох сгибается под тяжелой ветвью одичавшей сирени или куста дикой розы.
Травой, впрочем, порос весь двор, который никогда не был мощеным, а когда сквозь незапиравшиеся десятки лет двери лучи солнца проникают внутрь дома, то на старых поблекших картинах, развешанных по стенам, играют блики света, а в углах видны обломки статуй, затканные густой паутиной.
Не такими заброшенными и печальными кажутся стоящие против большого дома деревянные флигельки с окнами, обращенными на тихую узкую улицу. Здесь помещались когда-то амбары и конюшни. Деревянные стены, длинные, низкие, почерневшие от старости, совсем исчезают под старинной, непомерно высокой крышей — остроконечной вверху и широко расходящейся книзу. Из-под покрытых мхом, далеко выступающих карнизов выглядывают оконца, несимметрично расположенные по низким покосившимся стенам, — одно выше, другое ниже, одно больше, другое меньше: в них вставлены стекла разных размеров, — оконные рамы — в зависимости от возможности жильцов — кое-где были сделаны из сырого желтоватого дерева, а кое-где они наполовину сгнили. Здесь же, у самого тротуара, узкого, вымощенного острыми камнями, старая еврейка, маленькая и сгорбленная, в пестром платке, повязанном на старинный манер, держит бакалейную лавочку и с незапамятных времен в окне с большими, но мутными стеклами выставляет одни и те же головки затверделого сыра, связки желтых баранок и всевозможные бутылки с разноцветными напитками.
В этих развалинах ищет крова прислуга, временно оставшаяся без места; ремесленники, которые никак не могут выбиться из крайней нужды, заселяют тесные комнатки своими многочисленными семьями, а сами чуть ли не каждую ночь будят уличное эхо отголосками пьяных выкриков и гулом нетвердых шагов; здесь, в самых темных и убогих уголках, ютятся нищие, которые каждый вечер, галдя и ожесточенно переругиваясь, делят вырученную милостыню, а по утрам их хриплый бас оглашает двор песнопениями, и эти звуки вместе с постукиванием клюк и палок о мостовую долго еще дрожат в воздухе и разносятся по тихой улице, пока не умолкнут, растворившись в далеком шуме. Здесь, в одном из углов двора, где старая липа свешивает на карниз почерневшей крыши большие свои ветви, слышатся порой тихие звуки старого, разбитого рояля, а с другой стороны, из-за незастекленных окон большого дома, доносится громкий, равномерный грохот катка для белья; по скалкам его с утра до ночи ходят большие ящики, полные камней. А когда смолкает унылый стук катка, слышно, как в маленьком флигельке, — низкая, белесая стена которого чуть ли не до половины прячется в темной зелени разросшихся лопухов, — тише, но веселей постукивает маленькая швейная машина. Склоненная над ней швея с исхудалым лицом и выцветшими глазами не поет, как это принято думать, за работой, а с беспокойством выглядывает поминутно в окно, и голосом пискливым, раздраженным — быть может, потому, что он вырывается из измученной груди, — окликает своих детей. Обладатели этих имен — маленькие, босоногие, растрепанные существа, наполняют двор то веселым гомоном, то громким плачем; вместе с ватагой подобных им существ они резвятся и бегают, утаптывая твердую землю своими маленькими босыми ногами.
Удивительное дело! Жильцы, ютившиеся в этих лачугах, часто менялись, но казалось, что здесь всегда живут одни и те же люди. Если бы вы в течение десятков лет каждый месяц, каждую неделю, каждый день заглядывали в этот огромный двор, вы увидели бы те же картины, услышали бы те же разговоры. Служанки, нашедшие здесь временное пристанище, уходят отсюда, чтобы пожить некоторое время в прекрасных каменных домах или в красивых особняках, которые покидают их менее счастливые товарки, переселяясь на этот двор; нищие старики и старухи — завсегдатаи церковных папертей — отправляются на поиски более щедрой дани или обретают вечный приют в самых убогих уголках городского кладбища, а те, кто грустными песнями провожал их в последний путь, стучат теперь клюками и палками о мостовую, по которой недавно брели ушедшие на покой; порой из ворот выносят детские гробики, и за ними плетутся грубые темные личности, которые будят каждую ночь обитателей улицы пьяными криками; они плачут, скорбно поникнув головой, а число босоногих и растрепанных маленьких существ, бегающих по большому двору, все не уменьшается; в окно флигелька, из-за разросшихся лопухов, вместо бледной швеи с выцветшими глазами, выглядывает раскрасневшаяся от жары прачка с обнаженными мокрыми руками и раздраженным голосом зовет детей. Здесь все остается без изменений, хотя люди другие. И только все тот же каток, что и десятки лет тому назад, уныло грохочет в глубине старого дома и все та же еврейка, маленькая и сгорбленная, трясет за окном, увешанным баранками, заставленным бутылками и сырами, старой головой в полинялой повязке. Владельцы катка часто менялись, а он все стоит на прежнем месте; старой еврейке помогали в торговле сначала дочери, потом внучки и, наконец, правнучки, а она все так же сидит в лавочке, как много лет назад, и готова каждому, кто пожелает, рассказывать длинные истории о большом дворе, о старом доме и о многих поколениях его обитателей, которые проходили перед ее глазами, словно вереница теней разных и по сути дела таких одинаковых людей.
Однажды старая нищенка, выползшая рано утром из своей берлоги, обнаружила у высоких кирпичных ворот новорожденного младенца, завернутого в грубую простую шаль. Утро было осеннее, но теплое; от легкого седого тумана шаль, покрывавшая спящего ребенка, отсырела, но затем лучи восходящего солнца подсушили ее и нагрели.
Через несколько минут на большом дворе поднялся невообразимый галдеж. Посреди стояла оборванная нищенка, держа на вытянутых руках ребенка, и показывала его людям, окружившим ее плотным кольцом. Все смотрели с удивлением; одни с возмущением сжимали кулаки; другие пожимали плечами, хмурились, оглядывались по сторонам, словно стараясь догадаться, кому, собственно говоря, мог принадлежать подкидыш; кто-то громко и цинично рассмеялся; кто-то смахнул мозолистой рукой слезу с заспанных глаз. Вышла из лавчонки и старая Злотка, разбуженная шумом и криком; прищурившись, она поглядела на ребенка и с удивлением и жалостью покачала головой. Потом, повернувшись к собравшимся и указав сморщенным пальцем на ребенка, спросила:
— А что вы будете с ним делать?
Ей первой пришел в голову этот практический вопрос.
Советовались целый час. Какой-то мужчина робко предложил отнести ребенка в полицию, а там пусть делают, что хотят. Но в ответ раздалось одновременно несколько пронзительных, визгливых женских голосов, и на мужчину обрушился такой поток ругани и упреков, что его предложение, при полном, впрочем, молчании остальных, отпало.
— Бедняжка!
— Несчастная крошка!
— Мать-то какая подлая!
— Отец — негодяй!
— Мать срама, видно, побоялась!
— Разве только негодяи так поступают?
И опять:
— Что же с ним делать?
Прачка из маленького флигелька первая сказала:
— Пусть живет здесь!
На это долго никто не откликался; затем владелица катка, самая богатая из жильцов, обвела присутствующих глазами, беспокойно бегавшими на ее заплывшем жиром лице, и спросила:
— Пусть живет? А у кого?
Наступило продолжительное молчание. Несколько человек незаметно выскользнули из толпы и поспешно разошлись по домам. Остальные стояли, опустив руки.
— Ну и что же? — произнесла, наконец, старая еврейка. — Чего тут долго разговаривать? У кого? Пусть живет у всех, и дело с концом.
И едва только она это вымолвила, как из толпы вышел пожилой мужчина в старом длинном кафтане и, сняв с головы барашковую шапку, стал обходить всех по очереди. Это был шорник, принадлежавший к числу тех мастеровых, которые никак не могут выбиться из нужды. Лицо его, отекшее и багровое, с мутными глазами, говорившее о не слишком добродетельной жизни, сейчас выражало необычайную растроганность. Он сокрушенно покачивал головой, вздыхал и лукаво подмигивал, словно хотел всех приободрить и расшевелить.
— Ну! Ну! — приговаривал он. — Ничего не поделаешь! Ничего не поделаешь!
— Ничего не поделаешь! — повторили все хором.
Сгорбленная старушка в ватном салопе и капоре, не вполне прикрывавшем ее седые волосы, подошла к ребенку, посмотрела на него сквозь очки и первая бросила в шапку шорника мелкую серебряную монету. Затем она вытащила рваный носовой платок из мешочка, в котором лежало всевозможное вязанье, вытерла глаза и поплелась в город, — продавать по домам жалкие, дешевые изделия своих старческих немощных рук. В шапку шорника упало еще несколько медяков, а тучная владелица катка бросила величественным жестом рублевую ассигнацию и с достоинством медленно направилась к большому дому, прислушиваясь к возгласам восторга и умиления, вызванным ее великодушием.
Все, кто приносил эти дары, вне зависимости от того, сколько они давали, — свершив то, к чему понуждало их сострадание, тщеславие или стыд перед людьми, сразу же удалились, и вскоре на середине двора остались только три человека: нищенка, все еще державшая ребенка, шорник с шапкой, в которой лежали собранные деньги, и босая женщина с засученными до локтей рукавами, в короткой юбке, в ярком платке на растрепанных волосах. Немного поодаль стояла старая лавочница; она то отходила, то возвращалась, бормоча что-то и потупив глаза.
— Возьмите-ка его, милая, у меня уже руки устали, да и в костел к обедне пора, — сказала нищенка, протягивая ребенка стоявшей возле нее женщине. — Вы ведь, кажется, кормите сейчас своего маленького, — добавила она.
Босая женщина кивнула головой, как бы в подтверждение принятого решения, и молча взяла ребенка из рук нищенки.
Тогда шорник высыпал ей в фартук деньги, а старуха лавочница, подойдя к ней, зашептала:
— Пусть ребенок живет у вас, а я уж постараюсь каждый месяц собрать столько денег, сколько вы сейчас получили. Если я возьмусь, то сделаю: ко мне все заглядывают, у всех ко мне дело есть.
Потом она обратилась к шорнику:
— Может, зайдете рюмочку выпить, а?
Шорник отмахнулся было, но затем, словно по привычке, поплелся нетвердым шагом за Злоткой в отпертую уже лавку.
В это время загрохотал каток, забренчал расстроенный рояль, загалдели высыпавшие из дома дети, нищие и нищенки затянули, стуча клюками по камням мостовой, свои песни, да тяжело вздохнула у слабо горевшего очага жена шорника, осушавшего первую, но не последнюю в этот день рюмку водки. И на большом дворе старого дома все вошло в привычную колею.
Итак, первой подняла Юлианку с земли и показала людям старая нищенка в грязных лохмотьях. Первая картина, которая представилась детским глазам, открывшимся для восприятия внешнего мира, была низенькая каморка с серыми закопченными стенами и печкой, в черном зеве которой жарко пылал огонь. Из лохани, стоявшей на двух табуретках посреди комнаты, поднимался густой белесый пар, расползаясь тяжелыми клубами и оседая у толстых покосившихся балок низкого потолка. Над лоханью стояла, согнувшись, женщина в короткой юбке, не закрывавшей ее босых ног. По лицу ее, почти такому же красному, как косынка, которой она повязала свои растрепанные волосы, непрерывно струился пот. Она вытирала его рукавом грубой рубахи, засученным до самого локтя, а потом снова погружала руки в пенистую мыльную воду. Иногда она подходила к печке и ставила на огонь тяжелые утюги или снимала котел с кипящей водой и, покряхтывая, несла его к лохани. На полу, у ног прачки, копошились маленькие дети, а старшие — мальчик и девочка — то и дело прибегали со двора, топая босыми ногами, то с веселым криком, то с громким плачем. Мальчик, крепкий на вид, с угрюмым, но смелым лицом, всякий раз кидался матери на шею и звонко целовал ее в раскрасневшиеся потные щеки, а девочка брала на руки меньшого и, распевая, кружилась с ним по комнате. Когда же дети убегали, снова слышался только плеск воды в лохани, потрескивание огня да по временам стоны и брюзжание прачки. Случалось, она делала минутную передышку, и тогда воркотня ее стихала; выпрямившись и подперев рукой подбородок, она стояла над лоханью, блуждая неподвижным взором, и думала не то о минувшей молодости, быть может более светлой, чем ее настоящее, не то о будущем своих детей.
Если бы кто-нибудь вошел в эту комнату, он заметил бы в углу, за растрепанной метлой, еще одного ребенка, полуголого, одетого в одну только холщовую коротенькую рубашонку. Сухие и колючие прутья метлы при каждом движении ерошили его густые волосы, но он с любопытством поглядывал на пламя, колебавшееся в печке, на вылетавшие искры, на раскаленные, отливающие пурпуром и золотом утюги, которые снимали с огня, на мыльную воду, лившуюся из лохани и растекавшуюся по полу пенистыми ручейками, на гладильную доску, на одном конце которой высилась горка белоснежного выглаженного белья, и на полуоткрытый большой шкаф. Когда огонь горел сильно и ярко, весело потрескивая, девочка стояла, не двигаясь, и радостно улыбалась, когда же сноп искр взвивался вверх, а град раскаленных углей вылетал из топки, падая на середину комнаты, ребенок смеялся тихим и неудержимым смехом. Иногда отблеск огня достигал уголка, где сидела девочка, золотя ее смуглое личико и черные глаза, и она сразу делалась веселой и шаловливой; когда же огонь угасал, она снова пряталась за метлу, и оттуда торчали только ее худенькие голые ножки, вытянутые на нетесаных досках пола.
К обеду прибегали старшие мальчик и девочка и с веселым криком цеплялись за юбку матери, пока та снимала с огня горшок с похлебкой. Они садились на пол и ели суп из миски, поставленной на скамейку. Тогда в уголке, за метлой, раздавался шорох, и худенькая босоногая девочка направлялась к обедавшим детям; передвигаться она помогала себе ручонками в красных рубцах и волдырях.
Но стоило девочке достичь цели своего путешествия и протянуть руку за деревянной ложкой, которую прачка всегда клала для нее на скамье, как старший мальчик, весело смеясь, ударял малютку ложкой по голове, по лбу или по рукам, а она сразу же с удивительным проворством забиралась под скамейку. Порой мать сердито покрикивала на мальчика:
— Дай же ей поесть!
А бывало и так, что она молчала, уставившись невидящим взглядом на огонь или лохань. Дочка ее держала на руках младшего братишку и с улыбкой и поцелуями кормила его с ложечки остуженным супом; иногда выудив из похлебки картофелину, она швыряла ее под скамейку, где ее ловила и жадно съедала съежившаяся на полу малютка, а старший мальчик наклонялся, заглядывал под скамью и кричал:
— Юлианка! На, на! Лови!
Вечером прачка давала детям по куску хлеба; не обделяла она и Юлианку. Если у нее не было спешной работы, она гасила огонь в печи и при свете сального огарка штопала и чинила нищенскую, всю в заплатах, одежду. Дети спали. Но случалось, их будил шум, это мать в испуге вскакивала с табуретки. Работа валилась с колен на пол, и женщина, застыв на месте и вытянув шею, прислушивалась к звукам, долетавшим откуда-то издалека. Это были звуки песни, которую пел хриплый мужской голос, прерывая ее то бессвязными выкриками, то взрывами пьяного смеха.
Пение возвещало о приближении отца семейства, исполнявшего в городе в разных домах обязанности повара. Человек этот не часто навещал свою семью, жена его должна была сама зарабатывать на пропитание себе и детям. Но как только на улице раздавалось хриплое пение, она, заслышав знакомые звуки, начинала метаться по комнате, ища, куда бы спрятать несколько медяков, завернутых в полотняную тряпочку, прежде чем на дворе раздадутся тяжелые и нетвердые шаги.
Вскоре в комнате поднимался невообразимый шум. Грубому мужскому голосу вторил пронзительный плач женщины, а потом к ним присоединялись визг, стоны и вопли детей.
Просыпавшуюся Юлианку била дрожь. Широко раскрытые от страха глаза следили за происходящим сквозь прутья метлы, за которой девочка пряталась. И при тусклом свете сального огарка она видела высокого широкоплечего мужчину, чьи кулаки молотили по спине женщину; пронзительно крича и отчаянно сопротивляясь, она старалась ответить ударом на удар. Юлианка видела, как огромная мужская рука, ухватив женщину за сбившиеся косы, тянула их книзу, валила женщину на пол, где она корчилась от ярости и боли; как старший мальчик, защищая мать, прикрывал ее своим телом и бросался отцу под ноги, с ненавистью глядя на него; Юлианка видела, как младшие дети, свалившись в ужасе с материнской кровати на пол, дрожали и всхлипывали; как мужчина находил, наконец, деньги, спрятанные женой за потолочной балкой либо в печке, и уходил, хлопнув дверьми так сильно, что содрогались ветхие стены. После его ухода женщина с трудом поднималась, садилась на пол и, закрыв лицо красными руками, плакала, сначала громко, затем почти беззвучно, так, что, казалось, слышно было, как слезы ручьем текут на рваную юбку, прикрывающую трясущиеся колени.
Все это видела и слышала девочка, забившись в самый темный угол, и она тесней прижималась к стене или, обхватив ручонками метлу, в ужасе пыталась ею заслониться.
Но однажды, во время такой сцены, Юлианка оцепенела от ужаса: взгляд высокого широкоплечего мужчины проник в ее темный угол. Черные, навыкате глаза, грозно сверкавшие на угрюмом лице, привели девочку в трепет, и она смутно, очень смутно слышала, как мужчина спрашивал у жены о деньгах на содержание подкидыша; женщина с плачем ответила, что ей за Юлианку уже давным-давно никто не платит, потому что люди, которые раньше платили, съехали со двора, а новые жильцы и слышать ничего не хотят. Мужчина подошел к темному углу, и Юлианка закрыла глаза; сильная рука ухватила ее за рубашонку, пронесла через комнату и выбросила за дверь. Больше она ничего не видела и не слышала, словно погрузилась в глубокий сон. Когда же она очнулась, вокруг царила мертвая тишина, босые ноги ее были погружены в сырую от дождя траву, а мокрые, холодные лопухи гладили ее шею и плечи. Девочку снова обуяли страх и трепет. Чего же она боялась? Она и сама не знала. Очевидно, всего. Грубого мужского голоса, который все еще звучал у нее в ушах, тяжелых облаков, низко нависших на хмуром небе, мокрых лопухов, будто скользкие змеи ползавших по ее голому телу, веток деревьев, которые раскачивались взад и вперед в сером сумраке, что-то бормоча, словно это вели между собой невеселый разговор черные призраки.
В непроглядной пугающей тьме блеснул вдруг одинокий огонек. Это был тусклый слабый свет, мерцавший в маленьком окошке в одном из углов двора, почти у самой земли. Юлианка хорошо знала, кто живет в том конце двора; после долгих колебаний она поднялась и очень медленно, так как страх все еще не оставлял ее, а маленькие ноги путались в высокой мокрой траве, направилась к этому огоньку.
Комната на том конце двора была меньше и ниже жилища прачки, но выглядела совсем по-другому. У прачки стены и потолок почернели от дыма и копоти, здесь же они были белыми и чистыми, так как их, очевидно, оберегали от грязи; там от беспрестанно топившейся печки было жарко и душно, здесь все пронизывала холодная сырость, потому что в маленькой обвалившейся печке почти никогда не разводили огня. В комнате стояла старая кровать с таким тощим матрацем, что его почти не было видно, деревянный сундук, покрытый протертым до дыр ковриком, хромоногий стол, лампа с высоким закоптелым стеклом, на стене висел старый ватный салоп, над кроватью — большое черное распятие; хозяйка — худенькая старушка — сидела на сундуке и вязала при тусклом свете лампы сетку из толстых бумажных ниток.
Маленького роста, сгорбленная и сухонькая, она была одета в потрепанный стеганый халат; пряди редких седых волос ниспадали на плечи и лоб.
Она наклоняла лицо близко к работе; спицы и клубок быстро двигались в ее маленьких сморщенных пальцах. Старуха беспрестанно что-то бормотала, и казалось, что шевелятся при этом не губы ее, запавшие и почти такие же бескровные, как лицо, а лоб, на котором частые морщины поднимались, опускались, сходились и разбегались, словно стремясь передать с помощью таинственных знаков кому-то невидимому длинную необыкновенную историю.
Вдруг маленькая седая труженица приподняла голову. За большими стеклами очков замигали красные воспаленные веки. У низких запертых дверей послышался шорох. Умолк и снова раздался.
— Всякое дыхание да хвалит бога, — произнесла женщина.
Никто не отвечал. Она поднесла руку ко лбу, словно собираясь перекреститься, но шорох становился все явственней, а затем раздался приглушенный стон или плач.
Старуха встала и, приложив ухо к двери, громко спросила:
— Кто там?
Чуть слышный голосок ответил:
— Юлианка.
Если бы не глубокая ночная тишина, старуха не расслышала бы этого голоса, так тих он был, — скорее вздох, чем голос. Она с досадой махнула рукой, но все же взяла лампу и направилась к двери, сердито брюзжа:
— Покоя нет от детей! Днем какой-то сорванец камнем запустил в окно, а теперь кто-то среди ночи является…
Отперев дверь, она еще громче заворчала:
— Что ты по ночам бродишь…
Но тут же осеклась и, опустив лампу, осветила девочку.
Юлианка неподвижно стояла в дверях. Ее голые до колен ноги, видневшиеся из-под короткой рубашонки, дрожали и подгибались, крупные капли дождя густо осыпали волосы и лицо.
Старушка, не говоря ни слова, заперла дверь и взяла девочку за руку.
— Почему ты пришла так поздно, ночью? — спросила она.
Помолчав немного, Юлианка тихо сказала:
— Выгнали.
— Вот как! — протянула женщина и снова уселась на сундук, продолжая смотреть на Юлианку.
— Выгнали! — повторила она. — Кто ж тебя выгнал?
— Пан!
— Пан? Так это Якуб, мерзкий пьянчужка, который буянит по ночам! Он бил жену? Да?
— Бил, — подтвердила Юлианка и расплакалась.
— Вот те и на! Опять бил! Не миновать ему тюрьмы, головой ручаюсь! А тебя вот так, не говоря ни слова, взял за шиворот, да и выбросил за дверь ночью, в дождь и холод! А почему ты вздумала ко мне прийти? Не потому ли, что я тебе намедни кусок хлеба дала? Ну, а теперь хочешь молока?
— Хочу! — ответила Юлианка уже гораздо громче.
Старуха нагнулась и достала из-под стола горшочек, прикрытый бумагой.
— Выпей половину, — сказала она, — остальное оставь мне на утро, тогда и тебе, пожалуй, немножко дам, — добавила она.
Девочка с жадностью набросилась на молоко, но когда она допила до половины, старуха отняла горшочек и спрятала снова под стол.
— Что ж ты дрожишь как в лихорадке? Холодно? И, кроме рубашки, у тебя ничего нет?
— Нет.
— Ну, я тоже ничего не могу тебе дать, у меня у самой последние лохмотья с плеч сваливаются. Вот там только еще тряпка какая-то осталась.
Она стащила с кровати большую рваную шаль — настоящую тряпку — и закутала, можно сказать запеленала в нее девочку. Потом отвела ее в угол за печку.
— Посиди здесь или ложись и спи! Только вот шаль ты у меня отняла, и мне нечем будет ночью укрыться. Халатом, что ли… Да ты спи спокойно… Якуб сюда не придет.
Юлианка, несмотря на усталость, не могла заснуть; она смотрела из-за печки на свою новую покровительницу, которая, усевшись снова на сундуке, вязала сетку, приговаривая:
— Еще кусочек свяжу… еще не поздно… на костеле часы еще одиннадцать не били, а до одиннадцати надо вязать, сетку… только сетку… из шерсти я вяжу днем, потому что глаза от этого больше устают… Ох, глаза мои, глаза! Совсем служить отказываются!
Она вздохнула и взглянула в угол, где сидела девочка.
— Бедняжка! А ведь хулиган Якуб еще когда-нибудь и преступление какое-нибудь совершит. И сын его тоже, головой ручаюсь. Яблоко от яблони… Подумайте, камни в окно бросает! Хорош! Будь это лет тридцать тому назад, я приказала бы… слугам поймать негодяя и наказать как следует… Мои слуги! ох! ох! Были когда-то и у меня слуги! Но их уж давно нет! Кто бы мог подумать!
Тут складки на ее лбу поползли вверх, словно выражая крайнее изумление, а пряди седых волос упали на лоб.
Вдруг где-то далеко, в центре города, раздался бой часов на костеле. Старушка, подняв вверх тонкий бескровный палец, считала:
— Раз! два! три! четыре!
И когда она произнесла «одиннадцать!» — часы перестали бить. Женщина стала складывать работу.
— Раньше я, бывало, засиживалась до часу и до двух в гостиной… с гостями… Гостиная… Ох! ох! Была когда-то у меня гостиная… Да давно… уже нету… Зато есть вот эта конура… Кто бы мог подумать!
— Будь глаза у меня прежние, я вышила бы ковер, вроде того, что когда-то у меня возле дивана лежал! И получила бы за него кучу денег, но глаза, ох! ох! есть глаза еще у меня, есть, да служить больше не хотят… а уж когда вовсе откажутся…
На этот раз не только морщины быстро забегали на старческом лбу, но и голова затряслась, словно предсказывая, что случится нечто страшное, очень страшное, когда «глаза откажутся служить».
Гася лампу, старуха прошептала: «Кто отдастся на милость божию», а потом, ворочаясь в темноте на голой соломе, проговорила:
— Кто бы мог подумать! Кто бы только мог подумать!
В углу за печкой беспокойно и тревожно спавшая девочка пробормотала сквозь сон:
— Выгнали!
Утром, едва открыв глаза, Юлианка вдруг звонко рассмеялась. Отчего? Кто знает? Быть может, от того же, отчего птицы поют на заре, отчего рой золотистых насекомых весело жужжит, купаясь в лучах восходящего солнца…
Первый утренний луч прокрался в комнату и скользнул по седым волосам старушки, которая, сложив маленькие сухие руки, смотрела, подняв голову, в окно и вполголоса молилась: «Отче наш, иже еси на небесех!»
Услышав смех ребенка, она произнесла «аминь» и обернулась.
— Проснулась уже? — спросила она. — Ну как? Хорошо спала? Тепло было?
Юлианке, запеленутой, точно в свивальник, в старую толстую шаль, было хорошо и тепло. Похожая на маленькую мумию, с сияющими глазами и улыбающаяся, она посидела еще немного в своем углу, потом вскочила и, волоча по полу шаль, которая, развязавшись, держалась только на плечах, подбежала к старушке, протягивавшей ей горшочек с молоком.
— Попей молочка и оставь мне немного! — сказала она.
Юлианка пила; по глазам было видно, как она поражена тем, что ей досталась такая вкусная еда.
— А теперь я попью. Это, видишь ли, весь мой завтрак. Половину я отдала тебе, ну и на здоровье. Когда-то я пила чай, кофе или шоколад, только давно это было… А теперь радуюсь, если есть хоть немного молока. Подумать только! Ну, ничего! Человек бывает на коне, — бывает и под конем. На коне я уже была и никогда больше не буду, а ты, может, еще и будешь, кто знает? Ты еще маленькая, у тебя вся жизнь впереди. Но пока тебе надеть нечего, кроме рубахи, из которой ты давно уже выросла. Коленки видно, фи, неприлично… Надо будет у знакомых платьишко старое для тебя выпросить…
Она натянула на себя порыжевший стеганый салоп, а на седую голову надела рваный чепчик из белой кисеи.
— У меня, видишь ли, много знакомых среди господ, которым я свое рукоделие продаю… Так и хожу из дома в дом и продаю… На лестницу стало трудно подниматься, а там, где лестницы нет, там во дворе собаки проклятые набрасываются, платье рвут… Одна как-то меня за ногу укусила… Нога распухла, и целую неделю я ходить не могла… А бывает, что грубияны эти — лакеи или кухарки — ругают и прочь гонят и еще кричат вслед: «Нищенка!» Кто бы мог подумать!
Голубые глаза с воспаленными веками, словно застыв, глядели куда-то в пространство.
— Нищенка! Нищенка! Какая же я нищенка! Разве я не работаю? Разве мои рукоделия не лучше тех, что висят в витринах магазинов? Салфетки, одеяла, кружева плетеные, дорожки я делаю и буду делать, пока глаза служат… а вот когда они откажутся…
Голова ее снова затряслась, словно она очень чего-то испугалась, а морщины на лбу разбежались в разные стороны.
Подняв с полу шаль, соскользнувшую с плеч ребенка, старушка набросила ее на себя, а на голову надела черный капор.
— Теперь, — сказала она, — ступай во двор. Я ухожу в город и мне нужно запереть дверь. Вечером можешь опять прийти. Молока выпьешь и переночуешь. Я дома не обедаю, видишь — печка развалилась, и ее нельзя топить. Я хожу к одной почтенной женщине, у которой есть плита. Мы с ней вскладчину обед готовим: то суп, то картошку сварим. А когда у меня много работы, я не выхожу из дому и обедаю баранками, размоченными в воде… Кто бы мог подумать! Ну ступай, ступай во двор, надо дверь запереть. А вечером приходи, я, может быть, принесу тебе поесть, от обеда оставлю.
Они вышли вместе. Старушка поплелась по улице, а девочка в короткой рубашонке стояла, прислонившись к стене дома. Она уже не смеялась больше, потому что день был ветреный и холодный, а осеннее солнце светило, но не грело. Юлианка, дрожа от холода, пошла к дому прачки. У дверей флигеля она остановилась в нерешительности, то протягивая руку к двери, то отдергивая ее. Вдруг на пороге показалась прачка с коромыслом и двумя пустыми ведрами. На лице у нее были видны следы вчерашнего происшествия: оно распухло от слез, было в кровоподтеках. Толстая растрепанная коса сползла на рваную рубаху. Увидев девочку, она сердито крикнула:
— Опять ты пришла на беду мою! И без того горя хватает! Ты не мой ребенок, за что же я должна пот свой проливать, чтобы кормить тебя, да еще и муки терпеть! Пошла прочь и не попадайся больше мне на глаза.
Она грубо оттолкнула девочку и, закрывая дверь, крикнула:
— Антек! Не пускай подкидыша в дом!
Антку не надо было повторять это дважды. Накинув куртку, босой, он выбежал за дверь и, сделав вид, будто хочет броситься на девочку, крикнул:
— Пошла вон!
Юлианка подалась немного назад и остановилась. Мальчик снова отогнал ее.
Так продолжалось несколько минут, пока в окне флигеля не показалась голова восьмилетней девочки с длинными белокурыми волосами. Она закричала:
— Антек! Антек! Иди помоги растопить печку для мамы! У меня никак не разгорается…
Мальчик убежал домой, а Юлианка застыла на месте, не спуская глаз со стены флигеля. Она не плакала больше и уже не дрожала от холода. Если бы кто-нибудь заглянул сейчас в глаза девочки, сухие и широко раскрытые, он не увидел бы в них страдания. Они выражали изумление и горели скрытым бессильным гневом.
Прачка, возвращавшаяся с полными ведрами, застала Юлианку на том же месте. Она остановилась, посмотрела на нее и, бормоча что-то, вошла в дом, но вскоре вернулась с краюхой черного хлеба. Протягивая его, она сказала:
— На, возьми, этого тебе на день хватит. Хлеб я тебе иногда буду давать, а в дом входить не смей! Розгами выпорю, в крапиву брошу!
Юлианка взяла хлеб, но не стала есть: она долго еще стояла, глядя на стену флигеля. И, только когда из распахнувшихся дверей, обгоняя друг друга, с веселым шумом выбежали дети прачки, она тоже изо всех сил пустилась бежать по направлению к старому высокому дому, часто-часто перебирая маленькими ножками, и исчезла в больших сенях, откуда в эту минуту послышался размеренный унылый стук катка.
Как-то, спустя несколько месяцев, когда старушка, совершив свой обход по городу, возвращалась домой, ее окликнула старая Злотка, сидевшая у порога лавочки:
— Ваша милость! ваша милость! Подкидыш теперь у вас живет, на вашем попечении, значит?
Старушка проворчала:
— Вот, милая, не было у меня забот…
— Конечно, конечно! Пора бы уже и о вас кому-нибудь позаботиться. А между тем девочка у вас и ест и ночует.
— Ест, когда бывает еда, и ночует, когда на улице холодно. В комнате у меня, пожалуй, не теплей, чем на улице. Кто бы мог подумать!.
Она заковыляла к воротам, бормоча себе под нос:
— На попечении! Какое там попечение? Что же я, по-вашему, богачка? Было время, заботилась я о бедных девушках, одевала их, кормила, учила… и вот разлетелись они по широкому свету, порхают где-то, а обо мне никто и не вспомнит. Кто бы мог подумать! Попечение! Какое там попечение! Хлопоты, только лишние… Я ведь не мать ей, не бабушка…
Отпирая дверь, она старалась не выронить из рук бумажный пакетик с кусочком мяса и несколькими картофелинами.
— Это для ребенка, — говорила она себе. — Куда ж девчонка запропастилась?
Высунувшись в окно, она звала дрожащим тонким голосом:
— Юлианка! Юлианка!
Юлианка мгновенно откликалась на ее зов и, войдя в маленькую чистую комнатку, жадно съедала принесенный обед. Старушка усаживалась на сундук и извлекала из полинявшего мешка мотки разноцветной шерсти.
— Садись, — говорила она Юлианке, — вот здесь, возле меня на полу и вяжи чулок.
Она вкладывала в ее маленькие ручки спицы и клубок и, нагнувшись к ней, учила:
— Нитку держи — на пальце… спицу положи под нитку… теперь продень… вот видишь… получилась петля… не спускай нитки с пальца… делай все время вот так…
Она с трудом разгибала спину и, подбирая цвета шерсти, продолжала:
— Хочу научить тебя, чему могу… Читать молитвы, чулки вязать… другому уж пусть люди тебя научат… Я только начну… и всегда-то мне приходится начинать!.. Вот когда тебя у ворот подбросили, я первая дала двугривенный шорнику, который собирал для тебя деньги.
Девочка опустила на колени спицы со спутанным клубком и, пристально глядя на старушку, серьезно спросила:
— Кто ж меня подбросил?
Старушка заерзала на сундуке, лицо ее выражало испуг.
— Бог его знает, милая, одному только богу ведомо, кто это был… — сказала она в сильном замешательстве и, подумав немного, добавила: — Наверно, птица большая, которая маленьких детей приносит…
Юлианка, казалось, глубоко задумалась, а потом снова спросила:
— Почему ж эта птица не отнесла меня к пани Якубовой, или к пану шорнику, или еще к кому-нибудь, а бросила прямо у ворот?
— Ну, ну, — ответила старушка, быстро набирая крючком петли, — не приставай с вопросами! Не к чему тебе все это знать! Вяжи чулок и учи молитву. Скажи: «Верую в бога…»
— «Верую в бога», — шептала девочка, не в состоянии справиться со спицей, которая никак не хотела влезать в слишком маленькую петлю.
— «Всемогущего…»
— «Всемогущего», — повторила девочка.
— Ты, верно, не понимаешь, что это значит… сейчас объясню тебе… Мы называем бога всемогущим, потому что он все может… Понимаешь?
Юлианка перестала вязать; положив руки на колени и подняв голову, она снова устремила взгляд на свою учительницу и, помолчав, спросила:
— Почему ж господь бог не велел птице отнести меня к пани Якубовой или к папу шорнику?.. У них дети лучше живут, чем я…
— Вот тебе и на, — прошептала старушка, — откуда у маленькой девочки такие мысли?..
Потом стала объяснять медленно и терпеливо:
— Бог все может; милосердие и кротость его безграничны… Он, наверно, хотел, чтоб жилось тебе хорошо, да только вышло так, что досталась ты злым людям…
— Нет, не птица, а люди подбросили меня у ворот!.. — воскликнула вдруг девочка.
Старушка приходила все в большее замешательство. Она сделала вид, будто очень разгневалась, и погрозила девочке крючком:
— Ну, ну! Ты что ж, так и будешь все время спрашивать и спрашивать: кто, да как, да почему? Если тебе плохо живется, значит бог хотел, чтоб так было! Пред волей божьей надо смиряться. Запомни это! Что? Будешь смиряться?
— Буду, — тихо ответила девочка.
— Ну вот и хорошо! У меня, как видишь, жизнь тоже нелегкая; однакож я смирилась! Не ропщу, ни о чем не спрашиваю, хотя иной раз и сама диву даюсь, почему старость моя так не похожа на молодость. Кто бы мог подумать!.. Родители у меня люди достойные, приданое дали за мной прекрасное, да и муж у меня был очень хороший… Служил судьей… все уважали его… жили мы с ним, как король с королевой, — в нашем же городе, в этом самом… Только детей бог не дал, а когда муж умер, богатство как-то растаяло и родственники куда-то пропали… и вот мир этот стал для меня пустыней, а руки — кормильцами, ну и глаза тоже… без глаз руки ничего не сделают… Кто бы мог подумать!.. Видишь! И теперь я молю бога только о том, чтобы глаза служить не отказались, а они отказываются… Когда молиться научишься, попросишь и ты…
— Попрошу! — ответила девочка.
Стемнело, старушка зажгла лампу.
— Хорошо бы теперь чайку попить, — бормотала она, — старая кровь стынет, да и в горле после соленой похлебки пересохло… Но что поделаешь, когда не на что чай купить! Кто бы мог подумать! Тебе уж темно, на полу сидя, чулки вязать… сложи работу, придвинься поближе и учи молитвы, скажи: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем…»
— «Прости нам долги наши…» — начала было девочка и сразу смолкла; затем робко, словно спрашивая разрешения, проговорила:
— А я не прощу!
— Чего не простишь, кому? — удивленно спросила, старушка.
— Антку не прощу, — на этот раз тверже сказала Юлианка, и глаза ее сверкнули в темноте.
— Фи, как нехорошо! Откуда в ребенке такая ожесточенность! Стыдись! Антек сорванец и безобразник, но простить ему надо, потому что бог велел. Сейчас же прости Антку! Ну что? Прощаешь?
Девочка помолчала и вдруг неистово закричала:
— Не прощу! Не прощу! Не прощу! Разрази меня бог! чтоб глаза мои света, божьего не видели! чтоб на меня хворь напала, чтоб враги мои не сгинули, если вру! НЕ прощу! Когда буду большая и сильная, я поймаю его и вздую… изобью… Так, как пан Якуб жену свою бьет… Чтоб его бог не простил… чтоб его…
Она сжимала кулаки, глаза ее горели злобной, непримиримой ненавистью. Проклятья и ругательства, которые она с такой яростью расточала, были заимствованы из словаря обитателей этого большого дома: Якуба, Якубовой, Антка, шорника, Злотки и других.
Старушка погрозила пальцем:
— Замолчи сейчас же и убирайся, если ты такая…
Юлианка поднялась с пола и направилась к выходу. Она была уже у порога, когда старуха сказала ей:
— Если простишь, позволю вернуться и молока дам…
Юлианка, не оглянувшись даже, взялась за дверную щеколду.
— Вернись! — позвала ее старуха.
Юлианка повернулась и с угрюмым, мрачным видом подошла к своей покровительнице.
Старуха взглянула на нее сквозь очки и положила ей на голову морщинистую руку.
— Ну, прости его, — сказала она умоляющим голосом, — я ведь перед богом ответ за тебя держать буду, если ничему хорошему не научу… Тебя выгнали на улицу, ты пришла ко мне ночью, продрогшая, голодная, и я сразу подумала: «Дитя малое, надо пригреть». Мир — пустыня и для меня и для тебя. Кто бы мог подумать! Хлопот с тобой немало, — половину еды моей съедаешь, ночью шалью моей укрываешься, а мне приходится халатом укрываться, ведь истреплется он раньше времени. Ты должна чувствовать благодарность ко мне и слушаться. Если я тебе говорю «прости», — ты должна простить! Ну что, прощаешь?
Рука старушки, соскользнув с головы, поглаживала нахмуренный лоб девочки.
— Ну что? Простишь Антка? — спросила она с мольбой в голосе.
— Прощу! — тихо ответила Юлианка, улыбнулась и, отведя ласкавшую руку, поцеловала ее.
— Вот и хорошо! А теперь садись опять возле: меня; Я расскажу тебе священную историю о том, как бог сотворил мир, человека, и обо всем, что было потом… Я, видишь ли, когда-то образованная была и всему понемножку училась… я была веселой, живой, остроумной, люди говорили, что я милая и образованная женщина… Где теперь эти люди? Где?..
Она вздохнула.
— Кто бы мог подумать!
И медленно, торжественно, подняв кверху сморщенный палец, прерывая нить своего повествования множеством отступлений и воспоминаний, она рассказывала священную историю девочке, а та, положив головку ей на колени, засыпала и спала, пока издалека, из города, не доносился размеренный звон часов на костеле, отбивавших одиннадцать ударов. Тогда старушка вставала, аккуратно складывала свое вязанье, а Юлианка просыпалась и, завернувшись в старую шаль, шла, сонная, в свой угол и укладывалась там за развалившейся печкой.
Так жили вдвоем, поддерживая друг друга, эти два несчастных существа. Прошло года два-три. Старухе пришлось изменить свои привычки. Она теперь редко уходила в город и совсем перестала обучать девочку молитвам и вязанью чулок. Крючок и спицы все медленней двигались в ее руках, а голова тряслась все сильнее и морщины на лбу быстро, словно в большом смятении, разбегались в разные стороны. С огромным напряжением вглядывалась она в мотки шерсти, чтобы различить их цвет, и прерывающимся голосом говорила:
— Отказываются служить… совсем отказываются…
И действительно, нередко даже при дневном свете она принимала желтую шерсть за розовую, а синюю за зеленую и, не скоро заметив ошибку, распускала вязанье, над которым просидела целый день. Тогда она осторожно, словно прикасаясь к чему-то очень хрупкому, поминутно смахивала кончиком пальца слезы с красных воспаленных век.
Иногда она говорила Юлианке:
— Молись о глазах моих… Бог любит детские молитвы.
По вечерам она попрежнему сидела на сундуке, пока часы на костеле не били одиннадцать, но не работала уже так усердно, как раньше; она все чаще опускала руки на колени и, глядя сквозь очки куда-то вдаль, погруженная в глубокую задумчивость, переставала даже разговаривать сама с собой, а морщины на ее лбу сходились, и мрачная тень ложилась на сморщенное, высохшее лицо.
Случалось, что она по нескольку дней оставалась без молока и не ходила обедать. Тогда она посылала Юлианку к Злотке за двумя баранками. Злотка вместо двух баранок присылала три, и старушка, размочив их в воде, делилась с Юлианкой едой.
Однажды девочка услышала, как она шептала:
— Приближается час… приближается страшный час…
Юлианка не спросила, о каком часе идет речь, так как все ее мысли были поглощены исчезнувшей в этот день из комнаты кроватью с единственной подушкой. На полу, где прежде стояла кровать, была постлана солома, покрытая холстиной, с маленькой, набитой сеном подушкой в изголовье. Потом исчез со стены ватный салоп, стола у окна тоже не было; в комнате осталась жалкая постель на голом полу, большое черное распятье над ней и пустой, ничем не покрытый сундук, на котором сидела маленькая старушка. Она ничего уже не делала и, мигая распухшими веками, повторяла:
— Кто бы мог подумать! Кто бы только мог подумать!
Однажды, рано утром, Юлианка, проснувшись, услышала, как старуха говорила:
— Боже всемогущий! Почему ты дал мне дожить до сегодняшнего дня?
Она сказала это каким-то странным голосом, но когда через час Юлианка, увидев в окно золотое сияние солнца, тихонько вышла из комнаты, женщина спокойно лежала, закрыв глаза и подложив под седую голову маленькую подушку. Осенний день пролетел быстро. Вечером Юлианка, после нескольких часов, проведенных во дворе и в старом доме, открыла дверь, чтобы проскользнуть, как всегда, в комнату и усесться на полу у ног своей благодетельницы. Но отпрянула и остановилась у порога. В тихой прежде комнатке раздавались теперь громкие голоса и смех. Здесь появилась незнакомая мебель, а посредине, за столом, на котором стояла бутылка и оловянная рюмка, сидели трое мужчин и при свете сального огарка перекидывались грязными потрепанными картами и курили. Клубы табачного дыма стлались под низким потолком, и сквозь сизый туман, как единственный след пребывания маленькой старушки, как последняя память о ней, проглядывало висевшее на стене большое черное распятье.
Юлианка долго стояла, застыв у порога; потом на глаза ее навернулись слезы. Она ушла и, медленно пройдя двор, остановилась у лавочки Злотки.
— Пани! — проговорила она сдавленным голосом.
— А! Это ты! Чего тебе? — обернулась к ней старая еврейка.
— Где моя пани? — спросила девочка.
— Твоя пани?
И Злотка задумалась, должно быть, над чем-то невеселым. Она смотрела на девочку, покачивая головой.
— Твоя пани? — повторила она. — Кто знает, где она теперь?.. Взяла палку и ушла в город… Разве она не прощалась с тобой?
Девочка не ответила и, помолчав, спросила:
— Она вернется?
— Зачем же? — ответила Злотка. — Она не платила за квартиру, и ей велели убираться; теперь вместо нее будут жить три лакея, которые остались без места, а они все время в карты играют и водку пьют… Хоть бы мне какая-нибудь от них прибыль была — куда там! Наберут в долг, а потом не заплатят…
Она продолжала бы еще ворчать, если бы ее не прервал исступленный вопль. Девочка, стоявшая раньше неподвижно на пороге, вцепилась руками в свои густые волосы и пронзительно закричала, а потом разразилась потоком слез… Тщетно старалась Злотка ее успокоить, гладила по голове, угощала баранками. Юлианка оттолкнула ее руку, бросила баранку наземь и убежала в большой темный двор, откуда еще долго доносились постепенно замиравшие в ночной тишине рыдания и всхлипывания. Они неслись из самого темного, самого дальнего уголка, где ни одна звезда, ни один луч света небесного или земного не озаряли ребенка, прильнувшего заплаканным лицом к холодной стене, ребенка, который в третий раз уже за свою короткую жизнь был предоставлен попечению сырой земли, дождливого неба, холодного ветра, свистевшего во тьме ночной.
С тех пор по утрам часто можно было встретить Юлианку у выхода из старого дома. Она ночевала в огромных сенях среди разбросанной, покрытой пылью и паутиной утвари. В самом дальнем уголке она отыскала старое кресло с высокими подлокотниками, но без ножек, с ободранной обивкой, из которой торчали клочья войлока: там гнездились мыши. Когда было холодно, Юлианка старалась примоститься между прогнившими подлокотниками и лежала там, свернувшись калачиком, как в тесной люльке. Из ветхого сидения выскакивали мыши и, пробежав по Юлианке, носились вокруг кресла с писком, шелестом и хрустом. Но она не боялась их, ей было веселей, когда в мертвой тишине старого дома слышалась мышиная возня. Юлианка даже высовывалась из своей необыкновенной колыбели и силилась разглядеть в глубокой тьме маленьких юрких зверьков, которые шелестели обрывками белой бумаги или громко грызли обглоданную кость. В теплые и светлые ночи она спала не в кресле, а на полу, причем старалась лечь так, чтобы оказаться в самой широкой полосе лунного света. Возле нее в беспорядке валялись обломки когда-то, может быть, прекрасных скульптур. Обломки эти привлекали ее внимание еще больше, чем мыши. Девочка часто рассматривала их со всех сторон, гладила белевшую при свете луны мраморную голову с отбитым носом и, опершись на локоть, смотрела в безжизненные глаза ее, пока не засыпала, припав головой к сломанной руке или к острому краю раздробленной груди.
Утром, увидев бегающих по двору детей, она устремлялась им навстречу, широко раскинув руки и заливаясь серебристым смехом. Она была похожа на птицу, раскрывшую крылья и догонявшую с веселым щебетом свою стаю. Но Юлианка щебетала недолго, и руки ее повисали, как сломанные крылья.
Во дворе у нее было несколько грозных врагов, и только белокурая растрепанная Анка, дочь прачки, всегда заступалась за нее, заслоняла, не позволяла бить. Анка играла с Юлианкой в лошадки и позволяла носить камни и песок для домика, который дети строили возле сруба старого колодца. Но это не помогало. Антек кричал, что не будет играть с подкидышем, а босая длинноногая дочка портного в грязном платке на взлохмаченных волосах заявила, что, если дети примут в игру подкидыша, она никогда больше не будет с ними водиться и вместе со своей куклой уйдет к другим детям в чужой двор. Кукла эта, по правде говоря, была большим уродливым чучелом, которое отец-портной смастерил, к удовольствию дочки, из пестрых ситцевых лоскутков и обрезков шелка. Но страшная угроза портновской дочки приводила детей в трепет, так как домик возле колодца строился именно для ее куклы и к ней сейчас собирались в гости две девочки-лошадки в сбруе из обрывков веревки, подгоняемые тремя мальчиками — кучерами с кнутами. Что касается Анки, то ее особенно пугала угроза разлучиться с куклой-уродом, так как после матери и младшего братишки она любила ее больше всего на свете.
Юлианка теряла, таким образом, единственную свою защитницу, которая, опечалившись немного, отступала, и тогда дети, окружив Юлианку тесным кольцом, набрасывались на нее, пронзительно крича, били ее и щипали, осыпали насмешками и бранью. И она, отступив в конце концов под их напором, в одиночестве удалялась на другой конец двора. В первые дни она убегала в слезах, но потом больше не плакала, только глаза у нее сверкали, а губы что-то шептали тихо и гневно. Мало-помалу она отказалась от тщетных попыток примкнуть к общей игре, стоивших ей новых синяков. Теперь, проходя по двору и исподлобья косясь на шумную ватагу, она старалась держаться подальше. Но и это не спасало ее от преследований. Антек и его товарищи, увидев девочку, тотчас пускались в погоню, делая вид, что собираются поколотить ее. Зимой Юлианку закидывали снежками. И, чтобы как можно реже попадаться на глаза своим обидчикам, она старалась незаметно проскользнуть вдоль стены дома, туда, где летом ее укрывали кусты и высокий бурьян, а зимой снежные сугробы. Пробравшись через двор, девочка поднималась иногда на широкую прогнившую лестницу старого дома. Юлианку мучил голод, и в поисках еды ей случалось забраться в большую залу, с нетесаным полом, с потолком, разрисованным веночками и арабесками, потемневшими от времени. По обеим сторонам катка для белья стояли две женщины; они катали взад и вперед ящики, наполненные камнями, которые с однообразным и унылым грохотом ходили по толстым скалкам. Работницы аккуратно складывали на столах, стоявших вдоль стен, выкатанное белье и клали его в корзины, которые потом уносили, освобождая место для пустых. Толстая спесивая хозяйка катка часто заходила в гладильню, чтобы проверить, как идет работа, и получить причитающиеся за выкатанное белье деньги. Все это свершалось с необыкновенной важностью; шурша жестким платьем, с сознанием своего достоинства, награждая работниц похвалами, выговорами или наставлениями, хозяйка замечала порой в дверях Юлианку, которая с любопытством смотрела на двигающиеся ящики катка. Если хозяйка была в духе, она подходила к девочке, гладила ее пухлой рукой по голове и приказывала служанке принести ей хлеба с сыром. Иногда она доставала из кармана пряник и угощала девочку. Но она не всегда бывала в хорошем настроении. Случалось, что, недовольная выручкой или рассердившись на одну из работниц, она ходила взад и вперед по комнате, тяжело дыша, ворча и бранясь. Тогда, увидев у дверей Юлианку, она выходила из себя и прогоняла ее.
— Да что же это такое! — говорила она. — Как будто я одна обязана кормить и одевать тебя! В тот день, когда нищенка нашла тебя у ворот и неизвестно зачем принесла сюда, все обещали давать для тебя деньги… И что же получилось? Только ко мне ты ходишь и ходишь! А я ведь не богачка какая-нибудь! Я, конечно, в сравнение не иду со всем этим сбродом, который посадил тебя мне на шею, но я не богачка и у меня есть племянницы, которых я должна воспитывать…. Вот и корова у меня пала на прошлой неделе… Ступай… ступай… ничего не получишь!..
Юлианка уходила. Покинув старый дом, она шла на тот конец двора, где хрипло бренчал старый рояль. Девочка подходила к маленькому низенькому окошку, затененному ветвями старой липы, и, приподнявшись на цыпочки, заглядывала в комнату; за разбитым роялем, покрытым потрескавшимся лаком, сидел очень худой человек с бледным удлиненным лицом. Его игру то и дело прерывал кашель. Когда-то этот пианист подавал надежды и выступал с концертами в разных странах; позже он сделался довольно известным преподавателем музыки, а когда заболел чахоткой, стал давать в городе несколько уроков в неделю, получая по злотому за урок. Он был еще не стар, но очень изнурен, и глаза его горели лихорадочным блеском. Музыкант по целым часам просиживал у старого рояля и играл, иногда пробовал петь, но ему мешал кашель, а звуки, выходившие из-под его длинных, костлявых пальцев, становились все глуше и глуше. Увидев в окне Юлианку, музыкант улыбался и говорил:
— Пришла? Опять пришла?
— Пришла, — отвечала девочка.
— Что скажешь? — спрашивал он.
Но Юлианке, очевидно, нечего было сказать. Ухватившись за низко свисавшие ветви липы и подтянувшись, она усаживалась на подоконник.
— Пташка прилетела, — говорил музыкант улыбаясь.
И он начинал играть для «пташки». Он не играл ничего грустного; быстрые польки, томно-веселые вальсы, грациозные кадрили наполняли сонмом звуков комнату и вылетали за окно. Юлианка слушала, порой и подпевала в такт музыке. Тонкий голосок сливался с дребезжавшими звуками рояля. Музыкант смеялся.
— Пой! — говорил он хрипло. — Пой же, пой!
Юлианка пела все с большим увлечением, закинув голову и глядя черными глазами в небо, синевшее сквозь листву. Затем она обрывала песню и жалобно говорила:
— Есть хочу!
Музыкант вставал из-за рояля и давал девочке горсть лепешек от кашля. Иногда среди груды старых, покрытых пылью нот он обнаруживал кусок черствой булки или холодного паштета. Девочка грызла лепешки, с жадностью набрасывалась на мясо, а музыкант стоял подле нее у открытого окна. В его лихорадочно блестевших глазах появлялось выражение глубокой задумчивости. О чем он думал, машинально перебирая белыми тонкими пальцами густые кудри девочки? О навеки угасших честолюбивых стремлениях недавней молодости? О веселых друзьях, вместе с которыми мечтал о богатстве и славе? О прекрасной девушке, которую когда-то любил? О том, что у него никогда не было ни жены, ни детей? Об одиночестве, о нужде, о близкой смерти и своей заброшенной могиле, на которой прольет слезы только туча дождевая и которую никогда не украсит лавровый венок, пригрезившийся в юности?
Юлианке было ясно одно: когда он погружался в свои мысли, то кашлял сильнее и тогда, опомнившись, просил ее сойти с подоконника — надо закрыть окно, сквозняк вреден для здоровья. И девочка уходила на другой конец двора, чаще всего туда, где на темной низкой стене сверкали чисто вымытыми стеклами два окна, уставленных глиняными цветочными горшками.
За этими окнами открывалась просторная комната, светлая и опрятная, а в ней гудел токарный станок и весело потрескивал огонь в печке.
За станком с быстро вращавшимся колесом стоял токарь — седоватый, крепкий, с открытым приветливым лицом, облаченный в белый фартук. У окна шила молоденькая краснощекая девушка; на пестрый платок, крест-накрест перевязанный у нее на груди, спадала золотистая коса. Над станком висели готовые деревянные рамки всех видов и размеров, по углам стояли выточенные ножки для мебели и трости для зонтов. В открытую дверь виднелась небольшая кухонька и слышно было, как потрескивает огонь в печке. Красноватый отблеск пламени падал на противоположную стену, и над широкой постелью поблескивали иконы, оклеенные золотой фольгой.
Отец работал, то и дело вытирая фартуком пот со лба, дочь шила, а из кухни доносились голоса; низкий женский перебивали тоненькие детские.
Вскарабкавшись на лавочку, стоявшую снаружи, под окном, Юлианка занимала свое обычное место; тогда девушка с золотистой косой отрывалась от шитья:
— Папа! папа! Сиротка пришла!
Дом токаря был единственным, где Юлианку не называли «подкидышем». Сквозь шум токарного станка нельзя было разобрать, что отвечает отец, но из кухни неизменно выходила полная румяная женщина с ребенком на руках; другой сопровождал мать, держась за подол ее юбки.
— Боже милостивый, — говорила она, — а бедняжка все бродит, не в обиду ей будь сказано, бродит, как пес бездомный! Кахна, сбегай-ка за молоком!
Кахна вскакивала с табуретки и приносила Юлианке чашку кислого молока; если же это происходило зимой, то подавала в открытую форточку кусок хлеба с сыром. Юлианка съедала все, что ей давали, но не уходила, и если это было летом, то сквозь зелень стоявших на подоконнике растений, а зимой сквозь большое чистое стекло смотрела, не отрываясь, вглубь комнаты. Облокотившись о выступ стены, подперев подбородок рукой и склонив голову набок, — она стояла неподвижно и смотрела. Там для нее не было ничего нового, что могло бы привлечь любопытство или вызвать восторг. Давно уже примелькались вертящееся колесо станка и картинки на стенах, да она их и не замечала; быть может, глаза девочки, привыкшие к зрелищу нищеты, раздоров и страданий, отдыхали при виде спокойствия, чистоты и скромного довольства в семье токаря; сама того не сознавая, Юлианка стремилась продлить минуты этого отдыха. Но, очевидно, какие-то мысли все же рождались у нее, потому что однажды она громко сказала:
— Хотела бы я, чтобы большая птица подкинула меня к вам, а не под ворота.
Жена токаря, стоявшая у окна, расхохоталась.
— Побойся ты бога, девочка! Нам и без тебя птица бог весть сколько детей принесла. Уж и не знаем, куда их девать!
Она сделала вид, будто хочет выбросить за окошко ребенка, которого держала на руках, затем прижала его к груди и звонко чмокнула.
Юлианка покачала головой.
— Не птица меня подбросила у ворот… Это я только так говорю, а на самом деле я знаю, что не птица…
— А кто ж, как не птица? Кто бы это мог быть? — спросила женщина-шутливо и в то же время смущенно.
— Мать! — коротко и равнодушно ответила Юлианка.
Она уже знала, что у нее, как и у других детей, была мать и что это она, а вовсе не птица подбросила ее у ворот. Рассказала ей об этом толстая, вечно смеющаяся служанка владелицы катка для белья; Юлианка спросила, был ли у нее и отец, как у других детей; девушка ответила, расхохотавшись:
— А как же иначе!
— А где же мой отец?
— Ищи ветра в поле! — крикнула девушка и побежала катать белье, но Юлианка запомнила ее ответ и, продолжая разговаривать с женой токаря, сказала:
— У меня и отец был.
— А где он? — спросил сынишка токаря.
— Ищи ветра в поле! — важно, словно изрекая неоспоримую истину, ответила девочка.
С тех пор, как она впервые услышала эти слова, в детском мозгу возникла странная картина. Юлианка не имела понятия о том, что такое поле, но ей представлялся какой-то человек, парящий в воздухе над большим двором. И когда ветер был особенно сильным и холодным, образ этот так явственно стоял у нее перед глазами, что она часами всматривалась в гудящее от ветра пространство, ожидая, что летающий человек вот-вот опустится на землю и обнимет ее, как обнимал своих детей токарь, а иногда, в редкие минуты протрезвления, и пьянчуга повар.
Токарь, занятый починкой станка, услышал слова Юлианки о ее родителях. Он обернулся и с жаром вскричал:
— Боже мой! Женщины! Да помогите вы ребенку! Дайте ей какое-нибудь платье… На ней одни лохмотья, накормите ее, приютите хоть на часок! Суда божьего не побоялся, мерзавец…
Дальнейшие слова заглушил рокот колеса; оно быстро завертелось, стуча, подпрыгивая и ворча, словно еле сдерживало возмущение.
— Поди к нам, — позвала Юлианку жена токаря.
Девочке не надо было повторять это дважды. Она вбежала в чистую тихую и теплую комнату и провела полдня в неописуемом блаженстве. Ночью она спала с Кахной, на полу, правда, но на тюфяке и с подушкой; все обходились с ней ласково, дали совсем еще хорошую юбку, молока на завтрак, но когда она уходила, никто не сказал: «Останься!»
Ничего удивительного! Большая птица с избытком наградила токаря детьми: кроме троих, живших дома, два мальчика были в ученье, а шестой собирался в скором времени появиться на свет… и хотя токарь слыл самым работящим и честным человеком на всем дворе, но уж если ему приходилось жить в такой трущобе, то можно было не сомневаться в том, что он не из богатых…
Так и жила Юлианка, скитаясь под окнами убогих лачуг. Но хуже всего приходилось ей, когда наступали зимние морозные ночи. Она леденела от холода в сенях старого дома и дрожала так, что зуб на зуб не попадал, а внутри у нее что-то начинало страшно болеть. Она отправлялась на поиски лучшего убежища. Иногда ей удавалось незаметно пробраться наверх в большую залу, до того как запрут дверь, и тогда она проводила ночь под катком; иногда девочка тихонько стучала в окно к больному музыканту, и он, кашляя и улыбаясь, впускал ее к себе и, указав на местечко у остывшей печки, давал несколько лепешек. Порой она забиралась в темные сени, которые вели в квартиру лавочницы Злотки, а иногда дочь токаря Кахна, с вечера еще, увидев, что мороз усиливается, выбегала во двор и звала ее:
— Юлианка! Юлианка! Иди к нам ночевать! Папа и мама боятся, что ты замерзнешь!
Но как-то вечером в трескучий мороз девочка оказалась в безвыходном положении. Гладильную мастерскую заперли раньше обычного, Юлианка даже не заметила — когда; к музыканту она стучалась, но он, как видно, не слышал — спал или, может быть, не в силах был подняться, чтобы отпереть; до окна токаря она не могла дотянуться, а скамейку, на которую она становилась, чтобы постучаться, убрали, так как ее заносило снегом. Она бродила от одной квартиры к другой, по колено в снегу, съежившись, дрожа и плача от холода. Так она дошла до флигелька, где жила прачка, и, не думая уже ни об Якубе, ни об Антке, постучалась. Она стучала изо всех сил, потом стала дергать дверную ручку.
— Кто там? — спросила прачка.
— Юлианка, — ответила девочка.
— Боже милостивый! Мороз-то какой! Девочка замерзнет! Анка, открой ей скорей!
Засов отодвинулся, и двери мрачной каморки открылись. Из угла спросонья заворчал Антек:
— Впустила все-таки подкидыша! А если он придет? Что тогда?
Прачка промолчала, и Анка прикрикнула на брата:
— Молчи! Закрой глаза и спи! Если отец придет, я спрячу ее.
— Куда спрячешь? За метлой не поместится! Выросла.
Анка не стала больше пререкаться и, взяв Юлианку за руку, подвела к своему тюфяку.
— Ложись со мной.
Наступившую тишину нарушил голос Анки:
— Мама!
— Ну что еще?
— Я положу возле себя грязное белье, если отец придет, я прикрою ее, чтобы не было видно.
Прачка что-то пробормотала, а Анка собрала ворох белья и придвинула поближе к постели — на случай опасности. Потом все заснули.
Этой ночью Якуб не пришел. Рано утром обе девочки проснулись одновременно и уселись на тюфяке. Анка была на голову выше Юлианки; светлые волосы ее, распущенные как всегда, упали на плечи сиротки, смешавшись с ее черными кудрями. Обе девочки были бледны, на обеих были одинаковые грубые холщовые рубашки. Увидев друг друга в ярком свете морозного солнечного утра, они переглянулись и обнялись… Через час Юлианка выходила из дома прачки с двумя печеными картофелинами, но попавшийся ей на дороге Антек вырвал их у нее из рук и забросил далеко в снег. Сжав кулачки и грозя, обидчику, который был уже далеко, Юлианка что-то яростно зашептала, а потом отправилась искать свои картофелины.
Выпадали дни, когда люди были заняты больше обычного или удручены заботами, больны или чем-то расстроены, и тогда Юлианка не могла обратить на себя их внимание; научившись отгадывать по лицу настроение людей, она и сама старалась не попадаться им на глаза. В такие дни она шла к старой Злотке и молча усаживалась на пороге лавчонки. Старуха относилась к ней ровно: не слишком нежно, но зато всегда жалела ее. Иногда она давала Юлианке булку или баранку, а если было холодно, впускала к себе в лавку и показывала, как согреть озябшие ноги над горшком с раскаленными углями, над которыми и сама грела свои ноги в синих чулках.
Однажды под вечер, когда Юлианка сидела в лавке, забившись в угол, вошел Антек с двумя товарищами-подростками, лет двенадцати — тринадцати. В тот вечер они держались особенно развязно и нахально. Больше всех шумел оборванный мальчишка в дырявых башмаках. Он подталкивал кулаками товарищей и был, очевидно, вожаком и атаманом. Подойдя к прилавку, уставленному бутылками и дешевыми закусками, он залихватски сказал:
— Ципа, водки! По полшкалика на брата!
Злотки не было в лавке, она куда-то вышла. Ее заменяла за прилавком внучка, четырнадцатилетняя девочка с туповатым лицом; она поставила перед мальчишками три рюмки водки. Они выпили; кровь бросилась им в голову, лица стали багровыми. Антек поперхнулся и плюнул.
— Еще по полшкалика! — крикнул атаман, бросив на стойку два пятиалтынных.
— Не буду я, — пробовал отказаться Антек, — мама расстроится…
— Пей! — закричали товарищи.
Они снова выпили, покатываясь со смеху; потом стали гримасничать, кривляться, плевать на пол: как видно, они вошли во вкус и важничали оттого, что удалось выпить.
— Ципа, еще по половинке!..
Из лавки они вышли шатаясь и что-то бормоча. В это время вернулась Злотка и накинулась на внучку:
— Зачем детям водку даешь! Не знаешь, что я детям водки не даю да еще как следует отчитаю, если попросят! Глупая девчонка! На тебя ни в чем положиться нельзя!
— Подумаешь! — огрызнулась Ципа. — А что в этом толку? Если мы не дадим, они пойдут в кабак напротив и там получат водку! Лучше уж нам заработать!
Немного погодя Юлианка ушла из лавки. Проходя по двору, она заметила, что у ворот кто-то лежит. Девочка узнала Антка. В первое мгновение ей стало страшно — как всегда, когда она видела мальчика. Юлианка сначала отпрянула, затем остановилась немного поодаль, не спуская с него глаз. Пьяный Антек спал мертвым сном. Рубашка на груди у него была распахнута, куртка испачкана, голова и ноги лежали в грязи.
— Ну и напился! — промолвила тихонько девочка и подошла поближе, понимая, что сейчас он для нее не опасен, потом прошептала: — Вот теперь-то я тебе колотушек надаю!.. Исколочу!
При мысли о предстоящей мести Юлианка громко рассмеялась. Сжав кулачки и наклонившись к мальчику, она продолжала:
— Вот когда ты на себе почувствуешь, что это такое! Вот как стану я тебя бить, так ты узнаешь, каково это… Натерпелась я… сколько синяков ты мне наставил… а теперь от меня получишь… уж я тебя измолочу, исщипаю, исцарапаю…
У Юлианки горело лицо, глаза сверкали в темноте, губы дрожали. Она все еще сжимала кулачки и уже готова была опустить их на неподвижно лежавшего Антка, как вдруг опомнилась… У нее, очевидно, мелькнула какая-то мысль, она боролась с собой.
— Простить! — шептала она. — Старая пани говорила: «Прости!»
Она раздумывала:
«Если я сказала старой пани: „прощу“, значит надо простить».
И потом опять:
«А хорошо бы сейчас поколотить его…»
Но кулаки постепенно разжались. Девочка вздохнула.
— Нет, — сказала она, — я прощу. Может, я еще увижу когда-нибудь старую пани и скажу ей: «Я простила Антка, не стала его бить!» И она обрадуется…
Склонив набок голову и приложив палец к губам, она еще долго над чем-то думала, потом, внезапно решившись, сказала:
— А еще я помолюсь за него, чтобы он был хорошим и не огорчал свою маму.
Она опустилась на колени. Какое странное зрелище! Покинутый всеми ребенок, в сумерках уходящего дня, на коленях перед пьяным подростком, молит вполголоса, сложив ручонки:
— «Отче наш, иже еси на небесех, да приидет царствие твое!»
В ту пору Юлианке исполнилось семь лет, но на вид ей можно было дать меньше; она росла медленно. Быстро отрастали у нее только волосы, обрамлявшие густыми смоляными локонами маленькое худое личико с бледными губами и огромными угольно-черными главами. Одета она была в старую длинную юбку, которая не покрывала босых израненных ног; из-под старой, полинявшей кофты, когда она распахивалась, виднелась грязная рубашка. Вид у девочки был жалкий, неопрятный, но густые волосы и замечательные глаза, глядевшие на мир с несвойственной ее возрасту задумчивостью, привлекали внимание посторонних людей.
Часто покупатели Злотки, увидев сидевшую на пороге лавчонки девочку, спрашивали:
— Чей это ребенок?
И Злотка равнодушно отвечала:
— Общий!
— Как это «общий»?
— Ничей!
— Общий и ничей! Что же это значит?
На запавших губах старой еврейки мелькала мимолетная печальная улыбка. Покачивая головой, она глубокомысленно изрекала:
— Если ребенок ничей, то должен быть всех, а ежели он всех, то, стало быть, ничей!
Покупатели разводили руками, так и не проникнув в смысл Злоткиной загадки, и тогда ее внучка, придурковатая Ципа, презрительно улыбаясь, объясняла:
— Она подкидыш! Найденыш!
Юлианка всегда внимательно прислушивалась к этим разговорам, а люди, расспрашивавшие о ней, услышав объяснение Ципы, кивали головой в знак того, что теперь им все понятно.
Но однажды…
Стояла холодная ясная осень. В бакалейную лавку вошла женщина среднего роста, худощавая и стройная, в поношенном суконном пальто, в старой шляпе с выгоревшим, измятым цветком. У нее были большие голубые глаза, маленький рот и лоб в морщинках, над которым вились еще совсем по-молодому очень светлые волосы. Злотка встретила ее любезно:
— Наша новая жиличка! Дай бог счастья, дай вам бог счастья в новой квартире!
— Спасибо, милая, — ответила покупательница и попросила несколько фунтов сахару, пачку чая и немного керосину для лампы.
Лавочница, отвешивая и отпуская товар, завела, по обыкновению, разговор с покупательницей.
— Вы к нам надолго? — спросила она.
— Как бог даст, мне хотелось бы подольше пожить здесь…
— А уроки вы уже достали?
— Достала несколько. Но если вы услышите случайно, что кому-нибудь нужна…
— Знаю… знаю… мне два раза повторять не надо… Я-то уж не забуду… А мебель, которую я рекомендовала взять напрокат, понравилась вам?
— Хорошая, очень хорошая, мне лучшей и не надо…
— Что говорить! Брать мебель напрокат — дело не очень выгодное. Лучше бы, конечно, внести деньги сразу и купить!
— Конечно, милая, я это прекрасно понимаю, но где взять деньги? Попозже, со временем может быть, я смогу…
— Дай бог! Я вам добра желаю, но сомневаюсь, чтобы сейчас можно было достать уроки… Очень уж много учительниц у нас в городе.
Голос у худощавой женщины с увядшим лицом и светлыми волосами был тихий и мелодичный. Разговаривая с еврейкой, она все время украдкой поглядывала на сидевшую на пороге Юлианку. Взгляд ее выражал растерянность.
— Чей это ребенок? — спросила она, понизив голос.
Старуха ответила, как всегда:
— Общий!
— Общий?
— Ничей.
Ципа, переливавшая керосин в маленький бидон, вставила:
— Это подкидыш! Найденыш!
— Подкидыш! — чуть не вскрикнула женщина, и лицо ее зарделось до самых корней льняных волос. Но тут же, овладев собой, она спросила как бы между прочим:
— Давно нашли этого ребенка? Вы, верно, не помните?
— Как не помнить! Нашли как раз в тот год и в тот месяц, когда я выдавала замуж внучку… а она уже семь лет замужем… Значит, ребенка этого нашли семь лет тому назад… осенью… рано утром…
Женщина взяла у Ципы бидон с керосином. Она казалась уже совершенно спокойной, только руки у нее слегка дрожали.
— Кто нашел девочку? — спросила она.
— Нищенка. Ее уже нет в живых. Жила здесь, у нас во дворе, здесь и померла…
— А как зовут девочку?
— Юлианка……
— Почему ее так назвали?
— Юлианой звали нищенку, которая ее нашла. Она ее и в костел крестить носила и просила, чтобы ей дали это имя.
Женщине уже вручили покупки: чай, сахар, керосин, но она не уходила и расспрашивала равнодушным тоном:
— А кто ее кормит?
— Кто же в состоянии ее кормить? Здесь все люди небогатые, у самих детей хватает… Вот она и живет где попало…
Женщина устремила неподвижный взгляд на полки с разноцветными коробками с сигарами и папиросами, потом, простившись со Злоткой, вышла из лавки.
Она даже не взглянула на Юлианку, проходя мимо. Девочка тоже не обратила на нее внимания — она привыкла к подобным расспросам и к тому же была занята тем, что старалась укутать подолом дырявой юбки посиневшие от холода ноги.
Час спустя Юлианка увидела кучку детей, которые собрались во дворе напротив старого дома и глядели на что-то, задрав головы и разинув рты. Девочка остановилась немного поодаль и тоже посмотрела наверх. Тут и у нее раскрылся рот от изумления и глаза засияли восторгом. На самом верхнем этаже большого дома, еще выше, чем гладильная мастерская, в зиявший раньше пустотой проем вставили окно. Его деревянные некрашеные рамы были распахнуты, ветер колыхал белую зубчатую занавеску, за которой висела клетка с канарейкой. Занавеска, а еще больше пение канарейки привлекли внимание ребят. Юлианка не спускала глаз с окна, и, когда дети разошлись, она все еще стояла на месте. Тогда в окне показалась женщина, которая час назад была в лавке, и поманила Юлианку.
Девочка не сразу поняла, что это относится к ней, но женщина с явным нетерпением снова помахала ей рукой, не переставая напряженно всматриваться в ребенка. Юлианка сорвалась с места и с нескрываемой радостью помчалась бегом к старому дому, так как приглашение в гости было редким и необыкновенно счастливым событием в ее жизни.
Дом Юлианка знала прекрасно. По полусгнившей лестнице она миновала гладильню и, поднявшись на верхний, незаселенный этаж, прошла через несколько пустых комнат без окон и дверей и остановилась у ветхой, неплотно закрывавшейся двери, которую она осторожно и робко приоткрыла.
У порога ее ждала та самая худощавая, бледная женщина, но уже без пальто и шляпы, в узком черном платье, с толстой светлой косой, уложенной вокруг головы. Сейчас, впрочем, она не была бледна, щеки ее горели ярким румянцем. Как только девочка переступила порог, она схватила ее на руки. Глядя на эту женщину, трудно было поверить, что у нее хватит сил поднять семилетнего, хотя и тщедушного ребенка. Она казалась слабой, хрупкой, но в эту минуту, как видно, руки ее обрели силу и цепкость. Не выпуская девочки из объятий, она уселась вместе с ней на старом продавленном диванчике, и на лицо Юлианки посыпался град горячих поцелуев и слез. Льняная коса расплелась, и волосы окутали девочку так, что она, кроме огромных влажных и блестящих голубых глаз женщины, уже ничего не видела. Юлианка ничего не понимала. Она была удивлена и ошеломлена, чуть не задохнулась в страстных объятиях женщины, и, надо признаться, ее это не особенно тронуло. Первый раз в жизни ее так горячо целовали, так плакали над ней. Когда женщина успокоилась и, немного отстранив от себя Юлианку, стала вглядываться в лицо ребенка, то увидела, что оно выражало только глубокое изумление.
— Поцелуй меня! — прошептали тонкие, бледные, дрожащие губы.
Юлианка поцеловала ее руку.
— Какая ты худенькая, — шептала женщина, ощупывая руки, ноги, грудь девочки, — худенькая и маленькая для своих лет… У тебя что-нибудь болит?
— Болит, — ответила Юлианка. — А что у тебя болит?
Юлианка показала свои отмороженные ноги, потом, засучив широкий рукав кофты, обнажила руку со следами ожогов, щипков и ушибов.
— Когда я была маленькая, — объясняла она, — на меня упал раскаленный утюг… вот сюда… А это меня Антек исщипал… в сенях, где я ночевала, кирпич свалился вот сюда… вчера… Нет, — поправилась она, — не вчера, а завтра.
Она до сих пор не научилась различать слова «вчера» и «завтра».
Слушая ее, женщина прикладывала руку то ко лбу, то к груди, потом снова ко лбу.
— Ты ела сегодня? — спросила она.
— Ела.
— Что же ты ела?
— Баранку, мне Злотка дала.
— А больше не хочешь?
— Хочу! — отозвалась, оживившись, Юлианка.
В силу обстоятельств, Юлианка быстрее всего отзывалась на ощущение голода: то была ее самая чувствительная струна.
Женщина вынула из низкого шкафчика еду и, усевшись рядом с Юлианкой, не спуская с нее глаз, наблюдала, как она ест; а Юлианка, рассмотрев скромную, но опрятную мебель, канарейку, распевавшую в клетке, белую занавеску, развевавшуюся на ветру, принялась болтать. Женщине хотелось знать, как она жила до сих пор, и Юлианка рассказала, что жила у прачки, когда была маленькой (теперь она считала себя уже большой), и что пан Якуб — повар — выбросил ее ночью на улицу; рассказала и о том, что было после: о доброй старой пани, которая неизвестно куда исчезла, когда глаза не захотели больше служить ей, о больном музыканте, который играет на рояле, о токаре и его жене, об Анке и Антке, — но больше всего об Антке, об этом скверном мальчишке. Вспомнив о нем, она сжала кулачки и гневно сверкнула глазами, но потом задумчиво добавила:
— Все-таки я простила ему… накажи меня бог, если вру… простила и не поколотила его, когда он пьяный валялся у ворот. Потому что старая пани просила: «Прости его», — вот я и простила.
Женщина крепко обняла девочку и, пряча лицо в ее густых кудрях, прошептала:
— Если бы ты могла когда-нибудь и другим простить… Если бы ты могла…
Она поднялась и стала ходить по комнате. Успокоившись, она снова села рядом с Юлианкой. Как видно, долгие тяжелые испытания научили ее сдерживать себя, скрывать свои чувства, и поэтому сейчас она не считала нужным их обнаруживать. Она привлекла к себе девочку и, поставив перед собой, повела серьезный разговор:
— Юлианка, моя дорогая! Пока я здесь живу, я буду о тебе заботиться… Ну что? Ты рада?
Девочка, не говоря ни слова, совершенно равнодушно снова поцеловала ее руку. Таким образом она выразила некоторую признательность, но ни радости, ни нежности не проявила. Все это казалось ей странным, этому трудно было поверить.
Женщина продолжала:
— Но помни: ни в коем случае никогда и никому не рассказывай о наших разговорах, о том, как я отношусь к тебе… понимаешь, Юлианка?
Девочка кивнула головой.
— Никому не говори, что я целовала и обнимала тебя. Помни: никому! И если я случайно скажу что-нибудь такое… Так вот: что бы я ни говорила — тебе ли, сама ли с собой, или во сне — не повторяй этого никогда! Понимаешь, дитя мое? Никому ни слова! И никому не говори, если назову тебя моей девочкой, моим ребенком…
Она умолкла на мгновенье, словно у нее захватило дух. Но она справилась с собой и сохранила спокойствие и даже суровость.
— Ты должна слушаться меня во всем, а если не послушаешься, то погубишь… причинишь и мне и себе много горя. Ну что, будешь слушаться?
— Буду, — ответила девочка, внимательно прислушивавшаяся к ее словам.
— Слушайся меня! И тогда я сошью тебе новое теплое платье, куплю башмаки, буду каждый день кормить обедом и научу многим интересным вещам… А молитвы ты знаешь?
— Знаю… Старая пани научила…
— Господи, воздай ей за это! Господи, защити ее! Господи, пошли ей год счастливой жизни за каждое слово молитвы… — торопливо зашептала женщина дрожащими губами. — А ты умеешь что-нибудь делать.
— Чулки вязать старая пани выучила, да я, наверно, уже забыла…
— Я научу тебя разным рукоделиям… А теперь слушай, как ты должна меня называть… Меня зовут Янина, называй меня панна Янина!
— Панна Янина, — повторила девочка.
— Хорошо! Так помни о том, что я сказала. А сейчас я пойду в город… я домашняя учительница… я учу маленьких детей… вот я и пойду на урок… я буду каждый день уходить, а ты оставайся здесь; не ходи в этот грязный двор, не ходи к этим людям, не проси ничего… тебе ничего не надо… ты будешь сыта и одета. Оставайся здесь. Можешь быть спокойна, никто чужой сюда не зайдет… и вор не придет… ему здесь делать нечего! Смотри на птичку, — это канарейка. Ее подарила мне моя последняя ученица, потому что я очень привязалась к этой птичке… Что поделаешь! И к птичке можно привязаться. Потом ложись спать; вечером я вернусь…
Она надела старое суконное пальто и шляпу с цветком, поблекшим и помятым, как ее лицо. Сейчас, после тяжелого разговора с девочкой, ее нежное, тонкое лицо казалось постаревшим и измученным.
Янина ушла. Оставшись одна, Юлианка принялась разглядывать птичку. Она слушала ее пение, а потом, приподняв голову, чтобы лучше видеть канарейку, начала подпевать ей; и этот дуэт длился до тех пор, пока Юлианка не устала. Тогда она принялась степенно, с некоторой, правда, робостью, расхаживать по комнате, заглядывать во все углы и рассматривать вещи. Вещи эти не представляли собой ничего необыкновенного, но все же некоторые из них произвели на Юлианку сильное впечатление. Она долго, со всех сторон, рассматривала старый, ветхий диванчик, перебрала по очереди все лежавшие на столе книжки, попробовала выдвинуть ящик стола, вытащила его, а потом долго вдвигала обратно, и по ее сиявшему лицу видно было, что это занятие доставляет ей большое удовольствие. Затем она уселась на полу против небольшого самовара и, глядя на его блестящую поверхность, заснула.
Спала она до тех пор, пока не открылась дверь. Янина не вошла, а вбежала в комнату. Лицо ее светилось радостью. С порога она протянула руки к девочке, проснувшейся, но продолжавшей сидеть на полу.
— Ну, что ж ты меня не встречаешь, не целуешь? Ты мне не рада?
Девочка медленно приблизилась к панне Янине и робко поцеловала ее руку. Лицо Янины омрачилось.
— Какая ты холодная! — прошептала она и затем, зажигая лампу, сказала: — Пойдем, я научу тебя ставить самовар.
А про себя подумала: «Я и сама-то не очень хорошо умею…»
Вечер прошел в разговорах с ребенком… Когда настало время ложиться спать, Янина спустила с колен Юлианку и сказала:
— Ночевать у меня нельзя, люди подумают, что я тебя совсем к себе взяла, и еще могут догадаться… могут много неприятностей мне причинить… Днем ты будешь здесь, а спать тебе придется в другом месте. Ты всем говори, что я не оставляю тебя ночевать, потому что… да потому что у меня тесно; скажешь, что я всегда велю тебе уходить вечером… Смотри, непременно говори так!.. Но где же ты будешь спать?
Янина долго раздумывала, потом взяла лампу и пошла осматривать нежилой этаж дома. Она нашла уголок, защищенный выступом стены от ветра, проникавшего сквозь незастекленные окна.
— Вот тут я и устрою тебе постель, — сказала Янина.
Она наскоро соорудила сенничок, положила на него одну из своих тощих подушек, а вместо одеяла дала Юлианке старый теплый платок.
— В морозы я буду брать тебя к себе, а когда тепло — спи здесь… Только, — добавила она, — не говори никому, что я тебе постель дала… Помни, никому не говори!
Прошел месяц, а может быть, и больше; однажды, когда панна Янина пришла после уроков домой, Юлианка бросилась к ней, обняла колени и стала страстно целовать ее ноги. Девочка не привыкла выказывать нежность; то была одна из тех струн, которые медленно пробуждались; но стоило этой струне хоть однажды затрепетать, как в душе ее вспыхнуло с огромной силой чувство, и она припала в слезах к ногам и груди того, кого полюбила.
Вместе с панной Яниной в жизнь Юлианки проник первый луч счастья; отблеском его светилось лицо, на котором заиграл румянец; оно сказывалось и в движениях, становившихся смелее и уверенней. Юлианка долго не появлялась ни во дворе, ни в одной из знакомых квартир. Повидимому, ее туда и не тянуло: в комнате панны Янины и на всем огромном незаселенном этаже было достаточно простора и можно было найти немало предметов для игры и забавы. Но однажды, в начале зимы, девочка появилась внизу у входных дверей, в дешевом, но теплом платье, в чулках и грубых башмаках, а волосы ее, аккуратно причесанные, были перевязаны лентой. Увидев Юлианку, дети, игравшие во дворе, подбежали к ней и стали рассматривать ее наряд. Анка трогала рукой ленту, она не могла оторвать от нее глаз, босоногая дочка портного глядела на башмаки. Только на Антка Юлианкин наряд не произвел впечатления. Он стал издеваться над ней:
— Глядите, глядите! Тоже мне барышня нашлась! Кто ж тебе дал все это? Может быть, твоя мама вернулась или отца ветер с поля принес? Не поможет тебе красивое платье: как была подкидышем, так подкидышем и осталась!
Юлианка вспыхнула, глаза у нее засверкали гневом. Но она ничего не ответила, потому что в это время выплетала ленту; затем молча протянула ее Анке. Анка так и подскочила от радости и сразу же принялась вплетать ее в косичку, а Антек, кривляясь и гримасничая, принялся снова издеваться над Юлианкой.
— Глядите, вот так принцесса! Подарки раздает!
— А помнишь, как у нас за метлой жила, картошку под скамьей ела?
У Юлианки сжимались кулаки. Казалось, она вот-вот бросится на него. Однако она только вытянула шею и показала ему язык: в такого рода мести ей было трудно себе отказать. А потом, испугавшись, она пустилась бежать со всех ног к лестнице, которая вела в комнату панны Янины.
Антек и его товарищи хотели было погнаться за ней, но у них не хватило духу. Они не осмеливались врываться в комнату учительницы: все жильцы невольно признавали, что панна Янина стоит выше их, — оттого ли, что она носила шляпу, оттого ли, что в окне у нее висела клетка с канарейкой или еще отчего-то.
— Она детей учит, — говорили они, — значит, образованная, и обхождение имеет вежливое!
Но самые достоверные сведения об образовании, полученном этой бледной, худенькой женщиной, имела старая Злотка; сведения эти были почерпнуты от самой панны Янины. Как-то, сделав свои обычные покупки — немного сахару и керосину, — панна Янина спросила:
— Ничего новенького для меня нет?
Злотка отрицательно покачала головой.
— Я у многих спрашивала, — ответила она, — узнавала, но никому не нужно… У нас в городе сейчас страх как много учительниц… больше чем детей… А разве вам мало уроков, которые у вас есть?
— Мало, очень мало… на жизнь не хватает… Мне много не платят.
— Почему же? Я знаю, что учительницы получают большие деньги за те знания, которые в своей голове имеют.
Янина отвернулась и снова стала разглядывать полку с разноцветными коробками сигар.
— В том-то и беда, — сказала она, — в том-то моя большая беда, что знаний у меня очень мало… — И, не отрывая пристального взгляда от полки, добавила: — Я всегда учила только самых маленьких… начинающих… и мне всегда платили очень мало… да и, по правде говоря, платить больше не за что…
Злотка безнадежно развела руками:
— Раз так, ничего не поделаешь!
Вечером, вернувшись из города, Янина не обняла, как обычно, Юлианку. Оттолкнув ее, она опустилась на стул и погрузилась в глубокую задумчивость, теребя дрожащими руками края черной поношенной кофты.
Удивленная, огорченная, девочка подошла к ней, но она снова оттолкнула ее, прошептав:
— На горе мое ты родилась… да и на свое…
Янина весь вечер сидела неподвижно, не проронив ни слова. Юлианка тихо всхлипывала. Но наутро, когда Юлианка проснулась в своем углу за выступом стены, она увидела склонившуюся над ней панну Янину. Улыбаясь, она поцеловала ребенка в лоб.
— Поди подмети комнату, — сказала она.
Она поручала девочке подметать каждое утро комнату, ставить самовар, топить печку и стелить постель; глядя, как девочка с трудом справлялась с непосильной работой, Янина говорила с глубокой печалью:
— Мне хочется, чтобы из тебя хоть хорошая служанка вышла!
По вечерам Янина учила девочку закону божьему, чтению и шитью; иногда она бывала необычайно ласкова, а подчас требовательна, нетерпелива, раздражительна.
Если бы кто-нибудь видел, как она поминутно вскакивала со стула, металась по комнате, обнимала и целовала девочку, отталкивала ее, била по рукам за малейшую ошибку в чтении или шитье, хваталась за голову и что-то быстро и бессвязно бормотала, — он мог бы подумать, что она близка к помешательству. Но она быстро овладевала собой и, скрестив на груди руки, сжимала тонкие губы. И тогда казалось, что эта женщина готова ценой любых страданий и мук добиться своей цели.
Как-то весной, когда всюду открылись окна и двери, Янина зашла к токарю. У порога она задержалась в нерешительности. Увидев ее, хозяин оставил работу и приветливо с ней поздоровался, а его жена растерялась и в изумлении уставилась на нежданную гостью. Но, опомнившись, она тут же велела Кахне подать табурет. Панна Янина села. Она, казалось, была еще более смущена, чем хозяйка.
— Мне хочется познакомиться с вами, ведь мы соседи, — сказала она, чтобы оправдать свое посещение.
Жена токаря ответила, что каждый день видит из окна, как панна Янина уходит в город и возвращается домой.
— Почему вы никогда не возьмете с собой девочку? — спросила она. — Ей, бедняжке, не плохо бы на свет, на людей поглядеть.
Янина густо покраснела.
— Какую девочку? — спросила она с деланым удивлением.
— Да сиротку, которую вы приютили.
— Что вы? Она вовсе не живет у меня! — уверяла Янина. — К чему мне это… Конечно, когда я вижу, что она голодна, я кормлю ее… из жалости… только из жалости… Если ребенку нравится быть со мной, не стану же я гнать его, мне она не мешает. Но я не собираюсь ее опекать.
Токарь с женой недоумевали: зачем она с таким жаром отрекается от того, что они считают добрым делом.
— Жаль, — сказал после паузы токарь, — а мы уж думали, что бедная девочка нашла, наконец, человека, который будет о ней заботиться, покуда она мала… Вырастет, так уж сама справится, а вот пока мала — как ей быть? Милостыню просить, а потом, сохрани бог, воровать?..
Едва заметная дрожь пробежала по рукам и лицу Янины.
— Что вы, — сказала она, — что вы… Я не прогоню девочку, пока в состоянии кормить ее и учить. Но какое мне собственно до нее дело? Жаль ее, конечно… Но я еще сама не знаю, сколько времени здесь проживу; а может быть, если мне придется уехать, вы воспитали бы ее… вместе со своими детьми?
Она бесконечно робела, и в голосе ее — как ни старалась она казаться спокойной — слышалась мольба. После некоторого раздумья токарь ответил:
— Признаюсь, мне это самому не раз в голову приходило и с женой я советовался, но люди мы небогатые… у нас шестеро детей. А уж если б я решился взять сиротку, то ни в коем случае не согласился бы, чтобы ей в моем доме плохо жилось. И одеть ее надо прилично, и кормить хорошо, и работе какой-нибудь обучить… На все это понадобились бы немалые деньги — значит, в ущерб моим детям. А я считаю, что нехорошо помогать одним за счет других. И потом, осенью мы уедем… А когда будем жить далеко отсюда, на другом конце города, ее горе нам глаз колоть не будет.
Янина слушала потупившись и, сказав еще несколько малозначащих слов, ушла. Весь вечер она проплакала.
Однажды, в середине лета, она возвратилась из города с большим букетом цветов. Она не понесла его к себе, а, проскользнув незаметно вдоль стены бокового флигеля, положила на подоконник к учителю музыки.
Всю зиму он не подходил к роялю, так как почти не вставал с постели; сейчас он играл. Услышав шаги за открытым окном, он хрипло спросил, не отрывая рук от клавишей:
— Это ты, пташка?
Обернувшись и увидев стоявшую за окном женщину, он удивился. Как и все жильцы дома, он знал Янину в лицо.
— Какие красивые цветы! — воскликнул он, с трудом приподнимаясь. — До чего ж вы добры! Цветы — моя страсть!
— Цветы прислала вам сиротка, — тихо сказала женщина.
— Как ей живется? Бедное прелестное дитя! Мне хотелось бы повидать ее!
— Я пришлю ее к вам, — обещала панна Янина.
Музыкант хотел еще что-то сказать, но тяжелый приступ кашля помешал ему. Поднимаясь по лестнице старого дома, панна Янина шептала:
— И на него надеяться нечего. Ему недолго жить!.
Осенью люди стали поговаривать, что учительница, как видно, больна, так как еле ходит и очень плохо выглядит. Но Янина не была больна, ее, повидимому, угнетали какие-то тяжкие заботы, тяжкие скорей всего потому, что сил у нее было мало.
Однажды она пришла к Злотке не за покупками, а просто поговорить.
— Ах, милая, — сказала она, — какое несчастье, что я не могу получить уроки. Я уже и шитьем занялась, но все равно очень туго приходится!
— Не беда, — утешала ее Злотка, — как-нибудь проживете! А потом, может, легче станет!
— Я не привыкла к такой нужде, — продолжала Янина. — Когда умер мой отец — он был чиновником, а при нем я ни в чем не нуждалась — я жила в разных домах… Жалованье получала очень маленькое, хватало только на то, чтобы скромно одеться, но условия были всегда хорошие; кто держит гувернантку, у того и обед каждый день есть, и стакан чаю, и теплая комната. Я избалована, и мне трудно все это терпеть.
Злотка пристально посмотрела на опечаленную женщину.
— А я советую терпеть… мне кажется, есть кое-что такое, что может мучить больше, чем голод и холод…
— Есть, конечно, есть! — прошептала женщина.
Она сплела свои маленькие исхудалые руки и облокотилась на уставленный бутылками прилавок. Так стояла она долго, потом сказала:
— Весной я постараюсь найти какое-нибудь место и уеду.
— Не советую этого делать, — возразила лавочница.
— Почему?
— Об этом вы себя спросите.
В слова эти был вложен тайный смысл. Янина покраснела не то от гнева, не то от страха.
— Любопытно знать, — запальчиво сказала она, — почему я не вправе поступать так, как для меня лучше! Зиму я еще здесь проживу, непременно проживу, потому что очень боюсь морозов…
— Если вы боитесь морозов, — подхватила Злотка, — то почему бы вам не выехать из этого старого холодного дома еще до начала зимы и не поискать места с теплой комнатой?
Янина смутилась.
— Ладно уж, — ответила она, — зиму проживу как-нибудь… а к весне, может быть, господь поможет… и если дела мои хоть немного поправятся, я останусь здесь; мне очень, очень хочется здесь остаться…
Она не только была удручена заботами, ее угнетал какой-то страх. Разговаривая с людьми, она старалась не встречаться с ними взглядом, опускала глаза или отводила их в сторону, отчего всегда казалась смущенной. Видно было, что Янина не умела вести даже самое скромное хозяйство и питала пристрастие к вещам, которые были ей не по средствам. Ее расточительность не распространялась на одежду. Она как будто навсегда отказалась даже от помыслов о кокетстве, нарядах, изяществе. С тех пор как она появилась в этом доме, ее видели в одном и том же платье, в одной и той же шляпке; платье было уже сильно поношенным, а вылинявший цветок на шляпке превратился в грязную тряпочку. Но Янина любила сласти, цветы и птиц. Она приносила из города цветы, пирожные, конфеты, завела еще одну канарейку, уставила подоконник горшками с растениями. А потом по целым неделям не посылала в кухмистерскую за обедом и самые необходимые продукты брала у Злотки в долг. Ее поступки и образ жизни говорили о том, что она принадлежит к числу тех женщин, которые на всю жизнь остаются слабыми, робкими и беспомощными детьми.
Но тот, кто увидел бы ее глухой ночью, когда она с лампой в руке, крадучись, пробиралась по нежилому этажу дома, по пустым, темным комнатам, в которых завывал ветер, и, поставив лампу на пол, долго стояла возле маленькой девочки, спавшей на убогой постели, тот понял бы, что эта женщина-ребенок глубоко страдает. Прямая, неподвижная, с закинутыми за голову руками, с широко раскрытыми, остановившимися глазами, она была похожа на статую, в которой ваятель воплотил человеческую скорбь и страдание.
— Боже, зачем ты дал мне сердце?
Иногда, прижав руку к груди, она исступленно шептала в ночной тишине:
— Совесть моя, совесть, совесть!
По временам, наедине с собой, она перебирала при свете лампы старые письма, засушенные цветы, обрывки выцветших лент и беззвучно плакала — горько и долго.
— Если б я могла потерять память… — твердила она, заломив руки, — если б я могла потерять память, как потеряла веру и надежду!..
В середине зимы она встретилась в подъезде с владелицей гладильной мастерской и робко спросила, не купит ли она ее канареек. Ясновельможная собственница убогого владения соблаговолила сказать, что спросит своих племянниц.
— Если пожелают, — куплю у вас птичек; я ведь своим барышням ни в чем не отказываю; ну, а если уж не пожелают, — не куплю.
Барышни изъявили желание приобрести хорошеньких певчих птичек, и хозяйка гладильной мастерской прислала за ними, уплатив нужную сумму.
Когда канареек уносили, Юлианка нежно прощалась с ними и, плача, старалась поцеловать их сквозь прутья клетки.
— Не плачь! — сказала ей Янина. — Для слез у тебя, может статься, скоро будет причина посерьезнее.
Вскоре после продажи канареек Янина объявила девушке, доставлявшей обеды из кухмистерской, что отказывается от них.
— Я буду готовить дома, — сказала она, — дешевле обойдется.
Но домашние обеды не удавались Янине; ничего толком у нее не получалось, — она обжигала руки, сердилась, плакала. Кончилось тем, что она стала покупать или брать в долг в городе холодные готовые блюда, стоившие столько же, если не больше, чем горячие питательные обеды из кухмистерской. Она, видно, не умела вести счет деньгам и, кроме того, была лакомкой, поэтому много денег уходило на сласти.
Когда весной, в первый ясный и солнечный день, Янина зашла к Злотке в лавку, та всплеснула руками:
— Ай-ай! Как вы плохо выглядите! Как похудели!
И в самом деле, лицо Янины пожелтело, глаза ввалились, на лбу прибавилось морщин. Она постарела и подурнела, только льняные волосы вились все так же молодо и кокетливо и маленький рот сохранил свежесть и привлекательность.
— Хочу посоветоваться с вами, милая, — сказала она, — как мне быть? Я нашла место, очень хорошее… у порядочных людей в довольно богатом доме… Жалованье предлагают большее, чем я когда-либо получала, — не знаю уж, чем я так понравилась и родителям и детям…
Она умолкла и казалась еще более смущенной, чем обычно.
Злотка молчала, покачивая головой, как всегда, когда задумывалась над чем-то грустным и непонятным. Потом устремила свои умные, проницательные, хотя и потухшие от старости глаза на стоявшую перед ней женщину и тихо спросила:
— Что же будет с ребенком?
На этот раз Янина была, очевидно, так погружена в свои мысли или расстроена, что не сказала, как всегда: «А мне какое дело до этого ребенка?» Облокотившись о прилавок, она глядела невидящим взглядом и глухо повторяла:
— Что же будет с ребенком?
— Вы бы по крайней мере поместили его куда-нибудь.
— Куда же? Как я могу это сделать? — вспыхнула женщина. — У меня нет ни знакомых, ни возможностей… Я просила всех, кого только знаю… отказываются… да я в конце концов и не могу настаивать — иначе люди сразу же… На весь город есть только один детский приют, всегда переполненный… да если бы и нашлось место, разве его выпросишь… Я одинока, бедна, у меня нет ни протекции, ни средств… О боже мой, боже!
Голос ее становился все громче и жалобней. Она была бледна как полотно.
Старая еврейка смотрела на нее, трясла головой и о чем-то думала. Потом оглянулась и, увидев, что, кроме них, в лавке никого нет, тихонько спросила:
— А почему бы вам не сообщить ему обо всем? Может быть, поможет, посоветует?
Лицо панны Янины стало пунцовым.
— Кому сообщить? Кто может мне помочь? — вскрикнула она с раздражением.
Запавшие губы еврейки сложились вдруг в странную улыбку, жалостливую и чуть презрительную.
— Ну, ну, — произнесла она медленно, — если вы не понимаете, то я объяснять не стану. Но кое-что все-таки скажу…
Злотка подняла вверх сморщенный палец и, покачивая головой, продолжала:
— Вот еще что мне хочется вам сказать: стыдиться иногда хорошо, а иногда — плохо… Стыд хорош, когда оберегает человека от греха, и нехорош, когда мешает человеку исправить свой грех. Вот и страх — он тоже к месту, если страшишься бога, ну а людей бояться — плохо, очень плохо… что хорошего может сделать человек, который всегда чего-то стыдится, всегда в страхе?
Панна Янина задрожала; она снова стала очень бледной. Но, когда она встретилась взглядом со Злоткой, в глазах ее сверкнул гнев.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — сказала она резко и вышла.
Вечером к учительнице явился плохо одетый еврей и сначала вежливо, а потом все громче и настойчивее стал требовать, чтоб она вернула ему долг. Янина краснела, смущалась, просила отсрочки, потом обещала уплатить через несколько дней.
На следующее утро у Янины состоялся такой же разговор с женщиной в большом платке, которая, бесцеремонно развалившись на диванчике, разговаривала развязным тоном и смотрела на нее злобным взглядом.
Через несколько часов Янина зашла к Злотке в лавку. Она силилась сохранить хладнокровие и решимость, хотя это ей плохо удавалось. Высоко держа голову, она старалась преодолеть смущение и робость, но губы ее дрожали, а глаза наполнялись слезами.
— Дорогая моя, — сказала она, подойдя к прилавку, за которым сидела Злотка, — сколько я вам должна?
Та быстро составила небольшой счет и молча подала его.
— Я заплачу сегодня вечером, — сказала Янина.
— Вы уже договорились об этом месте?
— Я сейчас пойду и скажу, что принимаю предложение. Завтра я уезжаю с этой семьей в деревню…
— Далеко?
— Кажется, миль двадцать отсюда.
Злотка молчала. Янине уже незачем было оставаться в лавке, но она не уходила. Помолчав, она сказала:
— Мне придется попросить вперед жалованье за год… Половина уйдет на уплату долгов, да и приодеться надо, потому что дом богатый и там необходимо прилично одеваться. Но, если вы разрешите, я оставлю вам немного денег… для девочки…
Злотка с досадой махнула рукой.
— Что за польза от этих денег? Сколько вы можете оставить? Хорошо, я буду кормить ее, пока денег хватит… а что потом?
— Что же я могу сделать? — прошептала Янина. — Я ведь вернусь… как только соберу немного денег, я сейчас же вернусь… А пока… милая моя… вы женщина старая, почтенная… у вас дети и внуки…
Голос ее прервался, она смотрела на Злотку, с мольбой сложив руки.
— Чем же я могу помочь? — спросила Злотка, пожимая плечами. — Мне, конечно, жаль ее, но я еврейка, а она христианское дитя… к себе я ее взять не могу… а если нельзя взять ее к себе, то какая от меня польза?
— Присматривайте за ней, покормите иногда, совет дайте или наставление…
— Ну-ну! — ответила Злотка и махнула рукой.
Янина ушла в город и вернулась только в сумерки; ее с нетерпением ожидала Юлианка. Девочка с радостным криком бросилась к ней, на шею, обнимала, осыпала поцелуями руки: Юлианка научилась уже выражать любовь. Янина, не вымолвив ни слова, направилась к диванчику, на котором они обычно проводили вечера. Юлианка шла за ней, без умолку болтая. Она с гордостью сообщила, что целый день напролет учила урок и уже хорошо знает рассказ о бедной девочке Еленке и ее верной собачке. Трудно было понять, слышит ли женщина щебет девочки. Лицо ее в сумерках казалось белее мрамора. Она была нема, как стена. Темнота в комнате сгущалась.
— Зажечь лампу? — спросила Юлианка. — Я умею.
Вместо ответа Янина притянула ее к себе и усадила на колени.
— Юлианка, — глухо сказала она.
— Что? — весело отозвалась девочка.
— Слушай меня, Юлианка; я буду говорить с тобой о вещах серьезных и грустных…
Девочка сразу стала серьезной, и даже в полумраке можно было различить ее блестящие внимательные глаза, устремленные на бледное лицо женщины.
— Я буду говорить с тобой о твоей матери, — прошептала Янина.
— О моей матери? — изумленно переспросила Юлианка.
Янина продолжала глухим, сдавленным голосом:
— Твоя мать бесконечно несчастна. Она не злая… Нет, нет! Есть у нее и сердце и совесть, как у других женщин… Но раз в жизни она совершила грех… и на плечи ее свалилась такая огромная тяжесть, что не хватило сил нести ее… Помни, Юлианка, мать твоя не злая, не бесчувственная, она только бесконечно несчастная и очень слабая… Помни об этом и никогда… не питай ненависти к матери, не осуждай ее! Пожалей ее… и если люди будут ее осуждать, отвечай: «Она хотела сделать, как можно лучше… но не могла… не хватило сил!»
Юлианка слушала, хоть не все ей было понятно. Но этот шепот, прерывавшийся вздохами, всколыхнул ее душу. После минутного молчания, во время которого слышно было только тяжелое дыхание женщины, детский голос спросил:
— А где моя мать?
Послышалось короткое, быстро подавленное рыдание, и женщина медленно и тихо заговорила:
— Твоя мать живет в стране вечного мрака… там не блещет ни единый луч надежды, а если и горит еще где-нибудь огонь любви, то только для того, чтобы терзать, но не радовать… Страна эта темнее самой непроглядной ночи… и люди чаще всего бегут из нее в могилу… но у твоей матери не хватило на это сил… к тому же она думала, что если уйдет в могилу, то уже навсегда расстанется с тобой… И она осталась жить, и вместе с ней живут боль, и стыд, и страх, и горе…
Юлианка чуть не заплакала.
— Но почему?.. — спросила она. — Почему моя мама ушла в эту страшную темную страну?
Помолчав, Янина со странным, почти безумным смешком ответила:
— Потому что очень любила.
И снова настало молчание.
— Панна Янина, — спросила девочка, — а где мой отец?
Янина опустила голову.
— Боже великий! — проговорила она в отчаянии. Потом кротко, с проникновенной нежностью сказала: — Да простит ему бог! Прости ему! — и она прижалась щекой к Юлианке. — А главное — прости матери! Помни, что я тебе не раз говорила: будь вежлива, добра с людьми, никогда не бери чужого… Помни, что если ты сделаешь что-нибудь дурное, — у матери твоей еще сильней заболит сердце, а в той стране, где она живет, станет еще темнее… А теперь, — добавила она, — пойдем… помолимся вместе.
И, взяв девочку за руку, она подвела ее к окну. Совсем стемнело, лил дождь, шумели липы. И в комнате стояла такая тьма, что едва можно было различить очертания коленопреклоненных у окна фигур — женщины и ребенка.
— Сложи руки… смотри на небо… его сейчас не видно… Но оно там… ты знаешь, что оно там… за этой тьмой… Говори: «Отче наш!»
— «Отче наш!» — тихо повторила Юлианка.
— Повторяй громче, громче: «Отче наш, иже еси на небесех!»
— «Отче наш, иже еси на небесех! — громко повторила девочка и продолжала — …да приидет царствие твое…»
— Нет, нет! Не так! Пригнись к самой земле, говори же, моли, повторяй за мной: «Смилуйся над нами!»
Пораженная звуком ее голоса, Юлианка тихо заплакала, и в густом мраке, вторя один другому, зазвенели два плачущих голоса:
— «Смилуйся над нами!»
И долго еще звенели эти слова, потом они сменились тихим плачем.
Прошло несколько дней. Юлианка стояла на пороге старого дома, свесив руки и безучастно глядя вокруг. Платье на ней имело еще довольно приличный вид, ботинки казались совсем новыми, но нечесаные волосы, осунувшееся лицо и сквозившее во всем ее облике глубокое горе говорили о том, что детское сердце страдает. Обитатели дома впервые увидели Юлианку во дворе после того раннего утра, когда грузчики вынесли из комнаты Янины ее скромную мебель, а она сама, никем не замеченная, ушла в город, чтобы больше не вернуться. До этого ее видела только старая Злотка, которая по нескольку раз в день в неизменной своей повязке и пестром платке, накинутом на сгорбленные плечи, пересекала двор и входила в старый дом. В руках у нее всякий раз была мисочка с едой, и, возвращаясь домой, она что-то бормотала, покачивая головой. Когда же ее спрашивали об Юлианке, она говорила:
— Не понимаю, что за ребенок! Сколько живу — такого не видала! Лицо у нее распухло от слез. Сидит в пустой комнате, в углу, не разговаривает, не ест и все время целует пол, по которому ходила та женщина… Я просила ее выйти во двор, поиграть с моими внучками, но она посмотрела на меня безумными глазами и отвернулась к стене… Ну, что мне делать?
Но через два дня Юлианка все же сошла вниз и остановилась на пороге дома. Она стояла долго, глядя, как скользят по траве золотые полосы солнечных лучей, как порхают птицы, как играют дети на другом конце двора. Вдруг в воротах показалась маленькая старушка, по виду нищенка, в руке у нее была толстая палка, на которую она не только опиралась, но и нащупывала ею дорогу, потому что воспаленные красные глаза на морщинистом лице почти ничего не видели. На ней было надето что-то вроде салопа, без рукавов, с заплатами на груди и на спине — то был очень старый салоп, утративший свой первоначальный цвет; на ногах, обернутых полотняными тряпками, были дырявые башмаки без каблуков, седые волосы покрывал порыжевший ватный капор.
Нищенка медленно брела, постукивая палкой о камни, торчавшие то здесь, то там в траве, и, мучительно напрягая почти совсем незрячие глаза, искала кого-то во дворе.
Завидев ее, Юлианка вытянула шею и стала пристально всматриваться. Затем, спрыгнув с высокого крыльца, кинулась к ней. Она столкнулась со старушкой на середине двора и крикнула:
— Пани!
Потом поцеловала руку, в которой старушка держала палку.
— Кто это? Ты, Юлианка? — спросила нищенка хриплым, дрожащим голосом.
— Я! — откликнулась девочка, целуя другую ее руку нищенка ощупью, как это делают слепые, нашла голову девочки и положила на нее свою темную сухую ладонь.
— Ага, — сказала она, — узнала меня, рада, что я пришла! Это хорошо! Ты девочка добрая! Вот видишь, я пришла. Я уже не раз заходила сюда, спрашивала о тебе. Что же! Живешь ты теперь не худо… О тебе заботится добрая пани… Отведи меня к ней, я с ней познакомлюсь и смогу иногда навещать тебя… А может быть, вы что-нибудь дадите мне — обноски ненужные пли ложку горячего супу? Да, кто бы мог подумать! Ну что, отведешь меня к ней?
Девочка слушала, угрюмо потупившись.
— Ее уже нет, — вымолвила она тихо.
— Нет? А куда же она девалась? Ведь она была здесь совсем недавно! Я наведывалась к Злотке. Где же она?
— Не знаю… Уехала куда-то…
— Уехала… — повторила старуха. — Ну, а ты?
Если бы она была зрячей, то увидела бы, что глаза девочки горят мрачным огнем.
— Такая уж моя судьба! — сказала Юлианка с несвойственной ее возрасту серьезностью и, уставившись в землю, продолжала: — Мать меня бросила, вы меня оставили, а теперь панна Янина… Все меня только бросают и бросают…
— Ну, ну! — прервала ее нищенка. — Не ропщи, не ропщи! С волей божьей надо мириться! А я? Видишь, до чего дожила? Побираюсь! Нищенкой стала! Кто бы мог подумать! Я бы тебя не бросила, если бы не дошла до такой нужды… Вот теперь ты опять одна осталась, мне тебя очень жаль… а что я могу сделать? Если бы еще глаза были, но нет моих глаз! Совсем отказались служить! Я даже дороги не вижу… Ну, будь здорова! Храни тебя господь!
И снова, нащупав дрожащей рукой голову девочки, она поцеловала ее; но Юлианка ухватилась обеими руками за край ее старого салопа.
— Не бросайте меня! — закричала она. — Возьмите с собой…
Нищенка задумалась.
— Взять тебя? А что ты будешь делать? Попрошайничать? Как я?.. Это нехорошо! Очень нехорошо! Это дорога, по которой я ухожу из жизни… Кто бы мог поймать! Но тебе вступать в жизнь по такой дороге нельзя… я перед богом отвечу за тебя! Душу свою погублю!
И, как бы боясь поддаться искушению, она собралась уходить. Но Юлианка преградила ей дорогу, цепляясь за салоп и целуя ее руку.
— Я пойду за вами! — шептала она. — На край света пойду… Я ни за что не останусь здесь одна… Антек снова будет меня бить, и я помру с голода… А у вас глаза уже совсем не видят, заблудитесь еще или упадете и убьетесь… я буду водить вас…
В слепых глазах нищенки стояли слезы.
— Ты боишься, что я заблужусь или упаду, — прошептала она. — О господи! Никого это не заботит — только тебя… Ты не забыла меня, любишь меня… Ты хорошая, добрая девочка! Ну что ж, придется взять тебя с собой! Пойдем! Будешь водить меня… и, может быть, кто-нибудь, увидев тебя со старой, слепой нищенкой, сжалится над тобой… Возьми меня за руку и веди! Вот так мне легче! Потому ли, что дорогу палкой нащупывать не надо, или потому, что живая душа рядом, только идти стало легче, много легче…
У лавки они остановились. Юлианка подбежала к Злотке, поцеловала ей руку.
— Спасибо вам за все, — сказала она.
Лавочница, увидев на тротуаре нищенку, сразу поняла, в чем дело, и закивала головой. Потом подошла к старушке и, сунув ей в руку несколько ассигнаций, сказала:
— Возьмите, пожалуйста; учительница оставила немного денег для девочки.
— Хорошо, очень хорошо! — обрадовалась нищенка. — Хватит нам на некоторое время… Не придется руку протягивать… Кто бы мог подумать!
Злотка, провожая их взглядом, крикнула вдогонку:
— Юлианка! Юлианка! Приходи ко мне иногда… узнать, может быть, она опять пришлет тебе…
— Приду, приду! — уже почти весело отозвалась та.
Путешествие, в которое пускалась девочка, пробудило в ней много смутных желаний и надежд, а глаза ее с жадным любопытством впились в шумную, многолюдную улицу, на которую она ступала первый раз в жизни.
С тех пор на улицах и площадях города часто видели старую слепую нищенку, которую вела за руку девятилетняя девочка. Девочка вначале была одета довольно прилично, но постепенно одежда ее превратилась и лохмотья. Чаще всего они стояли под сводчатыми воротами каменных домов. Во дворы особняков они не заходили, их, вероятно, отпугивали злые собаки и грубые дворники. Не видно их было также и у костелов или на папертях. Ковыляя по острым камням, слепая говорила Юлианке:
— К костелу я не хожу… да! стыдно мне, и столько баб грубых… они еще прибьют, пожалуй… Лучше всего стоять в воротах… все-таки под прикрытием, а не на виду у всех… Когда мы так стоим, прохожим может показаться, что мы кого-то ждем, а мимо проходят разные люди… Если увидишь какую-нибудь пани или пана, сразу же предупреди меня, но сама не проси… боже тебя сохрани… не протягивай руки и не проси… я сама протяну руку и попрошу…
И они стояли в воротах, мимо которых проходило множество различных людей. Юлианка всякий раз дергала слепую нищенку за салоп и, подняв голову, торопливо шептала:
— Идет! идет!
Маленькая сгорбленная старушка пыталась протянуть руку, но ей это никогда не удавалось. Что-то властно ее удерживало. И, вместо того чтобы протянуть руку, старушка в заплатанном салопе и в опорках делала старомодный книксен перед прохожими, что производило весьма странное впечатление.
Ей хотелось что-то сказать, но и этого она не в состоянии была сделать; она только покачивала головой и шептала скороговоркой:
— Кто бы мог подумать! Кто бы мог подумать!
Иногда их видели возле витрин магазинов. Старушка стояла, прислонившись к стене дома, чтобы не мешать прохожим, а девочка, у которой глаза разбегались, любовалась выставленными в витрине вещами. Иногда во взгляде ребенка светилось не только любопытство, но и жадность. Она заставляла старушку останавливаться не только возле магазинов, но и возле ларьков на рынке или на углах улиц.
— Ах, какие замечательные булочки, — говорила она, — а какие баранки, гораздо лучше, чем у Злотки.
Иногда, понизив голос, словно поверяя важную тайну, она говорила:
— Какие чудесные груши!
— Ты, может быть, трогаешь их, — предостерегала ее старушка, — может, берешь что-нибудь, когда никто не видит? Сохрани тебя бог! Помни всегда седьмую заповедь божью, если хочешь счастья на земле и вечного спасенья… Седьмая заповедь гласит: «Не укради!» Если ты когда-нибудь нарушишь эту заповедь, то попадешь в тюрьму и в аду будешь…
Юлианка была послушной, но маленькая рука ее невольно тянулась к ларьку с хлебом или фруктами. Случалось иногда, что торговки — по большей части старые еврейки в грязных юбках и давно нестиранных чепцах, — сжалившись над девочкой, которая тянулась дрожащей рукой к груше, но тут же отдергивала ее, подавали ей черствую булку или гнилое яблоко. Девочка тихо говорила: «Спасибо», и на ходу съедала гостинец. Но она никогда не забывала о слепой: надломив булку или надкусив яблоко, она привставала на цыпочки и совала кусок в рот своей спутнице.
И в ясные и в дождливые дни бродили они обе по городу. Иногда, усевшись в укромном уголке прямо на землю, они отдыхали. И тот, кто захотел бы подслушать их разговор, услышал бы, как старушка рассказывает девочке о своем давно минувшем прошлом, о богатстве, в котором жила, о людях, которых знала, приговаривая все время: «Кто бы мог подумать!» и: «Где теперь эти люди? где?», или учила и наставляла Юлианку.
— Об одном молю бога, — говорила она, — дожить до того времени, когда ты хоть немного на ноги встанешь и сможешь в услужение наняться. Пока я жива, ты не пропадешь, а когда тебе лет двенадцать минет, сможешь пристроиться где-нибудь за кусок хлеба и крышу над головой… Потом вырастешь, руки станут сильными, и уж тогда ты не будешь знать беды! Самое главное, дожить бы мне до того времени, пока ты хоть немного на ноги станешь… но не знаю, доживу ли… Дыра, где мы ночуем, очень уж сырая, а это вредно при моем ревматизме… Кто бы мог подумать! Кости мои, кажется, вот-вот рассыплются… Ноги совсем уж меня не держат…
Несчастные, старые, больные кости! Они рассыпались скорее, чем предполагала их обладательница, и в городе не стало слепой нищенки, а маленькая ее поводырка бродила теперь по улицам одна.
Она не «встала еще на ноги». Она не достигла еще двенадцати лет — того возраста, когда, по мнению нищенки, она могла начать самостоятельную жизнь. До того ей не хватало еще полутора лет. И к тому же она была не по возрасту маленькой, хрупкой, только ноги ее казались непомерно длинными, потому что старая юбка теперь едва доходила до колен. Юлианка забыла о том, что такое обувь: ее худые босые ноги были багровыми от холода и в ссадинах от камней. Кроме короткой юбчонки, на ней была еще рваная кофточка, а голову она повязывала каким-то лоскутком. Тряпка та соскальзывала все время на плечи, она не держалась на густых вьющихся волосах.
Черты ее лица были на редкость правильными и тонкими; в ней привлекали необыкновенно смуглая кожа, огромные черные и блестящие глаза. Юлианка по целым дням бродила по улицам, останавливалась у витрин магазинов, у ворот высоких каменных домов, у окон особняков. Вначале она просила милостыню безмолвно: просила глазами, в упор глядевшими на прохожих, если же ей не подавали, она не шла следом, а ждала другого прохожего. Позже она привыкла протягивать руку и бегать за прохожими, лепеча что-то монотонно и плаксиво. Чаще всего она стояла у одноэтажных домов, где подоконники были уставлены горшками с зеленью. Она подолгу стояла под окнами и глядела на цветы то мрачно, то чему-то улыбаясь. Лицу ее и движениям свойственны были удивительные контрасты. Взгляд ее постоянно потупленных глаз был мрачен или полон подозрительности и тревоги, а рот, маленький и бледный, то поражал детской трогательностью, то выражением глубокой муки. Движения ее были порой порывистыми, порой осторожными, медлительными, и тогда в них чувствовалась безмерная усталость. Зимой, сжав маленькие посинелые руки в кулачки, она согревала их своим дыханием. Так шла она, съежившись от холода, и вид у нее был подавленный.
Где она ночевала? С кем зналась и проводила дни в ту пору своей жизни? Никому это не было известно, да и, по правде говоря, никто этим не интересовался. Кто-то из тех, кто часто подавал ей милостыню, заметил, что в сумерки она иногда сворачивала в узкий грязный и зловонный переулок; кто-то, однажды проходя вечером по этому переулку, заглянул случайно в подвальное оконце, собранное из мелких зеленых стекол, и увидел каморку, вернее какую-то черную, низкую, закопченную дыру, где на соломе сидела Юлианка возле безногого старого нищего. При тусклом свете маленького огарка, прилепленного к грязной табуретке, старый калека, обматывая тряпками обрубки ног, неторопливо рассказывал что-то, а девочка, сидевшая подле него, слушала, обхватив руками колени и не сводя глаз с красного, заросшего седой щетиной лица. Как-то ранним утром ее нашли спящей в отдаленном уголке городского кладбища у свежего могильного холмика, где сквозь редкую и молодую траву еще проступала желтая, глинистая земля. Это была, как потом говорили, могила слепой старушки, той, которую совсем еще недавно можно было встретить на улицах города. Иногда Юлианка ночевала в том старом доме, где она росла; она забиралась на верхний этаж и спала в пустовавшей сейчас комнате панны Янины.
А в солнечные дни она носилась с ватагой уличных ребятишек по тесным дворам и пыльным площадям. В играх, беготне и проказах она проявляла такую страстность, словно хотела вознаградить себя за время, потерянное в раннем детстве; она была счастлива, что нашла, наконец, товарищей, которые стояли с ней на одной общественной ступени и не изгоняли ее из своего веселого круга. Но она все же отличалась от своих невежественных и неотесанных сверстников; присущая ей мягкость, печать страдальческого смирения вдруг проступали в ней даже во время озорных и шумных игр, даже когда она сердилась. Были ли это плоды кратковременного пребывания у панны Янины — в сравнительном довольстве и под воздействием ее нежных, облагораживающих чувств? Или оказали влияние советы и поучения старушки рукодельницы, которую потеря зрения обрекла на нищенство? А может быть, то были рожденные черты характера, вошедшие в ее плоть и кровь, но не всегда проявлявшиеся.
В городе нашлось несколько сострадательных семейств, которые не только подавали ей милостыню, но разрешали иногда посидеть в теплом уголке на кухне и приучали к различным работам. От работы она никогда не отказывалась. А в дождь или в стужу она часто являлась сама и просила позволить ей подмести лестницу, вымыть пол в сенях или на кухне, поставить самовар.
— Я все это умею, — говорила она.
Юлианка старалась получше подмести лестницу, почище вымыть пол, но не могла с этим справиться: большие метлы, тяжелые, сырые тряпки выскальзывали из ее маленьких рук; тогда кухарка или горничная, потеряв терпение, отнимала у нее метлу и тряпку; иногда, если Юлианка вызывала в них жалость, они позволяли ей пройти на кухню, если же прислуга бывала не в духе, девочку прогоняли. Если ее пускали на кухню, она старалась хоть чем-нибудь быть полезной: чистила кастрюли или ставила самовар. И то и другое она делала отлично, но при этом часто задумывалась, а однажды горько расплакалась: она вспомнила тот день, когда впервые увидела самовар в комнате панны Янины.
Служанки отзывались о ней, как «об очень хорошей девочке».
— Она никогда ничего не возьмет… что хочешь положи у нее перед глазами — ни за что не возьмет!
Хозяйки дома, зайдя иногда на кухню, гладили Юлианку по голове, задавали вопросы. Она отвечала коротко, вежливо, порой приветливо, порой неохотно и угрюмо. Если ее новые знакомые спрашивали: «чья» она, то она отвечала: «общая» или «ничья». На расспросы об отце и матери она отвечала упорным молчанием. Редкие, равнодушные ласки, которые выпадали на ее долю от хозяек дома, она принимала холодно и безучастно. Она относилась недоверчиво к каким бы то ни было проявлениям нежности, так как ей самой трудно было проникнуться этим чувством.
Так продолжалось с год или больше. И вдруг маленькая нищенка перестала появляться на улицах города, в домах, куда она иногда заходила, в лавке Злотки. Ее нигде не было видно. В первое время никто не обратил на это внимания, но потом нашлись люди, которых заинтересовало и обеспокоило исчезновение ребенка. Начались расспросы, розыски. Сердобольные дамы, из тех, что беседовали с нею на кухне и гладили ее по головке, принялись искать девочку среди уличных ребят, которые с криком и шумом носятся по задворкам и городским площадям; кухарки расспрашивали знакомых служанок и дворников; кто-то отправился даже наводить справки у жильцов старого дома, где иногда ее видели. А Злотка, вспомнив, очевидно, историю Юлианкиного детства, прошедшего у нее на глазах, обещала даже рюмку водки или несколько копеек в награду тому нищему, который найдет девочку. Но все попытки разыскать ее, не слишком, правда, энергичные, ни к чему не привели. Юлианку не обнаружили ни среди уличных ребят, ни в старом доме, ни с нищими, ни на кладбище, ни в одном из дворов или переулков города. «Разверзнись, земля!» — она исчезла.
И, быть может, земля действительно разверзлась и Юлианка, озябшая, голодная, больная, уснула навеки на окраине города, под забором какого-нибудь парка, и блюстители общественного порядка подобрали ее и похоронили без колокольного звона, погребальной музыки и лишних слез.
Но это предположение маловероятно. Такие, как она, выносливы. Их физические силы несравненно крепче моральных устоев. Может быть, мораль, внушенная Юлианке старой нищенкой и заключавшаяся в словах: «Если нарушишь седьмую заповедь, попадешь в тюрьму, а потом в аду будешь», — не устояла перед сильным соблазном или перед искусным подстрекательством; так как детское представление о тюрьме было весьма слабо, ад далеко, а соблазнительная вещь близко, Юлианка, возможно, нарушила седьмую заповедь, и за ней захлопнулись железные ворота городской тюрьмы.
А может быть, она попалась в сети, которые преступное ремесло расставляет для девушек, если даже красота их еще не распустилась, и Юлианка еще когда-нибудь предстанет пред нами — взращенная в школе порока?
И, наконец, может быть, ее подобрала на мостовой возвращавшаяся с ярмарки или из костела добрая крестьянка, которой нужна была помощница. И сидит теперь Юлианка на зеленом лугу, пасет белых гусей или бурых ягнят, счастливая оттого, что ее окружает светлая, радостная природа, и все-таки несчастная оттого, что чувствует себя одинокой и чужой рядом с матерями, целующими своих детей, рядом с детьми, играющими у порога родного дома.
Как бы то ни было, никто никогда уже не видел Юлианки в нашем городе, и память о ней сохранилась в длинной истории о подкинутом ребенке, которую Злотка любит рассказывать покупателям.
Иногда кто-нибудь, выслушав ее рассказ, замечает:
— Грустная история!
И тогда Злотка покачивает головой в выцветшей повязке, поднимает вверх сморщенный палец и говорит:
— Это не единственная грустная история, какую я знаю о людях, живших и живущих на нашем дворе! Я таких историй знаю очень много, и если бы я хотела рассказать…
И, усмехаясь обычной своей усмешкой, умной и презрительной, добавляет:
— Да если бы люди пожелали слушать о таких несчастных…
Вскоре после исчезновения девочки в лавку старой еврейки, задыхаясь, вбежала женщина, истощенная и сильно кашлявшая. Одета она была очень скромно, и над ее увядшим лбом вились светлые волосы. Она не скрывала нетерпения и так волновалась, что, не обращая внимания на покупателей в лавке, не поздоровавшись даже с хозяйкой, схватила ее за руку и спросила:
— Дорогая моя! Где она? Что с ней? Здорова, жива?
Злотка нагнулась к ней и несколько минут шептала что-то на ухо. Женщина вначале слушала с тревогой, затем с ужасом и, наконец, вскрикнув, закрыла лицо руками и залилась слезами. Затем бросилась к двери, крича:
— Этого не может быть! Я буду искать ее! Я найду ее.
Но у двери она остановилась, руки у нее опустились.
— Разве я могу ее искать? — прошептала она. — Разве я могу расспрашивать? Люди ведь сразу догадаются…
Напрасная тревога! Ее волнение, отчаяние, слезы и колебания и без того ясно сказали присутствующим, что эта изможденная, увядшая, робкая женщина была матерью Юлианки; но никогда, никому не удалось напасть на след того, кто был ее отцом.