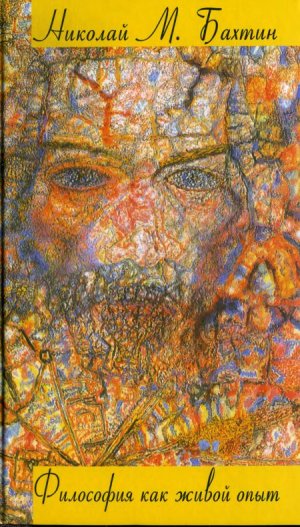
Науки, искусства, религии,
кодексы законов, расписания поездов —
все это уже самостоятельные сущности,
существующие не столько для человека,
сколько над человеком, мертвые, но
могучие боги, живущие по своим,
нам уже неведомым, законам.
Николай Бахтин
Вместо введения
Современность и фанатизм
Отвлекаясь на время от частностей, попытаемся найти общий признак, которым отмечена ныне «жизнь идей» в ее целом. Замечательно, что мы не сумеем назвать какой-нибудь существенной конкретной тенденции или идеи, иерархически подчиняющей себе все многообразие духовной жизни нашей эпохи. Искомый признак окажется чисто формальным. «Мирное сожительство противоположных идей» — так, с многозначительной простотой, определил его Валери.
Формула как будто совершенно безобидная. А ведь это значит: строение идейного космоса уже не определяется господством и подчинением, но сосуществованием, простой смежностью противоположных и независимых начал. Но в целом культуры, так же как и в сознании отдельного человека, мирное сожительство противоположных идей возможно только при одном условии: ни одна из этих идей не доросла до подлинной реальности, не стала движущей и повелевающей силой, но все они пребывают в состоянии какой-то абстрактной и волнующей возможности. Это лишь призраки, лишь хрупкие игрушки ленивого или бессильного духа.
Современное сознание замкнуто в этом мире бесчисленных и равноправных возможностей. Но для того, чтобы действовать, нужен окончательный, беспощадный выбор; нужна сила «отвергнуть тысячи возможностей во имя одного свершения»; нужна какая-то мудрая слепота ко всему — кроме одного. (Что именно такова структура подлинно целостного действия, — это открывается каждому из нас в решительные и роковые моменты его жизни).
«Знай, — говорит платоновский Сократ, — знай, что я подобен корибанту, заслышавшему зов священных флейт. Этот зов звучит во мне и не велит мне внимать ничему другому. Что ж, возражай — все твои речи будут напрасны!»
Но эта одержимость идеей, — ведь это то, что мы презрительно называем фанатизмом.
Фанатизм — это идея, ставшая силой, доросшая до действия и, постольку, до конца погасившая в своей полноте все другие идеи.
У современного сознания нет силы — до конца избрать и до конца отвергнуть. Поэтому целостное идейно-обусловленное действие — исключено из современности. Но там, где нет сознательного выбора, — вступает в силу инерция. Тот, кто не пожелал до конца стать покорным орудием одной истины, — становится точкой приложения безликих, космических сил.
Вот почему наша эпоха — самая деятельная из эпох. Только деятельность эта всецело определяется законами механики и числа.
Призрачному «духовному богатству», чудовищному кишению абстрактных идей — неизбежно должен соответствовать поэтому бессмысленно-механический строй конкретной жизни.
Когда тело покинуто единым духом и изобличает в себе законы праха, — именно тогда в нем рождаются бесчисленные маленькие жизни: кишение ублюдочных организмов в уже мертвой, уже неорганизованной массе…
Так, из внешнего признака — «мирное сожительство противоположных идей» — могут быть диалектически выведены все основные черты новой европейской культуры.
Но теперь мы потеряли и свое последнее утешение: мы уже не способны, в сознании полной безопасности, со старчески-наивной гордостью любоваться мелькающим зрелищем нашей небывало-пестрой культуры. Как Фауст, мы готовы в отчаянии воскликнуть:
Welch Schauspiel! aber ach, ein Schauspiel nur!..[1]
Мы узнали, как хрупки и бессильны наши призрачные богатства — мудрость книжников и совопросников — перед лицом самой косной, самой тупой, — но конкретной силы. Только идея, подлинно ставшая реальностью, доросшая до осязательной конкретности, закалившаяся до целостного исповедания — только такая идея способна противопоставить себя механическому омертвению, грозящему Европе изнутри, и силам хаоса, наступающим на нее извне, с Востока.
Тлеющая европейская мысль, если она не хочет быть угашенной до конца, должна вновь разгореться в пламя, в новый фанатизм.
Статьи и эссе
Военный монастырь
Будущему историку и психологу «великого русского рассеяния» надлежит уяснить, как разнообразные среды и культуры, с которыми пришлось соприкоснуться русской душе, в разной степени и по-разному воздействовали на нее, то ломая, то обогащая и укрепляя, то вдруг выдвигая в ней свойства, дотоле скрытые в каких-то подсознательных глубинах и, наоборот, затемняя то, что раньше казалось основным и существенным.
Думается, что, с этой точки зрения, Иностранный Легион дает особенно показательный материал. Дело в том, что среда эта — очень цельная, характерная и, главное, совершенно изолированная, словом, все условия идеально поставленного эксперимента здесь налицо.
Но ставить все эти вопросы еще не время; и теперь уже возможно и должно наметить только подходы к ним. А школа Легиона, которую суждено пройти стольким из нас, и сама по себе крайне поучительна для психолога. Знают же о Легионе мало и судят часто превратно. Французские источники большей частью чисто официальны. В Германии же существует о Легионе целая литература («Weisse Sklaven»[2] и тому под.), литература полная наглой лжи и имеющая назначением подогревать пресловутые германские добродетели — «deutsche Ehre» и «deutsche Treue»[3]. — И недаром: количественно (впрочем, только количественно) германцы всех видов составляют основной элемент того агломерата рас и национальностей, каким является Иностранный Легион (Затем, в порядке численности, следуют русские, балканские славяне, румыны и, наконец, латинские народы, турки, арабы).
Назначением Легиона искони было: собрать и использовать все то, что не нужно Европе; и состав его издавна слагался под влиянием двух факторов.
Первый фактор — постоянный: это — непрерывное выделение европейской цивилизацией «лишних людей» всякого рода (люди с запятнанной репутацией, обанкротившиеся, отчаявшиеся всех видов, бродяги, дезертиры и проч. и проч. — от константинопольского хамала и парижского апаша до расстриги епископа и германского принца включительно).
Второй фактор, действующий с переменной силой, находится в зависимости от исторических событий и частных условий времени и порою, как в наши дни, дает Легиону основную массу его состава.
Бывают события, благодаря которым оказываются вдруг «лишними» тысячи и сотни тысяч; тогда целые толпы идут в Легион и, подчиняясь его основному тону, сами отчасти действуют на его быт и придают ему специфическую окраску, характерную для данного времени. Такими событиями были когда-то: польская эмиграция, аннексия Эльзаса; таковы в наши дни: поражение и оккупация Германии, неудача коммунизма Белы Куна, русская эмиграция.
В течение почти столетия Легион непрерывно принимает все эти отвергнутые Европой элементы: вбирает их, перерабатывает и создает из бессвязного агломерата — стойкое боевое единство, а из «лишнего человека» — цельный и твердый тип Легионера.
Но как слагается тип Легионера? И в чем та ценность и ассимилирующая сила Легиона, которая позволяет ему свести к единству все многообразие непрестанно приливающих элементов?
Чтобы понять это, мы должны прежде всего помнить, что Легион был создан, существовал и ныне существует — для войны и только для войны. Его строй и быт слагались и видоизменялись только в отношении к этой основной цели, в течение столетия выверялись на деле; поскольку все нецелесообразное, лишнее — перерождалось или отпадало. Мексика, Севастополь, Тонкин, Мадагаскар, Европейская Война, Марокко… — и сколько еще войн — создали и отточили его дисциплину, твердую и гибкую в одно и то же время. Мнения, общественные настроения и взгляды — все это не отразилось и не могло отразиться на его организации: никто, к счастью, о нем не думал, пока там, в далеких колониях, он совершал свое трудное дело. И доныне весь формальный строй его существования твердо и неизменно определялся королевским приказом от 13-го марта 1833 г.; а частное, конкретное — определяет война (причем, для каждого данного периода, — та война, которую приходится вести в этот период). Отсюда одновременно — и строгая традиционность, непрерывность и бесконечная эластичность, изменчивость, — как бы органичность существования этого, единственного в своем роде, «военного монастыря».
Буйный, крутой монастырь, — но монастырь. Мне всегда казалось, что это слово глубже и существенней всего выражает основной тон жизни Легиона. Вседневное отречение странно роднится в душе легионера со вседневным разгулом. Это отречение начинается здесь с первого же дня, со дня «великого пострига» — на пять лет, что значит обыкновенно: на всю жизнь, ибо из Легиона не уходят, а уходящие возвращаются: скучно в миру. В этот день непроходимая черта ложится между прошлым и настоящим. Пришел ли сюда человек, чтобы забыть свое прошлое, чтобы искупить его, или просто потому, что некуда было идти — не все ли равно: с этого дня все прежнее существует только в воспоминаниях, и всякая связь с миром навеки порвана.
Устав тверд и прост. Как послушание даны — вседневный путь, служба, работа. Все предопределено, все предначертано. Но есть еще — радость боя, всегда новая и неожиданная; и есть короткое, острое забвение разгула. Должно быть, какая-то странная притягательная сила свойственна этой скудной жизни, если для многих тонко организованных людей со сложным и необычным прошлым (я знавал таких в Легионе) — всякая другая жизнь казалась бледной, запутанной и пресной.
Дисциплина Легиона, непрерывно выверяемая на деле, лишена догматического формализма с его неизбежным последствием — распущенностью. Все здесь определяется понятием целесообразности; поэтому самые крутые меры воздействия здесь допустимы, но малейшая некорректность попусту — строго наказуема. Вообще, приказывать в Легионе — при многообразии рас и резкой выраженности характеров — дело сложной психологической тренировки: нужен большой такт и большая зоркость к нюансам. Человеческий материал, над которым приходится здесь работать, — не рыхлый и липкий (мобилизованные молодые люди европейских армий), но крепкий, крутой, неподатливый: словом, — лучший материал для умелого мастера.
Значение каждого определяется, всецело и до конца, той функцией, которую он способен здесь выполнить. Поэтому дослужебное прошлое легионера никогда и ни в чем не принимается во внимание (хотя осведомленность о нем — необычайная). Отсюда же — абсолютное беспристрастие к расам и национальностям, подчеркнутое во всем до педантизма; одно только поприще мудро предоставлено национальной борьбе: это — соревнование (в бою, в работе, в службе — во всем); поэтому вся страстность национальных счетов всецело переносится в соревнование. (Вот знаменательный пример того, как здесь вековым опытом научились использовать всякую силу, всякую страсть, не подавляя ее, но давая ей твердое русло). Служебная иерархия очень устойчива: всякое звание — замкнутая и гордая своими привилегиями каста; но устойчив принцип, форма, а не материал, и поэтому малейшая провинность может отбросить всякого на самую последнюю ступень иерархической лестницы. Отсюда — соревнование, постоянный отбор, непрерывное освежение кадров: «les galons, — on ne les donne pas, on les piéte»[4] — гласит поговорка.
He забудем, что при пятилетнем контракте военная служба — уже не переходная стадия, а ремесло, выбранное вольно или невольно, но — надолго, чаще всего — на всю жизнь. Здесь — служба а longue haieine[5], здесь медленная и упорная выучка может подлинно переделать человека до конца и создать из него — солдата.
Наконец, непрерывная война и поход — это жизнь, требующая твердой спайки. Но где найти эту спайку людям, у которых все разное: национальность, язык, прошлое, убеждения? Значит, надо искать ее — вот, помимо всего этого.
Так — в этой замкнутой среде, отрезанной от всего мира, из взаимодействия всех этих условий организации и быта, из напряженного искания общего, связи — возникает и крепнет тип легионера римского, существенно связанный с исконным европейским типом конквистадора, кондотьера, ландскнехта. Это наемник-солдат, бродяга, которого обуздали и который дал себя обуздать, вольно приняв некое обязательство. Беспорядочный в нравах, в слове, в привычках, — он тверд до фанатизма в службе, в бою, в товариществе (товарищество и удальство искони были единственною моралью всех отверженных).
Большая часть службы легионера проходит теперь в Марокко. Почти вся жизнь его протекает в походе и под палаткой. Летом — с марта по ноябрь — это период продвижения, больших операций. Но за продвижением закрепления, за боем — труд. Современный легионер — солдат не в узкосовременном смысле, но, как когда-то римский легионер, он еще — каменщик, строитель, дровосек, пролагатель дорог, несущий начала строя и единства племенам Атласа и пустыни. О нем можно повторить слова, сказанные об одном славном колониальном вожде: «la route le suit et naÎt sous ses pas»[6].
Поход для легионера — не исключительное состояние, но его быт, его жизнь: другой жизни у него нет. И все установлено так, чтобы в походе он мог найти все, что нужно для жизни. Поэтому, поистине, что-то римское там, где еще не ступала нога европейского победителя. Здесь есть все: дребезжащие зовы медных труб; торговцы и музыканты, куртизанки и заклинатели змей, танцовщицы и нищие, груды плодов на земле и, под пестрыми навесами, — многоцветные флаконы ликеров. Здесь, после веселого боя, ждет спешный и шумный разгул.
А завтра, до рассвета — вновь дребезжащий звук трубы, снова зной, крутые пути, привычный ремень винтовки на плече, бульканье разогретого вина в ржавой баклажке и, наконец, — снова бой.
Там, где война, — легионер всегда на своем месте: вспомним, что Маршевый Полк, на западном и ближневосточном фронте, вписал одну из славнейших страниц в обильную славою историю Легиона. Однако ближе, роднее всего легионеру — война колониальная: здесь сложились его определяющие черты. Психология колониальной войны — старая, извечная военная психология. Эту войну можно сделать основным занятием всей жизни. Это — «война для солдат», а не механическое взаимоистребление «вооруженных народов». Здесь нет этой преувеличенности во всем, этого действия компактными массами, этого исключительного трагического энтузиазма. Словом, здесь нет ничего «жертвенного» и пассивно-экстатического. Противоречивые и спутанные мотивы не осложняют и не отравляют здесь простой и здоровой радости боя, радости риска. Поэтому, война здесь — веселое и трудное ремесло. И если пережитые нами раньше войны создавали экстатических героев и неврастеников, то эта война создает — мужей.
Чем является Легион для большинства своего состава, для тех, кому не место было в Европе?
До прихода сюда они были ненужным, часто опасным элементом, который все равно должен был быть исключен из жизни, исключен — принудительно. Легион не только освободил от них общество, не только умел сделать их нужными, но (и это момент крайне существенный) позволил им и уйти, — свободно избрав свой путь и добровольно приняв на себя такое обязательство. Вот в чем основной моральный смысл Легиона.
И этот мотив добровольного выбора, это смутное, но сильное ощущение причастности своей к какому-то большому и трудному делу, этот строй жизни, который, ничего не подавляя, дает всему упор, направление и смысл, — все это заставляет многих любить Легион крепкой и простой любовью, которая показалась бы странной поверхностному наблюдателю.
Письма о слове
1. О произносимом слове
Если вообще внутренний «тонос» культурного самоощущения эпохи является тою почвой, в которой коренится и которой питаемо всякое творчество, то в области словесного искусства эта истина особенно наглядна и неоспорима: и направление, и пределы индивидуального творческого почина здесь всецело предопределены языковым сознанием эпохи.
Многообразные причины, на которых здесь останавливаться не место, вызвали, по-видимому, за последнее десятилетие, глубочайший сдвиг в русском языковом сознании, — сдвиг, который в художественном слове выразился тем небывалым разложением, недоуменными свидетелями которого мы ныне являемся. Но во что разрешится этот сдвиг, и какие оздоровляющие факторы могут и должны вывести русскую поэзию из этого, казалось бы, безнадежного состояния?
Передо мною недавно вышедшая в Москве книжка профессора Сережникова (видимо, из профессоров новейшего советского производства) «Музыка слова» — первая часть руководства «Искусство художественного чтения». По всему тону, по наивной беспомощности метода, по убожеству путающейся мысли, — это явно продукт бойкота полуобразованности. Но тем показательней, тем отрадней, что эта, во многом почти комическая, книжка заключает в себе очень устойчивую и опирающуюся на поучительный опыт теорию художественного слова. Против большинства положений Сережникова, отвлекаясь от нелепости формулировок, — возразить нечего. Чувствуется, что это руководство не «плод уединенных размышлений», но просто старательная и неумелая сводка положений и методов, которые у автора были под рукой. Такая книжка, думается мне, могла возникнуть только в среде (а среда эта, видимо, полуобразованная масса), где восприятие поэзии стало прежде всего восприятием произносимого, звучащего слова. Работа Сережникова, повторяю, сама по себе совсем не интересна: общими проблемами автор, к счастью, почти не занимается, а его практические соображения отвлеченно давно были нам известны. Но ново то, что руководство это указывает на некоторое общее изменение в отношении к слову.
Если в этом проявляется не только случайный и преходящий интерес, то такое изменение может быть чревато неизмеримыми последствиями.
Дело в том, что вопрос о произнесении стихов вовсе не сводится только к установке «приемов интерпретации голосом произведений поэзии». Поэзия, вне реального звучания указующих и определяющих слов, так же мало существует, как музыка — вне реального наличия чистого и беспредметного звука. Поэтому, проблема произносимого слова есть проблема поэзии вообще.
То, в какой мере, в данную эпоху, брали слово как живое и звучащее, определяет, в существенном, весь облик словесного творчества этой эпохи. С этой точки зрения, вся история новой европейской поэзии может быть истолкована как непрерывный процесс перехода от слова произносимого, реально звучащего, к слову мыслимому, читаемому «про себя». Слушатель постепенно вытесняется читателем. Живое звучание становится лишь сопровождающим чтение воспоминанием звучания; и чем дальше — тем это воспоминание все спутаннее и бледней.
Не то, чтобы поэты меньше заботились о звуковой стороне стиха; наоборот, музыкальные элементы оттеняются и подчеркиваются ими с особенной, почти болезненной настойчивостью: романтизм и символизм испуганно и жадно оберегают замирающую музыку (и сколь многое в поэтике обеих школ уясняется нам как такое «оберегание»). Но это все — лишь выражение того же процесса.
Поэзия построяет свой объект во времени, и потому стихотворение есть необратимый, непрерывный, как бы одним дыханием развертываемый динамический ряд, ни в одной точке которого нельзя произвольно замедлить, остановиться, оглянуться. Так мы и воспринимаем стихотворение, когда его слушаем: оно здесь может быть обозреваемо лишь непрерывно и в одном направлении, внутренний темп восприятия всецело определяется конкретным темпом самого стихотворения.
Задержка, возвращение, произвольное замедление — разом вырвали бы нас из живого восприятия динамически нарастающего ряда, и все внутренние и структурные соотношения пьесы оказались бы нарушены. Но это именно и происходит, если мы читаем стихи про себя. Непрерывный динамический и звучащий ряд подменяется соответствующей ему системой знаков, которую мы можем обозревать в любом темпе, и должны медленно истолковывать, перечитывая, сопоставляя, исходя при этом из любой точки и останавливаясь в любой точке. Выдвигается совершенно новый принцип восприятия и оценки, все соотношения ощущаются по-иному, удельный вес всех элементов меняется. Логический и смысловой элемент слова начинает преобладать, а звуковой присоединяется к нему как некая лишь представляемая, но не осуществляемая возможность; чтобы восстановить нормальное соотношение, поэт невольно должен искусственно затемнять первый, искусственно же выделяя второй (здесь последнее основание всех существенных положений символической и романтической поэтики).
Можно установить a priori основные признаки поэзии, рассчитанной на слушателя: крайне отчетливые и резкие структурные линии; логический остов достаточно твердый, чтобы не быть поглощенным музыкой (именно потому, что ей дана здесь вся полнота реального звучания); устранение всего того, что не может обладать действительностью при слуховом восприятии; отсюда — неравномерная смысловая заполненность стихов, материал, распределенный массивными глыбами, моменты полутени и отдыха, стремительные подъемы и резко выделенные, ярко освещенные вершины — формулы. В такой поэзии музыка не может бояться логики, которой поэтому дана вся сила и вся острота (как напряженной диалектике трагических тонов), не позволяющая слову раствориться в стихии чистой, безудержной музыки.
Но все эти признаки, установленные a priori, не что иное, как реальные признаки античной поэзии.
Совершенно обратное наблюдаем мы в новой поэзии. Она рассчитана на читателя, и музыка поневоле должна оберегать себя здесь всеми средствами. Поэтому логический остов затушеван или упразднен, чтобы не заглушить этой, лишь мыслимой, музыки; структурные линии «смазаны», извилисты и капризны. Можно остановиться, замедлить, и оттого ритм — courte haieine[7], и ритмические периоды резко отщелкиваются рифмой; отсюда же стремление к сплошной смысловой заполненности: всякая точка пути равно существенна, всякий эпитет должен быть значительным и определяющим («постоянный эпитет» был бы немыслим в такой поэзии). Это искусство тончайших узоров, которые надо рассматривать в лупу — внимательно, многократно и подолгу. В античной поэзии слушатель был властно вовлекаем в неодолимое течение динамического потока; в новой поэзии он сам, медленно и с усилием, вникает: она, застылая, раскрывается ему лишь в меру его собственной активности. Отсюда — «келейность» новой поэзии. Слуховая поэзия или, что то же, античная, — искусство с широко распахнутыми дверьми; новая — «работа на любителя»; двери ее узки и замкнуты: надо долго стучаться. Широкий жест здесь был бы смешон; старому пафосу — не место: он хочет полного голоса и спутал бы, изорвал бы паутинные узоры утонченной поэзии «для чтения про себя».
Но в реальном звучании, где все становится на свое место, где соотношение главного и второстепенного восстанавливается, — тончайший узор изобличает свой основной недочет: атомизм, отсутствие твердых линий и явственно выделенных доминант.
Заранее ясно, что при чтении вслух произведений новой поэзии неизбежна следующая дилемма: либо давать полноту выражения звуковым элементам (и тогда структура, логика, смысл — все тонет в звучании, поэзия, теряя свой указующий и предметный характер, становится ублюдочною музыкой); либо, чтобы восстановить должную пропорцию, искусственно умалять полноту музыкальной стихии (и тогда поэзия становится дурною прозой).
Таковы и в действительности два господствующих типа декламации, оба равно неприемлемые. Искать между ними третьего — бесполезно, просто потому, что новая поэзия создана не для слушателя. Но показателен тот факт, что в наши дни господствует именно первый тип декламации, и что здесь почти совсем отказались от искусственного восстановления нормальной пропорции путем умаления ее первого члена — музыки. Это указывает, что назревает потребность восстановить пропорцию по существу, что возможно, лишь если поэзия, всецело и до конца, станет искусством целостного слова.
Итак, «мыслимая» поэзия, умаляя звук, умаляла и смысл; и слово, в его двоякой сущности — звучащей и указующей, — медленно умирало. Подменив его ускользающим призраком и стараясь удержать призрак, — измельчали твердый остов логической структуры, отвергли начало строя и строгости. Так, через пресловутое «de la musique avant toute chose»[8], мы носили и дальше:
И подлинно, в современной русской поэзии (за немногими и мало показательными исключениями) все расползлось в пену и муть. Но самые крайние, якобы «чисто звуковые опыты», вплоть до «заумного языка» и нечленораздельных звучаний футуризма, предполагают забвение именно реального звучания и, в конечном счете, черпают всю свою силу в старой истине: «бумага все выдержит».
Отсюда только один выход: возвращение к поэзии как к искусству произносимого слова. Только здесь целостное слово — полно звучащее и властно определяющее — вновь станет подлинным материалом поэзии. Но это не только выход, это и путь — путь к искусству «с широко распахнутыми дверьми», то есть к новому классицизму.
Но можно ли надеяться, что русская поэзия вступит на этот путь? Не знаю, но дальше идти по старому пути, казалось бы, некуда… А положительные основания для надежды я нашел, как это ни странно, в смешной книжке профессора Сережникова, самоуверенно поучающего студисток о том, как надо читать стихи.
2. О формальном методе
Границы словесного искусства крайне неопределенны. И наука, и законодательство, и жизнь пользуются словом, оформляя его сообразно своим заданиям. Указать предел, за которым слово перестает быть художественным словом — теоретически затруднительно. Да и на практике мы далеко не всегда можем с определенностью отнести данное произведение к области художественного слова. Речь идет не только о тех случаях, когда мы нашу субъективную оценку данного произведения выражаем фигурально в суждениях вроде: «это уже не искусство» (здесь мы судим, оставаясь всецело на территории искусства и по его законам). Гораздо сложнее следующее явление: многие словесные произведения воспринимаются нами как безусловно художественные, и в то же время явно выходящие за пределы искусства, в другие, смежные области, напр., иные диалоги Платона, та или иная страница великого историка, «Заратустра» Ницше… Порою такие произведения принадлежат к величайшим, и это не позволяет нам определить их как ублюдочные, малопоказательные и потому ничем не мешающие явственному разграничению смежных областей. Нет, это явление, видимо, не случайное, и возможность подобного синкретизма коренится, несомненно, в самой природе слова.
Невозможно, конечно, ограничить область словесного искусства «по содержанию». С одной стороны, всякое «содержание» (в том неопределенном смысле, какой принято придавать этому слову), в принципе, может быть художественно оформлено. С другой стороны, содержание не только любого диалога Платона, но и многих романов Достоевского (которые ведь принято относить всецело к искусству) может быть развернуто, расчленено и интерпретировано в категориях чисто рациональных и в этой интерпретации не утратить ни ценности, ни убедительности (хотя и цельность и убедительность будет уже иного, умаленного, порядка).
Впрочем, всякие разграничения «по содержанию» почти окончательно оставлены и к ним не принято нынче даже относиться серьезно. Переход к формальным разграничениям, казалось бы, и естественен и неизбежен. Если всякое содержание может быть художественно использовано, т. е. оформлено, то не ясно ли, что именно способ оформления делает слово художественным словом. Но оказывается, что и такого рода подход по меньшей мере недостаточен. Это станет ясно, если мы обратимся к столь модному ныне «формальному методу».
Метод этот, всецело господствующий теперь в русской науке и полунауке, дал, несомненно, много полезных результатов: целый ряд наблюдений, односторонних, но плодотворных классификаций, добросовестных анализов. Но он ценен, лишь поскольку остается в своих границах, а границы эти чрезвычайно узки: самый вопрос о природе художественного слова лежит всецело вне их. Формальный метод может лишь раскрыть нам структуру данного словесного объекта — будь то сонет Петрарки, «Критика чистого разума», приказ по эскадрону или реклама мыла Кадум — как совокупность тех или иных формальных приемов (все, что есть слово, одинаково поддается такому изучению); но что, собственно, делает прием художественным приемом — этот вопрос вне его ведения. Он разъяснит нам, со всею научною строгостью, специфические особенности напр. «словесной инструментовки» данной поэмы, но не может вскрыть ни в одной из них признака «художественности» и разве лишь статистически покажет, что те или иные приемы применяются особенно часто или исключительно в произведениях, которые принято называть художественными.
Словом, формальный метод производит некоторый нужный, но всецело условный разрез действительности. Лишь в этом разрезе и под этим вполне определенным углом зрения всякое словесное произведение (художественное или иное) полностью и без остатка истолковывается с помощью формального метода. Что не исключает возможности иных разрезов, сделанных в ином направлении, и столь же исчерпывающе и условно истолковывающих данный объект.
Но утверждение исключительности своего метода всегда бывает свойственно его представителям, которые любят приписывать чисто методологическим, рабочим понятиям какую-то объективную, всеобъясняющую сущность. Отсюда наивное желание добросовестных, но ограниченных работников видеть во всем — «художественный прием» — и только «художественный прием», забывая, что это полезное понятие столь же мало реально, как линия экватора или тропика. И среди отечественных теоретиков художественного слова в наши дни нередки фетишисты «приема» (в старое время они занимались естественными науками и «веровали» в атомы).
Итак, надо помнить, что формальный метод, по праву утвердивший свою независимость от нормативной философской эстетики, исключает всякий элемент оценки. Оставаясь в его границах, мы не можем и не должны говорить о преимуществах одного приема над другим. Раскрывать, описывать, классифицировать — вот дело исследователя, если он хочет оставаться исследователем (а нет ничего невыносимей, чем невольно и бессознательно зафилософствовавшийся специалист). Очень показателен следующий факт. Андрей Белый, один из зачинателей у нас формального метода, в своей замечательной работе «К морфологии русского четырехстопного ямба» (в книге «Символизм») показал впервые, что реальный ритм ямбического стиха определяется количеством и конфигурацией отклонений от условной ямбической схемы. Отсюда он совершенно произвольно заключил, что чем больше этих уклонений, чем они разнообразнее, — тем стих ритмически «богаче». Это привело Андрея Белого к совершенно случайной и малоубедительной классификации русских поэтов по «богатству» их ямба.
Другой, более поздний представитель того же метода (В.Жирмунский), совершенно правильно отметив методологическую ошибку Белого, продолжает: «при рассуждении о ритмическом строении стихотворения, ритмической «бедности» и «богатстве», нужно принять во внимание индивидуальное задание каждого отдельного стихотворения и требование художественного жанра». Здесь Жирмунский сам впадает в методологическую ошибку, предполагая, что исследователю откуда-то известно не только то, что формально дано в стихотворении, но и нечто большее, задание и требование жанра. На самом деле, оставаясь на точке зрения строгого формального метода, можно установить лишь, что в произведениях данного жанра обычно наблюдаются такие-то ритмические приемы; говорить о том, что данный жанр их требует, возможно лишь исходя из представления об этом жанре как о некоей идеальной норме, к осуществлению которой должен стремиться поэт. А это возможно только на почве нормативной эстетики, не связанной материалом, но пользующейся им лишь как примером и указанием.
Но возвратимся к А.Белому. Произвольно построив, на почве формального рассмотрения стиха, свое оценочное суждение о «бедном» и «богатом» ритме, он написал книгу «Урна» (1911), цель которой, по собственному признанию автора, — осуществление заранее заданных, нарочито сложных и «богатых» ритмических схем. Но книга эта прежде всего поражает однообразием ритма.
Причина такой неудачи вовсе не в ложности или неполноте схем, положенных в основу этого странного опыта, но в самом задании как таковом. Описание приема, в своем пределе, неизбежно условно и приблизительно. Схема, по самому своему существу, не может исчерпать предмета: как бы мы ни усложняли и ни утончали ее, она никогда не схватит того единственного и неповторимого, что делает данный объект — художественным объектом.
Повторяю, все это не исключает ни плодотворности, ни правомерности последовательно проводимого формального метода; не надо лишь забывать, что он лишь частный метод среди других методов, столь же условный, столь же ограниченный. Его основные понятия так же далеки от живой цельности художественного объекта, как все эти пресловутые «художественные образы», «эмоции», «главные мысли» и прочее столь хулимого ныне «идейного» изучения искусства. Ни «глубокая идея», ни «сложный ритмический ход», ни «богатая словесная инструментовка» еще не делают слова — художественным словом.
Лишь в общем, философском уяснении природы целостного слова все частные методы находят свое последнее основание и свой завершающий смысл; и только здесь по праву может быть поднят вопрос о границах словесного искусства.
Ницше (К 80-летию со дня рождения)
Восьмидесятилетний юбилей со дня рождения Ницше прошел почти незамеченным. Скоро исполнится сорок лет с тех пор, как прервалась деятельность философа. Первый период его славы, бурный и крикливый, давно завершен. Кончилось то «вторжение свиней», от которого тщетно искал оградить свои сады Заратустра. Вокруг имени Ницше царит теперь глубокое молчание. Уж не найти, даже в самых глухих уголках Европы, памятного всем типа сверхчеловека, — имморалиста, гордо «преступающего все грани». Даже «имморалистки» давно перевелись…
Но изжито до конца лишь условное «ницшеанство», как его понимали лет 20 тому назад, отвергнуты лишь вульгаризированные и извращенные формулы учителя. Подлинное явление энгадинского отшельника еще не начиналось, оно лишь назревает где-то в подсознательных глубинах культур. Ницше — «мученик в Дионисе», пророк «вечного возврата» и провозвестник Великого Полдня — еще ждет своего часа.
Влияние Ницше в прошлом не исчерпывается, конечно, вульгарным ницшеанством. Одна из книг мыслителя была понята и оценена по существу: это «Рождение трагедии». Первоначальная ницшевская концепция культуры и, в частности, античной культуры, давно вошла во всеобщий обиход. Какие бы поправки ни вносились в гениальную юношескую интуицию философа, — все существенное в «философии культуры» нашего времени и вся, столь модная ныне «культурная морфология» стоят всецело под знаком Ницше и исходят из него (даже если пытаются это отрицать). В этом плане воздействие Ницше было и глубоко, и плодотворно. Такие понятия, как аполлоновское и дионисовское начала, дух музыки, сократизм, декадентство, критические и органические эпохи культуры и т. д. — перетолковываются на разные лады, но они прочно и надолго укоренились в нашем сознании. Однако, для самого Ницше все это — лишь предварительно установленные вехи; здесь только начинаются его искания, его подлинный путь. Ведь кроме вдохновенного базельского профессора есть еще отрицатель и временный союзник Сократа (столь любезный старым «ницшеанцам») и есть пророк периода «Заратустры» (книга, которую, казалось бы, так много читали). Но этого Ницше не поняли и не хотели понять ни тупые систематизаторы, ни лирические мечтатели, ни острые эссеисты. И вся обширная литература о Ницше (оставляя в стороне биографический и документальный материал) — лишь скучное собрание многотомных недоразумений.
Вот одно из этих недоразумений. В противовес опасному нигилисту вульгарного ницшеанства, был создан благонамеренными людьми не менее фантастический, но зато крайне трогательный образ Ницше-романтика, мечтательно обращенного к прошлому и одержимого всеми видами слезливой Sehnsucht[10]. Над этим Ницше умилялись и грустно ему сочувствовали. Со своей стороны, добросовестные тупицы старательно исчисляли ритмическую структуру периодов «Заратустры», устанавливая непосредственную зависимость ницшевой прозы от расхлябанной, расползающейся по всем швам прозы романтиков.
Но Ницше всю жизнь боролся с романтизмом во всех видах и глубоко его ненавидел. Во имя этой ненависти отверг он великого соблазнителя и «фальшивомонетчика» Вагнера — глубочайшего завершителя романтизма.
Раньше возможно было отрицать романтизм с точки зрения трезвого и благоустроенного мироощущения старого классицизма. Ницше властно возвел эту проблему к ее последним, я бы сказал — религиозным основаниям. Где классицизм справедливо отметил бы лишь разнузданность, нечистоплотность и утрировку, — там Ницше увидел какую-то коренную, повторяю — религиозную нечистоту, ложь и подмен.
А вот еще одно распространенное недоразумение: пресловутое сопоставление — Ницше и Достоевский. Достоевский якобы предугадал «мятеж» Ницше и, предугадав, изобличил его коренную неправоту. Со своей стороны, Ницше — говорят нам — многое непосредственно воспринял от Достоевского, а многое повторил, сам того не зная. Совсем несущественна в данном случае фактическая сторона вопроса (хотя позволительно, например, усомниться, читал ли что-нибудь Ницше из Достоевского, кроме «Записок из мертвого дома»). Но истолкование ницшева богоборчества как «бунта», сопоставление его, например, с бунтом Кириллова, и мысль, что Достоевский мог что-то предугадать в Ницше — все это изобличает полное непонимание самого существа ницшева пафоса.
Трудно себе представить два типа гениальности более чуждых и противоположных, чем Ницше и Достоевский: их пути нигде не пересекаются, и никаких совпадений (кроме чисто словесных) у них не было и быть не могло.
Ницше — стремительно-легкий, холодный и отрешенный; вся трагедия его именно в роковой отрезанности от плодотворных глубин хаоса и ночи; на его высотах трудно дышать: здесь лишь свет, холод и боль.
Достоевский болен смутой и мудр всей мудростью хаоса. Мир его — теплый мрак, брожение, вожделение. И для души, которую хаос тянет вниз, здесь только два пути: или властно прорасти из ночи в свет, или, утвердив себя в хаосе и с хаосом, — восстать против света. Поэтому для Достоевского богоборчество всегда — бунт и мятеж, «переворот снизу». Ибо пафос всякого мятежа — это ощущение борьбы своей с чем-то заведомо высшим и большим; и всякий мятеж несет в себе самом свое осуждение, свое диалектическое самоотрицание.
Ницше не знал «подполья» и потому не понимал «бунта»; он лишь холодно и брезгливо его презирал. Можно называть это безумием, но ясно одно: борясь и отрицая, он всегда, до последней глубины, верил и знал, что борется с низшим в себе во имя высшего; свою борьбу с Богом и христианскою моралью он всегда ощущал как «переворот сверху», а не рабий бунт. Это то, чего не мог бы понять Достоевский, все мятежники которого глубоко сознавали свое рабство и неправоту своего дела.
Извечный удел мятежника — покориться и искупить, или — быть низвергнутым в хаос. Трагическая участь Ницше иная: он достиг тех высот, где «удаленнейшие звезды видишь в глубине, под собою» — и задохнулся в холодной, пронизанной светом пустоте.
Путь Ницше крайне сложен и внешне богат противоречиями. Ученик Ричля и друг Роде, прошедший все искусы высокого «искусства медленного чтения» — филологии — Ницше, через соприкосновение с греческой трагедией и миром досократовской мысли, впервые приходит к идее целостной «трагической культуры». Культура эта рождается из взаимодействия двух начал: хаотического и плодотворного «духа музыки» — духа Диониса — и аполлонийского строя — меры, властного соподчинения и ясности. Тогда же уяснилось для Ницше и третье, отрицательное, начало: сократовский рационализм, разлагающий живые ткани культуры. Мертвенно трезвый рационализм — это как бы лживый двойник творчески-трезвого и устрояющего начала Аполлона.
На границе нового периода — разрыв с Вагнером, в музыке которого Ницше раньше видел чистейшее выражение духа Дионисова и провозвестие грядущей трагедии. Теперь он узнал в этой музыке опасный соблазн лжи и хаоса, пародирующий Диониса. Вагнер стал для него знаком того извечного пусто-патетического динамизма, который еще античные теоретики экстаза определяли как «неправое безумствование», отличая его от правого и должного «безумствования в Дионисе». Новое название этого соблазна — романтизм. Это — лживый двойник Диониса, как сократизм был лживым двойником Аполлона.
В христианстве Ницше видел лишь отрицательную сократическую мораль, приправленную «вагнеровским» патетизмом: оно для него сплошь романтично и рационалистично. Но в борьбе с христианством Ницше сам прибегал к помощи Сократа: он противопоставляет отрицательное начало — отрицательному началу, романтизму — рационализм, и ищет взаимоупразднения этих начал. Недаром многим казалось, что в этот период Ницше изменил Дионису и Аполлону — ради Сократа.
Но это отрицание — лишь страдальческое и беспощадное совлечение душою всего неподлинного и неудачного, лишь трудный и долгий искус на пути к положительному откровению. Таким положительным откровением была для Ницше внезапно посетившая его на высотах Энгадина идея Вечного Возврата.
Жизнь, бесконечно повторяясь, становится вечной жизнью («dieses Leben — dein ewiges Leben»[11]); каждое мгновение, оставаясь мгновением, получает глубину вечности, а вечность обретает всю осязательность мгновенья; центр тяжести всех вещей перемещается; во всем раскрывается новый смысл.
Идею Вечного Возврата возможно осмыслить только в плане религиозном (такою она и была для самого Ницше). Совсем неинтересно и не существенно то «научное обоснование», которое философ пытался дать ей впоследствии — обоснование крайне наивное, по словам тех, кому сие ведать надлежит. Но во внутреннем опыте это прозрение было для Ницше тою «пламенною смертью», тем призывом «прейди и будь» (stirb und Werde) — о котором говорит Гете: отныне Ницше уже не «унылый гость на темной земле», и для него начинается период строительства и утверждения, — последний и самый знаменательный в его творчестве.
Но об этом периоде нельзя говорить бегло и случайно. Мне лишь хотелось бы указать здесь, что только конкретное вживание в идею Вечного Возврата, а не отвлеченное ее уяснение, может открыть доступ к должному пониманию этого периода. Мы слишком поспешно отошли от Ницше, слишком легко его «преодолели». Но Ницше для нас еще впереди.
Пути поэзии
Что-то основное изменилось, по-видимому, в нашем отношении к поэзии… или в самой поэзии.
Нам вполне понятна мировая слава боксера, или героя экрана, даже, пожалуй, слава романиста. Но где поэт — нераздельный властитель своей эпохи!.. Увы, это так же сказочно, как миф о том, что стены Фив воздвигнуты были звуками Амфионовой лиры.
Что же произошло? Мы ли неправо отвернулись от поэзии, или она сама, изменив своему исконному назначению, утеряла права на власть? Или, может быть, поэзия должна была порвать «с чернью», чтобы, ценой замкнутости и уединения, купить внутреннюю свободу, подлинность, чистоту?
…Долгий путь — от заклинателя, «скалы движущего» Орфея до современного поэта, специалиста среди других специалистов — пройден до конца. Poeta vates превратился в poeta faber[12]. У этого ремесленника есть узкий круг потребителей, для которых он изготовляет острые и утонченные безделушки. Язык для него — лишь старый и драгоценный материал, который он мудро, бережно чеканит и гранит. Поэт изменил природе слова. Ибо слово — волевое, заклинательное в своей глубочайшей сущности — хочет властвовать, двигать, повелевать…
Идти дальше по этому пути, оставаясь в пределах искусства, не только не должно, но и невозможно. Из мертвого схематизма есть только один исход: в разнузданность, хаос.
Тому свидетельство — современная русская поэзия.
Размышляя о будущем поэзии, неуместно говорить о каком-то неизбежном, неуклонном ходе событий, которому нечего противиться, о котором можно только гадать.
Этот наивный детерминизм смешон и опасен. Поэзия будет такой, какой захотят ее сделать поэты: они, и только они, до конца ответственны за свободное и сознательное дело, им вверенное.
…К 19-му веку в культуре решительно восторжествовали центробежные силы, чье действие преодолевалось раньше здоровыми центростремительными энергиями. Культурный космос постепенно теряет свое единство, свою сконцентрированность. Нарастает тенденция к пустому расширению, к распределению на плоскости, к простой смежности замкнутых в себе и самодовлеющих элементов. Из живого единства и иерархии сил культура превращается в какой-то пространный и пестрый каталог явлений. В отношении к искусству задачей времени стало: оттеснить его в узкие границы, вырвать из связи целого, лишить власти — а потом дать ему полную свободу самодовлеть и самоопределяться в изолированной среде. Для этого провозглашается «независимость искусства», что на самом деле значит: «независимость от искусства».
Процесс этот давний. Еще хитрый Кант приписал искусству особую «Zweckmässigkeit ohne Ziel»[13].
В этой «целесообразности без цели» обречено вертеться искусство, как белка в колесе. От чего только не «освободили» искусство: от заинтересованности, воли, предметности и т. д., и т. д. Создана была чудовищная фикция: безвольное, самодовлеющее, чистое эстетическое созерцание… Поистине, чтобы дойти до этого «чистого созерцания» нужны были «века пива и метафизики».
И доныне еще философы и эстеты всех толков тупо дожевывают эту пресную жвачку.
Так Эрос искусства, стремительный и жадный, подменен был каким-то скопчески бесстрастным и бесплодным «чистым созерцанием».
Если бы все это произошло только в гносеологическом стерилизованном мышлении философов — было бы лишь полбеды. Но оказалось, что само искусство покорно и даже с гордостью приняло свой удел; в нем уже давно назревала тенденция — замкнуться, спрятаться. Так что философы, собственно, лишь благосклонно санкционировали это благоразумное решение. Начинается «чистое искусство», «искусство для искусства».
Никто не имеет права вмешиваться в частные дела искусства. Оно полноправно и независимо. Но зато и ему пришлось торжественно и навсегда отказаться от всяких претензий на власть. За это ему и выдан патент на «чистое эстетическое созерцание» — своего рода удостоверение о благонадежности.
Так все мирно и благополучно устроилось, в согласии с духом девятнадцатого века…
А в 20-м поэтам стало тесно в установленных границах; они исступленно бросаются в мистику, в магию или, что еще проще — в какой-нибудь футуризм, дадаизм, сюрреализм…
Явления этого последнего порядка, конечно, вне искусства и даже — вне культуры (ибо культура начинается там, где есть преодоление, отбор, строгость), но они — совершенно неустранимый коррелят маленькой, засушенной и смирившейся поэзии. И мы, отказавшиеся от основной и исконной традиции поэзии — властвовать и учить — имеем ли мы право противопоставлять этим разнузданным мятежникам лишь пустые и случайные аксессуары традиции? Есть доля правоты в мятеже, когда «хранители традиции» занимаются выискиванием еще не видимых нюансов или мирно изготовляют кисленький лирический студень.
Искусство стало для нас освобождающим наркотиком. Мы ищем уйти, спрятаться в искусство, потеряв себя в нем. Теории о «безвольном и бесстрастном эстетическом созерцании» пришлись нам поэтому весьма кстати. Для других, искусство — некий душевный громоотвод: в его прозрачные и отрешенные сферы отводим мы из жизни все опасные и героические энергии нашего духа.
И в том и в другом случае произведение искусства является нам как самоцель, нечто в себе замкнутое, себе довлеющее, вырванное из потока жизни и становления. Но ощущение какой-то неоспоримой реальности, присущей искусству, мешает нам до конца истолковать его как «возвышающий обман» и «освобождающую иллюзию». Приходится постулировать сверхчувственные реальности, потусторонние миры, на которые искусство обязано намекать, чтобы не разрешиться в пустую иллюзию. Понимаемый статически, художественный объект может быть оправдан лишь как знак и символ.
На самом деле, реальность художественного объекта есть не реальность вещи, но реальность силы: он не указует куда-то в пустоты абсолюта, но конкретно, осязательно перестраивает живую и близкую действительность; он не сообщает, но повелевает; это — точка приложения сил, узел энергий, призванных медленно преосуществлять плоть космоса.
Эта поэма, этот сонет — лишь развернутая заклинательная формула, какое-то единство и неповторимо найденное сопряжение смыслов, сочетание слов и ритмов, властное заклясть бытие, реально овладеть им.
Здесь становится понятным основной парадокс искусства: чем строже, чем устойчивей формула, тем многообразней и динамичней воздействие. Отсюда: неправота стремления внести текучесть, движение, многосмысленность в самую формулу (это коренная ложь всякого разнуздания слова, всякого романтизма). Темные и спутанные формулы если и способны призвать к жизни какие-то энергии, то неспособны направить их. Все романтики (в том числе наши символисты) подобны гетевскому ученику волшебника, что сумел вызвать духов, но не сумел повелевать ими: поэтому вызванная сила обернулась силой опасной и разрушительной.
Так обнаруживается правота классической концепции поэзии, поскольку строгость формы есть точность магической формулы, единственно нужной, и из которой должно быть исключено все, кроме неизбежного. Но в лживом неоклассицизме разных толков строгость формы сводится к скудости, а в лучшем случае — к приятной благоустроенности.
Человечество, женственное по своей сущности, ждет от искусства мужественного и оплодотворяющего насилия; ему не нужны утонченные игры мечтательных кастратов.
Вернуть поэзии ее действенную, заклинательную и эротическую природу — или ей не быть: такова дилемма, с неизбежностью предстоящая поэту.
Поль Валери — мыслитель
«Некоторые научные концепции и, в частности, математические построения, так прозрачны по своей структуре, что как будто не являются уже ничьим созданием. В них есть нечто нечеловеческое. Это заставляет нас предположить, что между различными видами человеческой деятельности — например, научной и художественной — существует та же коренная разделенность, как и между их продуктами. А между тем, все это лишь различные вариации некоего общего начала».
Так писал Валери 30 лет тому назад, размышляя о методе Леонардо да Винчи. Ему казалось, что Леонардо «нашел ту центральную точку, исходя из которой равно возможны акты познания и художественные построения».
Проблема творчества, — проблема рождения завершенного объекта (будь то поэма или математическая формула, все равно) из текучей и безразличной стихии мира — является основной и единственной темой теоретических исканий и художественных опытов Валери.
В юношеском «введении в метод Леонардо да Винчи» эта проблема еще не всецело различена от психологического анализа. Но в дальнейшем задача окончательно определяется как искание чистейших и неизбежных предпосылок всякого творчества как такового. Валери ищет этих предпосылок всюду: в поэме Лафонтена и в стратегическом трактате Драгомирова; в военной организации Мольтке и в церковном догмате «воскресения плоти»; в танце и математическом анализе; в мистике и геометрии.
Валери менее всего психолог: его задача конкретна и объективна. «Эксперимент, произведенный на границе всех познаний», — этими словами из «Вечера с г. Тестом» может быть определено все творчество Валери. Это не философская система и не художественное творчество, но именно эксперимент. И задача этого эксперимента: соединение анализа и экстаза (enchaÎner une analyse à une extase).
При этом не анализ и не экстаз сами по себе интересуют Валери, но именно возможность и условия их соединения.
Валери многократно описывает путь самодовлеющего и не-творческого познания — путь, неизбежно приводящий к самоотрицанию и пустоте: Сократ-философ, противопоставленный Анти-Сократу-творцу, в посмертной беседе с Федром; рассказ о том, как сам Валери через отрицательные стадии познания подошел к загадке творчества — загадке Леонардо (трудные и ослепительные страницы!)
Сущность чистого сознания, это — непрерывное исчерпывание, это — неустанное отвлечение от всего являющегося. Личность отказывается от выбора и самоутверждения: все равноценно, все вещи равнозначны; обнаженное «я» лицом к лицу предстоит опустошенному миру, и включает себя, как вещь, в абстрактную схему вещей. «Мыслящий человек приходит к сознательному отказу быть чем бы то ни было».
Отсюда — «та абсолютная тоска, которая есть не что иное, как обнаженная жизнь, созерцающая себя самое». «Жизнь чернеет, коснувшись истины, как раздавленный грибок от соприкосновения с воздухом».
Лишь творчество способно исцелить человека от этой «абсолютной тоски»: оно преодолевает случайность, противопоставляя сущему — созданное, и бросает в мир закваску божественной иллюзии.
Иллюзия? Да, но иллюзия, полная бдительного напряжения… «Иллюзия — вся пронизанная симметрией; вся строй и единство». «Иллюзия, исполненная ясности, и более реальная, чем хаотический и неустойчивый мир». «Есть ли что-нибудь таинственней ясности?»
Так, — между хаосом непознанного бытия и пустой схемой мира, исчерпанного познанием, — человек утверждает себя в акте творчества: душа защищает себя, порождая нечто менее преходящее, чем мир и она сама.
«Чудовищному напору всех вещей, всех сил, мы должны противопоставить бесконечное любопытство и неисчерпаемое терпение… Менять дни и часы, как меняют орудие при работе, — и хотеть, хотеть!..»
Если чистое познание приводит к «отказу быть чем бы то ни было», то творчество есть прежде всего выбор, признание своих границ и пределов. Творить, — это значит: отдать тысячи неограниченных возможностей за одно ограниченное и определенное осуществление. Это значит: отказаться от безусловного и принять, признать замкнутую в себе и до конца человеческую условность.
Основной пафос Валери, — это и есть пафос вольного самоограничения, пафос перехода от безусловного к прекрасной условности. Для него существенен не экстаз, преодолеваемый в творческом акте, и не объект, который создается, но именно самый акт преодоления, самый момент утверждения. Даже в Валери-поэте постоянно чувствуется какое-то настороженное любование образом в его рождении, в его сладостном отделении от бескачественного и бесформенного. Может быть, именно это и сообщает какой-то совершенно особый тон его поэзии. Иногда кажется, что он создает свои стихи только для того, чтобы присутствовать при их рождении:
Итак, только через творчество, т. е. выбор своей замкнутой формы, возможен переход от бытия как отвлеченной логической категории к подлинному и живому бытию. Эта идея повсюду явственна у Валери и по-разному преломляется в разных планах его мышления. Мы находим ее в его понимании тела как объективной формы души. Сама по себе душа лишь пустая сущность. Она находит себя и переходит к целостному существованию, — только избрав себе тело. (Валери сближает свою мысль с несколькими утверждениями Леонардо и с церковным учением — часто забываемым — нашедшим себе выражение в догмате воскресения плоти).
Но этим личность еще не завершена окончательно. В течение жизни она вновь ищет, создает, избирает себя, неустанно отметая тысячи возможных и осуществимых «я» — во имя одного, подлинного. «Я родился многими, — говорит Сократ, — и я умер один».
Наконец, высшее самоограничение и, значит, высшую свободу личность находит в творчестве stricto sensu[15]. Только здесь — через осуществление последней строгости — она до конца утверждает себя, и больше чем себя. Весь состав нашей душевной жизни — с его экстазами и прозрениями — это для художника лишь бесформенный материал. Техника, «дисциплина, строгость — таковы орудия художника. Эти цепи, теснящие нас при каждом движении нашего гения, должны непрестанно напоминать нам о презрении к тому привычному хаосу, который чернь называет мыслью».
Наши глубочайшие интуиции сами по себе, если брать их независимо от произведений, в которых мы сумели их закрепить, — лишь случайности, затерянные в стилистике нашей душевной жизни. «Личность художника — существует только как отсвет его созданий».
Рассказывая о своей беседе с Маллармэ при виде звездного неба, Валери заключает: «Где Кант несколько наивно увидел Моральный Закон, там Маллармэ уловил творческий императив: Поэтику». Эти слова можно повторить и о самом Валери.
Мир не дан, но лишь задан нам; то, что мы называем бытием, есть лишь смутная возможность бытия, ждущая от нас своего осуществления.
Художник не воссоздает, но впервые создает подлинно реальный космос.
Обаяние Валери не столько в предмете, сколько в методе его изыскания: это тончайший аппарат, где порою стилистический нюанс столь же существенен, как и строгий диалектический ход.
«Наша философия, — говорит сам Валери, — определяется не столько своим предметом, сколько своим аппаратом».
Поэтому, сведенный к своим основным положениям (да вряд ли это и возможно), опыт Валери неизбежно теряет самое существенное: напряженность очень конкретного, очень опасного эксперимента; обаяние холодного и изощренного анализа в такой области, куда до сих пор проникала лишь профессорская метафизика да безответственный энтузиазм.
Вопрос о поэтических экспериментах Валери заслуживает отдельного рассмотрения: слишком поучительно это искусство, построенное «entre le vide et l'evenement pur»[16].
Ницше и музыка
Жизнь Ницше, при всей своей сложности и противоречивости, обладает тем единством напряжения («тоноса» — в стоическом смысле), которое позволяет, прослеживая любую из частных нитей его развития, вскрыть закон всей его судьбы: в ее сдвигах, разрывах, преодолениях и неизбежно предрешенной гибели.
Вот одна из этих нитей — и очень существенная — Ницше и музыка. Здесь, как и повсюду: история страстной вражды и борьбы, во имя высшего в себе, с низшим, но тоже — кровным, близким, своим. Ибо человек дан самому себе как текучее и неоформленное множество противоречивых и смутных тенденций, но задан себе — как завершенное и божественно-простое единство иерархически-соподчиненных сил.
«Стань собою» — гласит излюбленная Ницше формула Пиндара. И этот выбор, это осуществление подлинного себя совершается не просто через отметение чужого, чуждого, внешнего, но через трагическое изживание-преодоление части самого себя.
Но с какой жадностью и бесстыдством набросились биографы и истолкователи на переписку Ницше и весь его «Nachlass»[17]: «а и он был, как мы, и он был христианин malgré lui[18], декадент, романтик, немец духом и вагнерианец до гроба…»
Такого Ницше они готовы и принять, и полюбить, т. е. полюбить в нем то, что он в себе отверг, а не то, что он выбрал из хаоса своего психологического становления и, выбрав, утвердил перед лицом «Вечного Возврата».
«Моя связь с музыкой, — говорит Ницше, — это факт огромной важности для понимания той психологической проблемы, какую я собой представляю». С музыкой была у него давняя близость и страстные счеты. Девятилетним мальчиком начал он сочинять кантаты на библейские тексты и с тех пор, до конца своей сознательной жизни, вновь и вновь, иногда наперекор самому себе, возвращался к композиции. Музыка, как воздух, которым он дышал, непрестанно его окружала — хотел он того или не хотел…
Однако, лишь в первый, базельский, «дотрагический» период отношение философа к музыке было безоговорочно и безусловно. Все в нем — еще в состоянии хаотического брожения и начальной слитности. Выбор еще не сделан, преодоление еще не начато. Шопенгауэр и отголоски христианской наследственности и воспитания еще мирно сочетаются в нем с культом досократовских мыслителей Эллады, и аттическая трагедия — с романтизмом и Вагнером. И надо всем, как символ этого дотворческого хаоса, — стоит музыка.
«Когда я думаю о том, что хоть несколько людей следующего поколения получат от музыки то, что я от нее получил, — я готов ждать совершенно новой культуры… Все, что стоит вне связи с музыкой, внушает мне тошноту и отвращение». И несколько дальше, в том же письме 1871 г.: «Вернувшись с концерта, я ощутил ужас перед действительностью, ибо она предстала мне уже не действительной, но призрачной». Или еще: ««Мейстерзингеры»: ответ немецкой культуры французской цивилизации». Итак, вот чего искал, вот что любил тогда Ницше в музыке: романтизм, потустороннее, иллюзорный мир, перед которым меркнет действительность, выражение германского духа. Словом, все то, преодоление чего стало впоследствии делом его жизни. Отвергнув это, он должен был отвергнуть и музыку. Музыку Вагнера, северную, германскую, романтическую музыку или — музыку вообще, музыку как таковую?
Вокруг этой именно проблемы нарастает в дальнейшем сложная цепь конфликтов, отречений, любви и ненависти.
Музыка романтична по своей природе; она — последыш культуры, сладостное воспоминание и утешение; поэтому она торжествует лишь тогда, когда все подлинно-великое осталось в прошлом. «Не принадлежит ли к ее природе быть противоренессансом? Не сестра ли она стилю барокко? Вообще музыка не есть ли уже декаданс? Почему немецкая музыка кульминирует именно в эпоху романтизма? Почему гетевское начало совсем не представлено в музыке? Именно как романтика музыка достигла высшей зрелости и совершенства, и как реакция против классического начала». Ницше отмечает «опасливое отношение Гете к музыке», указывает на «разнузданность музыки» и с презрением говорит: «Есть люди, которые мечтают опьянить музыкой весь мир и воображают, что тогда именно придет настоящая культура». (Сам он еще недавно принадлежал к этим именно людям.)
«Я начал с того, — рассказывает философ, — что запретил себе музыку, — это чванливое, тяжелое и удушливое искусство, которое лишает дух строгости и веселости… Cave musicam[19] — вот мое правило и мой совет всем, кто еще ценит чистоту духа».
Казалось, Ницше решительно порвал с музыкой. Но нет. Музыка мстит за себя и неотвратимо преследует изменившего: Ницше не в силах остаться при своем отрицании, он хочет противопоставить отвергнутой музыке другую, «менее абсолютную», — но все-таки музыку. Он мечтает о «музыке Юга» — «злой и веселой», «глубокой и радостной, как послеполуденный час в октябре». «II faut mediterraniser la musique!»[20] И он провозглашает первенство «аристократической» мелодии в ущерб гармонии; истолковывает «затемнение мелодии» как «демократическое безобразие» и «отголосок революции». Гармония — служанка, и ее торжество — торжество варварского, германского начала. И вот Ницше жадно ищет воплощения этой постулируемой музыки в посредственных композициях своего друга Гаста, в мелодике итальянской оперы и, наконец, со всем упрямством и пафосом отчаяния — у Бизе.
«Не надо всерьез принимать мое увлечение Бизе», — вырывается у Ницше в одном письме. Да, но Ницше не может без слез слушать «Кармен», он испещряет патетическими примечаниями поля партитуры…
И это не все. Изгнанная им и умаленная в своих правах музыка вторгается в его жизнь иными, косвенными путями. Она захлестывает страницы «Заратустры», нарушает своим мятежным напором строй и строгость ницшевой мысли. Вспомним, что рассказывает Ницше в «Ессе homo» о том состоянии музыкального «исступления», в котором создавался «Заратустра». «Может быть, «Заратустру» следует причислить к музыке», — говорил он сам. Не потому ли эта изумительная книга — формально невыносима и почти оскорбительна?..
Жажда музыки неукротимо растет и достигает своего апогея к последнему году сознательной жизни философа. Безумие приближается к нему под маской музыки. Или музыка под маской безумия?..
«Музыка возбуждает во мне теперь чувства, каких еще никогда не возбуждала».
«Только что вернулся с концерта. Это самое сильное музыкальное впечатление всей моей жизни. После четвертого такта я был в слезах».
(Весь этот восторг по поводу какого-то Россаро). Письмо помечено декабрем 1888 года. В начале января Ницше, уже безумный, целыми днями поет в своей туринской мансарде и пишет Гасту: «Спой мне новую песню. Мир просветлен, и все небеса радуются». Он подписывается: «Дионис распятый».
Музыка — лишь одна из личин той темной и разрушительной силы, с которой всю жизнь трагически и безнадежно боролся Ницше. И эта сила победила.
«Она победила — значит она права», — говорят те, кто в трагедии хочет видеть лишь плоскую нравоучительную драму, где герой своей гибелью платит за попрание правого закона.
Но извлекать «мораль» из трагедии — кощунственно.
Оставим трагедию Ницше и вернемся к его философии. В чем для нас смысл его предостережения? В том, что музыка (и как искусство, и как одна из космических сил) сама по себе — начало хаотическое, а не творческое. Сила женственная — она должна быть обуздана, приведена к покорству. Она становится плодотворной только если ей противопоставлена вся неумолимая, мужественная ясность расчленяющего разума и законодательствующей воли.
Но музыка как самодовлеющее искусство чистого звука, музыка, переставшая повиноваться и служить жизни, — губительна. Это — развоплощенный и соблазнительный мир; это начало вампирическое, высасывающее кровь из жизни.
Она будит и доводит до последнего напряжения страстные и героические энергии, скрытые в нас?
Да, но пробудив, сама же их вырывает без остатка, отводит из жизни в пустоту.
Из концертного зала мы выходим опустошенными и глухими к действительности. Достаточно одного часа, чтобы вызвать в нас и разрядить в ослепительной и бесплодной вспышке годами накопленную энергию, — накопленную для жизни, для дела.
Музыка, в какие бы строгие и мудрорасчлененные формы она ни облекалась, всегда поет «про древний хаос, про родимый».
Горе культурам и искусствам, когда в них музыкант вытесняет зодчего.
«Cave musicam!»
Паскаль и трагедия
Пеги рассказывает где-то следующую легенду про св. Людовика де Гонзаго. Однажды во время перемены во дворе семинарии Людовик играл в мяч. В это время его товарищи предавались традиционной забаве, испытующей одновременно и мудрость и благочестие участников: «что сделал бы ты, если бы узнал, что через полчаса наступит Страшный Суд?» — таков был вопрос, на который надлежало ответить каждому. Одни говорили, что предались бы молитвам, другие — самобичеванию. «А как поступил бы ты?» — спросили у Людовика. «Я? — я продолжал бы играть в мяч».
Здесь, в этом ответе, с редкой ясностью отразился простейший и существеннейший тип христианского чувствования жизни. Здесь спокойное ощущение, что в Боге все оправдано, и верность до конца — в малом и великом. Дольнее и небесное связаны прочной и явственной связью. Земной порядок не отрицается порядком высшим, но объемлется и утверждается им. Вот почему и веселая игра в мяч на солнечном дворе семинарии находит свое место и свой смысл в иерархии сущего; она не меркнет и не упраздняется даже перед лицом Страшного Суда — суда того, кто «трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит».
Живое, непосредственное чувствование мира в Боге — решительно исключает всякую возможность трагедии. Иллюзия «трагизма» может получиться лишь через усложнение и замутнение этого чувствования (при обманчивой видимости большей глубины).
Таков случай Паскаля.
Паскалю не дано непосредственно, как Людовику, чувство своей утвержденности в Боге; он приходит к нему отрицательным путем. Лишь мучительное ощущение неблагополучия и неустойчивости мира рождает в нем жажду закрепить себя в непреходящем и вечном. «Ужасно чувствовать, что все, чем обладаешь, — преходяще, и все-таки привязываться к нему, не желая искать непреходящего». «Чему радоваться, если можно ждать лишь бедствий? Чем гордиться, если видишь себя в непроницаемом мраке? Как утешиться, если не ждешь Утешителя? Таково наше состояние, полное бедствий, слабости и мрака».
«Трагическому» Паскалю нужно блаженство, притом же блаженство, — устойчивое, обеспеченное — «felicité avec assurance». Недаром его основной пафос — пафос устойчивости. Именно под знаком устойчивости воспринимает он Бога: «Ничто кроме Тебя не достойно любви, ибо Ты один устойчив (durable)». «Сколь счастлива душа, которая нашла свою усладу — в Тебе! Сколь твердо и устойчиво ее блаженство: ведь надежда ее не будет обманута, ибо Ты не подлежишь уничтожению… Одни погибнут вместе с преходящими вещами, к которым они привязаны, другие — вечно пребудут в том, что вечно и утверждено в себе самом».
А ужас перед «вечным безмолвием безмерных пространств»? А пресловутая бездна, отверзтая по левую руку философа? — Все это понадобилось Паскалю лишь для того, чтобы окончательно убедиться, что уверовать — это «notre premier intérêt»[21]. Ибо чувство устойчивости не дается даром. Пришлось предварительно сделать сложный обход, пришлось оттолкнуться от мира через страх и отвращение. И это не все: потребовалась еще кропотливая расчетливость математика на службе у страха. И в результате: хитрая сделка, пресловутое паскалевское «пари».
Опыт изобретения рулетки очень пригодился Паскалю; по ее образцу он придумал другую рулетку — «рулетку спасения», обладающую существенными преимуществами. Здесь ставка — всего лишь преходящий мир, а выигрыш — вечное блаженство. Более того, ставка может быть сведена к нулю: для этого достаточно обесценить мир и все, что в мире.
С какой вкрадчивой, безупречно коммерческой положительностью этот презритель разума и созерцатель бездн убеждает нас в выгоде предлагаемой сделки:
«Взвесим выигрыш и проигрыш, если держать пари за то, что Бог есть. Выигрывая, вы выигрываете все, проигрывая — ничего не проигрываете. Итак, держите пари не колеблясь… Может быть, ставка слишком велика? Помилуйте, ведь здесь есть возможность выиграть бесконечность бесконечно-блаженных жизней с равными шансами на выигрыш и проигрыш, а ставка столь ничтожна и столь недолговечна, что, право, было бы безумием дорожить ею в подобном случае».
Мало того, дальше мы узнаем, что игра, при известной выдержке, — беспроигрышна:
«Я говорю вам, что вы выгадаете еще и в этой жизни, и что, с каждым шагом по этому пути (т. е. по пути презрения к миру), вы приобретете столько уверенности в выигрыше и так почувствуете ничтожность своей ставки, что узнаете наконец, что вы держали пари за вещь несомненную и бесконечную, и ничего не отдали, чтобы ее приобрести».
Итак, условие заключено. Обмен предстоит выгодный, ибо приобретаемое неизмеримо превышает затраты. Бесплатная прибавка — gratia gratis data[22] — обеспечена заранее милосердием и благостью Творца. Теперь остается отказаться от пользования миром и спешно превратить его в разменную монету. Собственная, внутренняя ценность вещей отменяется, и признается лишь их обменная стоимость на рынке спасения: «Ты позволяешь миру существовать только для того, чтобы испытать праведников и наказать грешников».
Мысль Паскаля — и самый строй его речи — развертывается в блистательных антитезах, сообразно двустороннему характеру купли-продажи, ставки-выигрыша. Пресловутые антитезы Паскаля — лишь патетически-пышная форма его двойной бухгалтерии: ничтожеству того, что отдается, противопоставляется величие того, что получается взамен.
Перечтите, например, знаменитую молитву «о выгодном использовании болезней» (le bon usage des maladies). Тупой, животный вопль безысходной боли достойней и человечней этой хитрой попытки страдать «с некоторой выгодой для себя» (en quelques sorte pour mon avantage), превратить страдание в способ оплаты (un tribut que je vous dois) и средство угодить (moyens de vous plaire).
Все живые силы духа подменены — превратились в похоти: «Все, что в мире, — похоть глаз или гордыня жизни, похоть чувства, похоть познания, похоть власти». И вот мир до конца поглощается зияющим зевом бесконечного: «le fini s'aneantit en presence de rinfini et devient un pur néant»[23].
Задача выполнена: ставка сведена к нулю, игра стала беспроигрышной. И успокоенный Паскаль восклицает в излюбленных им коммерческих терминах:
«Un homme qui decouvre les preuves de la Religion Chrétienne est comme un héritier qui trouve les titres de samaison»[24].
И еще: «Сколь приятно быть на корабле, потрясаемом бурею, если заранее знаешь, что он не погибнет».
Так благополучно разрешилась «трагедия» Паскаля.
Как далеки мы здесь от мудрой простоты св. Людовика де Гонзаго! Бездна не разверзалась у его ног, и он не нуждался в трагикоммерческих антитезах. Чтобы поверить, ему не пришлось изобретать рулетку и взвешивать выгоды «ставки на Бога». Даже перед лицом Страшного Суда он дерзновенно упорствовал в «сладостном и преступном пользовании миром» (usage delicieux et criminel du monde) — продолжал играть в мяч. Мир не был ненавистен Людовику просто потому, что он видел его утвержденным в Боге. А Паскаль, ослепленный страхом, ничего не видел, он только подсчитывал шансы спасения и корыстно променял мир за свое «обеспеченное блаженство» — felicité avec assurance.
Мы видели, что Паскалю была недоступна та благоговейная, бережная нежность к преходящему, какую знал св. Людовик. «Трагедия» Паскаля — ужас перед непрочностью всего земного — свидетельствует прежде всего об отсутствии прямого, непосредственного видения мира — и, через мир, себя — в Боге.
Мы видели далее, как умело он использовал эту «трагедию»: познать, содрогаясь, обреченность мира — ему это нужно только для того, чтобы легче было отказаться от мира, предать мир.
И действительно, как только ему удается (хотя бы косвенно, путем сделки) утвердить и обеспечить себя в Боге, — трагизм отменяется. И вот перед нами плоская мелодрама, кончающаяся «пирком да свадебкой».
Словом, трагизм Паскаля и его христианство взаимно умаляют и обличают друг друга: эти несовместимые начала соединились в нем лишь ценою утраты своей подлинности и чистоты.
Религиозный тип, к которому принадлежал Паскаль, — тип смешанный, нецельный. Поэтому, в наших поисках трагического христианства, оттолкнемся от Паскаля и будем решительно идти вперед по тому пути, который он лишь наметил.
Элементы расчета, корыстное искание устойчивости и обеспеченного блаженства — устраним их. Но это не все: останется главное — останется надежда; не она ли прежде всего отличает христианина от «не знавшего надежды эллина»? Однако устраним и ее. Мы увидим сейчас, что даже устраняя надежду, возможно все еще остаться в пределах христианства — и все еще вне трагедии.
Итак, нам надлежит построить мыслимый предельный тип христианского сознания, в корне противоположный типу св. Людовика де Гонзаго (из которого мы исходим, как из простейшего и основного), но столь же цельный и чистый.
Если там мы видели спокойное и радостное чувство своей полной причастности к божественному, то здесь мы должны постулировать столь же явственное узрение своей непреодолимой и неподлежащей преодолению отрешенности от Бога.
Там — неколебимая надежда, веселая готовность бестрепетно предстать перед Судом — в любое мгновение, во всем своем случайном составе.
Здесь — должна быть безнадежность, утвержденная вольно, до конца, и целостное видение своей обреченности.
И все это — не помимо веры, не путем косвенных умозаключений, но именно в силу веры. Утверждение Бога и отрицание себя — должно быть здесь единым и неразделимым актом.
«Le moi est haïssable»[25] — провозгласил Паскаль, разумея лишь земную личину своего «я», подвластную времени и оскверненную грехопадением. И в телесных страданиях он учился презирать эту тленную личину, чтобы тем вернее обеспечить лучшую участь непреходящей и совершеннейшей части себя.
Сделаем решительный шаг дальше: допустим, что весь человек как таковой (и высшее, и совершеннейшее в нем) ощущается достойным осуждения (причем догмат личного бессмертия остается, конечно, в силе).
Получится своеобразная христианская транспозиция Анаксимандра: всякое бытие, кроме бытия самого Бога, есть грех и подлежит вечному возмездию.
Тут уже не предопределенность одних — к спасению, других — к гибели. Нет, все живущее заранее и навеки осуждено самым фактом своего возникновения.
Это и есть искомый предельный тип христианского сознания. (Предельный и, постольку, конечно, еретический, ибо представляет собою одностороннее развитие одной из заложенных в христианстве тенденций; но для нашей задачи это несущественно).
Чтобы конкретнее определить этот тип, представим себе вместо молитвы «о выгодном использовании болезней» — другую молитву:
«Ты дал мне телесную боль, — и я отверг в себе все, что преходяще. Но я еще есмь — и знаю, что мне нет уничтожения. Ты еси — а я все-таки дерзаю быть! И вот, каждым своим дыханием, я люблю не только Тебя, хочу не только Тебя, но еще и себя. Ведь до конца восхотеть одного Тебя, это — перестает быть, чтобы был только Ты, и ничто — вне Тебя, ничто — что не Ты. А я кощунственно утверждаю с Тобою, в Тебе — себя: хочу быть причастным Твоей вечности, Твоей благости, Твоей славе.
Отторгни же меня от себя, и да не будет конца Твоему возмездию, как нет конца моей гордыне: ведь и в вечной муке я все еще пребуду — я!
Как единственного дара, прошу Твоего правого осуждения, чтобы, видя непреклонность моего греха, я был утешен радостным знанием моей вечной обреченности».
И вот — вслед за этой молитвой — непоколебимая уверенность, что молитва исполнена.
Что же дальше — incipit tragoedia[26]?
Нет. Если есть Бог, то невозможна последняя, трагическая предоставленность человека самому себе; неосуществимо и немыслимо пребывание вне Его воли, вне Его силы, вне Его славы: «Камо пойду от духа Твоего и от лица Твоего камо бежу?» Даже осуждение не может отрешить от Него: «аще сниду во ад, Ты тамо еси».
Так и в рассматриваемом случае. Радостное согласие на свое вечное осуждение, вольное утверждение своей отторгнутости от Бога — это лишь особая форма глубочайшей к Нему причастности: причастность Его славе через свое унижение.
Здесь побежденный вольно становится на сторону победителя и, отрекаясь от себя, торжествует с ним: моя обреченность — Его могущество, моя вечная мука — Его вечная радость, мое осуждение — Его правота. И вот, по остриям пламенных антитез с неизбежностью осуществляется перенесение центра тяжести с себя — на Него: мучась в себе, радуюсь в Нем.
Это перенесение центра тяжести с себя на Бога — основной, неустранимый момент всякого христианского духовного опыта; оно неизбежно предопределяется самым актом признания абсолютного и совершенного божества. Даже мятеж и богоборство верующего уже несет в себе свое самоосуждение: хочет он того или не хочет — он уже заранее на стороне Того, против кого борется. Цельное самоутверждение человека становится невозможно. И та тяжесть, которая полностью ложится на плечи язычника, — легка для христианина: Иной, Властный принял на себя его бремя. Христианин не может ни цельно страдать, ни цельно радоваться: собственная боль и собственная радость уже не принадлежат ему до конца. Его центр тяжести — не в нем самом. И мир он видит по-иному: центр тяжести всех вещей — тоже не в них; они перестали быть собою.
Так во всех формах христианского опыта, включая и тот предельный случай, который мы искусственно построили.
Но трагедия начинается именно там, где есть окончательное самоутверждение и сознание полной ответственности за себя — перед одним собою: нет и не может быть возможности сложить с себя это бремя, перенести его на другого.
Но в мою задачу не входит положительная характеристика трагического сознания; достаточно было показать его коренную противоположность христианскому.
Христианство а-трагично по самой своей сущности. Соединить можно только поддельное христианство с поддельной трагедией. Между подлинным христианством и подлинной трагедией — надо выбирать — Tertium поп datur[27]. А привычное движение нашей мысли — искать повсюду tertium: тезис = антитезис = синтез, тезис = антитезис = синтез… — и так, с легкостью, во всем.
Здесь же нет и не может быть синтеза. Невозможно ни примирение, ни нейтральность. Надо быть или с христианством — против трагедии, или с трагедией — против христианства.
Два облика Валери
Библиофильство далеко не всегда безобидно. Во Франции, например, оно начинает принимать формы прямо-таки угрожающие. Целый ряд книг — и, порою, очень существенных — издается только для собирателей и заранее оказывается изъят из общего пользования.
В число этих заметных книг попали — по причинам, о которых позволительно догадываться, — почти все произведения Поля Валери. Так, лишь совсем недавно, стала доступной «La soirée avec Monsieur Teste»[28], вышедшая, наконец, в обыкновенном издании.
Вместе со стихами (собранными в «Album des vers anciens et modernes») и «Введением в метод Леонардо да Винчи», «Soirée» относится к раннему периоду.
Это совсем небольшой отрывок, еще очень далекий от совершенства. Но в нем, с какою-то почти раздражающей резкостью и обнаженностью, намечены все возможности и пределы творчества Валери. И потом, несмотря на неприятный привкус несколько дешевого «герметизма» девяностых годов, несмотря на намеренную жесткость и прерывистость словесной ткани, здесь уже предугадывается двусмысленная прозрачность и острый холод прозы «Эвпалиноса» и некоторых фрагментов «Variété».
Но что такое M.Teste, о встречах и беседах с которым рассказывается в отрывке?
Во-первых, — он аллегория, в узком и точном смысле слова: отвлеченная схема, которую автор одарил подобием жизни. M.Teste (самое имя достаточно прозрачно) это сознание — чистое, отрешенное и замкнувшееся в себе. В иных описаниях его внешности и привычек характер иносказания даже преувеличено подчеркнут.
С большим художественным тактом, но с неменьшей настойчивостью аллегоризм подчеркнут и в позднем «Письме Эмили Тест». Здесь герою — «чистому субъекту познания», противопоставляется его жена — «чистый объект» (как ни странно, эта немецкая терминология очень точно, по-моему, соответствует мысли Валери); сам M.Teste всегда называет ее «тем, чего он от нее хочет», а иногда просто «бытием» или «вещью». Но для автора «Письма» Тест — уже давно превзойденная ступень и, вместо пафоса, у него осталась к прежнему герою лишь презрительно-благосклонная ирония. Поэтому «Письмо Эмилии Тест», формально столь совершенное, все-таки менее интересно, чем «Soirée».
Однако, M.Teste не только аллегория «чистого сознания»; он еще и существенный этап в развитии своего создателя. Он один из аспектов его личности, как бы ее отрицательный полюс. И еще: он тот мыслимый предел, к которому тяготеет Валери в первый период своего творчества, — период, завершившийся двадцатилетним молчанием.
В этом молчании всецело повинен Тест; только нейтрализовав в себе его влияние, Валери мог вновь вернуться к литературе.
«Когда-то, — говорит Тест, — всякий незаурядный поступок, совершенный другим человеком, был для меня личным поражением. В прошлом я видел только идеи, которые украдены у меня. Какая глупость… Прекрасным и необычайным можно быть только для других». Теперь M.Teste не хочет растрачивать себя на то, чтобы стать доступным зрению людей. Он ни в чем не выражает себя: ему враждебен даже простой жест. — «Когда он разговаривал, он никогда не поднимал руки, даже пальца. Он убил марионетку. Он не улыбался, не говорил «здравствуйте» и, казалось, не слышал обращения «как вы поживаете?» Он отверг книги. Он поселился в обстановке совершенно общей: это было любое помещение, как в теоремах бывает любая точка». Он отказался от действия, от творчества, ибо всякое действие, всякое осуществление есть умаление возможности, покупается ценою отказа от бесчисленных возможностей.
И вот, Тест замыкается в созерцании себя как чистой возможности. Он не живет, он лишь всматривается в некий «опыт, осуществляемый на границе всех познаний».
Но что это за опыт, ради которого он упразднил себя как действующего и хотящего? Об этом он сам говорит: «Я есмь существующий и видящий себя, и видящий себя видящим и так далее»…
И это все. Единственная функция сознания, предоставленного себе самому.
«Определяющая черта человека — это сознание, — говорит Валери в позднем предисловии к «Введению в метод Леонардо да Винчи». — А то, что характеризует сознание, это непрерывное исчерпыванье, неустанное отрешение ото всего являющегося, без исключения. Это акт нескончаемый, независимый от качества и от количества вещей. Мыслящий человек должен, наконец, прийти к сознательному отказу быть чем бы то ни было». Ибо для сознания «все равно», все вещи стоят друг друга, и нет никаких оснований предпочесть одну другой. То есть, нет никаких оснований для действия и творчества.
Так думал Валери эпохи «Soirée». Так думает он и теперь. Но Валери-Тест действительно пришел к сознательному отказу быть чем бы то ни было, к пустому «созерцанию себя как созерцающего». И если Тест — «демон возможности», чистейшая возможность — невозможен, по заявлению теперешнего Валери, если Тест лишь мыслимый предел, — то все же вполне реальным приближением к этому пределу было двадцатилетнее молчание поэта, даже не молчание, а как бы «молчальничество», — добровольно принятый, суровый искус.
Итак, молчание поэта понятно. Оно — неизбежный вывод из медитаций, отразившихся в «Soirée».
Непонятно другое. Непонятно, что заставило его нарушить молчание? Как оказался возможен переход от Валери-Теста — к теперешнему Валери, от культа чистой возможности — к творчеству, или (пользуясь выражениями «Эвпалиноса») от Сократа познающего — к Анти-Сократу творцу?
Иными словами: в каком отношении стоит Валери-академик к Валери-Тесту?
Ответ с ясностью предрешается в «Soirée»: — «Каждый великий человек запятнан ошибкой, которая делает его доступным для людей».
Словом, с точки зрения прежнего Валери, Валери теперешний — это Тест, запятнавший себя некой ошибкой: он отказался от созерцания чистой возможности и захотел себя осуществить.
Да, это «основная ошибка» (premiere erreur), слабость (faiblesse) и просто «глупость» (bêtise) — с точки зрения Теста, с точки зрения чистого сознания. Ибо для сознания — согласно приведенному определению — всякий выбор, всякая реализация есть необоснованное предпочтение. Сознание не может дать никаких оснований для действия; оно не в силах перешагнуть бездну между возможностью и осуществлением. Нужна какая-то другая сила.
Но где нашел эту силу Валери, ненавистник всего иррационального?
Он умело обошел затруднение, он не стал искать этой силы в себе. Пусть там, где есть налицо внутренняя необходимость осуществления, — «слепота» и «глупость» налицо. Но внутренняя необходимость и не нужна, достаточно случайного внешнего повода. Внешний повод всегда найдется.
Так с легкостью теперешний Валери разрешает задачу, оказавшуюся роковой для Валери-Теста. Творчество вновь становится для него возможным при условии быть творчеством по внешним поводам. Поэт сам об этом настойчиво напоминает. Поэма «La Jeune Parque» возникла как опыт, связанный с определенными метрическими и стилистическими проблемами. Попутно с работой над поэмой, намечается ряд частных тем для экспериментов и создается книга «Charmes». Диалоги о танце и архитектуре пишутся по заказу (для последнего было даже заранее указано количество букв). Так же создается и книга «Variété».
Наконец, последний, решающий повод — избрание в Академию — и Валери, ни в чем не поступясь «чистым сознанием», оказывается окончательно вовлеченным в область осуществлений.
А М.Тест, бесплодный «демон возможности», «transiit classificando»[29] где-то в Авиньоне.
Четыре фрагмента
(Мудрость осязания. — Отказ от безмерности. — Форма как ступень обреченности. — Сожжение и бальзамирование трупов.)
Так называемые «высшие чувства» (зрение и слух), которые мы развили в себе в ущерб «низшим», характеризуются прежде всего тем, что допускают, даже требуют некоторой удаленности от воспринимаемого предмета.
Отрешенность, оторванность, внеположность — этот признак равно определяет наше положение в мире и те чувства, которые стали для нас господствующими. Между нами и миром ровный и прозрачный холодок. И если нами не владеет голод или любовь — мы не хотим и не умеем касаться, нащупывать, схватывать; мы предпочитаем пассивно созерцать вещи. И вещи словно отступили от нас, стали чуждыми, призрачными. Мир потерял свою сладостную плотность.
«Незаинтересованное, чистое, безвольное созерцание» давно сделалось нашим официальным догматом в искусстве и нашей естественной склонностью в жизни. Наша мудрость тоже стала холодной, созерцательной. И мы этим гордимся.
Зрение (как и слух) по самой своей природе есть нечто предварительное: оно лишь намечает возможные подступы к овладению предметом. А мы сделали его самоцелью. По отношению к вещам мы охотнее всего пребываем в этом состоянии неосуществленной возможности. И мир для нас — прежде всего зримый мир.
Тысячелетиями мы оттесняли и заглушали в себе самое древнее, самое верное, самое земное из наших чувств — осязание. И вот теперь, в то время как наши «высшие чувства» отравлены и искажены, пропитаны и разбавлены чуждыми рациональными элементами — осязание сохранило всю свою девственную цельность и чистоту. Только оно — в те редкие моменты, когда оно действительно в нас оживает — реально приобщает нас к вещам.
Живое, никогда не обманывающее знание; жадное прикосновение к вещи, овладение вещью, непосредственное общение с плотью вещи — осязание осталось всецело верным древнейшей, исконной природе познания — природе эротической.
Через него мы должны вновь вернуться к древнейшей цельности, к живой причастности миру. Познать этот мир, как знают тело любимой: всей мудростью осязающего вожделения.
Лист бумаги на моем столе. Ровная, замкнутая, белая поверхность, явственная для моего взгляда и для осязающих прикосновений моей руки. Таким я его знаю, таким хочу. Таким я знаю и хочу весь этот мир — простой и светлый дом, где столько ясных вещей раскрыто моему взгляду и желанью: как это небо за окном и луч солнца в моей руке, как та улыбка, о которой я сейчас вспоминаю.
Путь мудрости — путь к последней, сладчайшей простоте. Оттеснить за пределы своего завершенного мира все тени враждебной безмерности, как я вытеснил их вот из этого, белеющего на столе, листа бумаги: ибо я знаю, что таится за этой ровной белизной; знаю, что мне пришлось одолеть, чтобы увидеть ее такою, какой вижу. Ведь этот лист — как и каждая, малейшая его частица — неограничен в себе и неисчерпаем по своему качественному многообразию. Узреть это многообразие, соприкоснуться с ним — это значило бы уже не быть, — но раствориться до конца, потерять себя в нем.
Но я властно оттолкнул его в небытие. И вот я есмь, и передо мною, на столе — ровный, белый, ограниченный лист бумаги.
Итак, зрение — это мудрая слепота, которой я ограждаю себя от хаоса. И каждый мой взгляд, каждое чувство и хотенье — веселый и гордый отказ от безмерности.
Жить это значит: уже не быть всем, во всем, со всем — но быть собою. Утвердить себя, как особого, ограниченного, единственного. Окружить себя светлой и завершенной сферой. Каким-то божественным усилием вытолкнуть за пределы себя все бездны и все пространства — и сознать их как внешнее, как не-я.
То есть противопоставить себя — всему. Чтобы подлинно быть, должно измерить всю глубину дерзновения, которую несет в себе самый акт личного бытия. И вновь и вновь измерять каждым дыханием.
В этом залог небывалой свободы и неутомимой жадности к земному.
Собственное тело для нас прототип и ключ всех форм. Только его мы знаем динамически, изнутри, — и лишь в силу этого знания получаем возможность истолковывать как форму пространственные грани вещей. Мы угадываем в них изнутри идущий напор, который, встречая противодействие извне, остановлен в своем нарастающем усилии и, несмиренный, напряженно закрепляет себя в пространстве.
Итак, форма всегда знаменует борьбу, всегда динамична. Вещам мы приписываем ее лишь по аналогии, метафорически. В подлинном смысле формой может обладать только живое. Ибо только живая форма действительно есть выражение самоутверждающегося бытия. Она — как бы хрупкая граница, определяемая встречей и борьбой двух непримиримых и неравных сил. С одной стороны — рвущееся к осуществлению бытие; с другой «длань незримо роковая», тяжкая всею косностью стихий, пространств и времен. Исход борьбы заранее предрешен.
Вот почему всякая форма — все, что выделяет себя как целое и особое из неоформленной стихии — всегда трагична. И чем она совершенней, тем явственней выражает: гордое противление, божественно-краткое торжество единого, единственного, неповторимого и его обреченность — безликому, хаотическому абсолютному.
«Абсолютное» по самому определению есть чистое отрицание формы — бесформенное, безобразное, беспредельное, непреходящее: зияющий зев хаоса.
Не только в мире живого, но повсюду: форма есть нечто более преходящее, чем то, что ею оформлено. Я могу уничтожить этот деревянный предмет — дерево все еще останется; я могу сжечь дерево — его материальный состав все еще пребудет. И так, постепенно нисходя по ступеням определенности, предмет растворится, наконец, в материи, вольется во всекачественный хаос, — который уничтожению не подлежит.
Иначе говоря: степень оформленности есть степень хрупкости. И то именно, что дает вещи ее бытие как именно этой вещи — то самое обрекает ее к уничтожению.
Так во всех планах бытия обнаруживается все тот же закон: каждый шаг к определенности, каждый шаг к совершенству есть шаг к гибели.
Индивидуальность — последняя, окончательная определенность — есть тем самым и чистейшая обреченность, чистейшее отрицание вечности.
Если собственное тело для нас прототип всех форм, то характер нашего восприятия формы вообще всецело предопределен тем, как мы ощущаем свое тело. Это ощущение косвенно обнаруживается в нашем отношении к тому, что было и что перестало быть телом — к трупу.
Поэтому тип погребения, свойственный данной культуре, — ключ к искусству этой культуры. И здесь два предельных типа — это сожжение и бальзамирование; они предполагают два совершенно несоизмеримых чувствования тела и формы.
При известном усилии мы еще можем соприкоснуться с эллинским чувствованием: наш внутренний опыт, который заставляет нас предавать умерших медленному тлению в Земле, в некоторых отношениях соприкасается с ихним.
Но бальзамирование — этот странный суррогат вечности — нам всецело и до конца чуждо.
Только наполненная форма, т. е. осуществляемая и читаемая изнутри — воспринималась эллином как форма. Она не облекает, но раскрывает то, что за нею. То есть она не просто оболочка, не поверхность, а напряженная граница жизни.
«Трупы отвратительнее навоза», — говорит Гераклит. Почему? Потому что даже навоз правдиво и адекватно выражает то, что он есть: разложение, нисхождение в материю. А труп лжет: он все еще хранит кощунственное подобие того, кто жил, словно выдает себя за него. Но под застывшими чертами, которые остались те же, хаос уже вступил в свои права.
Форма трупа потому должна быть насильственно разрушена, предана веселому своеволию огня, что она — лживая оболочка небытия.
Но именно эту оболочку, которая для эллина «хуже навоза», насильственно закрепляли египтяне, обрекая вечности лживый двойник.
Здесь тело — лишь поверхность, лишь совершенный футляр, своего рода «complet sur mesure»[30], который сбросила с себя душа и который надо приберечь в сохранности на случай ее возвращения.
Итак, бальзамирование трупов (т. е. закрепление во времени пустой формы) мыслимо лишь при полном отсутствии чувства плоти, живой, хрупкой, текучей материальности тела, его сплошной духовности. Здесь тело должно было восприниматься не изнутри и динамически, но извне, статически и созерцательно.
Спасти, остановить, удержать пространственные очертания предмета — это побуждение привело египтян к бальзамированию; из него же должно было вырасти и их искусство.
Заранее ясно, что для них и в художественном материале должна быть существенна не его хрупкая плоть (как для эллинов), но его поверхность; что при выборе материала должен стать решающим признак устойчивости, длительности, прочности; что искания временной длительности должно проецироваться в пространстве как тяготение к огромному… И т. д.
Я не знаю, как эта тенденция фактически осуществляется в египетском искусстве. Но все особенности этого искусства мне уже заранее даны и предуказаны одним только фактом бальзамирования трупов.
Антиномия культуры
I. Дар Прометея
В окрестностях Афин, на границе цветущего Колона, излюбленного соловьями, находилась огражденная роща Академа.
Здесь, под сенью древних олив, хранимых Зевсом-Морием, возвышались жертвенники богов, и среди них — жертвенник титана, мятежника-Прометея, похитившего у бессмертных и даровавшего людям «начало всех искусств» — зиждительный огонь.
Именно в этом облике и почитался он здесь: алтарь был посвящен Прометею-Огненосцу, чиноначальнику культуры — тому, кто вдохнул в человека роковую жажду гордого и безнадежного строительства и самоутверждения.
Но по праву ли алтарь титана нашел себе место среди алтарей небожителей? По праву ли чтили эллины того, кто одарил их столь страшным даром? В своем неведении, они еще могли надеяться и наивно прославлять мнимого благодетеля. Но мы, мудрые мудростью столь горьких тысячелетий, не должны ли мы гневно проклясть Огненосца, за дар которого нам пришлось, и еще придется, заплатить бесчисленными и бесполезными жертвами?
Но нет, не неведение руководило эллинами, и они вовсе не обольщали себя наивными надеждами. В образе Прометея-благодетеля и мятежника они явственно ознаменовали двойственную сущность культуры и некий изначальный, непримиримый конфликт, лежащий в ее основе. Они знали, что она — мятежное противление, за которое человек должен полностью заплатить: собою.
Ведь культура начинается именно там, где человек своевольно пытается вмешаться в надчеловеческий строй вещей. Он отказывается покорно принимать то, что уже есть, что просто дано. Он хочет изменить, подчинить, насильственно упорядочить. Провести пределы там, где природа их не провела и отменить те, что ею установлены.
Об этом поется в пресловутом стасиме софокловой «Антигоны»:
Много есть могучих сил, но нет ничего сильнее человека. С грозовым ветром, по вздутым хлябям, ревущим окрест, устремляется он за пределы седого моря. Даже высочайшую среди богинь — Землю-Владычицу — непреходящую, вечно-обильную, он утруждает насильственно из года в год…
Так — под знаком противления сильнейшему и насилия над высшим — рождается культура. Так возникает разрыв с миром. Так вечному порядку природы человек дерзительно противопоставляет свой, преходящий и чисто человеческий, порядок.
Мир ощущается уже как нечто внешнее и чуждое, как среда и материал для человеческого самоутверждения.
Орудие и средство этого самоутверждения и есть культура.
— Прежде люди смотрели и не видели, и слушали, не слыша, но, подобно обликам теней, смешивали все воедино.
Так говорил океанидам Прометей.
И вот, в эту первичную слитность бытия, в эту хаотическую полноту, где сущее еще не раскололось на внешнее и внутреннее, на субъект и объект, он вносит начало различения и выбора, противопоставления и памяти.
Неустанно раскалывая и закрепляя изначальную текучую цельность, человек искусством и волею строит себе свой — ясный и замкнутый — мир. Он хочет оградить себя от окружающей безмерности.
Но оградил ли? Нет:
— Искусство бессильно перед лицом Необходимости, — говорит титан.
— Но кто же стоит у кормила Необходимости? — спрашивают океаниды.
— Триликие Мойры и памятливые Эринии-мстительницы.
Так вот кому заранее обречена культура, вот кто, в конечном счете, решает ее судьбы? Но как человек все-таки находит в себе силы, чтобы продолжать столь безнадежное дело?
— Я дал людям способность не видеть участь, которой они обречены.
— Но как исцелил ты их от этого знания?
— Я вселил в них слепые надежды.
Таков, по свидетельству Эсхила, тройственный дар Прометея: 1) неутолимая жажда строить и осуществлять себя; 2) неизбежная обреченность этого строительства и как его условие — 3) слепая, напрасная надежда все-таки противостать Року. И конечно, поэт высказывает здесь не свой личный и произвольный домысел: его устами говорит исконная мудрость его культуры. То, что он здесь говорит — знали и другие эллины. И зная, — все-таки чтили Огненосца. Почему?
Об этом Эсхил молчит. Молчат и все другие. Их единственный ответ — алтарь в роще Академа и та культура, которую они нам завещали.
II. Культура и благополучие
Воля к цельному и радостному самоосуществлению и сознание тщеты всякого человеческого творчества — для нас они несовместимы.
И теперь, когда в нас назрело чувство непрочности нашей культуры, мы уже готовы трусливо отречься от нее. Все чаще слышатся заявления, что культура «не удалась», что она нас обманула, что она пришла к полному самоотрицанию и находится на краю гибели — вполне, впрочем, заслуженной, как уверяют некоторые.
Подобные утверждения стали теперь излюбленным общим местом. Но это, конечно, совсем не исключает того, что за ними может скрываться некая неоспоримая и всеми смутно ощущаемая истина.
Но всякий раз, как приходится точнее определить, почему именно культура не удалась и в чем себя отрицает, начинается ряд разногласий и недоразумений. Часто упрекают культуру за неудачу в том, чего она никогда не искала, и видят противоречие там, где она пребывает верной своему начальному заданию. В конечном счете оказывается, что противоречит она вовсе не себе самой, а всего лишь частным вкусам и желаниям X или Y.
Одному любезны только «органические» эпохи и он негодует, что живет в эпоху «критическую», другой смущен чрезмерным ростом техники, третьего пугает явная неустойчивость международного положения и т. д. и т. д. И отсюда неизменный вывод: культура обанкротилась, «Конец Запада» и проч.
Словом, речь здесь идет не о коренном самоотрицании культуры, а лишь о частных конфликтах в ее пределах. Настоящий смысл и оценки эти конфликты могут получить только в свете основной антиномии.
Остановлюсь здесь лишь на одном из подобных недоразумений. Оно самое старое, самое банальное из них, но зато — наиболее существенное и убедительное.
Вот это традиционное соображение. «Культура строилась тысячелетиями, стоила и стоит стольких жертв, но чего она достигла? Стало ли человеку лучше? Приблизился ли он хоть на один шаг к счастью и благополучию?»
Этот вопрос кажется столь решающим, что на него у защитников культуры только один ответ: еще не вполне приблизился, но, погодите, — приблизится и дойдет.
Дойдет или не дойдет — не знаю. Но ясно одно: если и дойдет, то только при одном условии: культура должна для этого изменить своей природе и своему заданию.
Мы видели, что это задание: творческое самоутверждение человека. Те, кто строил культуру, разве они искали счастья — для себя или для других, все равно? Разве они мешали поспокойней и поблагополучней устроиться?
Нет, строители — те, кто самое обеспеченное и устойчивое благо дерзко менял на неизвестность, неустойчивость, борьбу, искание!
Воля к созиданию и стремление к счастью — противоположны друг другу, исключают друг друга.
Что такое творчество? Веселая готовность переступить через все, отречение от всего данного, прочного, успокоительного; гордый отказ остановиться, замедлить, забыться в сладостном благополучии.
А что такое счастье? Остановка, detente, довольство тем, что есть, успокоенное пребывание в настоящем и сознание своей беспомощности.
Те, кто искал счастья, — ничего не построили и ничего не создали. Они лишь мирно и паразитически прозябали. Они не в праве роптать на культуру, которая создана не ими, и не для них. Она дело тех, кто смеялся над счастьем, кто искал иного и большего: «Habe ich jemals für mein Glück gelebt? Für mein Werk habe ich gelebt!»[31] — говорит Ницше.
Итак, если культура не мирное и благоустроенное общежитие, если она — пламенный конфликт, неустанное соревнование, неукротимая творческая вражда всех против всех, то это не неудача, но прямое выражение ее истинной сущности.
Недаром самые неблагополучные эпохи были самыми блистательными. Достаточно всмотреться в любой предмет, хотя бы в Грецию пятого века, которую принято почему-то воображать как расцвет обеспеченно-праздного сластолюбия. Надо вспомнить, что стоит за созданиями этой эпохи, в каком огне закалена и отточена их божественная строгость и чистота. Чтобы увидеть эту подлинную Элладу, достаточно перечесть хотя бы Фукидида: какое непрерывное пребывание на краю бездны, какие сдвиги и опасности, какая безжалостная борьба всех против всех, какое гордое и веселое презрение ко всем формам обеспеченности и благоденствия!
Наоборот, даже относительное спокойствие и равновесие губительно для культуры. Пример налицо. 18-й и 19-й века — относительно самый мирный и благоустроенный период во всей истории Европы. И как позорно за это время Европа разжирела и обмякла.
Культура цветет лишь под пламенным дуновением Эриды-Вражды. Она по самой своей сущности есть мужественное отрицание благополучия. И она останется такой, пока будет в ней жив древний огонь Прометея.
Итак, вопрос об удаче и неудаче культуры совсем не в том, стало ли от нее человеку лучше, удобней, спокойней. Ибо не этого он в ней искал, не ради этого дерзновенно противостал Року и миру. Мы видели, что он искал иного и большего: осуществить себя.
Чего достиг он на этом пути — вот основной вопрос.
III. Основная антиномия
Всматриваясь в развитие культуры в целом или любого ее отрезка в пространстве и времени, можно повсюду усмотреть следующее неискоренимое противоречие.
То, что является для человека необходимым условием самоутверждения, то, что обеспечивает ему независимость по отношению к миру и дает возможность себя осуществить, — то самое неизбежно вырастает в препятствие для самоутверждения. Созданная человеком, культура, в силу и в меру своего совершенства, оказывается независимой от человека и перестает с ним считаться.
Это и есть основная антиномия культуры. Здесь речь идет не о частной неудаче в результатах, но о роковой двойственности и противоречивости самого акта строительства как такового.
Чтобы уяснить настоящий смысл этой антиномии, посмотрим, как она обнаруживается в конкретном составе современности.
Современная культура — это бесконечно сложный, тысячелетиями строившийся и выверявшийся аппарат самоутверждения. Она представляет нам неисчерпаемое многообразие возможностей; дает пищу для самых противоположных видов духовного голода, дает свободное русло и путь для самых несоизмеримых, друг друга, казалось бы, исключающих сил и стремлений. Мало того, даже своим врагам, тем, кто восстает против нее, кто ее отрицает, она великодушно предоставляет ряд вполне проверенных и усовершенствованных способов мятежа и отрицания. Словом, можно сказать, что еще никогда человек не располагал таким богатством средств и форм самоутверждения.
Да, но столь же неоспоримым оказывается и обратное положение: еще никогда человек не был столь ограничен в своей творческой инициативе. И это несмотря на совершенство культуры? Нет, не «несмотря», но именно в силу этого совершенства. В этом-то и заключается вся парадоксальность нашего положения.
Свободное соучастие в культурном строительстве уже невозможно. Все формы и пути заранее предустановлены. Попробуйте восстать против этого — и ваше восстание тоже предуказано и учтено. Всякий мятежник против культуры — хочет он того или не хочет — пользуется ее же средствами, живет за ее же счет. Оппозиция — неизбежно оказывается оппозицией Ее Величества Культуры.
Культура сплошь принудительна: она сложная и многообразно расчлененная система неумолимых принуждений, иерархия принуждений. И роль каждой из великих и малых сил, в нее входящих — как бы противоположны они ни были — строго предопределена в связи целого. Религиозные догматы, истины математики, прокламации бунтарей, требования моды, устав о налогах и правила версификации — все это связано какой-то молчаливой, бессознательной круговой порукой.
Быть участником чего бы то ни было — это значит: раствориться в нем, потерять себя, быть вобранным какою-то внешней, тебя не знающей и не признающей силой. Свобода и инициатива сводятся только к тому, что есть некоторая предварительная возможность выбрать, чему именно подчиниться и в чем себя потерять. Но раз этот первоначальный выбор совершен, я тем самым принял на себя некое обязательство, и дальнейшее уже не в моей власти: я обязан до конца подчинить свою деятельность неодолимой и веками нараставшей инерции.
Это обнаруживается в любой сфере деятельности и творчества. Таково, например, соучастие в той или иной науке. Направление каждой из них заранее указано самой постановкой задачи (которая в наши дни повсюду окончательно выяснилась) и методом (который повсюду определился с полной непреложностью). Остается только одно: в безмерно разросшемся материале, недоступном обозрению одного человека, выбрать себе точно ограниченный уголок — и покорно следовать инерции. Ибо всякое уклонение изобличает себя как заблуждение.
Словом, наука уже не орудие в руках человека (говорю о частном, живом человеке, а не о каком-то «человеке вообще»), но он сам стал ее покорным орудием.
Но ведь — безмерное накопление материала, строгость и непреложность метода, однозначно поставленная задача — все это не какие-нибудь случайные, устранимые свойства, но самое существо науки, то, что дает ей ее силу, то, ради чего она создана.
Несовершенная наука — покорна, но бессильна. Совершенная — могуча, но именно поэтому отказывается повиноваться человеку, сама заставляет его рабски служить себе.
Так, в этом частном случае, обнаруживается все тот же роковой закон: создание, в силу своего совершенства, обращается против создателя.
Это лишь пример. Но так во всем. Науки, искусства, религии, кодексы законов, расписания поездов — все это уже самостоятельные сущности, существующие не столько для человека, сколько над человеком, мертвые, но могучие боги, живущие по своим, нам уже неведомым, законам.
IV. Демонология современности
Так, сами того не зная, мы вскормили нашей кровью, нашей волей, нашей мыслью целый сонм демонов.
Они всецело наше создание, но вот мы уже не властны над ними. Они неисчислимы и многообразны. Стерегут каждый наш шаг, подсказывают нам каждое движение.
Одни из них порабощают нас извне, насильственно заставляют повиноваться себе; но над нашим внутренним согласием и благоговением они не властны. Это демоны внешнего принуждения.
Есть среди них древние властители, живущие уже тысячелетия и искони питающиеся человеческими волями и судьбами. И есть демоны позднерожденные, удачливые parvenus, возникшие и окрепшие на наших глазах. Их много. Но вот один из них: демон валюты — недавний насельник жуткого пандемониума современности. Близкий и непонятный дух, о воле которого гадают по числам и выкладкам современные авгуры, как древние авгуры по полету птиц гадали о воле своих богов. Капризный демон — изменчивый и стремительный; то безжалостный, то благосклонный. И с ним его бесчисленные пособники — мелкие бесы цен: цены на хлеб, цены на познание, цены на любовь, на стихи, на кокаин, — на все… На страже каждой вещи жадно стоит неумолимый и изменчивый демон цены.
Но кроме «демонов внешнего принуждения» есть и другие демоны, не только могучие, но и соблазнительные. Они не извне господствуют над человеком, но овладевают им изнутри, проникают в его внутренний состав. Перед демонами-насильниками человек еще сохраняет драгоценную часть своей свободы — свое внутреннее несогласие и презрение к поработителю: внешне вынужденный подчиняться, он внутренне свободен.
Но демоны-соблазнители страшны именно тем, что человек добровольно, благоговейно и до конца принимает их власть: не только повинуется, но и боготворит.
Это демоны истин и идей. Есть среди них многочисленные демоны основных норм, ценностей, верований, логических законов, — древле зачатые и взрощенные человеком и властвующие над ним с незапамятных времен. Но есть и менее долговечные — сеятели призрачных и преходящих соблазнов. Иные живут веками, иные рождаются и умирают почти мгновенно. Законы, определяющие их рождение и гибель, остаются для нас сокровенными. И никогда нельзя предугадать, чем станет тот или иной дух, рождающийся на наших глазах: быть может, ничтожный сегодня, он завтра будет властелином человечества, или, могущественный теперь, завтра будет забыт.
Все мы были свидетелями странной участи одного из таких позднерожденных демонов. Он родился каких-нибудь полвека тому назад от темного и противоестественного брака гегелевской диалектики и голода. Он долго прозябал, копя силы. И вот, внезапно окрепший, вырвался из мрака и пронесся над нами, более губительный, чем духи ураганов, сметавшие жалкие хижины первобытного человека.
Этот демон, который упорно и неустанно овладевает миром, — мы слишком хорошо знаем его имя и его страшную власть над теми, кто им соблазнен.
И есть еще демоны… Но бесполезно перечислять их: имя им легион.
Как ни темны для нас внутренние законы этого странного пандемонизма, одно во всяком случае ясно: «демоны-соблазнители» и «демоны внешнего принуждения» — связаны неразрывно. Первые порождают вторых. То, чему мы покоряемся, презирая, всецело вытекает из того, что мы добровольно признали и чему сознательно служим. Внешне принудительные элементы культуры — прямой вывод из того в ней, что для нас внутренне обязательно. Одно без другого не имело бы власти и не могло бы существовать: все самое высокое и святое, все, ради чего нам нужна культура, — с роковой неизбежностью обусловливает то, что нам в ней ненавистно.
Это можно было бы показать на любом частном примере: достаточно глубже всмотреться в любое — самое отталкивающее — явление, чтобы убедиться, что оно всецело предопределяется соотношением и взаимодействием каких-нибудь «высших ценностей».
Если бы нашелся систематизатор, который сумел бы построить исчерпывающую и строго расчлененную иерархию демонических сил, владеющих современностью, то такой труд неизмеримо перерос бы те кропотливые трактаты, в которых средневековые демонологи пытались классифицировать и распределить по группам и рангам малых и великих служителей Князя Тьмы. Средневековая демонология показалась бы детски простой — и сколь успокоительной! — по сравнению с жуткой «демонологией современности».
И потом, у средневековых магов было могучее оружие против духов — были заклинания. А мы перед ними безоружны. Мы чувствуем повсюду — вокруг себя и в себе самих — их неумолимое присутствие. Ничто уже не принадлежит нам: всем владеют демоны.
Вновь, как в темные времена детства человечества, мир кишит ларвами и вампирами. Мы, которые оттеснили все призраки за пределы нашего строгого и светлого мира, мы, которые тысячелетиями отвоевывали себе место у хаоса — чего мы достигли? Опять мы окружены со всех сторон враждебными силами, и среди них мы более беспомощны и запуганы, чем темный дикарь, отовсюду подстерегаемый страхом и рабствующий перед всем окружающим.
А ведь именно для преодоления этого страха, этой неизвестности, этой зависимости ото всех и всего — и была создана культура. Человек, игрушка слепых и неведомых сил, нашел в себе волю жить, строить, дерзать. Он окружил свои угодья рубежами, священными пределами, установлениями и обычаями. Он построил своему духу высокий дом форм и символов — и гордо стал на страже своего мира.
Культурой, как магическим кругом, мечтал он оградить себя от враждебных вторжений хаоса и преодолел свое бессилие перед окружающей безмерностью. И вот он вызвал в мир еще более безжалостных властителей. Древняя бесприютность начинает теперь казаться нам мирным уютом. Старое рабство мы променяли на другое, горчайшее, — и гордо стоим на страже собственного застенка.
Созданная как орудие самоутверждения, культура с неизбежностью превратилась в орудие самоотрицания.
Результат оказался прямо противоположным заданию.
Все своеобразие нашего положения заключается в следующем: первобытный человек рабствовал перед внешними, космическими силами, от которых у него не было защиты, а мы рабствуем перед демонами, которых сами породили. Они не могли бы ни возникнуть, ни продолжать существовать без нашего сознательного и упорного соучастия. Собственного бытия они не имеют, но, как вампиры, живут за наш счет, земной жизнью, которой мы их одарили и которую уже не в силах у них отнять. Они могучи только до тех пор, пока мы добровольно питаем их своей кровью, пока мы не можем, или не смеем, или не хотим отказать им в этой пище — древней, сладчайшей пище всех демонов и всех богов.
Не можем, не смеем или не хотим… Но почему? Этот вопрос должен быть поставлен со всею остротой.
Иначе говоря: если признать вскрытую антиномию во всей ее непримиримости — то можно ли все-таки оправдать культуру?
Или оправдать нельзя — и должно отвергнуть? Или не отвергнуть, но в корне изменить, исправить? Или, наконец, нельзя ни оправдать, ни перестроить. Отвергнуть? Но что если и отвергнуть невозможно? Что если в человека, вместе с бытием, вложена роковая и неутолимая жажда строительства и самоутверждения, а самый акт человеческого самоутверждения уже несет в себе свое отрицание? В этом случае, антиномию можно преодолеть только вместе с бытием, и по отношению к культуре оправдывается катуллова формула любви-ненависти: поп sine te пес tecum![32]
Все эти вопросы я оставляю пока открытыми.
Разложение личности и внутренняя жизнь
Мы далеко еще не освободились от власти отошедшей эпохи — той, что завершилась Войною, — и во многом мы все еще только покорные продолжатели основных тенденций ненавистного 19-го века. В частности, чувство личности, как оно определилось в ту эпоху, в значительной мере остается господствующим и теперь. Его основная особенность — это решительное перенесение центра тяжести извне — во внутрь. Отсюда, расцвет так называемой «внутренней жизни» и, как его последствие, некий основной разлад: сознательно-принятая и оправдываемая несогласованность между нашим Я и его проявлениями в мире.
Правда, разлад этот намечался уже давно, но лишь в 19-м веке он становится господствующим явлением и даже провозглашается нормою всякой подлинной жизни. В довоенные десятилетия он достигает своих предельных форм, а в наши дни — очень медленно — идет на убыль.
Рассмотрим сначала это явление на крайне упрощенном и схематизированном примере.
Некто X. («средний» человек 19-го столетия) спит, ест, ходит на службу туда-то и т. д…. Допустим, что подобным образом нам даны все внешние проявления его личности. Знаем ли мы Икса? Оказывается, нет. Ибо X. решительно откажется отождествить себя со своими собственными обнаружениями. Настоящий X. нечто иное и большее: он собственно и начинается только там, где эти обнаружения кончаются. Место, которое он занимает во вселенной, — в значительной мере случайное: оно не определено всецело его внутренней сущностью. Действия, которые заполняют каждый день его жизни, всю его жизнь, — отнюдь не являются адекватным выражением его действительных желаний, вкусов, мыслей — словом, его подлинного Я. Это Я живет скрытно, как-то в стороне от своих же собственных актов, почти в них не участвуя.
Итак, X. верит, что он есть нечто совершенно иное, нежели то, чем он является во вне. Он мыслит, чувствует, страдает, радуется, — и все это почти ни в чем не изменяет хода его жизни, которая предоставлена своей инерции и движется по каким-то своим, чуждым ему, законам. Он живет одновременно как бы в двух несоизмеримых планах. У него нет силы согласовать свои поступки со своим душевным состоянием, но он ни за что не откажется и от душевных состояний, поскольку те явно опровергаются его же собственными поступками. Он принимает разделение и, в конце концов, начинает находить в нем особую, болезненную сладость. Притом же, у него всегда есть под рукой разнообразные и дешевые суррогаты жизни, избавляющие от надобности действительно жить: роман, газеты, алкоголь… Ими он и питает свою «внутреннюю жизнь». И «внутренняя жизнь» усложняется, крепнет за счет внешней и, в конце концов, уклоняет все активные энергии его существа от действия (которое требует решимости и выбора) к мечтательному самоуглублению (которое требует только косности). Несогласованность между внешним и внутренним растет, и чем дальше, тем труднее восстановить единство.
Накопляя свои внутренние сокровища, X. лишь идет по линии наименьшего сопротивления. И при этом его притягательное бессилие оправдывает себя услужливой софистикой: он гордо верит, что эти мнимые богатства законно избавляют его от необходимости бороться с действительной скудостью его жизни.
Что X. совсем не исключение, — тому свидетельством чуть не вся художественная литература 19-го века. Более того — X. герой этой литературы. То, что он живет в разладе с самим собой и своей жизнью опровергает самого себя, — вызывает умиление. Наоборот, какой-нибудь Y., который смеет быть тем, что он есть и адекватно выражает свою (обычно ничтожную, но зато реальную) сущность, — Y. вызывает негодование и презрение. Кончается тем, что Y. сам начинает стесняться своей цельности и хочет уверить себя и других, что и он не без разлада: занимаюсь, де, коммерческим представительством, но ежели б вы заглянули в мою душу… и т. д. В конце концов, Y. и на самом деле заболевает внутренней жизнью, и эпидемия растет.
Для того чтобы обозначить этого рода явления, Жюль де Готье даже придумал слово «боваризм» (в честь флоберовской героини, которую он считает классическим выражением этого разлада). Слово привилось, — лишнее доказательство того, что оно выражает существенный факт. Впрочем, сам Готье видит здесь не временную аномалию, но некий основной и извечный закон; его определение «боваризма» таково: всякое бытие сознает себя иным, чем оно есть в действительности. Если несколько видоизменить эту формулу, звучащую чуть не по-гегелевски, и должным образом ограничить сферу ее применения, то получается простое и несомненное утверждение: человек 19-го века обыкновенно не смеет быть тем, чем он себя сознает, и не хочет сознавать себя тем, что он есть.
Рассмотренный нами случай — простейший и банальный. Но на верхах культуры и жизни разлад еще глубже. Здесь он принимает разнообразные и крайне сложные формы, тем более опасные и заразительные, что у поэтов и философов они облекаются всеми соблазнами таланта и изощренной диалектики. Искусство и философия превращаются в могучие наркотики. Техника забвения достигает высокого совершенства. Не жить, не действовать, не хотеть; создать в себе самом пленительный и призрачный мир, всецело покорный твоему капризному произволу, — затвориться в нем!
Впрочем, внешняя жизнь такого человека может быть иногда крайне сложной и богатой событиями. Но это ничего не меняет. Все эти события для него лишь острые возбудители, которыми он неустанно раздражает, тревожит и усложняет свою внутреннюю жизнь. Он может менять страны, города, любовниц. Но где бы он ни был, с кем бы ни был, — всюду, всегда он ищет только себя: свою грусть, свою гордость, свою радость, свое отчаяние. Только они ему и нужны. Он безысходно заточил себя в своей внутренней тюрьме. Все многообразие мира для того, чтобы вновь и вновь, во все новых условиях, по все новому поводу, разнообразить, изощрять и дегустировать свои реакции на мир. То есть, он уже не живет в мире, уже не судит мира, но лишь забавляется его капризными отображениями в себе самом.
Возможен и обратный случай. Вместо того чтобы укрыться от внешней жизни, можно, наоборот, стать «человеком действия», но только затем, чтобы забыть себя, уйти от мучительного ритма своего раскрепощенного сознания, потерять себя в событиях и делах…
Во всех этих случаях обнаруживается одно: форма личности (то, как она проявляет себя вовне) и ее содержание (то, как она сама сознает себя изнутри), — иначе говоря, действие и сознание — перестали быть двумя нераздельными аспектами единого Я. Потеряв свое единство, личность теряет и свою живую связь с миром. И причина всего этого — так называемое «богатство внутренней жизни», которым так гордился человек 19-го века.
Но что такое «внутренняя жизнь»? Это сознание, утерявшее прямое соприкосновение с реальностью, сделавшееся самоцелью и переставшее поэтому быть силой, оформляющей жизнь.
Дерево, которое растет и, покорное ритму времен, медленно развертывает свою сущность в зримый образ; стервятник, плавно кружащий и круто падающий на добычу; жаворонок, взмывающий в лазурь, и хищник, собравшийся для стремительного прыжка, — все они цельно и без остатка присутствуют в каждом своем акте, их существо всецело осуществляет себя в любой данный момент своего бытия. Отсюда то впечатление недостижимого, как бы божественного совершенства, которое поражает нас в формах и явлениях космической жизни.
Здесь облик и сущность, орган и его функция, желание и акт, чувство и выражение, бытие и явление — словом, внешнее и внутреннее — неразделимо одно. То есть форма здесь вовсе не чуждая оболочка, облекающая и скрывающая содержание, а наоборот — его чистейшее выражение. Скрытая сущность восходит к зримому облику, бытие расцветает явлением и радостно обличает себя в нем до последних глубин.
Природа и есть неустанное творческое прорастание незримого в зримое, живое тождество внешнего и внутреннего. Это внушило Гете знаменательную формулу, которая послужит как бы лейтмотивом дальнейшего изложения:
Ничто не внутри, ничто не вовне, Ибо все, что внутри, — вовне!
Но из этого существенного единства, из этой живой цельности космоса человек чувствует себя как бы исключенным:
Да, откуда возник разлад? Какой новый фактор вырос и словно клином вошел между нами и нашими актами, между нашим внутренним Я и его зримым обнаружением в мире, — и разорвал наше древнее единство? Имя этому новому фактору — сознание.
Но что такое сознание? Возможность колебания и выбора, т. е. свобода.
Выражаясь точнее, сознание — как отчасти и определяет его Бергсон — есть не что иное, как возможность выбирать между несколькими, равно осуществимыми, актами. Там, где внешнее воздействие, желание или представление автоматически, с необходимостью вызывают акт, — там сознанию, в собственном смысле, нет места. Между желанием (или внешним поводом) и сопутствующим ему актом не происходит никакой задержки, никакого колебания. Отсюда то впечатление цельности и совершенства в природных явлениях, о которых я говорил. И отсюда же — возможность разлада в человеке. Возможность, но еще не факт.
Ибо сознание есть свобода, а всякая свобода двойственна. С одной стороны, оно — положительная свобода выбирать между возможностями, т. е. сознательно и твердо перейти от переживания к акту, иначе говоря: вольным усилием утвердить свое единство.
Но, с другой стороны, сознание есть и отрицательная свобода: свобода уклониться от активного выбора, остановиться на переходном моменте, т. е. предаться бесплодному созерцанию неосуществляемых или неосуществимых возможностей. Это значит — отдаться самосознанию без самоосуществления, т. е. «внутренней жизни».
Итак, то единство, которое дано всему сущему самым фактом его бытия, — человек должен его силою завоевать и волею осуществить. Ему одному предоставлена высокая и опасная свобода: он волен быть или не быть цельным.
Вот почему приведенные только что слова Гете, которые лишь устанавливают факт, наличествующий в космической жизни, по отношению к человеку звучат как призыв и долженствование.
Определив функцию сознания как выбор между несколькими возможными актами, мы тем самым установили и его нормальную функцию. Оно — лишь обратная сторона акта, лишь переходное состояние, как бы предварительная стадия готовящегося и назревающего действия. И только по отношению к этому — им предваряемому — действию сознание получает свой смысл и свое место. Если же оторвать его от акта, к которому оно тяготеет как к своему нормальному завершению, и превратить в самоцель, — тогда и возникает «внутренняя жизнь» и, как ее неизбежное следствие, разрыв между формою и содержанием личности.
Подчеркиваю, что именно это я разумею под «внутренней жизнью» (т. е. сознание, ставшее самоцелью, самосознавание помимо самоосуществления). Если же этого нет, если оно властно тяготеет к акту и с ним нераздельно, то неуместно говорить о «внутренней жизни», это уже просто жизнь, т. е., в согласии с предыдущим: творческое тождество внешнего и внутреннего, неустанное прорастание незримого в зримое.
Но как слагается эта «внутренняя жизнь» и где ее исток? Ответ покажется, на первый взгляд, несколько странным.
Внутренняя жизнь зарождается из трусливого сластолюбия и бессильной жадности. Этими же чувствами она питается и живет.
В самом деле, ведь прорастание сознания в акт, внутреннего во внешнее, как мы только что видели, осуществляется в выборе. А «выбрать», по прямому смыслу слова, это значит: утвердить одни возможности, мужественно отвергнув другие, неисчислимые. Ибо, чтобы только одна из них стала действительностью, приходится отказаться от множества других. Итак, действительный выбор предполагает прежде всего готовность к отречению.
Если этой готовности нет, если дух сластолюбиво и жадно цепляется за все раскрывающиеся перед ним противоречивые возможности и не хочет ничем поступиться из этого, еще призрачного, богатства, — тогда ему остается только одно: уклониться от осуществления (ибо таковое ведь предполагает отказ от многого и желанного). И вот он останавливается на переходном моменте сознания и предается любованию возможностями ради них самих.
Ведь поступившись осуществлением, дальше уже ничем поступаться не приходится: во «внутренней жизни» все смешивается, все сочетается, все воссоединяется, самые противоречивые элементы уживаются рядом и сладостно восполняют друг друга — только бы не пытаться их осуществить!
Так сластолюбец населяет свой душевный мир этими мертворожденными актами — призраками актов, которым не суждено стать действительностью — и услаждается ими втихомолку. Сферу сознания — где через отречение должен осуществляться выбор — оно превращает в место болезненных услаждений, а мысль — в пустую игру духа с самим собой.
Итак, «внутренняя жизнь» не имеет собственно никакого положительного содержания. Она слагается — каждый может проверить это на себе самом — из образов того, что неосуществимо или не осуществилось, чего мы не умеем или не смеем или не хотим осуществить, — но от чего мы все-таки не решаемся до конца отказаться, властно оттолкнуть в забвение. Наоборот, мы тщательно культивируем эти образы; отвращаясь от мира, мы жадно всматриваемся в их смутное протекание и ищем в нем — свое Я. Погружаясь в эту мелькающую муть, мы верим, что «погружаемся в себя» — в свою сокровенную и существенную глубину…
Знаменательно, что как раз в те моменты высшего напряжения, когда человек бывает в наибольшей степени собою, он менее всего думает о себе: его взор обращен не внутрь, на свое Я, но вовне, в мир, на объект действия. Он весь в своем акте. И так бывает во всех сферах жизни: все равно, будь то теолог, размышляющий о природе первородного греха, или начальник, ведущий в атаку свой эскадрон, хирург, оперирующий больного, или любовник в постели своей возлюбленной. Внутреннее конкретно отождествляется с внешним; чувство себя, своей цельности и полноты пронизывает самый акт, нераздельно сопутствует его ритму и, как острый привкус, сопровождает его осуществление.
Всякий, в той или иной форме, изведал это и может вспомнить, что это, настоящее, чувство личности менее всего похоже на самоуглубление и самосозерцание. Нет, для самоуглубления и самосозерцания надо предварительно распуститься, размякнуть, т. е. уже перестать быть собою. Поэтому немудрено, что все самосозерцатели, пускавшиеся на поиски собственного Я через самоанализ и интроспекцию, никакого Я в конце концов не находили: под их ищущим взором оно неизменно распадалось на душевные атомы, на какие-то психические клочки и обрывки, не связанные ни в какое единство. Вся художественная литература психологически-аналитического склада, завершенная Прустом, иллюстрирует это явление, смысл которого можно резюмировать словами одного из ее характерных представителей — Амиэля: «Через самоанализ я упразднил себя». Под влиянием этой литературы многие решительно провозгласили, что личность лишь фикция, миф, понятие юридического происхождения или пустое собирательное имя для ничем между собою не связанных психологических состояний.
Что «внутреннего Я» не нашли, это понятно, ибо такового действительно нет. Я — субъект действия и, постольку, наличествует только в действии, раскрывает себя только в нем. Оно не есть нечто чисто внутреннее, столь же мало, впрочем, как и нечто чисто внешнее. Как каждый акт подлинной жизни, как сама жизнь, личность есть тоже живое тождество внешнего и внутреннего.
Поскольку это тождество нарушено, личности уже нет. Остается только материал, из которого она может быть создана: разрозненные психологические состояния и случайные, не связанные с ними, акты. Поэтому бессмысленно было искать в себе единство личности, которое сам же разрушил, и удивляться потом, что его не находишь.
Это единство нельзя просто найти в себе в готовом виде, его можно только осуществить: неустанным усилием возводить свою скрытую сущность в свое зримое обнаружение, всей волей, всем сознанием прорастать в акт, в действие, в мир. — Чтобы все, что внутри, было вовне.
Диалоги и разговоры
Разговор о переводах
Поэт (весьма современный).
Филолог (конечно, педант).
Философ (тоже педант, и несговорчив до крайности).
Дама (приятная во всех отношениях).
Поэт. Все, что я услышал сейчас по поводу моего перевода Катулла, меня совсем не удивляет: я предвидел эти возражения. Слишком свободное отношение к тексту, «кощунственная модернизация» и потом — все эти «неточности» или «просто недоразумения», на которые так проницательно указал мне наш филолог… Все эти указания проходят мимо меня. Я сознательно хотел того, в чем меня упрекают. Вы ищете почтительной точности там, где мною руководила любовь: любовь всегда дерзновенна. Именно мое бережное отношение — не к «тексту» конечно, а к тому неповторимо-единственному, что я расслышал сквозь «текст», — не позволяет мне быть «точным» в вашем смысле. Что такое ваша пресловутая точность? Это значит: подменить согласие во внутреннем, глубинном ритме — поверхностным совпадением в словах и образах. Это значит: искусственно разбить божественное единство на кусочки, каждому из этих кусочков подыскать точно (лексически точно!) соответствующий ему кусочек в нашем языке, а потом вновь составить — уже мертвое, уже неорганическое — целое. А я исходил из неразложимого и волнующего ощущения целого и пытался закрепить именно это ощущение. Сначала — лишь смутно, предварительно. Потом я медленно прояснял этот предварительный набросок, ища совпадения в частностях, в оттенках. Но к чему сводилось это «прояснение»? К тому, чтобы приблизить! Когда я видел, у Катулла, капризную легкость, небрежность и улыбку, и когда те же самые слова, те же самые образы на нашем языке приобретали вдруг застылую торжественность иератического жеста — я считал себя не в праве быть верным словам и образам… Я дерзко отбрасывал их, брал другие слова и другие образы, такие же легкие, близкие и волнующие для нас, какими были когда-то те, отброшенные мною, для самого поэта и его современников. Не думайте, милый филолог, что ваши уроки пропали для меня даром: я долго вслушивался, долго изучал текст, руководимый вашими благосклонными советами. Но я только тогда нашел подлинного Катулла, когда почувствовал в себе силу отбросить и забыть все, что вы мне говорили, когда я оттолкнулся от всякой эрудиции, и у меня осталась только текучая, божественная сладость катулловых элегий. Если хоть капля этой неповторимой сладости есть в моем переводе, то все остальное для меня просто несущественно.
Филолог. Но уверены ли вы, что эта, обретенная вами, «текучая сладость» — катуллова, а не ваша собственная? Уверены ли вы, что давая нам отведать этой сладости, вы не воплощаете себя, только себя? И не был ли для вас Катулл лишь случайным поводом, чтобы открыть в себе самом источник этой сладости? В таком случае, по какому праву выдаете вы эти стихи за перевод и ставите над ними имя римского поэта?
Поэт. По праву благодарности, хотя бы!.. Но все же это не так, совсем не так. Есть, для внутреннего опыта, совершенно ясная, совершенно неоспоримая граница между своим (пусть новым, совершенно для тебя самого неожиданным) и чужим, что ты только принимаешь от другого и, в меру своих сил и своей любви, пытаешься воссоздать в себе, а потом — в слове. Если же отрицать эту неоспоримую границу, то надо быть последовательным и идти до конца. Тогда и вы, читая Каллимаха, которого теперь переводите, не можете быть уверены, несмотря на весь громоздкий аппарат вашего филологического опыта, что действительно принадлежит Каллимаху и что — лишь ваша иллюзия «по поводу» Каллимаха. В таком случае, разница между нами только в способе создавать свои иллюзии. Ведь, в конечном счете, все мы непроницаемо замкнуты в своем внутреннем мире и воссоздаем чужой лишь по своему произволу, «яко зерцалом в гадании». Это, вероятно, подтвердит и наш философ.
Филолог. Сомневаюсь, чтобы философ это «подтвердил». Но дело не в этом. Оставим эту, слишком глубокую проблему. Не идя так далеко, я все-таки могу сказать: у меня есть твердые и вполне определенные основания утверждать, что мой перевод Каллимаха — перевод, а не творчество «по поводу» Каллимаха. Я мог бы вам это показать — строка за строкой. Пусть этот перевод бледен и скуден (ведь у меня нет и капли вашей «текучей сладости»), но он обладает дословностью, о которой вы сейчас говорили с таким презрением, и которой я горжусь. В конце концов, дословность — единственный твердый критерий при переводе. Отбросьте эту спасительную дословность — и вам уже не на что будет опереться: настежь распахнутые двери любому произволу, любой фантазии, под предлогом верности «духу, а не букве». Исполните это внешнее, но совершенно необходимое требование — и во всем остальном вы свободны, а если и ограничены, то только мерою собственных сил.
Поэт. Вы говорите о «спасительной дословности», потому что всегда смотрите на поэта как филолог — извне. Во всеоружии вашей эрудиции, вы изучаете только временную оболочку поэта и, с кропотливым благоговением, воспроизводите ее — черту за чертой. Как гетевский Вагнер, вы любите только «sich in den Geist der Zeiten zu versetzen»[33], и ваше «историческое чувство» шокировано моим кощунственно модернизированным Катуллом. Вы не замечаете, что временная одежда поэта, которая приближала его к современникам, теперь, будучи воспроизведена с добросовестной точностью, лишь удаляет его от нас. Нет, вы прекрасно это замечаете. Вам именно это и нужно. Вам импонирует именно удаленность от вас, отличность от вас, несоизмеримость с вами. Ваш пафос филолога — своего рода «пафос расстояния». А для меня Катулл — сверстник. Я хочу воспринимать его — попросту, непосредственно, осязательно, как воспринимали его современники. Я вижу трепетное биение жизни там, где для вас — торжественно-классический жест. Поэтому я свободней вас, я не боюсь неточностей и с легкостью перерядил Катулла в близкую нам современную одежду. Вы, закинув голову, благоговейно созерцаете нагроможденный веками эшафодаж комментариев и схолий, загородивший от нас живую воду поэзии. А мне (простите меня) весь этот эшафодаж нужен был только для того, чтобы с головой броситься с него в эту живую воду. Вот видите, «эшафодаж» все-таки был мне нужен; повторяю, ваши уроки, милый учитель, не пропали для меня даром.
Филолог. Не буду спорить с вами о характере моего пафоса. Поговорим лучше о вашем. Итак, вы хотите приблизить нам Катулла, вы хотите, чтобы мы воспринимали Катулла так же, как его современники, т. е. оставаясь в кругу понятий и образов близких, привычных, своих. Вы говорите: тот или иной образ, капризно-небрежный для поэта, столь для нас торжественно-чуждый, надо заменить другим. Но ведь эти образы, эти душевные движения и жесты (из которых каждый стал для нас, по-вашему, чуждым) — ведь это и есть поэзия Катулла, это и есть Катулл! Будьте же последовательны, не говорите о том или о другом образе в отдельности, говорите о поэте в целом: Катулл стал для нас торжественно-чуждым, Катулла надо заменить другим, пленительно-близким поэтом. Но станьте сами этим Новым Катуллом, если вы способны заменить каждый его образ, как утверждали только что. А старого Катулла оставьте в покое.
Признайтесь, дорогой друг, что Катулл, как таковой, вам просто не нужен. Поэтому вы и воссоздадите какое-то воображаемое отношение к Катуллу его современников. Почему современников, а не людей эпохи Возрождения, или мое, или Ивана Ивановича? Почему вообще чье-то отношение? Дайте нам, хоть в самом бледном сколке, его самого и предоставьте относиться к нему как угодно. Вам понятно теперь мое недоумение? Я искал Катулла в вашем переводе, а нашел ваше отношение к такому поэту, отношение к которому наших современников соответствует, как вам кажется, отношению к Катуллу его современников!
Простите, это совсем не шутка, но формула, точно (хотя и неуклюже) резюмирующая вашу, столь обильную метафорами речь.
Философ. Я не знаю, каков должен быть перевод, и вопрос о «спасительной», или даже «единоспасающей» дословности меня, признаюсь, очень мало волнует. Но нужен ли вообще перевод (все равно — плохой или хороший), об этом вы даже и не говорили. По-видимому, для вас это — вопрос, раз и навсегда решенный. Для меня — нет. И, прежде всего, что такое перевод? Читая поэта, я всякий раз внутренне воссоздаю его в себе. Поэтическое произведение и есть собственно не что иное, как бесконечная, неисчерпаемая потенция такого рода воссозданий. И вот, когда одно из таких «внутренних воссозданий» упорядочивается и закрепляется в слове (притом на другом языке) — это и есть перевод. Здесь только что говорилось, что перевод должен закреплять не одно из отношений к произведению, а самое произведение. Но перевод, по своей сущности, закрепляет именно одно из отношений. Поэтому, при всей условной правоте своих доводов, филолог, в этом смысле, конечно, не прав. Замечательно то, что одно из отношений, будучи раз закреплено, начинает жить самостоятельной жизнью, само становится бесконечной потенцией возможных внутренних воссозданий. Есть какая-то коренная, отталкивающая неправота в этом паразитическом существовании… Но оставим это, это завело бы нас слишком далеко. Перевод не нужен уже просто потому, что это подделка (хотя бы и крайне искусная). И если переводы умножаются с каждым днем, то в этом сказывается стремление нового времени вместо ограниченной и интенсивной культуры — к бессмысленному и пустому расширению. Вместо того, чтобы подлинно знать немногое, мы предпочитаем заполнять зияющую пустоту нашей скуки дешевыми подделками всех культур, всех веков, всех литератур. Мы страдаем каким-то чудовищным интеллектуальным зудом…
Дама (явно встревоженная). Все это очень интересно… И все-таки из вашего спора я так и не поняла, возможны ли переводы, нужны ли и какие они должны быть? Но вот что: я никогда не читала Катулла, но я много читала нашего поэта и вижу, что стихи, которые мы только что слышали — какие-то новые, неожиданные, «его» и в то же время «не его». И то новое, неожиданное, «не его», что я расслышала в этих стихах, позвольте мне — вместе с поэтом, — называть это Катуллом. Я не знаю, может быть, это Катулл вымышленный, поддельный. Но согласитесь, непримиримый ревнитель «подлинности» и «реальности», что стихи, которые вы слышали — совсем не поддельные, а подлинные, что это — «полновесная реальность», как вы любите выражаться. Вот видите, вам остается только молчать. И потом, вспомните, что вы рассказывали мне недавно о том «непонятном волнении», которое вы ощущали в раннем детстве, слушая переводную «Илиаду» Гнедича. Конечно, потом, когда вам открылся подлинный Гомер, вы узнали радости, перед которыми побледнел тот, детский восторг. Но память о «непонятном волнении» все-таки осталась. Так вот, я и такие, как я, — мы никогда не узнаем подлинного Катулла. Пожалейте ж нас и оставьте нам «непонятное волнение», которое дает нам «поддельный» Катулл нашего поэта.
А ваши переводы, строгий филолог, меня совсем почему-то не волнуют. Это, должно быть, потому, что я очень невежественна. Для этого, вероятно, надо быть филологом. Но ведь филологи могут читать и подлинник, правда?..
О современности
Поэт. Философ.
Философ. Нет, я все-таки решительно не понимаю вашего подобострастного любования современностью. Я не считаю себя в праве прощать ей что бы то ни было только за то, что она моя современность. Мы не раз беседовали с вами о бессмысленной усложненности и скудной пестроте нашей эпохи. Мне казалось, что вы понимали меня, соглашались со мной. Откуда же эта восторженная жадность, это детское любование?
Поэт. Да, с вашей оценкой современности я соглашался, но любить ее я все-таки люблю. И люблю — вы правы — только за то, что она — моя современность.
Философ. Не заставляйте меня краснеть за вас. Вы только что высказали чудовищную, всеми повторяемую пошлость. От вас я ждал других доводов.
Поэт. Напрасно. Эта «пошлость» выражает тот простой факт, что современность — единственная данная нам реальность, что только от современности и через современность возможно для нас восхождение в прошлое, в древнее, в извечное. Отрицать этот факт — невозможно. Но можно закрыть на него глаза, можно отвернуться от современности и (неизбежное следствие) подменить прямое видение былого косвенными, отвлеченными умозаключениями и догадками. Впрочем, и это возможно только отчасти. Принять современность — во многом и существенном — волей-неволей все-таки приходится. И не лучше ли принять подлинно, жадно, чем — нехотя, исподволь, брезгливо. Повторяю, для меня совершенно ясно, что только жадно питаясь соками современности, можно корнями прорасти в глубину, в былое, осязательно соприкоснуться с извечным.
Философ. Итак, центр тяжести перемещается. Речь идет уже не об утверждении современности как таковой, но о прорастании через современность в прошлое. Здесь я скорее могу вас понять. Но только не ошибаетесь ли вы? Я думаю, что для нас, обреченных жить в эпоху разложения, в эпоху отрыва от реальности, путь восхождения и познания — это путь аскезы — отрицание и отречение, а не добровольная отдача себя на волю раскрепощенных и безликих сил, владеющих ныне человечеством. Только безжалостно отметая все половинчатое, неорганическое, мелькающее, — можно нащупать и вскрыть в себе свою древнюю, извечную основу.
Поэт. Итак, отрицание, аскеза, восхождение к извечному помимо современности — таков ваш взгляд. Пламенное приятие и изживание, напряженное прорастание через современность, сквозь современность — так думаю я. Мы могли бы до бесконечности приводить отвлеченные доводы, каждый в защиту своего взгляда. Но нужно ли это? Для меня здесь просто — факт моего духовного опыта. Помимо современности я только отвлеченно, в предварительных схемах, узнавал былое; но все непосредственные прикосновения к нему были даны мне только через современность. Литургия в церкви моего родного города была для меня преддверием элевсинского посвящения; я шел к стенам Илиона через рвы и проволоки Галиции, и по песку современного стадия — в священную ограду Зевса Олимпийского; я не знал, как звенит напряженная тетива лука, пока не почувствовал под рукой стальную дрожь пулемета. И так во всем — в самом существенном и самом случайном. Страстно вживаясь в современность, я каждое мгновение — здесь, теперь! — ощущаю себя в той точке, где осязательно пересекаются все времена. Отовсюду протягиваются тончайшие нити, связывающие меня со всем и все — со мною. Вещи — словно опрозрачены и просвечивают в глубину, в прошлое. Современность это перекресток, откуда открываются пути во все времена и во все пространства — по-разному, но равно близкие, реальные, осязательные…
Философ. Бедный поэт, заблудившийся в лабиринте путей, ведущих «во все времена и во все пространства»! Но вы только радуетесь, что заблудились, и это — худшее: в этом вы подлинный вскормленник современности. Я менее всего собираюсь отрицать «факты вашего духовного опыта». Но позвольте мне сделать из них некоторые выводы. Итак, современность — перекресток. Не мне спорить против этого. Но вы радуетесь тому, что находитесь на перекрестке, что можно идти в любом направлении, — а это возможно только тогда, когда все равно куда идти, т. е., в конце концов, — когда некуда идти. В самом деле, отсюда, из этого кафе, для вас равно открыты пути — через тысячелетия — к Илиону — или просто — мимо этих столиков — на Champs Elysées. Равно близкие, реальные, осязательные, — говорите вы; и одинаково призрачные и ни к чему не обязывающие, — прибавлю я. Да, тысячи возможных путей и нет неизбежного пути — единого, прямого. «Все времена и все пространства» — и ни клочка твердой земли под ногой. «Все просвечивает во всем, все растворяется во всем» — не спорю, но какое получается мутное и отвратительное месиво.
«Что такое творчество? — отдать тысячи возможностей за одно осуществление». Так сказал один из наших современников, и он прав. Можно сказать больше: что такое жизнь? — это тоже отдать тысячи возможностей за одно осуществление. А вы — для вас жизнь есть именно игра пустыми возможностями. Современность потому вам и любезна, что она — безмерное кишение невоплощенных и, по существу, невоплотимых возможностей. Вы говорите: «восхождение во времени, медленное прорастание корнями в былое, в извечное». Но разве о таком «медленном прорастании» говорят «факты вашего духовного опыта»? Нет, вы просто по-детски забавляетесь бессмысленной игрой, которая называется современной культурой: игра с призраками тысячелетий и культур, с призраками истин, идей, стилей, верований и посвящений. Все это было когда-то реальностью; но вы, для вашей игры, вы воссоздаете это в легких, пустых, призрачных подобиях. Вот ваше «прорастание в древнее, в извечное»! Это пустое самоуслаждение только разжигает в вас бесконечную, неутолимую жажду. Но вы не знаете, что даже малая капля подлинной реальности — утоляет до конца.
Поэт. Милый друг, почему всякий раз, как вы касаетесь этого вопроса о «подлинности» и «реальности», — вы впадаете в безудержный обличительный пафос и начинаете говорить метафорами, столь неожиданными в устах строгого философа?
Философ. Простите меня. Но вы знаете: здесь для меня основной, существеннейший вопрос, именно здесь коренится моя непримиримость в отношении к современности. Но вы правы, метафоры здесь ни к чему. Все сводится только к следующему: подлинно вместить можно лишь немногое; тот, кто возмечтал вместить и изжить всю безмерность времен и пространств, не вмещает в конце концов ничего и вынужден обольщать себя подделками и пустыми подобиями. Вспомните ваш недавний спор с нашим филологом. Вы утверждали, что вам равно доступны и близки все типы красоты; вы указывали, помнится, что с одинаковым трепетом читаете и Гомера и Песнь Песней. Филолог отнесся к этому недоверчиво. «Не верю, не верю людям, которые притязают на понимание слишком многого, — говорил он. — Подозреваю, что они не понимают по существу ничего и только притворяются; перед другими или перед самими собой — не все ли равно. Может быть, Гомер и Песнь Песней для божественного сознания и являются как два равноправных совершенства. Но для человеческого сознания они исключают друг друга. Надо иметь мужество сделать выбор». Вы помните ваш ответ? «Зачем совершать выбор, если я достаточно силен, чтобы вместить и примирить в себе и то и другое».
О да, выбор, ограничение, предел — вот чего вы боитесь больше всего. Вместо прекрасного предела вы избираете бесформенную беспредельность, где все стирается, сливается, теряет свой облик. Вы называете это вашей силой; но это слабость, самораспыление. «Пафос бесконечности — вот пафос современного человека», — гордо заявил один из ваших вождей. Но вспомните, чему учили нас греки: предел — прекрасен, беспредельное — безобразно. Они знали, что количественная ограниченность — единственный залог качественной насыщенности.
Через ограничение, отметение, выбор, воссоздать в себе малое, но завершенное единство — вот путь подлинного творчества, подлинной жизни. Но единственное понимание величия у современности — количественная безмерность. Поэтому я и отвергаю современность, и она для меня не путь к извечному-былому, но преграда.
Поэт. Все-таки, повторяю, во имя вашей лишь отвлеченно построенной реальности вы отвергаете единственную конкретную и неоспоримо наличную — современность. Прячьтесь от нее, уходите с головой в ваше вымышленное «малое и завершенное единство», но не называйте это «восхождением к подлинному, к реальному». Милый философ, вы повинны в мечтательном романтизме, в бегстве от реальности, «даже малая капля которой утоляет безмерно», как вы изволили выразиться. Возвращаю вам ваш упрек. И вместо вашего завершенного, но вымышленного единства избираю запутанную, мелькающую, но единственно доступную нам действительность. Что же поделать, если она оказалась не прекрасным пределом, как вам желательно, а ненавистной вам беспредельностью. Такой я ее принимаю, такой люблю,
Философ. О да, naufragar — это единственное, что остается всякому, принявшему современность. И если вам «сладко крушение в этом море», — то мне остается только вас пожалеть. Во всяком случае мы договорились до окончательной ясности. «Самоубийство через современность», вот что вы провозгласили только что… Но уже поздно, пора ехать домой. А вы еще останетесь?
Поэт. Не знаю, право, я еще не решил.
Философ. Так как перед вами «открыты пути во все времена и во все пространства», то решить довольно трудно. Впрочем, позволю себе высказать предположение, что, как и подобает переводчику Катулла, вы отправитесь на Монмартр: оттуда, «через страстное изживание современности», открывается прямой путь к тавернам Субурры.
Похвала смерти
1-й гость. Прошло немного дней с тех пор, как мы собрались здесь в последний раз, и вот — одно место за нашим столом навсегда опустело. Веселой соучастницы наших пиров, мудрой и сладостной Каллинои, не стало… Не надлежит ли нам, сложив венки, молча разойтись? Или наша веселая мудрость нам не изменила, и, как всегда, мы последуем нашему давнему обычаю: поочередно произнести похвалу одной из божественных сил, владеющих миром? Если так, то сегодня право на нашу хвалу по справедливости принадлежит Той, что благостно коснулась нашего круга.
Итак, друзья, нам надлежит восхвалить Смерть. Но не рабыню-привратницу, покорно открывающую двери в иную жизнь, а Смерть-завершительницу, неотвратимо и навеки полагающую предел бытию.
Это значит: оправдать ушедшую Каллиною, — показать, что ее мудрость, ее радость не обессмыслена, не унижена, но завершена смертью.
Это значит: оправдать и нас, живущих, — показать, что все биения нашего сердца, преходящего и тленного, до конца приемлют смерть и утверждаются ею.
И это значит еще: оправдать самую жизнь в ее божественной ограниченности, о которой говорит и которую славит каждое дыхание живого.
Ибо у обеих сестер — одно оправдание, и хвала смерти — есть хвала жизни.
2-й гость. Смерть Каллинои — как всякая смерть, с которой я подлинно соприкасался, — пробудила во мне двойственное чувство: скорбь и вместе — глубокую, торжественную радость. Скорбь — о том, что ее нет с нами, и еще — о том, что лишь связано с нею, но что не она сама: не осуществленный ею замысел, не исчерпанное ею счастье. Словом, скорбь — о себе самом или о вещах, о внешнем. Радость же — о самой Каллиное.
Но откуда эта радость? От смутного, но властного ощущения, что здесь, в этой смерти, что-то осуществилось, до конца завершило себя.
Я знал, что когда говорят о бессмысленности смерти, то говорят не о самом умершем, но о вещах: о том, что он мог бы еще сделать, достигнуть, и чего не сделал, не достиг.
И вот, в те мгновения, когда у меня хватало силы прорваться сквозь внешнюю случайность и бессмысленность события, я ощущал, что смерть не есть нечто чуждое, внешнее, насильственное; что только для вещей существует конец, — случайно, извне приходящее уничтожение. Для живого смерть не просто конец, но всегда — завершение. Она не приходит для него извне, но вырастает изнутри; всю жизнь зреет в нем самом, питается и крепнет его радостью, его мудростью, его болью, и медленно, как солнце, восходит из его собственной глубины.
Я понял тогда, что на какой-то высоте (мне еще недоступной) скорбь может и должна быть до конца побеждена радостью; и что, подлинно любя, я должен принимать и любить не только жизнь любимой, но нераздельно слитую с нею — ее смерть.
3-й гость. Но ведь ты видел и знал только смерть тела Каллинои. И, может быть, то, что казалось тебе последним завершением ее жизни, было, на самом деле, началом нового и высшего бытия ее духа? Сам не понимая, ты всем существом ощутил это, и отсюда — твоя непонятная радость.
2-й гость. То, что ты говоришь теперь, я уже говорил самому себе. Но кощунственность этой старой и простой мысли открылась мне, как только с легкого пути отвлеченности я перевел ее в мой конкретный опыт. Я понял тогда — осязательно понял — неразрывность того живого и божественно-цельного единства, в котором — я знал — движение ресниц и мудрость, легчайшая улыбка и сокровеннейшая мысль о мире — неразделимо и вовеки одно!
Я увидел, что единство это может быть уничтожено, но не расколото, может погибнуть, — но не распасться. Оно не может выделить, отбросить часть себя, как нечто чуждое, внешнее, случайное, — и остаться собою, продолжать быть. Нужна вся слепота отвлеченной мысли, чтобы различить в этом единстве тело и дух и оторвать их друг от друга, обрекая одно — на гниение, другое — на пустое, бесплотное бессмертие.
Тогда я вернулся к себе самому и, прислушиваясь к медленному восхождению смерти в моей глубине, спросил: если только части меня, моему духу, суждено избежать уничтожения, то имею ли я право принять такое бессмертие? И все во мне отвечало: нет! Все во мне говорило, что я един; что самая тупая боль и самая высокая радость нераздельно принадлежит всему мне, а не только моему телу или моему духу; что плоть не темница духа, не случайная оболочка, извне облекающая его, но плоть самого духа; что только в ней он впервые находит и осознает себя как дух; что только в ее ограниченности и связанности рождается его единство и его свобода. Я знаю, что не могу распасться, и умру, как жил — цельный и всецело!..
4-й гость. «Жизнь — смерть», «противоположны и нераздельны», «приемля и любя одну, — приемлешь и любишь другую»… Как легко принять все это за пустую и праздную диалектическую игру.
Но это не игра, не сопоставление пустых понятий; это то, к чему неизбежно приводит конкретное вживание в реальную жизнь и в реальную смерть.
Я не только отвлеченно мыслю, но опытно знаю, что жить — это значит: выделить себя из безразличной и неограниченной стихии мира как ограниченного, конечного, качественно-единственного и неповторимого. То, что делает меня — мною, что делает меня живым, это и есть моя конечность — в пространстве, во времени, во всем. Все во мне — каждая мысль и каждое хотение — утверждает себя как особое, как мое; противопоставляет себя безмерному и вечному миру. И за это радостное и дерзновенное противопоставление себя всему я должен и я хочу полностью заплатить: своим уничтожением. Вот почему все живое изначала несет и лелеет в себе свою гибель, и утверждая свою жизнь, утверждает свою смерть. Вот почему в каждом властно-изживаемом мгновении мы прикасаемся к смерти и узнаем, что она не отрицает, но утверждает и возвеличивает жизнь. А если это не так, то откуда именно в моменты высшего напряжения жизни (в любви или познании, в творчестве или в бою) — это преодоление страха и готовность к гибели? Почему страх смерти возможен лишь при оскудении и обмелении жизни, при отрыве от ее полноты? Почему он судорожно цепляется уже не за самую жизнь (которая от него ускользнула вместе с радостной готовностью встретить смерть), но за вещи, за мертвую шелуху жизни?
Есть простое правило проверить подлинность своей жизни. Спросить себя: то, что я чувствую и думаю теперь, осталось бы оно в силе, если бы я знал, что сегодня наступит смерть? Продолжал бы я делать то, что делаю? И так спрашивать — всегда, во всем.
Я называю это: мерить верною мерою смерти. Лишь то во мне имеет право на бытие, что выдерживает это испытание, что выходит из него нетронутым и по-новому оправданным. А то, что от этого прикосновения блекнет, выцветает, свертывается, — то лишь выдает себя за жизнь; оно должно быть вырвано и отброшено.
Очищенная от этого сора, жизнь становится божественно-напряженной.
Пусть христиане и философы кощунственно называют смерть рабыней-привратницей иного бытия. Но тот, кто умеет подлинно жить и целостно хотеть, найдет в ней верную меру и высшее оправдание своей жизни — этой жизни, сладостной, трудной, единственной.
О созерцании
A. Свернем направо. Вот сейчас, с этого холма, мы увидим море… Ребенком, в первый раз, я увидел его — тоже в полдень и так же глубоко внизу — спокойное, в крутой дуге залива… Помню, сквозь радостное изумление я вдруг почувствовал, что вижу его не впервые, что вернулся к нему из дальних, долгих скитаний, — и вот вновь узнаю в нем мое самое древнее и самое сладостное достояние.
И так всегда. Всякий раз, как мне открывалось что-нибудь новое и значительное — все равно пейзаж или истина или улыбка женщины, обреченной моей любви, — ощущение волнующей новизны странно сочеталось во мне с чувством чего-то извечно-знакомого; я как бы вновь узнавал и признавал своим что-то давно осознанное и лишь временно забытое. Словно ничто чужое и чуждое не смеет вступить в наш кругозор. Словно всякое познание приходит не извне, но вырастает и раскрывается изнутри, из нашей собственно глубины. Лишь этим оно оправдывает себя. И всякий раз, как познание не ощущалось мною как узнавание своего, овладение своим, — оно рано или поздно изобличало свою ненужность, рано или поздно я должен был отвергнуть его. Так, по поводу истин или образов, воспринятых извне, я вдруг осязательно соприкасался с давно утерянною частью себя. Медленно собирал и воссоединял себя через соприкосновение с миром. И все мои скитания по городам и странам, временам и культурам, религиям и философским системам — были для меня лишь путем к самому себе…
B. Милый друг, вы невольно и несколько странно платонизируете. Разве не об этом воспоминании-узнавании говорил и Платон? Но хотя факт тот же, смысл, который узревал в нем философ, совершенно противоположен вашему. Вы необоснованно и резко переносите центр тяжести на себя. Для вас вещи или идеи получают право на признание, лишь поскольку вы узнаете в них свое и ощущаете в себе право на овладение ими. Для вас узнавание — путь к себе. А для него оно — путь через себя к иному и большему.
В самом деле, познать — вспомнить, не значит ли это: вскрыть в себе большее, чем ты сам; явственно ощутить, что ты не исчерпываешься собою; перерасти свою ограниченность, преодолеть свою косность и раздельность; раствориться в совершеннейшем.
«Овладение»… Как неуместно здесь это слово, насыщенное темною волей. «Овладение» возможно лишь пока мы утверждаем себя как центр, пока к этому мнимому центру своевольно относим все окружающее: мы хотим не раствориться в нем, но корыстно использовать его для себя, поглотить, вобрать; смотрим на все затуманенным взором вожделенья; слепо и жадно подходим к вещам, чтобы завладеть; не видим вещей, спешно попираем их…
А созерцание — вольная самоотдача, потеря себя в созерцаемом.
Лишь здесь восстанавливается настоящая перспектива, искажаемая обычно нечестивым стремлением все отнести к себе как к центру — стремлением видеть в своем «я», с его случайными и смутными прихотями, — критерий и мерило сущего.
И вот, это море — наше «самое древнее и самое сладостное достояние», как вы говорите, — разве, созерцая его, вы не отрешаетесь от себя, не тонете в его зримой полноте, знаменующей иную — незримую и божественную полноту? Хотения смиряются. Все тревожное, случайное — сметено. Весь как бы становишься единым созерцающим оком и, растворяясь в безмерном, вкушаешь цельного покоя. Ибо:
А. Насколько разно видим мы вещи. И это море, которое для вас отошло в какую-то непостижимую даль и стало зримым знаменованием абсолюта, для меня оно — самое дерзкое, самое решительное и веселое утверждение текучего, ненасытного становления и неустанной жажды. И не покою, не самозабвению учит оно меня, а совсем другому… Но не в этом дело. Я думаю о том, как горек должен быть для вас, «вкусившего цельного покоя», возврат от созерцания к бытию. Как трудно после этого саморастворения вновь собрать себя в живое единство и восстановить «мнимый и призрачный центр», как вы называете человеческую личность. Не правда ли, вся ваша жизнь оказывается насильственно поделенной между двумя, несовместимыми и несоизмеримыми, ритмами: ритмом сверхличного созерцания и ритмом живого, раздельного бытия… Ибо для вас это — розные ритмы. А я… я привык всегда смотреть на мир, как вы выражаетесь, «затуманенным взором вожделенья». Ибо я знаю, что только жаждущий, глоток за глотком, радостно познает воду; что только любящий подлинно видит любимую. Я знаю, что реальное общение с миром возможно только через любовь и ненависть. Мой взгляд не посягает дальше, чем досягает мое желание; и я считаю себя в праве познавать лишь то, что чувствую себя в силах осуществить.
Но и вам не уйти из-под власти этого закона, как бы вы ни дробили свое единство на созерцание и слепое бытие. Ибо и ваше самое бесстрастное созерцание живо лишь случайными реминисценциями уже осуществленных действий или смутным предощущением возможных. Исключите это, и останется пустота, в которой невозможно даже и созерцание. В вашем созерцании нет ничего, чего бы не было в моем хотении; вы не исключаете хотения, но только разжижаете его и этой ценой достигаете иллюзии бесконечного расширения горизонта.
И в моем постижении мира есть место созерцанию. Но сколь не похоже оно на ваше! Вы ищите в нем перерасти свое бытие, неизбежно личное и ограниченное. А для меня оно — путь к бытию. Созерцать, чтобы полнее быть. Осязать взглядом контуры вещей, радостно нащупывать идеи и истины, жадно выслеживая пути и подступы к овладению ими. Обогатиться всею силою созерцаемого. Не потерять в нем себя, а найти. Не успокоение, но борьба, опасность и риск. И если, — на мгновение, — покой и застылось, то эти — настороженная готовность к стремительному прыжку. Познавать вещи и идеи под знаком овладения ими. А собою овладеть, над собой властвовать не позволять ничему — все равно будь то экстаз или созерцание, музыка или женщина. Бороться, утверждать себя во всем и сквозь все. Я знаю себя — жаждущего, хотящего, и мир — противопоставленный и раскрытый моему хотению; и я знаю созерцание как живую, действенную сопряженность себя и мира.
В. Бедный друг, с каким упорством и ослеплением вы провозглашаете собственный произвол определяющим законом всего своего бытия. Вы ищете безвыходно замкнуться в себе и отрываете себя от мира. Каким жалким и скучным показался бы вам этот мятеж, если бы вы были способны хоть на мгновение зачерпнуть покоя и полноты подлинно сущего.
Вы сами подменили бытие мелькающим и тревожным становлением, а меня вините в том, что через созерцание я хочу уйти от бытия.
Конечно, моя жизнь (как всякая земная жизнь) неумолимо поделена между двумя несоизмеримыми ритмами. Но если созерцание хотя на мгновение позволит мне вырваться из скудной сложности раздельного бытия (в котором вы безвыходно замкнуты) и приобщиться высшему строю, — то этим оно оправдано до конца. А чем оправдано ваше мятежное хотение?
А. Чем оправдано? Не знаю. Ведь оправдание нужно только там, где приходится связывать то, что разваливается и расползается. А я не философ, в мои обязанности не входит «штопать прорехи мироздания». Предоставляю это занятие вам, милый философ. А я чувствую себя единым, цельным — и мне весело. Так зачем же мне еще какие-то оправдания?
А теперь, снизойдите из сферы существенно-сущего в область мелькающего становления — и пойдем купаться.
Об оптимизме
Разговор первый
A. Ну, что выяснилось?
B. Как и следовало ожидать, — выступаем. Батальон опять — bataillon d'attaque, а наша рота — compagnie de tête[35].
A. Ага, так и сказано — bataillon d'attaque? Ясно, пресловутая «ликвидация Бени-Уаллемов» — на завтра, и день предстоит, видимо, занимательный. Когда подъем?
B. В три с половиной. В четыре должны присоединиться к батальону.
A. Значит, еще два часа: допить это вино, сменить посты, — а там уж останется каких-нибудь полчаса. Ложиться ни к чему.
B. Ни к чему, да и не хочется.
A. И мне не хочется… Люблю это ожидание — перед боем, перед отъездом, перед решительным свиданием… Будущее перестает быть неопределенно уходящей далью. Все собирается и стягивается вокруг одного центра. Словно запрудой приостановлено время: приливает, бурля и набухая. Воля завязана тугим узлом — для взлета или срыва?.. И этот теплый дождь, медленно стекающий по полотну палатки, и крепкая кожа круто стянутого пояса, и щелкнувший где-то вдалеке выстрел — все, все начинаешь воспринимать в каком-то новом соотношении, простейшем и существенном.
Может быть, я потому и полюбил так Легион, что здесь — это наше вседневное ощущение. Вместо медленного протекания времени, когда «завтра» неукоснительно продолжает «сегодня», — борьба, веселое соперничество дней… И всегдашняя готовность ко всему…
B. Да, есть острый и опасный соблазн в этой стремительной смене дней и часов. И я его знаю, но я борюсь с ним. Утеря связи для меня мучительна, несмотря на некоторую примесь нездорового удовольствия.
A. Какую такую связь вы утеряли?
B. Я говорю об ощущении единства и высшей осмысленности, которое непрерывно сопровождало когда-то все, что я делал, думал, чувствовал. Я знал его в наши петербургские годы. Знал его и потом, в гражданскую войну. Ведь и там была стремительность дней и готовность ко всему. Но было и другое: в каждое мгновенье, при каждом поступке я твердо и спокойно мог бы ответить на вопрос «зачем»? А здесь мне нечего ответить. Я не знаю, «зачем» все это… А ведь я не меньше, чем вы, люблю трудное и веселое ремесло войны. Но для меня оно должно быть вмещено и оправдано каким-то исчерпывающим смыслом. Иначе я чувствую, что оно превращается в «искусство для искусства» — в волнующую и бессмысленную игру… Разве у вас нет этого ощущения?
A. У меня? Нет. Наоборот, все стало как-то строже, проще, отчетливей. Но дело не в этом. Вы утверждаете, что жизнь должна быть пронизана и связана смыслом, и притом — сознаваемым и выразимым. И вот, в нашем теперешнем существовании вы этого не находите — и огорчены. Не так ли?
B. Не совсем так. Явственного смысла я, действительно, не усматриваю в нашей теперешней жизни. И в этом ее роковая умаленность. Но это совсем не значит, что она не служит какому-то смыслу и не входит в какое-то единство. Отрыв и выпадение из единства — лишь для нашего сознания. Вместо явственного видения цели нам дана лишь покорная «готовность ко всему». Мы как бы отброшены в низшую сферу бытия и обречены слепо осуществлять неведомое нам задание. Смутное чувство, что мы все-таки чему-то служим и что каждое наше действие чем-то оправдано — вот все, что у нас осталось. А вы как будто радуетесь своей слепоте!
А. Осмысленность действий и прямой ответ на вопрос «зачем» — вещь прекрасная… хотя тоже не всегда. Но ведь не об этой относительной осмысленности вы говорите, не правда ли? Вы ищете конечно, «последнего», «единого» и — явно — положительного смысла? Частную осмысленность отдельных действий (в ней и здесь недостатка нет) вы согласны признать лишь поскольку она отражает этот абсолютный смысл и явственно свидетельствует о нем. Прежде вы не только верили, что он есть, этот смысл, но и думали, что знаете его. Несколько лет философских занятий выработали у вас сноровку бегло и без остатка соотносить к абсолютному всякий факт вашей жизни. Потом, за недосугом, этот навык все начисто осмысливать — утратился; привычные схемы, столь удобные для петербургских медитаций, изобличили свое бессилие перед зрелищем подлинной жизни и смерти и случая, изорвались в клочья от соприкосновения с реальными вещами. И вот теперь, когда вам дана жизнь стремительная, собранная и простая, жизнь, которая смеется над одутловатым благолепием метафизических идей, — вы, считая себя отброшенным «в низшую сферу бытия», принимаете ее нецельно, брезгливо и с подозрением: «а ну как не оправдана? А ну как не входит в умопостигаемое единство?» Для самоутешения приходится все-таки верить, что входит и оправдана, хотя, во что входит и чем оправдана — неизвестно. Так ведь?
В. «Приходится верить»! Это вера, нераздельная с самым фактом живого бытия, хотя бы она и оставалась непроясненной, — как у вас. Ибо, в глубине души, и вы верите. Уже то, что вы не убиваете себя, но продолжаете жить, радоваться, хотеть — это одно свидетельствует, что жизнь чем-то до конца оправдана и в ваших глазах.
А. Это, по крайней мере, ясно. С этого и надо было начать. Приятие жизни вы не мыслите иначе как обусловленным: принимаю жизнь за то, что она осмысленна. Или иначе: принимаю жизнь не ради нее самой, но ради того смысла, который в ней и через нее осуществляется. В основе этого мнимого приятия лежит какая-то кощунственная метафизическая сделка.
Есть глубочайшее нецеломудрие в этом отказе брать вещи как таковые, в этом притязании расценивать мир по какой-то номинальной стоимости, обеспеченной где-то и кем-то.
Такова подоснова всякого оптимизма: постижение бытия как блага и проч., это — косвенный отказ видеть в бытии его самого, это — попытка подменить бытие чем-то более желательным или удобным.
В какие бы сложные, выспренние и даже quasi-трагические формы ни облекалась эта концепция, какими бы косвенными и мистическими путями ни осуществлялось бы для нее торжество абсолютного блага, — формула ее проста, это формула Панглоса, формула обеспеченного метафизического благополучия. Здесь Фиванский подвижник встречается с вольнодумным аптекарем Омэ и московский марксист с Фомою Аквинатом. Все они твердо верят: в конечном счете, — все к лучшему.
Оптимизм принимает разнообразные оттенки — от розовых до патетически-мрачных включительно. В пределы этой концепции любители трагических эффектов могут со спокойной совестью вводить самые потрясающие перипетии: ведь все равно, рано или поздно, все кончится благополучно. Вот почему, еще до всякого вопроса о метафизических или иных основаниях оптимизма, я испытываю какую-то почти физическую брезгливость к оптимистам всех толков. У всех — и особенно у оптимистов возвышенно-мистического типа — есть, знаете, эта специфическая черточка какой-то опасливо-наглой уверенности, какая бывает у непорядочных игроков, привыкших делать ставки «только наверняка»… И потом, это трусливое старание спрятаться за спину того высшего смысла, во имя которого они избрали и приняли бытие; это желание сложить с себя часть ответственности за выбор, представить себя пассивным, следующим чему-то, согласующимся с чем-то…
Словом, в основе всякого оптимизма мне чувствуется духовная нечистоплотность, которая делает его для меня неприемлемым, помимо и раньше всяких других соображений.
И если я избрал бытие, то не ищу себе в этом никаких оправданий, не утешаю себя никакими надеждами, и до конца принимаю на себя одного всю тяжесть и всю ответственность своего избрания.
В. Прежде всего, вы придаете слову «оптимизм» столь широкий смысл, что в это понятие оказываются включенными противоположные и даже совершенно несоизмеримые явления.
A. Но меня интересует здесь именно то, что объединяет эти, как будто совершенно «несоизмеримые» явления. Не спорю, марксистский «прыжок из царства необходимости в царство свободы» нечто совершенно иное, чем возвращение мира в лоно Творца у Скота Эриугены, но вера в конечный смысл и там и здесь налицо. Она-то меня и отталкивает.
B. Соображения о «нечистоплотности» всякого оптимизма оставляю в стороне: это относится к вашим впечатлениям, за которые оптимизм, во всяком случае, не ответственен. Но к чему, собственно, сводится ваше обвинение в «подмене» и «метафизической сделке»? К тому, что бытие и то, ради чего оно приемлется (смысл, благо и проч.), — разные и раздельные начала. На самом деле никакой раздельности и, значит, никакого подмена, нет. Есть радостное и конкретное постижение бытия как блага и смысла, и смысла и блага — как бытия. Я принимаю бытие и вот вижу, что обрел и благо и смысл; я взыскую смысла и нахожу бытие. А вы рассуждаете так, как если бы это были розные начала, которые можно «подменить» одно другим. По какому праву вы столь решительно утверждаете несовпадение бытия и смысла? И как пришли вы к этому познанию?
А. Как пришел? Путем обратным тому, которым шли вы. Для того, чтобы сущее могло умалиться до совпадения со смыслом, вам, конечно, пришлось подвергнуть его многообразным операциям отвлечения, обобщения, обеднения. Вся так называемая «философия» — это тысячелетиями разработанная техника умаления бытия до смысла. Я шел в противоположном направлении: к конкретному, эротическому узрению сущего в его божественной единственности и живой полноте — через ненависть, боль, радость, вожделение, через живое и жадное осязание жизни. Я видел, что бытие неисчерпаемо никаким смыслом, перерастает все оценки, переливается через край всех определений, отрицает всякий предикат, превращаясь в его противоположность: постигаемое как добро, изобличает себя как зло, узреваемое как красота — предстает безобразием. Всякая вещь взрывает свое определение, говорит: я больше, я есмь.
Все противоположности добра и зла, красоты и безобразия, истины и лжи — сгорают от одного соприкосновения с бытием, враждебные смыслы пожирают друг друга, и сущее предстает в своей вожделенной наготе. Так, в каждое подлинно изживаемое мгновение осуществляется, глубже всех смыслов и оправданий, цельное, безоговорочное избрание и постижение бытия.
В. Оригинальная «теория познания»! Все сводится, в конце концов, к тому, чтобы осуществить в себе «райское» состояние, предшествовавшее различению добра и зла. Когда-то гносеологи признавали «zurück zu Kant» — это еще куда ни шло. Но ваш призыв — это, ни более ни менее: «zurück zu Adam»[36] — да еще и до грехопадения! Согласитесь, что это уж чересчур…
…Что там эти идиоты подняли за стрельбу!
A. Опять, верно, по шакалам вместо «chleus»… A нет, и по нам стреляют. Потушите свет…
B. Явно, Бени-Уаллемы решили нас предупредить. Надо поднять людей.
Разговор второй
A. А, вот и вы, наконец. Видите, на какую высоту нас загнали со взводом. И, видимо, надолго: пока не выстроим блокгауз, нас отсюда не сменят. Значит, примерно месяц — на казенном полулитре вина, без женщин и даже почти без воды: ближайший источник вон там внизу, километра полтора; наполнять бидоны приходится под обстрелом, так что наряд за водой посылаю раз в день, под прикрытием пулемета. Ну вот. А теперь устраивайтесь. Пока вы изволили прохлаждаться в карауле при штабе отряда, я оборудовал наше жилье — и даже, как видите, не без комфорта.
B. Знаете, я не очень огорчен этой перспективой месячного отшельничества. К черту хихикающих алмей! Отдохнем от sous-off-ских[37] разговоров и от еженощного пьянства в шатре у жулика-Браима… А скит — великолепный: круто, просторно и опасно; нагромождение заросших лесом кряжей, долина Мулуйи — внизу, а дальше — снеговая цепь Большого Атласа… Вот где — «три тысячи метров над уровнем моря и еще выше над всем человеческим» — мы продолжим на досуге наши прерванные философические собеседования!
A. Прибавьте к этому: семь лет, проведенных без книг и осязательную возможность быть истребленными в любой момент. — Незаменимые условия, дабы философствовать конкретно, решительно и по существу.
B. Вы помните наш разговор накануне первой операции? Так вот, в начале мне было неясно, чего вы собственно хотите, ради чего столь яростно отвергаете «оптимизм», под которым разумеете всякое приписывание бытию смысла и смыслу — бытия. Потом все стало выясняться и, признаюсь, я был поражен. На этом нас и прервали Бени-Уаллемы. Вот что я хотел вам тогда ответить. Ваше желание стать «глубже всяких смыслов и оправданий», т. е. вне всякой определенности и разграниченности — это уж явная мистика. Не подлинная, конечно, но слепая «природная мистика» — разнуздание темных, иррациональных энергий личности, мятеж против Логоса и попытка лишить разум его законодательных полномочий. И потом, когда я говорил о вашей «райской гносеологии», то это была не только шутка. Ведь, в конце концов, вы действительно призываете вернуться к какой-то первобытной и ныне утерянной чистоте и цельности в постижении и приятии жизни. Странно сказать, но в этом есть несомненный привкус какого-то руссоизма — скрытая мечта если и не о «добродетельном», то о «цельном» и «мудром» дикаре — о дикаре уж во всяком случае. Ведь не та или иная иерархия ценностей кажется вам нечестивым искажением сущего, но иерархия ценностей как таковая. Ведь вы с презрением говорите о «так называемой философии», этой «технике умаления бытия до смысла», и явно хотите утвердиться вне и помимо многотысячелетнего опыта познания и осмысливания мира, т. е. помимо опыта культуры. Друг мой, будем называть вещи их именами: вы призываете опроститься! Признайте всю законность моего изумления: мне приходится обвинять вас как раз в том, что — как я думал до сих пор — вам более всего ненавистно и отвратительно. Вас — солдата — я обвиняю в мятеже против начала строя и иерархии, и вас — эллиниста — в темной, варварской вражде к Логосу и в каком-то, поистине библейском, неприятии строгого и расчлененного космоса культуры. Вот вам!
А. Да, вы обвиняете меня в том, что мне, действительно, более всего ненавистно — и вы это знаете. Ненавистно конкретно, до конца, на деле, а не только теоретически — вы это знаете тоже. Значит: либо мое философствование — лишь абстрактное праздномыслие, ни в чем не определяющее моей жизни, либо — вы меня просто не поняли; вернее, я сам недостаточно ясно высказался. Ибо, поверьте, мое дело, мои хотения, моя любовь и моя ненависть — все это непрерывно питаемо опытным постижением бытия в его внесмысленной и божественной чистоте. А брезгливая неприязнь ко всякому оптимизму как подмену и сделке, — лишь обратная сторона этого опыта. Мир как таковой уже давно сделался для нас сокровенным; и прямое жадное, осязающее видение вещей может осуществиться лишь в результате длительных искусов и посвящений. Между нами и миром — чудовищное кишение обожествленных абстракций и возведенных в абсолют ценностей…
Но вот, ощущение неподвластности сущего никакому смыслу — именно оно приводит меня, в плане личном, совсем не к раскрепощению хаотических энергий, но к медленному собиранию и оформлению себя в простое и цельное единство; а в плане культуры — к твердому признанию ее иерархически-упорядоченного космоса. — К признанию не менее решительному, чем ваше, и, во всяком случае, более напряженному и активному. Почему? Потому что я знаю условность и обреченность того, что признаю, и не боюсь принять его под знаком гибели.
«Приписывание бытию смысла и смыслу — бытия», — так вы только что определили ваше воззрение. Иначе говоря, и смысл и иерархия ценностей для вас нечто данное, вы находите их в готовом виде — вечными и неизменными: остается только познать и покорно следовать. А для меня иначе: среди неисчерпаемой и внемысленной полноты сущего человек должен сам, собственными силами построить свой хрупкий дом. Так, обреченный — и сознающий свою обреченность — он начинает свое гордое и безнадежное строительство — мужественное творчество и утверждение до конца человеческих ценностей. Так строил свою культуру Эллин — тот самый «дикарь», которого вы смутно угадали за моими речами. Ценности, истины и смыслы черпают свою силу и свою реальность только в живом и вольном акте признания и утверждения, лишь через него становятся обязующими.
Но посмотрите, к чему ведет здесь тот подмен бытия смыслом, о котором, в другом соотношении, мы говорили прошлый раз. Стоит только поверить в абсолютный характер этих ценностей, приписать им «бытие в себе и для себя» — и вот эти живые и утвержденные в человеке начала превращаются в страшные вампирические силы. Они получили от нас всю свою кровь и жизнь, и хотят теперь жить помимо нас, вопреки нам: добро и красота и неисчислимые истины и нормы — все великие и малые ценности, оторвавшиеся от человека, переставшие служить ему и враждебно ставшие между ним и миром. И каждая лживо говорит: я есмь, кощунственно выдает себя за сущее. Так рождается принудительная дегуманизированная культура с ее «абсолютными» ценностями.
Итак, вот к чему сводится ваше обвинение во вражде к культуре: я отказываюсь признать ее абсолютной; принимаю и утверждаю ее — как и самого себя — во всей ее обреченности и относительности. И потом, для вас она дана извне, как нагромождение многообразных форм и ценностей, которым надо подчиниться, как сложность, которую надо усвоить и принять. Я же принимаю ее, лишь поскольку могу утвердить в ней и через нее — себя. И вот, вы обвиняете меня в скрытом призыве к «опрощению». Нет, «опрощение» это — трусливое отступление, возвращение к примитивному, сложному, хаотическому. А я зову к иному, если угодно, — к упрощению: к мужественному преодолению извне данной сложности. Это и есть путь подлинной культуры, взятой в ее динамическом и творческом аспекте: путь к строгой и завершенной простоте, завоеванной и вновь завоевываемой каждое мгновенье.
В. Резюмирую ваши утверждения: сущее бессмысленно (или, как вы предпочитаете говорить: «внемысленно»); все истины и ценности — условные и преходящие фикции, своевольно привносимые в мир человеком; они черпают свою реальность только в акте человеческого утверждения и признания; не будем же кощунственно приписывать им абсолютного характера, ибо тогда они превратятся в принудительные начала и станут между нами и миром. До сих пор все ясно, но дальше — неожиданный скачок: итак, будем гордо и цельно творить и утверждать эти заведомо условные ценности. Что за нелепая игра: «гордое строительство» фикций, которые все равно «сгорают от одного соприкосновения с бытием»! Поскольку ваш пафос чисто отрицательный, он мне понятен (хотя отнюдь не убедителен). Но когда вы пытаетесь перейти к положительным утверждениям — я недоумеваю. Строить фикции, да еще «под знаком гибели» — решительно отказываюсь. Зачем, ради чего мне делать столь бессмысленное дело?
Но здесь мы явно возвращаемся к нашему исходному пункту, — к вопросу о смысле и оправдании. Ни бытие в целом, ни строительство культуры, в частности, — для меня неприемлемы, если они не оправданы всецело и до конца. А вы, и там и здесь, заявляете: принимаю и утверждаю безоговорочно, «глубже всех оправданий». Спорить нам явно не о чем, мы расходимся на слишком большой глубине. Я выбрал смысл, вы — бессмысленное бытие. Искать основания этого выбора — бесполезно: он явно предшествует у нас всем основаниям и доказательствам.
А. Какое существенное утверждение! Итак, в корне всех наших суждений лежит выбор, для которого уже не может быть дальнейших оснований — простое «я так хочу». Видите, даже для того, чтобы избрать смысл, вам пришлось стать вне и глубже смысла, а ваша жажда оправдания — сама оправданию не подлежит. И так во всем: последний источник всех смыслов — бессмысленное и гордое своеволье; из него они исходят, в него возвращаются. И вы это знаете, но упрямо отказываетесь прояснить свой собственный опыт. Вы спрашиваете: зачем это строительство под знаком гибели, это стремление обреченного человека утвердить себя в преходящих ценностях? Ответ возможен только один: потому что он хочет — хочет всей силою своего бытия — до конца осуществить и исчерпать себя, ослепительно вспыхнуть между двумя пределами: возникновением и гибелью.
Ибо тот, кто зачерпнул подлинного, неумаленного бытия, знает, что вечность не в силах ничего прибавить и гибель ничего не в силах отнять от божественной полноты простого «я есмь».
О разуме
разговор
Дама — Философ — Поэт — г-н X.
X. (складывая рукопись). Я кончил…
Дама (к философу). Знаете, все это явно направлено против вас. И подумайте, ведь если X. прав (а я чувствую, что он прав… кажется, чувствую), то вы… как бы это сказать… ну, просто лишились специальности. Выходит, что и философия и абсолютное (а я так увлеклась абсолютным!..) — выходит, что все это устарело. Надо предаться «конкретному, эротическому узрению вещей» — понимаете э-ро-ти-ческому!.. Но ваше имя, ваше положение, ваш возраст, наконец, вам этого не позволяют… Так как же быть? Отвечайте же, возражайте, опровергайте!
Философ. Успокойтесь, Дело далеко не так безнадежно. X., друг мой, я, признаться, слушаю вас, слушаю — и недоумеваю. Вы говорите, что разум насильственно сводит к мертвому тожеству живое многообразие сущего. Что он подменяет мир пустою и логически-принудительной схемой. И вот, вы зовете нас вернуться к «живой полноте». Для этого якобы необходимо, прежде всего, отказаться от «скудного рационального познания» и искать «жадного, осязающего постижения реальности». Так ли я вас понял?
X. Приблизительно так. Но что именно вызывает ваше недоумение?
Философ. Вот что. Выходит, — чтобы вернуться к этой самой «полноте», надо предварительно подвергнуть себя жестокой операции: с корнем вырвать некую смущающую и опасную, на ваш взгляд, силу — разум. Старый прием! И знаете, у кого вы этому научились? У нас же, у ваших врагов — у философов. Умаление вещей и человеческой личности, в котором вы их только что обвиняли, — ведь оно как раз в этом и заключается: признать, что в человеке что-нибудь заслоняет высшую реальность и начать «отрешаться». Отрешаться от тела с его страстями и лживыми свидетельствами чувств или, как вы, — от разума: прием, по существу, один и тот же. Но философы, по крайней мере, последовательны: они делают это ради абсолютной истины. Абсолютная, т. е. отрешенная. Самая этимология здесь за них, и нет никакого повода к недоразумению. Но вам это уж совсем не пристало. Вы ведь жаждете «полноты», да еще и «живой». Хороша полнота, которая в том и состоит, что меня лишают существенной части меня самого! Пускай разум опасная сила, но он во всяком случае — сила. Неоспоримо наличная в нас, вполне реальная. Предположим, что вместе с вами и я возмечтал бы о «полноте». И что же? Я все-таки решительно отказался бы от предлагаемой операции — именно ради моей полноты, именно ради моей цельности, на защиту которых вы заявляете какие-то специальные права.
Я знаю в себе разум — гордый, стремительный, непримиримый в своем мужественном требовании последней ясности и последней строгости. Как вы хотите, чтобы я его «искоренил»?.. Разве что из христианского смирения и самоунижения. Это было бы понятно. Но ведь вы, кажется, призываете совсем не к смирению.
Заключаю. Вам нужна вовсе не полнота бытия, но полнота минус разум. А в результате такого вычитания-умаления получается одно: хаос. Называйте же вещи их именами… Впрочем, это уже «требование разума», и постольку оно для вас необязательно, мне, значит, остается только смолкнуть. Прибавлю, все-таки, что беспорядочно пользоваться разумом это еще не значит отвергать разум, а смутно и противоречиво философствовать — не значит упразднять философию. Ведь и вы, мой друг, vous faites de la philosophic comme les autres, — et de la mauvaise…[38]
Поэт. Позвольте, вы преувеличиваете и, подозреваю, не без намерения. Даже мне, человеку диалектически неискушенному, все-таки ясно, что X. говорил о другом. Не против разума он восставал, а против так называемого чистого или рационального сознания, т. е. против односторонней и, я бы сказал, противоестественной деятельности разума. Ведь так, X.?
X. Скажем, так.
Поэт. Разрешите, я буду отвечать за вас. Итак, X. отрицал не разум вообще, но разум раскрепощенный, переставший служить жизни и всецело предоставленный себе самому.
Основная функция разума: условно сводить различия к тожеству и множественность к единству. Полная слепота к качеству — необходимое условие этой полезной, но по существу предварительной деятельности. Но разум, разучившийся служить и притязающий властвовать, заносчиво принимает свой закон за закон самого бытия и свою меру — за меру самих вещей. Он соглашается признать действительностью лишь то, что в силах исчерпать и подчинить. Но мир, где все неповторимо, где ничто не может быть сведено ни к чему другому, где всякая вещь властно утверждает свою качественную единственность, — немудрено, что этот мир оказался «не по зубам» разуму в его стремлении во что бы то ни стало сводить одно к другому и, в конечном счете, все — к одному. Осталось заподозрить реальность мира и подменить его другим, более податливым. И разум сам построил себе вторую, «абсолютную» реальность, — призрачный двойник нашей, «относительной», — новый мир, всецело подвластный его закону; мертвый, но рационально-неоспоримый.
Мы, живые, мы расколоты теперь между этими двумя сферами. Соблазненные призрачным и стройным миром, мы уже усомнились в реальности того, в котором живем, мы разучились цельно и безоговорочно любить, видеть, осязать зримое. За всякой вещью для нас уже зияет расчисленная пустота, и взгляд скользит мимо вещи, сквозь вещь. Даже ребенок уже не верит тому, что каждое мгновение радостно раскрыто каждому его взгляду. Он лишь автоматически, из атавизма, еще видит это небо, эту землю, это солнце, но он уже прекрасно знает (из учебника космографии!), что все это на самом деле не так, и может вам это точно доказать, если вы сомневаетесь. Насколько атрофировалось в нас чувство реальности, если достаточно учебника космографии, чтобы оно распалось и подменилось мертвой и гладкой схемой. Это чудовищно, и это уже кажется вполне естественным. И это только пример. Но так во всем. Мир развоплощен разумом!
Но разум, по своей природе, лишь скромный строитель полезных и заведомо условных схем. И только. Он должен отказаться от незаконных притязаний. Он не имеет права дерзко становиться между нами и божественным богатством живого мира, о котором властно свидетельствует конкретный опыт.
Итак, если я верно понял X., дело не в том, чтобы «искоренить разум» и этим умалить человеческую личность. Надо лишь указать ему должные границы и обязанности. Этим мы утвердим за ним и его действительные (а не вымышленные) права и восстановим его подлинную природу.
Философ. Словом, и овцы целы и волки сыты. Я не знал, что вы такой любитель умеренности и компромисса. «Принять цельно и до конца — или до конца отвергнуть» — ведь это, кажется, ваше правило. Так что умерять и примирять вам как будто не к лицу. И потом, посмотрите, что у вас получается. Разум, присмиревший и трусливо изменяющий себе самому. Разум, льстиво лебезящий перед иррациональным. Разум, с покорностью, ничего не спрашивая, приемлющий и утверждающий все, что ему подскажут чувство или воля (все это, видите ли, приумножает «божественное богатство мира»). Нет, уж лучше отвергнуть его совсем, чем превращать в покорную служанку жизни, т. е. всех и всякого.
Поэт. Во-первых, разум не обязан себе изменять. Он лишь должен отказаться от незаконных притязаний и притом на вполне разумном основании.
Во-вторых, разве не достойнее служить жизни, чем властвовать над умопостигаемыми призраками? Разве, превращаясь из самоцели в средство, разум оказывается умаленным? Наоборот! Ведь пользоваться оружием в бою, ради победы, это не значит унижать оружие. Правда, можно любить его и «бескорыстно» — например, собирать коллекцию оружия. В первом случае оно — лишь средство, во втором — самоцель. И все-таки в праве ли коллекционер обвинять воина в неуважении к оружию?
Итак, простите нам, мудрый хранитель Паноптикума Чистого Разума, простите, что мы собираемся, сорвав этикетки, разобрать по рукам все, что еще годно для дела, для борьбы. А прочее — на слом.
Дама. Итак, поработители живого бытия и безжалостные служители незаконно воцарившегося Разума внезапно превратились в безобидных хранителей паноптикума! Faire des metaphores suivies[39] — это правило явно не входит в вашу поэтику… Но дело не в этом. Несмотря на воинственные метафоры, главное мне теперь ясно. Беспокойный разум просто мешает вам мирно жить и беззаботно услаждаться «божественным богатством мира». Он требователен и несговорчив, он обязывает к выбору и строгости, он отказывается безоговорочно принимать все «свидетельства конкретного опыта». А вы, как избалованный ребенок, хотите без разбору лакомиться всем «качественным многообразием». Ну, что ж, лакомьтесь: poetae licet[40]. Только пытайтесь при этом, чтобы оправдать свое сластолюбие, заткнуть рот разуму. Не воображайте, что его «прямая обязанность» потакать вашему произволу. И, главное, не принимайте позу гордого бойца, которая все равно никого обмануть не может. Вам нечего бояться за себя и за ваш пестрый мир — к поэтам разум снисходителен. Но при одном условии: это они должны «отказаться от незаконного притязания»… философствовать.
Поэт. Перестаньте иронизировать, это ровно ничего не выясняет. Будем говорить по существу. Вы сейчас бросили мне тяжелое обвинение, и я должен на него ответить.
Нет, не слабость и не сластолюбие заставляют меня обуздать и ограничить разум, но забота о цельности и единстве моей личности. Я привык смотреть на себя как на крутой, трудный путь к другому, подлинному себе. Находя в себе множество противоречивых сил и возможностей, я вижу в них лишь сырой, неподатливый материал, к которому надо подходить решительно и без жалости. Упорствовать, одолевать, сочетать, ограничивать — и медленно становиться собою! Вот почему я не могу предоставить разум его собственной инерции. Я не могу позволить ему развиваться обособленно в ущерб моей цельности, в ущерб моей живой связи с миром. Он должен утверждать меня в сущем, а не вырывать из него.
Философ. Словом, вы хотите строить свою личность как бы извне, искусственно урезывая и извращая составляющие ее силы. А не думаете ли вы, что только до конца свободный и до конца верный себе разум может войти в подлинное, органическое единство? Неужели вы не чувствуете, что, изменяя себе, он тем самым изменяет и вам? А если вы боитесь, что — свободный — он нарушит вашу цельность, то не дорого же стоит эта цельность, которую надо держать в вате и всячески предохранять от резких толчков. Повторяю, вы стремитесь поуютней приютиться в каком-то укромном уголку и — вопреки вашему пафосу — ничего героического в этом нет.
Подлинная цельность личности — свободная согласованность свободных сил (в том числе и разума). Так думаю я. Но допустим — вместе с вами — что такая согласованность невозможна, что эти раскрепощенные силы вечно будут враждовать между собою. Вы и X. - с вашей же точки зрения — должны только радоваться. Ведь X. только что противопоставлял — не без пафоса — гераклитовский Логос «гладенькому и математически выверенному» Логосу Платона. И вот личность уподобляется этому гераклитовскому логосу. И она: пламенный узел противоборствующих, жадно себя утверждающих и вовеки непримиримых энергий. Так что, я думаю, вам совсем не выгодно усмирять или выводить из строя одну из этих борющихся сил. Наоборот, вы должны, следуя вашей пышной терминологии, «трагически приять и утвердить» разум во всей его мощи и непримиримости. А вы хотите подменить его каким-то угодливым лакеем. Не понимаю, не понимаю.
Поэт. Но позвольте, все те, кто безоговорочно и всецело приняли разум, приходят, кажется, совсем не к «пламенному противоборству вовеки непримиримых энергий». Разум и не думает бороться. Он медленно, исподволь, неуклонно вытравливает, разлагает и усмиряет все другие силы личности. Воцаряется полное спокойствие, где ни одна из «противоборствующих энергий» и пикнуть не смеет. Окаменение, скудость — и образцовый порядок. Вы прекрасно знаете, что этого я и не хочу.
Философ. Слабы же, значит, все другие силы, если разум так легко и так окончательно их усмиряет. Сомнительна также божественность и реальность того пестрого мира, за который вы ратуете: ведь разуму ничего не стоило его развоплотить и подменить, по вашим собственным словам. Все, что я от вас слышал, далеко не к чести ни вам, ни защищаемой вами реальности. Вы собирались бороться с разумом, а, оказалось, просто от него прячетесь, не веря в свою победу… В конце концов, вы прячетесь от себя же самого.
Поэт. Продолжайте, продолжайте. Здесь действительно вскрывается какая-то коренная трудность концепции X.
Философ. И вашей, друг мой, и вашей. Повторяю, разум есть, неоспоримо есть, и властно требует ответа. Победите, если не хотите подчиниться, но не забивайтесь в дальний угол, чтобы предаваться всяким «конкретным постижениям сущего». Боритесь… но бороться с разумом можно только его же оружием. Поясню. Предположим, что перед вами одно из «развоплощенных» положений — ну, скажем, какая-нибудь истина из ненавистной вам космографии. Ваше отношение к ней может быть двояким: либо слепо и просто ее отвергнуть (т. е. спрятаться от нее), либо ее опровергнуть, т. е. бороться с ней оружием разума. Но взяв в руки его оружие, надо следовать и его законам — цельно, неуклонно, до конца. Ибо стоит вам уклониться от этих законов, как оружие в ваших руках превращается в ничто, — и вам проще было бы спрятаться сразу.
Резюмирую. Бороться с разумом можно только подчинившись ему; а раз подчинившись, надо следовать до конца, до последней ясности. Но тогда, с неизбежностью, вы рано или поздно должны будете заподозрить реальность любезного вам мира, «где все единственно и ни к чему не сводимо», — и уж вряд ли вас тогда соблазнит «эротическое узрение сущего», о котором столь красноречиво говорил сегодня наш друг X.
Поэт. Да, все это гораздо сложнее, чем я думал… Вот уж подлинно — nec sine te nec tecum! Как же быть?
Философ. Об этом спросите у X.
X. Что ж, я готов ответить… но только не слишком ли мы утомили нашу милую хозяйку столь глубокомысленным словопрением? (К поэту) Знаете что, предоставим разуму торжествовать… до нашей следующей встречи.
Из жизни идей
Победы фрейдизма
Влияние фрейдизма растет с каждым днем. Нет оснований предположить здесь возможность перелома: явно, что мы имеем дело не с модой или временным увлечением, но с тенденцией глубокой и показательной. Прежде всего, фрейдизм не только отвлеченная доктрина. Он создал вполне реальную возможность плодотворного подхода к огромной сфере явлений, доселе почти недоступной. То, на что Фрейд указал раз навсегда, уже не может быть игнорируемо, как бы далеко мы не отошли от общих формул несговорчивого венского психолога. Правда, именно эти формулы (пансексуализм, пресловутый символизм) особенно существенны для вульгарного фрейдизма, но не в них, конечно, основная заслуга Фрейда.
Самое упорное сопротивление новой психологической доктрине оказали страны латинской культуры и, прежде всего, Франция. Однако и здесь за последние годы фрейдизм восторжествовал, с ним равно — хотя и по-разному, — считаются и в Коллеж де Франс, в клинике и в самом грязном литературном подполье — от проф. Жанэ до Андрэ Бретона включительно. Пишут психоаналитическую критику, истолковывают, с точки зрения сексуального символизма, не только Руссо и Мопассана, но даже «Песнь о Роланде» (J.Vodoz); наконец, в «Одеоне» идет пьеса Ле Нормана, с «комплексом Эдипа», бисексуализмом и прочими эффектными аксессуарами фрейдизма. Самая существенная сторона его остается малодоступной не только для профанов, но даже для широких медицинских кругов Франции. Дело в том, что из работ Фрейда переведены на французский язык лишь те, где на первый план выдвинуты вопросы общего, почти философского характера — т. е. именно то, что наиболее сомнительно (хотя и наиболее эффектно) в этом учении. Труды Блейлера, осторожного психиатра, главы цюрихской школы психоаналистов, остались непереведенными. Наконец, самый способ изложения Фрейда, по многим причинам, мало способен расположить к нему французских психологов и психиатров.
Благодаря этому, психоанализ часто был во Франции предметом столь же наивных восторгов, сколь и несправедливых осуждений.
На днях вышла первая книга нового периодического органа, специально посвященного вопросам психоанализа: «Психиатрическая эволюция». Журнал объединяет французских психологов и психиатров, в той или иной степени причастных фрейдизму; он вводит нас в самую лабораторию нового метода и выдвигает на первый план именно методологическую и опытную ценность венской доктрины. Программа журнала очень широка: чисто клинические наблюдения (статьи Кодэ, Лафорга, Целье), соображения историко-методологического и систематического характера (работы Минковского, Эснара, де Соссюра, Минковской); вопросы общей психологии (напр., «Грамматика как способ исследования подсознательного» Дюмурстта и Пишона); наконец, обширная библиография. Отметим любопытное исследование Алленди о зачатках психоанализа в древней философии. Не вполне удовлетворительна, пожалуй, лишь сбивчивая и неопределенная статья Бореля и Робэна («Мечтатели»). В общем, журнал несомненно призван сыграть значительную роль в развитии французского фрейдизма, — не того вульгарного и преходящего, о котором я только что говорил, но подлинного и плодотворного, который, повторяю, принадлежит к показательнейшим явлениям нашей эпохи.
А вот поучительный и характерный факт из истории фрейдизма в России, где, как известно, не любят теперь предаваться пустым умствованиям, но разом переходят к делу.
Передо мною книжка Б.Казанского «Метод театра» (Ленинград 1925) — книжка чрезвычайно бойкая и с сильно «сексуализированным» стилем (термины «libido teatralis», «эксгибиционизм творчества» и проч. пестрят здесь на каждой странице наряду с традиционными пролетарскими метафорами «диктатура искусства», «эстетический заговор» и т. д.). Вот что узнаем мы из этой книжки.
В Петербурге додумались до «психоаналитической постановки» (это не что в «Одеоне», а куда эффектней!). В одной из школ удалось разыскать, на предмет опыта, «очаровательную девочку и шесть влюбленных в нее мальчиков». Они должны разыграть на сцене вполне реальный и действительно переживаемый ими роман. «Ролей не было, — повествует автор, — каждый говорил то, что считал нужным по смыслу своего участия в действии… Роман продолжался для них на сцене, волнуя кровь и смущая мысли… Он получил свое завершение в спектакле, который раскрыл затаенное, помог выявиться их бесформенным, скрытым и подавленным чувствам; дал незрелым или борющимся влечениям сложиться в отстоявшееся решение… Он был действительно доведен спектаклем до конца, сценически изжит… Это был замечательный опыт коллективного психоанализа. Это была сублимация жизненных коллизий».
Остается только пожалеть, что у нас, в буржуазной и косной Европе, нет под руками столь удобного материала, как дети советских школ, над которыми можно безнаказанно и безответственно предаваться самой рискованной психологической вивисекции.
Увы, нам всегда недоступна «авто-био-реконструкция» (по элегантной терминологии автора).
«Объяснение нашего времени»
Европа как единство стилей и традиций, как система идей и ценностей когда-то — еще так недавно — совпадала, почти отождествлялась для нас с определенным географическим единством. Мы забыли, что Европа не территория, но лозунг и знамя, в верности которому клялись.
И вот, на наших глазах граница Европы сместилась и решительно передвинулась от Урала — к Рейну: дальше начинается область мятежников, изменивших старому знамени, — Советская Россия, Германия, которая «решительно отвернулась от Запада» и «стремится к азиатскому сознанию и универсальному синтезу» (как констатирует один из ее идеологов)… Голоса врагов (Рабиндранат Тагор) и изменников (Шпенглер, Кейзерлинг) торжественно провозглашают моральное падение и «конец Европы». Европейское сознание кажется «узко провинциальным» (Шпенглер). Оттесненная на континенте в пределы стран латинской культуры, Европа — извне — поставлена перед лицом двух опасностей: быть раздавленной напором восточной анархии или превратиться в увеселительную колонию и музей для варваров Нового Света.
А изнутри: разложение исконных и органических устоев и догматов, кипение противоречивых идей и тенденций, скептицизм и любопытство; недаром «зовы Востока» соблазняют слабых, и в самом сердце осажденной Европы — где-нибудь «в катакомбах» Бобиньи — рабы и чужестранцы приносят жертвы восточным божествам мятежа…
«Не умея стать слугами великого дела, мы превратились в рабов всех и каждого». «Нужна новая вера и искание новой творческой дисциплины, иначе Запад погибнет: тогда слетятся коршуны Алариха и придут огромные вандальские волки…»
Так говорит Люсьен Ромье, автор показательной книги «Объяснение нашего времени».
Ромье совсем не мечтатель с пророческими претензиями и даже не теоретик: он трезвый историк-архаист и, кроме того, «человек дела» — директор «Фигаро». Его диагноз современности — не отвлеченная теория, но простое констатирование фактов.
Проблема ставится автором прежде всего в отношении Франции, и лишь в своих выводах он подходит к проблеме Европы в целом; но это не лишает книгу ее общего интереса: Франция остается в наши дни, несмотря ни на что, самой крепкой цитаделью европейского духа, и судьба Европы — ее судьба.
Отметим некоторую недоговоренность и как бы нежелание доводить мысли до их последнего вывода, а также не вполне оправданные претензии на систематизм в изложении. (Правда, «Объяснение нашего времени» лишь первая часть задуманной трилогии). Во всяком случае, книга крайне поучительна и сама по себе и, особенно, как «знамение времени».
Ромье начинает с анализа естественных факторов, лежащих в основе французской культуры, приходит затем к рассмотрению проявлений человеческой активности (деньги, школа, общественное мнение, пресса и т. д.) и, наконец, к тому, что он называет «идеологиями за отсутствием идеала» (цивилизация, национализм, демократия, наука). Он пытается показать, как эти идеологии (положительные в себе) вырождаются в начала опасные и отрицательные, если не подчинены высшему регулирующему фактору: предоставленные самим себе, они превращаются в ряд пустых формул, лишенных действенности и моральной императивности.
Рассмотрение современного государства, основанного на «равновесии частных интересов», вплотную подводит автора к центральной проблеме книги — проблеме власти и авторитета. «Крушение принципа авторитета не есть явление политическое, но явление интеллектуального порядка: подлинный враг авторитета есть искание веры». Отсутствие единой доктрины, единого догмата неизбежно влечет за собою возникновение множества случайных и противоборствующих авторитетов; и, наоборот, принятие догмата есть в тоже время принятие устойчивой иерархии.
Итак, проблема власти и проблема веры — это для Ромье лишь две стороны одного и того же, рокового для современности, вопроса.
«Старая Европа умела соединить мораль любви с моралью меча; новая Европа потеряла любовь и не смеет поднять меча». Это делает ее беззащитной перед лицом чуждых сил, которые, обогатясь всей европейской техникой, смело и решительно сделали ее орудием для своих целей. Ромье видит трусливое попустительство, господствующее всюду, и тревожно ищет в современности признаков новой веры, способной породить новый авторитет: «В глубине современных душ можно заметить ростки нового мистицизма. Оставаясь неорганизованным, этот мистицизм может привести к варварству; но, упорядоченный, он способен вновь восстановить Европу… Надо лишь освободить ключи, скрытые повсюду вокруг нас»… Положительные утверждения и надежды Ромье, к сожалению, настолько же туманны, насколько его диагноз точен и отчетлив. Человек осторожный, он прежде всего уверяет нас, что «il n'y а presque rien à faire en reaction, il y a tout à faire en action»[41]. Он говорит о новом типе «религиозного ордена» — артели (equipe) — о возрождении «чувства долга» и «создания общественной необходимости», о конце «умственного кочевничества», «общей идеологии».
Мы узнаем наконец о нарождении новых незаинтересованных аристократий, которым надлежит подавать пример самоотверженного служения «единой идеологии». Но в чем заключается «единая идеология», при каких условиях возможно нарождение новых аристократий — об этом автор умалчивает.
Возникает невольное подозрение, не является ли и новая идеология лишь «идеологией за отсутствием идеала» или вернее — конкретного религиозного догмата. Если это так, то Ромье сам становится мишенью собственной диалектики, как случайный служитель одного из тех случайных мнений, какими кишит современность.
Относительность самосознания
Недавняя книга Эснара «Относительность самосознания» как бы подводит итоги многочисленным прежним работам молодого бордосского психиатра. Цель книги — конкретная и практическая: это «введение в клиническую психологию». Эснар не философ, руководимый умозрительными заданиями, но прежде всего психиатр, пришедший к общепсихологическим проблемам через медицину. Однако, хотя сам автор осторожно воздерживается от чисто философских толкований и выводов, интерес работы выходит далеко за пределы ее специального назначения. С этой точки зрения мы и отметим здесь несколько существенных положений исследования.
(Напомним, прежде всего, что речь идет не о сознании вообще, но лишь о сознании, поскольку оно обращено на себя, т. е. о самосознании).
Горизонт самосознания замкнут и ограничен: оно охватывает лишь ничтожную часть целостного психофизического бытия субъекта.
Прежде всего, самосознание не знает тела: только слабые и спутанные, часто лживые отголоски жизни тела доходят до нас как таковые, в виде так называемых «кинестетических ощущений». И в то же время, неосознанное многообразие органических процессов непрерывно определяет самосознание, помимо его ведения. Несколько глотков алкоголя, щепотка кокаина, — и самосознание услужливо отвечает роем ощущений, образов, мыслей. Но эти ощущения и образы — лишь символы и условные знаки, совсем не похожие на те глубинные аффективные (и, в конечном счете, органические) колебания, которым они соответствуют. В этом смысле самосознание — лишь организованный мираж, скрывающий от нас жизнь нашего тела.
Но самосознание не знает и духа. Подсознательные психические энергии не только врываются в нашу жизнь в редкие и исключительные моменты (творчество, экстаз), но непрерывно определяют все наши акты, — значительные и ничтожные. Логическая операция или математическая выкладка, художественное творчество или волевое решение, — самосознанию они доступны лишь в своем конечном итоге, но не в своем зарождении и формировании. (Это факт достаточно уясненный психологами последней четверти века).
Наконец, даже единство нашей личности дано нам не в самосознании, но лишь — извне, как факт. Попытаемся, отвратившись от внешнего мира, схватить нашу личность изнутри, путем интроспекции, — мы лишь потеряем себя в ощущении смутного и динамического протекания, непрерывного становления, непрерывной смены. Если до конца отдаваться такому самоанализу, то это приводит, в конечном счете, к полной потере живого чувства личности, к болезненной деперсонализации: «Через самоанализ — я упразднил себя» (Амиэль).
Итак, самосознание не только ограничено и неспособно исчерпывающе осведомить нас о жизни нашего психофизического субъекта в его целом; оно еще и условно, поскольку осведомляет нас, лишь деформируя внутреннюю реальность, схематически упорядочивая и извращая ее. В этом Эснар видит прямое выражение основного закона самосознания: — закона внутреннего оправдания.
Многократно и по разным поводам современная психология вплотную подходила к этому закону; но с полной определенностью и последовательностью он впервые формулирован Эснаром: в этом центр тяжести и оригинальность его работы. В силу этого закона, субъект неспособен допустить, чтобы что-нибудь, входя в состав его внутреннего существа, оставалось в то же время внешним и независимым по отношению к его самосознанию: все, что принадлежит к личности, должно тем самым принадлежать к самосознанию, быть им усвоено, понято и признано как свое, хотя бы ценою извращения и диссимиляции. Самосознание не хочет признать в субъекте никакой другой обусловленности, кроме своей. Так, если непонятная волна жути, вызванная каким-нибудь органическим сдвигом, поднимается из глубины существа, то самосознание может признать ее только найдя ей объяснение, проецируя причину жути во внешний мир: мне страшно, значит есть сознательное основание для этого страха.
Самосознание обречено, таким образом, вечно объяснять и тем оправдывать все, что доходит до него из подсознательного; оно принимает на себя ответственность за все, что происходит в субъекте (ответственность, обычно иллюзорную).
Эснар проверяет действие этого закона на фактах общей психологии — действие в значительной степени плодотворное, поскольку оно выражает стремление к нормальной ассимиляции и приспособлению. Оно налично повсюду, в фактах самых банальных и самых сложных: эта услужливая «логика страсти», готовая обосновать все, что подскажет аффект; эти «аффективные иллюзии», смысл которых крепко отчеканен в нашей поговорке: «Не по-хорошу мил, а по-милу хорош»; наконец, художественное творчество, моральные, метафизические и религиозные системы — символические интерпретации неких существенных тенденций нашего «большого Я».
«Человек проецирует во внешнюю реальность глубинные вариации своего аффективного аппарата совершенно так же, как он неизбежно локализует в оконечности нерва раздражение, вызванное искусственно в любой его точке».
Это своего рода закон «аффективной локализации», параллельный физиологическому закону Мюллера.
Но особенно любопытна поверка «закона внутреннего оправдания» на фактах патологической психологии. Эснар констатирует, что безумие вовсе не характеризуется ослаблением у больного синтетической способности сознания (все мы знаем, как гибка и изощренна бывает диалектика безумия). Наоборот, самосознание достигает здесь порой особой силы в выполнении своей основной функции. Но аффективный материал здесь существенно иной. Некоординированные аффективные волны, порожденные каким-то роковым органическим сдвигом, как бы сотрясают все внутреннее существо больного; и вот самосознание ищет понять, объяснить и оправдать их всем богатством образов, идей, диалектических ухищрений, какими только располагает. Так создается внутренне связный мираж, столь напряженный и яркий, что он, в конце концов, может совершенно заслонить для больного реальность внешнего мира…
Таковы существенные моменты исследования. К сожалению, я не могу здесь остановиться на некоторых поучительных подробностях книги Эснара. Мне остается только отослать читателя к «Относительности самосознания» и другим работам этого блестящего психолога и психиатра.
Орфизм и христианство
Седьмой и шестой века до Р.Х. были для Греции эпохой напряженного религиозного брожения. «Покров златотканный», наброшенный Гомером «на мир таинственный духов», «над бездной туманной» древних, — оргийных и мистических, религиозных энергий, — разорвался и просквозил Анаксимандровой «беспредельностью». Глубинная стихия прихлынула к самой периферии культуры.
Мы можем судить о происшедшем сдвиге лишь по смутным, разрозненным намекам и указаниям. Но мы знаем, что именно здесь завязались все роковые узлы, наметились все существеннейшие тенденции, которыми поныне живет европейское человечество. И мы знаем еще, что мистерии и ионийское мировоззрение, трагедия и математика, — все это лишь отдельные лучи, исходящие из одного и того же светового очага; но очаг этот — вне поля нашего зрения. Все эти явления говорят, в сущности, об одном, и лишь по-разному разлагают, истолковывают и символизируют какой-то конкретный и многозначный религиозный опыт. Но общий ключ для них еще не найден.
Серия «Христианство», выходящая под редакцией П.-Л.Кушу и давшая нам уже целый ряд монографий (далеко, впрочем, не равной ценности), только что пополнилась книгой проф. Буланжэ: «Орфей». Религиозное движение Орфизма, окончательно определившееся к половине 6-го в. до Р.Х., - это одно из значительнейших и, для нас, наименее доступных явлений эпохи, о которой я только что говорил.
Идея первородного греха как некоей изначальной вины богопротивления и индивидуации; идея жертвенного страдания и воскресения Божества; концепция земного существования как заточения и искуса; очистительное перерождение и приобщение — уподобление Божеству через таинство; аскетизм и мистицизм; наконец, даже конкретная символика Евхаристии; — вот основные черты Орфизма, которые не могут не поразить сходством с религиозной концепцией Христианства.
Св. Юстин (2 в.) был настолько поражен этим сходством, что признал Орфизм плагиатом лукавых демонов: заранее предвидя приход и искупительную жертву Христа, эти демоны спешно создали и распространили орфический культ Диониса-Загрея, дабы смутить и соблазнить народы.
Проблеме отношения Орфизма к Христианству — посвящена осторожная и трезвая работа проф. Буланжэ.
Возможен двоякий подход к этой проблеме: во-первых, вопрос о сродстве и внутреннем соответствии Христианства и Орфизма; во-вторых, вопрос о прямом воздействии Орфизма на образование христианской доктрины и культовой символики. Исследование осложняется прежде всего тем, что Орфизм, за 6–7 веков своего существования, непрерывно менялся и находился, кроме того, в непрестанном взаимодействии с другими родственными течениями. Так, первоначальный Орфизм очень трудно отчетливо отделить от других современных ему явлений (напр., многообразные культы Диониса, затем — пифагорейство), хотя он несомненно существовал тогда как обособленное движение. Позднейший же Орфизм тяготеет, с одной стороны, к теоретическому умозрению, с другой — проникает в массы и отлагается в форме суеверий, пока наконец не растворяется окончательно в синкретизме эллинистической эпохи (так что возникает вопрос, существовал ли он как религия к моменту возникновения Христианства). Наконец, самый вопрос о влиянии на Христианство распадается на несколько частных вопросов: влияние на ту среду, из которой возникает затем первоначальное христианство; влияние на резко индивидуальную доктрину ап. Павла, столь определяющую для будущего; наконец, степень проникнутости орфическими идеями того сложного языческого мира, который воспринял, ассимилировал, обогатил христианское учение и на веки закрепил его в устойчивой системе догматики и культа.
На вопрос о прямом воздействии проф. Буланжэ отвечает довольно решительным «нет». И вот почему.
К моменту появления христианства Орфизм как обособленный культ уже не существовал. Некоторые орфические представления (и при том как раз не те, которые наиболее сходны с христианскими) еще продолжали жить и развиваться. Но они составляли достояние ученой литературы, доступной только знатокам и, конечно, неведомой Галилейским Рыбарям. Так что о влиянии Орфизма на первоначальное христианство и речи быть не может. Правда, к ап. Павлу эти соображения применимы лишь с значительным ограничением; но здесь черты сходства — чисто внешние, и дух учения об искупительной жертве совершенно иной (согласно проф. Буланжэ, Орфизму чуждо представление о вольном самоотдании Страдающего Божества).
Эллинизируясь, христианство, правда, восприняло некоторые (несущественные) орфические представления, но и здесь можно говорить не столько о воздействии, сколько о простом усвоении внутренне сродных элементов. Орфизм, пожалуй, лишь подготовил в язычестве душевный строй, способствовавший восприятию христианства. И только. При некотором родстве внутренних устремлений, может быть отмечено разительное сходство обеих концепций; но сходство это разительно как раз там, где оно чисто внешнее.
При спорности некоторых частных утверждений проф. Буланжэ (о которых говорить здесь не место), условная правота его выводов несомненна. Фантастика какого-нибудь Маккиоро, для которого Христианство находится чуть ли не в прямой причинной зависимости от Орфизма, может только удивить. Правда, можно было бы сказать, что дело здесь совсем не так просто, что вопрос о причинах и следствиях даже не затрагивает сущности предмета — но это значило бы идти слишком далеко.
Можно также пожалеть, что при всей своей осведомленности автор не обнаружил несколько большей чуткости и интуиции. Это особенно чувствительно для нас, русских, у которых есть, в этой области, незабываемые книги Ф.Ф.Зелинского и единственные по глубине интуиции фрагменты (увы, пока только фрагменты) Вяч. Иванова.
Как бы то ни было, книгу проф. Буланжэ можно только приветствовать: это скромное и добросовестное введение в одну из знаменательнейших проблем Европейской культуры.
Критика и медицина
Когда-то личность художника интересовала толпу лишь как гармоническое восполнение его созданий. Полулегендарная биография поэта была как бы отсветом его творчества. Произведение всецело отвечало само за себя.
Лишь в 19-м веке воспреобладало стремление искать смысл и raison d'être художественного произведения вне его самого. Но личность художника казалась только случайной и условной точкой приложения всяческих «факторов» и «влияний». Потом, однако, заметили, что эта «точка приложения» и сама является сложнейшей и любопытнейшей конфигурацией сил. Правда, силы эти уходят корнями в сферы истории, экономики, этнографии, физиологии, но сочетание их в личности художника — каждый раз единственно и неповторимо. Интерес, уже перенесенный с самого произведения на внешние ему «факторы», теперь сосредоточивается на его зарождении, на его зависимости от тончайших особенностей организации и биографии художника. Отсюда: неутомимое, ни перед чем не останавливающееся искание личных мелочей, — самых скрытых, самых, казалось бы, несущественных. Отсюда же — новый расцвет «медленно-критической» литературы, пытающейся вскрыть интимную психофизиологическую подоснову созданий.
Наши современники, обогащенные всеми достижениями психологии, искушенные во всех тонкостях историко-критического метода, мечтают об «исчерпывающей психофизической и идеологической биографии», хотят учесть все элементы, проследить все нити, слагающие живую ткань творческой личности.
Словом, исконное отношение, видимо, переместилось: для нас произведение понятно и интересно лишь как отражение личности художника.
Оставим открытым вопрос о внутренней правоте этого страшного перемещения. Принимая его как факт, займемся здесь лишь одной интересной подробностью.
Недавно появился «опыт литературной физиологии» д-ра Вуавенеля «Реми де Гурмон с точки зрения его врача». Чуть не половина книги посвящена автором защите того положения, что врачу принадлежит право голоса в литературной критике.
Можно отрицать это право, но фактически вторжение медицины в литературную критику произошло без малого полвека тому назад: со времени интересных исканий Ломброзо и выходок популярного когда-то Макса Нордау. До сих пор, — до новейших психоаналитических истолкований включительно, — все эти попытки отмечены печатью исключительно посредственности, более того — тупости (чего д-р Вуавенель, кажется, не отрицает), но это ровно ничего не говорит против правомерности самого задания.
Соображения д-ра Вуавенеля просты и неоспоримы. Они сводятся, в общем, к следующему.
Раз мы признали, что понять произведение можно только узнав и поняв личность художника, раз мы вступили на путь психологической биографии, более того — на путь точной биографии вообще, то мы обязаны делать это дело основательно и до конца. По какому праву самый скромный биограф говорит о складе, темпераменте, здоровье, расе, происхождении — пользуясь этими словами в их поверхностном, вульгарном значении? Далее, почему тот же биограф кропотливо выискивает интимнейшие подробности сентиментальной жизни изучаемого художника, но не хочет связать их, уяснить их подлинный смысл, восходя к исследованию сексуального типа своего героя?
Такая биография не только не может быть полной, она не может быть и просто точной: все соотношения нарушены, удельный вес всех явлений определяется наугад.
Еще хуже, если биограф начинает объяснять, черпая сведения из третьих рук (например: господство в современной критике дилетантски перетолкованного фрейдизма). Скажем точнее: биография, если она не хочет быть свободным легендарно-героическим повествованием, если она ищет рационально связывать, поверять и интерпретировать материал, — обязана включить в себя строгий и последовательный психофизический анализ.
Дилемма поставлена с достаточной определенностью и вряд ли может быть отрицаема.
Но все эти соображения опираются на одну предпосылку: критик обязан истолковывать произведение, исходя из личности автора. Однако в обязанности критика входит еще и оценка. Является ли и здесь биография, анализ личности и, в частности, психофизический анализ определяющим моментом?
От Нордау до д-ра Вуавенеля, все «критики» медицинского толка считали себя вправе оценивать, опираясь на свои специальные изыскания. Результат получался неизменно компрометирующий. И это не только благодаря посредственности исследователей, но по самому существу предмета. Психофизический анализ (как, впрочем, и всякий иной научный анализ) не заключает и не может заключать в себе никаких оснований для оценки; он правомерен лишь поскольку остается в своих пределах (констатирование фактов и уяснение связей).
Такого рода исследования доставляют порою ценный материал для психологии творчества, но к литературной критике, в сущности, прямого отношения не имеют.
«Логос»
В Праге вышла, после десятилетнего перерыва, первая книга философского сборника «Логос». «Логос», каким мы его знали когда-то в Петербурге, был подлинным «патентом на благородство» русской философской культуры; каждый выпуск был своего рода событием. Радостно убедиться, что новый «Логос» оказался достойным преемником старого. Как и прежде, он является органом «строгой» философии, как прежде объединяет почти всех видных русских мыслителей, руководимых «идеей автономного философского познания»; наконец, в качестве «международного органа» он по-прежнему предоставляет свои страницы работам виднейших представителей западной мысли. Но преемственно связанный со старым «Логосом», новый «Логос» не мог не отразить того сдвига, который произошел за последние десять лет в философских устремлениях эпохи. Об этом говорит и вступительная статья редакции.
«Чувствуется, что вся предыдущая эпоха была, собственно, огромным критическим предвозвестием приближения новой конструктивной и систематической эпохи в философии». Признак наступления этой новой эпохи редакция видит, прежде всего, в преодолении одностороннего и исключительного «гносеологизма», которым отмечено недавнее прошлое. «Гегемония теории знания» кончилась; гносеология, расчистив поле для нового онтологического строительства, стала «лишь одним из секторов философского познания». Нарастает тяготение к синтетической точке зрения. Философские школы, еще недавно замкнутые в обособленных исканиях, начинают сближаться вокруг нескольких основных проблем. Исключительная «ориентированность философии на точном знании» — отвергнута: философия хочет вобрать в себя все многообразие опыта — научного и религиозного, эстетического и этического. Намечающееся движение совершается под знаком нового реализма: «Философия понимается как своеобразный духовный опыт, предмет ее — как множественная область наличествующих в мире сущностей, развитие философии — как последовательное расширение опыта человечества. В этом смысле можно говорить об интуитивизме как о своего рода потенциированном эмпиризме».
Этому движению хочет служить «Логос», не замыкаясь, однако, в пределы какого-нибудь частного направления.
Все более намечающееся тяготение к платонизму Марбургской и Фрейбургской школ, с одной стороны, и Гуссерлева феноменологизма, с другой; системы Шелера и Брадли, Кроче и Ройса; наконец, замечательные концепции идеал-реализма Лосского и Франка — таковы для «Логоса» наиболее показательные конкретные факты философской современности.
Прибавим, что, параллельно платоническим стремлениям виднейших представителей германской мысли, в современной французской философии растет и крепнет новый Аристотелизм, в его плодотворной томистической транспозиции («Неотомизм» Жака Маритена). Наконец, по-новому осветилась для нас теперь и философия Бергсона, которого мы считали когда-то «философом для нефилософов», не желая простить ему «недостаточной критичности» и, особенно, того, что он не «исходил от Канта» и не «преодолел» Канта.
Из статей книги отметим прежде всего небольшую, но необычайно насыщенную работу Сеземана: «Платонизм, Плотин и современность». Это — «попытка вскрыть один из мотивов платонизма, который для современного мышления представляет, может быть, наибольший интерес».
Задача глубоко современная. Современное мышление, завершив круг бесплодных — но необходимых — исканий, вновь ищет соприкоснуться со столь поверхностно ею усвоенным опытом античного умозрения. Такое прикосновение всякий раз оплодотворяло философию. Так было, и так будет всегда. В этом смысле, Плотин, думается мне, призван оказать определяющее влияние на ближайшее будущее европейской мысли. Признаки этого — уже налицо… Но об этом надо говорить особо.
«Мотив», которому посвящена статья: «двоякая характеристика идейного знания — с одной стороны, как самопознания, с другой, как знания предельного, осуществляющего в себе тожество бытия и мышления». Восходя, через самопознание, к отождествлению с объектом, к непосредственному созерцанию, знание перестает быть только знанием и становится мистическим деланием. Здесь платонизм преодолевает исконный интеллектуализм античного мировоззрения, но не тем, что топит и растворяет рациональное знание в бесформенной стихии иррационального, а тем, что разоблачает его эмпирическую ограниченность и вскрывает его последние, «запредельные» основания и истоки. Таков один из выводов автора. Но существенны не только выводы, а и аргументация, — необычайно острая и проникновенная. Особенно интересны блестящие (хотя не всегда убедительные) соображения по поводу Плотиновой материи.
В небольшой статье «Умозрение как метод философии» Н.О.Лосский еще раз формулирует некоторые основные положения интуитивизма, не внося ничего существенно нового. «Логике» Лосского посвящена статья С.Гессена. Автор с редкой отчетливостью определяет место интуитивизма среди других современных учений и выдвигает некоторые существенные проблемы, связанные с его теорией. Ограничусь здесь этими указаниями; к русским попыткам «идеал-реализма» я предполагаю еще вернуться.
О статье Б.Яковенко («Мощь философии») говорить не стоит. Зато библиографическая заметка того же автора — «Десять лет русской философии» — отличается редкой обстоятельностью и полнотой (библиография всегда была самой сильной стороной философии г. Яковенко).
Западная мысль представлена в сборнике статьей Т.Риккерта «Метод философии и непосредственно данное». Маститый глава Фрейбургской школы ставит себе задачей «выделить интуитивный момент философии». Но возможно это лишь в результате сложного и кропотливого анализа. Иначе мы рискуем принять за «непосредственно данное» любой агрегат переживаний, уже многообразно опосредствованный. «Чистый интуитивизм распахивает настежь двери пред чистым произволом». Не удовлетворяют философа и феноменологисты. «Они только полагают, что вращаются в сфере непосредственного. Но это злостный самообман». Сам Риккерт хочет «вышелушить» интуитивный момент, анализируя «опознание словесных значений» (анализ совершенно в духе хулимых феноменологистов).
«Повсюду в мире встречается нечто нечувственное, которое узревается или понимается нами с такою же непосредственностью, с какой нами воспринимается чувственное». — Таков результат анализа.
«Три реформатора»
Жак Маритен, несомненно, — значительнейший представитель католической мысли современной Франции.
Профессор «Католического института», автор ряда любопытных книг (из коих отметим особенно «Reflexions sur l'Intelligence»), неукротимый полемист, Маритен стоит во главе интересного философского течения — «неотомизма». Неотомизм пытается вернуть философию на тот путь, который ей указал когда-то, почти семь веков тому назад, «Doctor Angelieus» — Св. Фома Аквинский.
Строго различая «Царство природы» и «Царство Благодати», томизм возвращает разуму всю полноту его прав в пределах первого. Рациональное (в нашем, человеческом смысле) укоренено в сверхрациональном (которое тоже разумно — в ином, высшем смысле), оно подчинено и соотносительно ему, — но не растворяется в нем, не упраздняется им. Разум не порождает из себя реальности и не оформляет ее, он лишь покорно и благоговейно осязает Сущее. Высшее достижение души, в порядке природном, по слову Св. Фомы, заключается в том, чтобы «в ней был начертан весь строй мира и его причин».
Правда, есть иное и большее, это — «виденье Бога»: «ибо есть ли что-нибудь, чего не видел бы тот, кто узрел Всевидящего». Но такое познание лежит уже за пределами разума, оно доступно человеку только в порядке благодати.
Итак, положение неотомизма в современности определяется следующим образом: по отношению к произволу прагматизма, мистицизма, иррационализма — это восстановление прав разума; по отношению к «философии, потерявшей свой объект» (педантический гносеологизм, релятивизм, идеализм и т. д.) — это реализм; наконец, по отношению к «следующему познанию», замкнутому безысходно в себе самом, — это спокойное сознание человеческим разумом своих границ и своего места в иерархии сущего.
Последняя книга Маритена «Три реформатора» — если не самое значительное, то, несомненно, самое блестящее из всего им написанного. Это не положительное уяснение тех или иных моментов томистической доктрины. Философ всецело обращается здесь к изобличению основных неправд, определивших современное сознание.
Книга, полная великолепного пристрастия и пламенной непримиримости! Отрадный факт, в наши дни позорной нейтральности, умственного сластолюбия и эклектизма, когда острое любопытство ищет полакомиться всеми идеями, всеми догматами, все связать, все примирить, всюду почувствовать себя как дома.
«Попустительство» — вот настоящее имя того, что мы льстиво называем нашей «терпимостью» и «широтой взгляда».
«Терпимостью» Жак Маритен не грешит. Разложение духовного строя Европы и его прямые виновники — «три реформатора» — Лютер, Декарт, Руссо — такова тема книги. Тема крайне показательная. На этой проблеме сосредоточены — вот уже более тридцати лет — все искания другого благородного вождя подлинно живой французской мысли — Шарля Морраса. Но подход к вопросу у обоих мыслителей — существенно различный. Для Морраса культура — это, я бы сказал, задание чисто формальное. Строй и единство, иерархия и соподчинение сил — в этом для него смысл и сущность культуры. Католицизм и классицизм — для него это только средства, необходимые для осуществления такого формального единства. Это лишь могучие центростремительные силы, которые можно противопоставить центробежным силам хаоса и анархии. В этом отношении крайне показательно, например, отношение Морраса к Церкви: христианская доктрина, взятая абсолютно, ему явно враждебна, но он до конца утверждает церковь как самую могучую и живую из исторически наличных дисциплин. Для Маритена, — строй и цельность — лишь форма, определяемая религиозным содержанием культуры. Церковь для него — прежде всего носительница Истины, и лишь затем и постольку, — источник сил, призванный овладеть миром. Словом, у Морраса — подход культурно-прагматический, у Маритена — догматически-религиозный.
«Все начинается в духе. Все великие события Новой Истории созрели и определились в душах нескольких людей». Таковы: Лютер, Декарт и Руссо. «Поистине, это отцы современного сознания».
В центре католической теологии стоял Бог: она была целостным познанием вещей божественных и человеческих. Лютер, этот ненавистник разума, упразднил теологию как познание, отдав ее на произвол слепых эмоциональных сил личности. Он сделал религию — орудием спасения, а исправление твари — центром божественного миропорядка. Отец индивидуализма и антиинтеллектуализма, он на века разделил веру и разум, познание и откровение, презрев разум и сделав критерием откровения эмпирическую личность, не признающую посредства Церкви между Собою и Богом. Декарт, наоборот, отожествил человеческую личность с чистым мышлением, что породило непроходимый дуализм душевного и телесного и лишило смысла самую связь души с телом. Он задумал реформировать философию по типу ангельского познания, — врожденного, интуитивного и независимого от вещей. Он хотел отвергнуть медленный путь посредственного и несовершенного познания. Это свелось к тому, что критерием познания стала для него математическая очевидность, и он принужден был исключить и отвергнуть все многообразие чувственного и духовного опыта, поскольку оно не сводимо к этому типу очевидности. Так происходит роковое разделение субъекта и объекта: познающий субъект гордо замыкается в самодовлеющем мире чистых сущностей, достоверность которых он черпает непосредственно от Бога. Здесь уже предрешен тупик субъективного идеализма и все судорожные попытки из него выйти. Философия, притязая до конца и интуитивно овладеть объектом, «потеряла свой объект». Наконец, Руссо, своим мифом о природной доброте человека, извратил, перенеся в план природы, идею «адамического», нетронутого грехопадением человека, и сделал отсюда роковые для будущего выводы. В своем стремлении к «искренности» он растворил целебную и духовно-упорядоченную личность в бесформенной стихии чувствительности. Здесь начало сентиментального разложения личности, последствия которого во всех планах культуры неизмеримы.
Но в основе всякого великого заблуждения лежит великая истина, лишь извращенная, оторванная от своей питающей основы. Неправота Лютера, Декарта и Руссо потому и стала роковой силой, что они исходили из неких частичных истин. «Когда человечество отказывается жить живым христианством Церкви, оно обречено умирать от извращенного внецерковного Христианства. Согласно аксиоме перипатетиков, всякая высшая форма объемлет и примиряет в себе частичные совершенства низших форм. Примените эту аксиому к христианству, и вы поймете, что стоило только умалить и извратить эту высшую форму, чтобы мир наполнился раскрепощенными полуистинами и «обезумевшими добродетелями». Еще недавно примиренные в высшем единстве, они должны отныне ненавидеть друг друга. Вот почему в новом мире повсюду различимы униженные подобия католической мистики. Мир отравлен ныне гниением христианских идей, оторванных от их живой основы».
К сожалению, я не могу здесь подробнее остановиться на положениях этой замечательной книги, а тем более, обсудить их по существу. В частности, глава о Декарте, пожалуй, наиболее интересная, не вполне убедительна по многим причинам… Но с Маритеном можно не соглашаться, не считаться с ним — нельзя.
«Метафизическая чувствительность»
Жюль де Готье достаточно известен. Книги его — многочисленные и многословные — ценятся любителями. Существуют даже работы, посвященные изложению системы «боваризма» (так странно называется философская концепция Готье), а самое слово «боваризм» давно уже вошло в обиход. Отметим еще, что Готье, один из немногих во Франции, усердно изучал Ницше («Ницше и реформа философии», «От Канта к Ницше»). Правда, ницшеанство привилось ему в форме какого-то благополучно-эстетического эмпиризма…
В последней работе Готье «Метафизическая чувствительность» отчетливо намечены все существенные мотивы его философии. Книга стоит того, чтобы на ней остановиться: Готье достаточно яркий представитель известного типа философствующего дилетантизма, — решительно отходящего в прошлое.
«Метафизическая чувствительность» — это наше инстинктивное предрасположение придавать идеям и понятиям своеобразную эмоциональную окраску. В силу этого мы воспринимаем самые отвлеченные построения под знаком удовольствия или страдания, любим или ненавидим их. Все наше миропонимание определяется характером нашей метафизической чувствительности. Логика как будто с неизбежностью руководит нашим познанием; но на самом деле, она — лишь изощренное орудие, которое метафизическая чувствительность создает для осуществления своих тенденций.
Поэтому логика обладает действенной силой, лишь поскольку она совпадает с чувствительностью данной эпохи. Наоборот, чувствительность оказывается совершенно непроницаемой для логики, которая не ею порождена и ей не соответствует. Она будет извращать эту чуждую логику, стараясь использовать ее для своих целей. Подобное явление и происходит теперь. Старая метафизическая чувствительность, создавшая когда-то логику веры и догмата, — еще жива. Но нарождается новая чувствительность, которая уже настолько окрепла, что создала свою логику. С этой новой, чисто интеллектуальной логикой вступила в конфликт старая чувствительность. Отсюда двойственность и противоречивость во всей философии: религиозная чувствительность хочет оправдать себя в формах интеллектуальной логики, подменяя и извращая эти формы.
Старую метафизическую чувствительность Готье называет «мессианской чувствительностью». Она стремится разрешить извечные противоречия жизни и, прежде всего, конфликт удовольствия и страдания тем, что создает надежду на грядущее совершенство, в котором все противоположности будут растворены. Так все в жизни и в познании становится лишь средством для достижения абсолютного, как бы оно ни понималось. Эта «мессианская» надежда проявляется в самых разнообразных формах: то религиозных (христианство), то псевдорациональных (идея прогресса), то псевдофилософских (стремление к абсолютному познанию).
Мессианизм, судимый его собственным, моральным судом, уже заключает противоречие: мы не властны упразднить то, что уже было, поэтому совершенство, которое будет, тем самым утвердит чудовищное неравенство между собою и прошлым. Совершенство не есть совершенство, если ему предшествует несовершенство прошлого. Второе противоречие — чисто логическое.
Но здесь необходимо уяснить основное для Готье понятие «боваризма».
Психология флоберовской героини навела Готье на мысль, что личность всегда сознает себя иною, чем она есть на самом деле. Отсюда — великолепный скачок; Эмма Бовари оказалась выразительницей самой сущности мирового прогресса: «бытие неизбежно сознает себя иным, чем оно есть». Такова основная формула «боваризма». Вот почему благодарный философ окрестил свое открытие именем мечтательной докторши.
Бытие есть бытие, поскольку оно создает[42] себя. Но сознание, по самой своей сущности, есть двойственность сознающего и сознаваемого, их несовпадение; — вечная игра противоположностей, вечная относительность. Уничтожьте эту двойственность: познающее совпадет с познаваемым, субъект отожествится с объектом (чего ищут сторонники абсолютного знания). Но это значит, что сознание исчезнет, все сольется в тожестве, в небытии, в Ничто. Так всякое бытие, поскольку бытие, есть относительность; а абсолютное изобличает себя как небытие. Отсюда, сознательное стремление к абсолютному должно определить себя как стремление к Небытию (вывод, последовательно сделанный индийской мыслью).
Наконец, мессианизм всех типов ищет перехода от относительного к абсолютному (в жизни или в познании), но это значит устанавливать отношение между двумя членами, из коих один (абсолютное) по определению исключает всякую относительность.
Так, для Готье, изобличается несостоятельность «мессианской метафизической чувствительности» перед лицом новой, чисто интеллектуальной логики. Но какова же та «новая чувствительность», выражением которой является интеллектуальная логика?
Это «созерцательная чувствительность» (точнее: зрелищная — spectaculaire — еще термин Готье!). Мессианизм — восхождение к абсолютному по ступеням времени. Новая метафизика — оправдание мира как зрелища. Мессианизм — бесконечное и неосуществимое задание. Созерцание — оправдывает мир в каждый данный момент со всеми его трагическими конфликтами и противоречиями. Оно преодолевает извечные антитезы: страдание — наслаждение, истина — ложь, не смутной надеждой на будущее, но тем, что разом поднимается над ними. Все зрелище мира и наших собственных страстей и страданий внезапно предстанет нам, как бы видимое с некоего возвышенного места. Познание является нам уже не как абсолютное задание, но как живое движение, цель которого достигнута в каждый данный момент: эта цель — схватить реальность в порядке причинной зависимости, как художник схватывает ее в порядке пространственной перспективы. «Бытие освобождается от рабства перед истиной, чтобы служить одной красоте».
Вся философия, до Готье (за редкими исключениями), — только «псевдо-философия» и «метафизический фольклор». Философы, назначение которых — быть зрителями, только зрителями, пытались учить и пророчествовать, наивно вмешиваясь в интригу и принимая драматический эффект за действительность.
«Вот почему до сих пор не было философии».
Так Готье рисует нам «новую метафизическую чувствительность». «Но что нужно, чтобы эта точка зрения стала действительным оправданием бытия? — спрашивает он. — Надо, чтобы зрелище мира рождало в нас удовольствие… Из двух форм ощущения — страдание и удовольствие — созерцание порождает только одну: удовольствие. Если сравнить жизнь с логикой, то созерцание, в диалектическом движении противопоставляющем тезу антитезе, играет роль синтеза, который соединяет ту и другую в высшей категории». Но если созерцание — только удовольствие, то оно не «высшая категория», а лишь один из членов антитезы. И разве известная антитеза «страдание — удовольствие» преодолена тем, что стало одним удовольствием больше?
Так «новая метафизическая чувствительность» Готье изобличает свой далеко не полный и очень простой смысл: это старый как мир и крайне элементарный гедонизм, — лишь эстетически уснащенный и диалектически изукрашенный.
Как бы то ни было, книга забавна и занимательна. Она могла бы быть еще занимательней, будь Готье более острым и осторожным стилистом. К сожалению, стиль философа-эстета — вял, многословен и неряшлив: это какое-то странное соединение Ницше и дурно переведенного Гегеля.
Шарль Моррас
Можно подходить к мыслителю с точки зрения состава и логической связности его системы. Но возможен иной подход. Тогда оказывается существенным не столько содержание доктрины, но та первоначальная, допознавательная тенденция, с которой философ подошел к познанию: она раз навсегда определила самое направление его исканий и, сознательно или бессознательно, руководит им в выборе принципов и метода. Так система предстает нам уже не как самодовлеющее единство, но как осуществление некоего конкретного жизненного задания, как кристаллизация, более или менее чистая, определенного идеологического типа.
Можно разно относиться к содержанию доктрины Шарля Морраса, но исключительный типологический интерес ее — не подлежит сомнению.
Непримиримость, доходящая до сознательной слепоты, способность бесстрашно идти во всем до конца, до последних выводов — все это вызывает негодование врагов Морраса и часто огорчает его друзей. Но для нас именно эти черты особенно ценны: они делают идеологию Морраса единственным в своем роде беспримесным выражением одной, крайне знаменательной тенденции.
Это — судорожная, изумительная в своей искренности и трагической слепоте, попытка преодолеть основное противоречие современной культуры. В чем же заключается то противоречие, из которого, сознательно или бессознательно, исходит Моррас?
«Чистое мышление», «чистое искусство», даже «чистая религия» и «этика чистой воли»… — так, одна за другой, все творческие силы культуры очистились от соприкосновения с реальностью, ушли от нее, гордые своей безответственной свободой. А жизнь человечества, предоставленная себе, всецело подпала под власть мертвой необходимости, механики, числа; из единства и соподчинения сознательных сил — она стала сцеплением и равновесием слепых интересов. Современная цивилизация, анархическая и бессвязная внутренне, — извне оказывается поэтому упорядоченной и изощренной системой бессмысленного принуждения. И среди этой цивилизации, из которой до конца исключена всякая реальная свобода, где даже войны и мятежи развертываются и завершаются с железной последовательностью математической выкладки — среди этой цивилизации Шарль Моррас провозглашает себя противником свободы!
Дело в том, что — согласно Моррасу — самая проблема свободы не существует для того, кто ощущает себя членом человечески-осмысленной иерархии, живою частью органического целого. Понятие свободы получает смысл лишь поскольку личность, внутренне-разнузданная, ощущает себя насильственно прикрепленной к чужому и мертвому целому. Свобода, это лишь другое название нашего рабства: иллюзорное право «zu irren und zu streben»[43], оторванность от догмата, традиции, авторитета, — словом, все то, что закрепощает нас в бессмысленной, не-человеческой необходимости. В этом смысле, принудительность современной цивилизации есть лишь оборотная сторона нашей «внутренней свободы».
Здесь целиком предрешено отношение Морраса к мысли и познанию.
Что такое свобода мысли? Это — стремление безответственно и бесконечно искать, блуждать, сомневаться; это — нежелание остановиться, закрепить себя в реальности, откристаллизоваться в догмате, стать силой движущей и устрояющей. Но именно в этом — назначение подлинной мысли. «Идея — это воля, которая жаждет воплотиться, овладеть людьми и обществом, строить, направлять. Ничего неограниченного, безразличного, неопределенного»… Иначе познание из творческого начала становится пустой свободой любопытства и сомнения.
«Пусть я ошибаюсь. Но это плодотворная ошибка, если она позволяет мне действовать и строить. Пусть вы правы, но ваша истина — лишь принцип бесконечного любопытства. Ваша мысль подобна бесконечно катаемому камню». Если угодно, все это — формулы чистейшего прагматизма: лишний пример того, что одни и те же формулы, если брать их отвлеченно, могут соответствовать явлениям в корне противоположным…
Мне хотелось здесь выделить лишь исходный пункт и направление всех исканий Морраса: абсолютное рабство как обратная сторона негативной свободы; своеобразный «прагматический догматизм» (sit venia verbo![44]) — как путь преодоления этой антиномии. Отсюда становится понятным смысл и тон дальнейших построений мыслителя. Мысль отвергла свою свободу во имя действия и строительства: ибо всякое действие предполагает выбор, ограничение — и слепоту. Отсюда то, что я назвал «сознательной слепотой» Морраса. Отсюда его нежелание видеть и понимать там, где надо действовать и бороться. Отсюда — его лапидарные формулы, полные гнева и несправедливости. И во всем, сквозь все — одно упрямое, неустанное стремление: к строю, к единству, к живой цельности…
Книги Морраса для тех, кто умеет их читать, — это исключительный по выразительности документ нашей эпохи.
Возврат к Средневековью
Еще сравнительно недавно господствовало мнение, что средневековая философия — это какой-то досадный перерыв в развитии европейской мысли. Между греческим умозрением и новой философией простирался для нас тысячелетний «мрак средневековья». И так думали не одни только профаны. Возьмите любой почтенный компендиум по истории философии, и вы увидите, какое несущественное место (и качественно и количественно) занимают здесь системы Средневековья: посвятив несколько поверхностных страниц этому многовековому периоду, исключительному по богатству и напряженности мысли, историк спешит обыкновенно поскорей вступить на торную дорогу «новой философии». Самое слово «схоластика» издавна получило для нас пежоративный смысл.
Теперь не то. Положение резко переменилось. Обо всем, что произошло со времени Декарта, принято ныне говорить свысока. Теперь только духовно отсталые биржевые игроки Поля Морана читают Фрейда во время деловых перелетов на аэроплане. Истинные утонченники давно преодолели это смешное варварство. Современные снобы цитируют Св. Ансельма между двумя турами фокстрота и, если верить небрежному признанию Монтерлана, перечитывают Блаженного Августина по дороге на футбольную площадку…
Переворот не исчерпывается, однако, смешной модой, господствующей среди блюдолизов культуры. Бл. Августин вдохновляет не только футбольную идеологию Монтерлана, но и очень серьезные искания, напр., Блонделя. О влиянии Св. Фомы на современную французскую мысль мне уже приходилось бегло говорить на страницах «Звена». Прибавлю здесь, что влияние это далеко не может быть объяснено причинами только религиозного порядка. С этой точки зрения, крайне характерна, напр., позиция Гонзала Трюка: чуждый всяким религиозным основаниям, он столь же решительно провозглашает необходимость возврата к томизму, как и ортодоксальные католики Маритен и Массис (здесь для нас несущественно, что сам Трюк философ весьма сомнительный).
Словом, нельзя отрицать, что средневековая мысль не только сделалась предметом более внимательного и глубокого изучения, но стала источником и вдохновительницей новых, порою весьма существенных, исканий.
Правда, в Германии последнее почти не наблюдается. Но уже для понимания современного русского идеализма приходится учитывать многообразные средневековые воздействия. Однако, с особенной резкостью указанное явление обнаружилось, конечно, во Франции. Это и понятно. В Германии слишком сильна и богата новая, от Канта идущая, философская традиция, чтобы возможен был, вне и помимо ее, прямой возврат к средневековой мысли. Тогда как Франция — от Декарта и Мальбранша до Бергсона — не создала, в области систематической и строгой философии, ничего подлинно значительного. Во Франции — это приходится признать — нет новой философской традиции. И традиция Декарта совсем не является традицией французской философии, поскольку она ведет, прямо и неуклонно, через Спинозу и Лейбница — к Канту.
Поэтому, при нежелании включить себя в существенно чуждую германскую духовную традицию, всякая попытка преемственно связать себя с прошлым неизбежно ведет к Средневековью.
Существенное место занимают в рассматриваемом движении труды проф. Этьена Жильсона. Жильсон не только знаток и трезвый исследователь средневековой мысли; ему в высокой степени свойственно прямое, конкретное видение самого существа, самой плоти этой мысли. Это «прямое видение», соединенное с исключительной строгостью метода, делает книги Жильсона значительнейшим из всего, что было до сих пор высказано по этому предмету. В нарастающем движении Жильсону, несомненно, принадлежит выполнить двоякую роль: с одной стороны одушевляющую, движущую, с другой — сдерживающую и направляющую. Последнее тоже крайне существенно, при тех крайностях и преувеличениях, которые свойственны вождям нового движения…
Только что вышло новое издание декартовского «Discours sur la methode», снабженное обширным комментарием Жильсона. Книга во многом по-новому осмысляет систему Декарта, уясняя ее существенную, неразрывную связь со средневековой мыслью. Мы присутствуем, наконец, при окончательном заполнении того чудовищного пробела в наших историко-философских представлениях, который заставил когда-то Тома наивно воскликнуть: «Между веком Аристотеля и веком Декарта я вижу двухтысячелетнюю пустоту».
Философия как живой опыт
Согласно пресловутой формуле Честертона, безумен не тот, кто потерял логику, но тот, кто потерял все кроме логики. Формула (во второй своей части) — необычайной точности, равно применимая не только в психиатрической клинике, но в пределах всей современной культуры, медленно изживающей огромное безумие! В частности, эта формула с особенной отчетливостью может быть проверена на педантическом гносеологизме и абстрактном идеализме недавнего прошлого. Подлинно, здесь было потеряно все, кроме логики. Зато логика, бесконечно изощренная и критически выверенная, стала самодовлеющим началом, превратилась из средства — в цель. Небывало систематический и точный аппарат философии обречен был работать в пустоте, создавая «логически общезначимые», но пустые и жизненно-бессильные построения.
В последнее время в философском творчестве обозначился существенный сдвиг. Правда, никаких положительных результатов на новом пути еще не достигнуто, но болезнь определена и названа: философия перестала быть живою силою потому, что «потеряла свой предмет», перестала быть целостным духовным опытом. И как бы различны ни были философские течения наших дней, значительнейшие из них отмечены общим стремлением: это — возвращение к реализму, к предметности, к опыту (причем «опыт» понимается в новом, углубленном и расширенном смысле и включает в себя все многообразие чувственных и сверхчувственных реальностей).
Философия как живой опыт — такова тема недавней книги проф. Ильина[45]. Корень релятивизма и нигилизма, господствующего ныне во всех планах познания, творчества, жизни, автор справедливо усматривает не в каком-либо познавательном заблуждении, но в том, что мы перестали чувствовать, конкретно переживать существенное, и потому утратили веру в его объективное существование. «Неиспытанное содержание — не познано, неиспытуемое — непознаваемо», — такова для него «первая аксиома» всякого философского познания. Ибо философия «покоится на живом испытании сверхчувственных предметов», есть «систематическая интуиция предмета» и «предметное видение». Поэтому-то «гносеологическая рефлексия, не вскормленная живым общением с предметом, была обречена на несущественность, отвлеченность и бесплодность». Оторванное от «предметно-неколебимых основ» современное человечество «не живет духовно необходимым, но вращается в пестрых, условных и относительных, несвязывающих возможностях».
Отсюда — основная задача всякого философствования «взрастить в себе духовный опыт во всей его подлинности и требовательности». Но «человек лишь постольку познает философский предмет, поскольку приобщает ему самые корни или истоки своего духовного бытия». На этом пути вскрывается сверхпознавательный, действительный характер философии. «Этот опыт приобретается длительным и целостным деланием, деланием целой жизни». Чтобы познать, философ должен «по-новому быть». И подлинное познание неизбежно ведет «к исповеданию и поступку».
В книге проф. Ильина много прекрасных фраз, с которыми нельзя не согласиться. Но хотелось бы более определенных, менее риторических утверждений. Когда ему приходится конкретно указать путь философского исследования, то автор довольствуется очень смутными соображениями о необходимости пересмотра идей метода и доказательства, права и государственности, совести и добродетели и т. д. и т. д. Он говорит о необходимости «живого описания нормального духовного опыта» в целях его нормативного, а не психологического использования (что-то вроде Гуссерлевой феноменологии). Наконец, утверждая «искомое единение между философией и религией», философ нигде не пытается разграничить эти две области. Если судить о взглядах автора на основании данной книги, то невольно получается впечатление, что для него подлинная философия до конца вбирает в себя все положительные задачи религии и утверждает ее лишь как свою предварительную ступень. Формула Гегеля — («философия с самого начала приняла в себя тот самый предмет, в аффективно-иррациональном переживании которого пребывала религия») — приведенная без должных пояснений, лишь усугубляет указанное недоразумение. Словом, книга проф. Ильина, ценная по своей основной тенденции, крайне расплывчата и неопределенна.
Морфология культуры и языка
Как бы одностороння и предвзята ни была Шпенглерова концепция истории, — одно несомненно зачтется ему как неоспоримая заслуга: он с большой решительностью выдвинул идею морфологического истолкования культуры. Идея, правда, — далеко не новая; притом она получила у Шпенглера очень условную формулировку, а выводы, которые он из нее сделал, разительны по своей претенциозной слепоте. Несмотря на это, вернее, именно благодаря этому, морфология стала очередной проблемой и проникла даже в сознание узких специалистов. Я разумею здесь не «Общество морфологического изучения культур», создавшееся в Германии под непосредственным воздействием философа (здесь процветают именно крайности шпенглерианства). Гораздо существенней тот факт, что масса ученых работников Германии, совершенно чуждая эффектному дилетантизму Шпенглера, уже по-новому видит и связывает изучаемые явления, вольно или невольно следуя духу времени.
Но в чем заключается морфологическое истолкование культуры? С этой точки зрения, история есть не механическое сцепление причин и следствий (как для историка-экономиста), не развитие и взаимодействие идей и духовных факторов (как для историка-идеолога), но живое, органическое становление форм-символов (материальных и духовных), раскрывающих некое изначально заданное, морфологическое единство культуры. «Морфология культуры неизбежно приводит ко всеобщей символике», — говорит Шпенглер. «В истории, как и в естественно-исторической картине мира, нет ни одной мельчайшей подробности, в которой не была бы воплощена вся совокупность глубинных тенденций». Так, для Шпенглера, вся сущность новой Европейской культуры равно может быть усмотрена в математике и живописи, в системе кредита и в трансцендентальном идеализме, в контрапункте и в дальнобойном орудии. Словом, в своем последнем пределе новый метод, по отношению к культуре, ведет к тому целостному созерцанию всего во всем, какого искал Гете по отношению к природе.
Масштаб, в котором поставил свою задачу Шпенглер, сделал ее совершенно невыполнимой силами одного человека. Отсюда — все наиболее разительные заблуждения философа, которые ровно ничего не говорят против самого метода. Да и неизмеримая эрудиция, которая понадобилась Шпенглеру для выполнения этой задачи, неизбежно оказалась взятой из третьих рук.
На очереди — внимательные частные работы. Особенно ярко все недостатки Шпенглера обнаружились в его истолковании античности. Здесь недостаток осведомленности еще усугубляется какою-то острою неприязнью его к греческой культуре. А между тем, именно здесь особенно плодотворно мог бы быть выверен новый метод. И в частности — язык! Неисчислимые богатства накоплены, проверены, классифицированы многовековой работой филологов и только ждут «осязающего видения» философа культуры.
Передо мною работа молодого геттингенского филолога Шнелля[46]. Шнелль берет шесть основных слов, обозначающих по-гречески: «познание», и пытается проследить их историю в доплатоновское время. Вот и все. Автор изучает разнообразные вариации и переходы значений этих слов. Он черпает свой материал в философии и поэзии, в эпиграфике и диалектологии, восходя порой, чтобы проследить особенно живучий смысловой оттенок, к санскриту или нисходя к новогреческому. Он почти не вступает в пределы собственно философии и лишь очень осторожно пытается наметить соотносительность семантических переходов с философской проблематикой. Но перед нами раскрывается процесс исключительной глубины и силы. Процесс этот развертывается в пределах между двумя ощущениями познания: познание как реальное овладение предметом и познание как чистое видение. Это — цепь попыток связать, объединить или разделить, противопоставить друг другу эти два предельные смысла. Интеллектуализируясь или конкретизируясь, насыщаясь этическими элементами или освобождаясь от них, то сгущая, то расширяя свой смысл, — слова живут напряженною жизнью и символизируют всю историю греческого духа в его исканиях и достижениях. В этой игре смыслов предуказаны все возможности и пределы античного умозрения и все многообразие его познавательной проблематики…
Частные исследования, подобные работе Шнелля, намечают возможность конкретного приближения к морфологии культуры, идея которой была брошена Шпенглером в крайне отвлеченной и условной форме. А ведь книга Шнелля (очень скромная и совсем не исключительная) — далеко не единичный факт. Я остановился на ней лишь как на характерном примере.
Я не знаю для философа чтения более поучительного и волнующего, чем хороший лексикон. Откройте хотя бы любой из in folio нестареющего Thesaurus Этбенна, всмотритесь внимательно в жизнь слова, одного только слова. «И как в росинке чуть заметной весь солнца лик ты узнаешь», — так в микрокосме этого слова для вас раскроется все богатство античного духа. В тончайшем смысловом нюансе или переходе вы увидите, изначально предрешенными, — мифы и теогонии, глубочайшие сдвиги и противоборства идей. То движение духа, что в усложненной и запутанной форме выразило себя в трагедии, или философской системе — запечатлено здесь в изначальной чистоте.
Философ культуры должен учиться созерцать слова, как Гете созерцал растение.
Не скороспелые схемы мировой истории, но медленное развитие в нас такого «осязающего видения» — вот подлинный путь к грядущей «морфологии культуры».
Проблема Сократа
Проблема Сократа — старая, исконная проблема европейской культуры. Ницше лишь сузил и обострил ее. Для Ницше Сократ — только «теоретический человек», в его самодовольном оскудении, в его слепоте к изначальному трагизму жизни и отрыве от ее творческого изобилия. Но «теоретический человек» — это последняя и самая страшная опасность сократизма (опасность, которой мы не избегли), а не его основное устремление. Ибо, в конечном счете, проблема Сократа — это проблема познания как такового.
С должной широтой вопрос этот поставлен В.Сеземаном в поучительной статье, вошедшей в четвертую книгу «Евразийского временника». (Признаться, я не совсем понимаю, в чем именно «евразийство» этой статьи).
Сеземан, изучая сущность сократовского интеллектуализма, вскрывает в его основе коренную двойственность. Это та двойственность, что предуказана уже в мифологическом сознании. Изначальное грехопадение как забвение, утрата познания (согласно орфической концепции) и грехопадение как — приобщение к познанию (согласно библейскому повествованию). В этом отражается «некоторая объективная противоположность, присущая самому познанию, противоположность двух его сторон или моментов, одинаково необходимых и одинаково укорененных в самом существе его природы».
Сократовское самопознание как путь к постижению объективного добра, есть целостный и личный акт. Но оно и выход из себя, преодоление душой своей собственной ограниченности. Кроме того, здесь впервые душа, «через сознание своей особливости и самостоятельности, действительно овладевает всем фактическим составом своей жизни и сознает ее как особый внутренний мир». Но с другой стороны, «для того, чтобы стать знанием в полном смысле этого слова, чтобы действительно овладеть бытием, знание должно оторваться от бытия», противопоставить ему себя. Здесь корень той непреодолимой расщепленности и розни, которую вносит в мир познание. Здесь уже предрешены все основные опасности и подмены, которыми отмечена история европейской мысли. Таков рационализм (подмен закономерности самого бытия закономерностью направленного на него знания); таков позитивизм (подмен первичной, непредметной духовности бытия отраженным предметным знанием о нем). Наконец, таков романтический историзм и психологизм нового времени. Это — безудержная склонность к объективирующей рефлексии, к «вчувствованию», «вживанию» в чужую психологию, в чужие эпохи и культуры. Это «вживание» во многом плодотворно. Но оно таит и большие опасности: мы в конце концов теряем свое ограниченное, но подлинно реальное бытие и подменяем его каким-то отраженным, мелькающим и полуреальным существованием.
«Трагедия знания, — заключает автор, — не изжита Европейской культурой; она не может быть ею изжита, пока эта культура еще не изменила самой себе, пока в ней еще живы заветы и традиции эллино-христианского «Логоса». Задачей правой установки познания Сеземан считает не окончательное преодоление «мэонических начал», необходимо присущих всякому познанию, но углубление и развитие его положительного момента. А это значит — идти вперед по пути, который навеки предуказал нам Сократ.
«Отвергнуть Сократа и его учение — это значило бы отвергнуть основное динамическое начало в христианской культуре».
Метапсихика
Обширная группа явлений, вульгарно именуемых «оккультными», до сих пор служит поводом для самой примитивной фантастики (как мы видели на недавнем съезде спиритов) или для не менее абсурдного скептицизма, отрицающего факты. Это совершенно неизбежно при современном состоянии науки о психическом.
«Я спрашивал себя иногда, что произошло бы, если бы наука, вместо того, чтобы исходить из математики и ориентироваться в направлении механики, астрономии, физики и химии, вместо того, чтобы сосредоточивать все свои усилия на изучении материи, с самого начала отдалась бы познанию духа». Так говорил Бергсон, лет 12 тому назад, в памятной речи, произнесенной в лондонском S.F.P.R. («Society for Psychical Research»).
«Тогда у нас была бы психология, — заявил он далее, — относящаяся к теперешней психологии, как современная физика относится к физике Аристотеля».
На деле произошло обратное: успех «точных наук», купленный ценою двухтысячелетнего неуклонного самоограничения, естественно уживается у нас с полной слепотой к явлениям психического порядка. Психология до сих пор пребывает в зачаточном состоянии. Но это не потому, что метод ее не установлен и предмет не ограничен с достаточной отчетливостью. Нет, просто у нас, благодаря многовековой тренировке, остались лишь жалкие крохи психического опыта. Ублюдочному психическому опыту естественно соответствует ублюдочная наука о психическом. Перед нами, значит, не столько недостаток в истолковании опыта, сколько недостаток самого опыта.
Это утверждение может показаться странным в применении к нашему веку. Ведь признано, что мы грешны именно преувеличенным психологизмом. На самом же деле, вся наша «сложная и напряженная» душевная жизнь сводится к болезненной и совершенно поверхностной впечатлительности. Именно эта острая, мелькающая игра впечатлений заслоняет от нас глубинную жизнь нашей психеи. По прекрасному выражению Джемса, «мы живем на периферии самих себя».
Все мудреные немецкие споры о границах и методах психологии оказываются преждевременными и бесплодными, пока отсутствует прямое и конкретное усмотрение предмета психологии во всей его полноте. Вот почему, за последние десятилетия, все значительнейшие усилия сводятся собственно к одному: прорваться с периферии к центру, охватить все многообразие психической жизни.
Сюда относятся такие несхожие между собою попытки, как «интуиция чистой длительности» Бергсона, психоанализ Фрейда, разнообразные теории «подсознательного» и, наконец, систематическое изучение так называемых «психических» или «метафизических» явлений, начало которому было положено великолепным усилием лондонского «Общества психических изысканий».
По утверждению проф. Рише (в его классическом «Traite de Metapsychique»), изучение метапсихических явлений, пройдя фазисы мифический, магнетический и спиритический, вступило, со времен Крукса, в научный период.
Каковы же результаты этого — уже пятидесятилетнего — периода? Целая библиотека анналов S.F.P.R. и соответствующего американского общества; славные имена Крукса и Джемса, Лоджа и Рише; бесчисленные исследования английских, американских, французских и иных «психистов»; тысяча совершенно неоспоримых фактов (явлений «телепатии», «медиумизма» и т. д.), собранных во всех концах мира, удостоверенных, классифицированных. Но каковы же выводы, общие теории? Вывод пока только один: факты вполне реальны. И только. И если бы к тысячам уже известных фактов прибавить еще тысячи — это не изменило бы ровно ничего. Пока «метапсихические явления» останутся единичными, редкими курьезами, пока не создастся живой и всеобщий метапсихический опыт — метапсихика как наука невозможна.
Возможно ли предвидеть развитие такого опыта? «Toute education de mediumite est inoperante» («Никакое искусственное развитие медиума не осуществимо»), — грустно отвечает Рише.
Так ли это? Не объясняется ли это самим подходом исследователей к изучаемым явлениям? Ницше любил говорить, что всякую новую идею он встречает словами «что ж, попробуем». Ученый психист менее всего хочет «попробовать», он предпочитает наблюдать извне, регистрировать, классифицировать. Он не хочет себя самого сделать объектом опасного, быть может, рокового эксперимента, подвергнуть свою плоть и свой дух тяжелому и длительному искусу, чтобы ощупью доползти до живого «метапсихического» опыта, коснуться того основного рычага существа, который слепо умеет нащупать в себе какой-нибудь африканский колдун. Увы, колдун не пишет ученых исследований, а ученый исследователь лишь извне наблюдает «феномены медиумизма».
Есть что-то трагическое в зрелище этой науки, все усилия которой, вот уже пятьдесят лет, сосредоточены только на том, чтобы доказать реальную наличность своего объекта какому-то воображаемому, абсолютно скептическому противнику. (Ведь для этого достаточно и одного, должным образом удостоверенного факта; а того, кто не хочет видеть, — все равно не убедишь).
Но еще более жуткое зрелище представляет собою неустранимый двойник строгого психиста: сентиментальный и легковерный спирит (часто этот двойник совмещается в одном лице с психистом: Ломброзо, Крукс, Джемс, Лодж!). С одной стороны: мертвая груда фактов; с другой — неистовство скудной и тупой сентиментальности. Поистине, «баня с пауками» карамазовского чёрта кажется исполненной трагического величия по сравнению с «загробным миром» спиритов: неестественная смесь мечтаний английской старой девы с грезами французского employé de commerce.
Но двойник спиритизма не устраним, он по пятам следует за метапсихикой и радуется ее успехам.
Говорят, что магия относится к современной метапсихике, как алхимия — к химии. Сравнение глубоко неверное. Химик не только методом, но и опытом несравнимо богаче алхимика.
Разница между современным психистом и средневековым магом не в том, что первый работает во всеоружии научного критицизма, а второй — с детской наивностью. Разница эта в следующем: маг имел дело с бесконечно богатым опытом (и прежде всего — своим опытом), который он пытался (пусть наивно и неумело) осмыслить и упорядочить; современный психист вынужден среди рационализированного человечества выискивать редкие феномены психического атавизма (медиумов) и наблюдать их извне. Поэтому факты для него так и остаются — фактами.
Не будем бояться слов: вопрос о возможности подлинной метапсихики как науки есть собственно вопрос о возможности магии.
Вопрос усложняется еще тем, что психология не может выйти из зачаточного состояния, пока до конца не включит в себя все многообразие «метапсихических явлений» и не станет познанием целостной психеи.
Бесплодный мыслитель
Всякое творчество, всякое осуществление неустранимо заключает в себе момент свободного отречения. В известном смысле, воплощение всегда есть некоторое умаление воплощаемого, т. е. (если мерить вещи абсолютною мерою) — ложь: «Мысль изреченная есть ложь». Но здоровый творческий инстинкт легко преодолевает этот отрицательный момент, спокойно переступает через него, радостно отказывается от бесформенной бесконечности своего внутреннего мира во имя ограниченного и замкнутого воплощения. Вот почему трагедия творческого бесплодия заключается не в отсутствии внутреннего опыта или неумении его воплотить, но в упрямом нежелании поступиться хоть каплей своего богатства, в сознательном неприятии всех средств воплощения как условных и ограниченных т. е. ложных. Творческое бессилие («бездарность») есть просто печальный факт, который не может быть осуждаем. Тогда как здесь есть какая-то коренная, религиозная неправота: мятеж и непризнание извечной условности человеческого творчества и бытия. Это то, что греки мудро называли hybris[47]. (Весь смысл и тон эллинского [искусства как раз отличается][48] полным отсутствием hybris, радостным признанием условного).
В области мысли с этой точки зрения далеко не случайна «боязнь системы», отрицание широкой архитектоники мышления как чего-то лживого и условного. Медленное восхождение по лестнице понятий, дуги и арки напряженной диалектики, свода и купола завершенной системы — все это начинает казаться пустою игрой. Все это как будто лишь уводит нас от подлинного познания — этого неразложимого сгустка внутреннего опыта, для которого нет слов и не может быть понятий. Все структурные, закрепляющие формы мышления отметаются как ненужные. Духу незачем раскрывать себя в многообразно-расчлененной системе: он весь, до конца, должен воплощать себя в любой точке своего пути. В той или иной степени этим стремлением отмечены почти все наиболее острые и напряженные попытки недавнего прошлого. Недаром Ницше подозревал неискренность во всяком стремлении ксистеме. Ау нас, не то же ли с такой силой провозглашал Лев Шестов?
Очень интересное и почти патологическое проявление этой опасной тенденции я нахожу в книге Алэна, посвященной Жюлю Ланьо[49]. Нам почти ничего не осталось от этого скромного профессора философии 80-х годов: лишь случайные фрагменты… Алэн, ученик философа, благоговейно собрал в своей книге воспоминания о «великом Учителе»: анекдоты, собственные мысли о личности Ланьо, о его методе; мы перелистываем книги, которые любил комментировать своим ученикам философ (Платон, Спиноза, Декарт). Но о философии самого Ланьо мы не узнаем почти ничего. «Если бы захотел соединить оставшиеся документы, — говорит автор, — мне легко удалось бы резюмировать идеалистическую систему, похожую на многие другие. Но это было бы худшей из ошибок». Алэн хочет дать нам почувствовать ритм, только ритм мысли своего учителя. Читая эту странную книгу, очень отчетливо чувствуешь, в чем именно заключалось то неотразимое обаяние мысли Ланьо, о котором говорит Алэн. И в то же время начинаешь понимать, что этот мыслитель не мог не остаться бесплодным.
Ланьо философ не системы, но чистого, себе довлеющего процесса мышления. «В каждой мысли его присутствовал дух, и притом весь дух», — говорит Алэн. Но мы напрасно стали бы искать в книге отдельных мыслей Ланьо: мы находим лишь мысли по поводу этих мыслей. И это, по-видимому, не случайно. Ланьо не разъяснял, не доказывал, но лишь указывал, заставлял как бы ощупью познавать мир. «Вся природа являлась вдруг в какой-нибудь чернильнице или куске мела. Вещи как бы сгущались перед этим властным вниманием». Алэн рассказывает об этих уроках — «отягощенных, спутанных, бесконечных», когда «внезапно приходило какое-то озарение». «Но не было никакого прогресса — ни от недели к неделе, ни от года к году: всякий раз все надо было начинать сначала».
Восторженная и нестройная книга Алэна, несмотря на свои недостатки, с большой силой раскрывает перед нами трагедию бесплодного мыслителя, «который ничего себе не обещал и ни на что не надеялся кроме чистой мысли». В Ланьо для нас глубоко поучительно какое-то последнее совлечение мыслью всех условностей. Для такой мысли нет развития, нет движения. Познание для нее — мгновенно и бесплодно, как молния. Вот почему «всякий раз все надо было начинать сначала».
«Он не хотел диалектики, доказательства, — говорит Алэн, — он не хотел ясности, ибо ясность — это отказ».
Но всякое человеческое творчество есть именно отказ, вольное отречение от абсолютных заданий и мудрое признание условности.
Мечтатели
«Состояние сна не является каким-то дополнением к состоянию бодрствования, — говорит Бергсон. — Наоборот, скорее бодрствование получается из сна через отбор, концентрацию и напряжение рассеянной психической жизни. Бодрствовать — это непрерывно собирать все многообразие своей душевной жизни вокруг одного центра — будущего действия. Бодрствовать — это хотеть». Итак, бодрствующее активное сознание характеризуется собранностью, волевой напряженностью; это, прежде всего, сознание, заинтересованное в своем воздействии на реальность.
В согласии с этим положением, Бергсон, — в своем курсе «О личности», — классифицировал «болезни личности» как различные степени ослабления этой заинтересованности. Заболевание личности вызывается, значит, уменьшением ее активного соприкосновения с реальностью. Личность, в большей или меньшей степени, возвращается к тому примитивному состоянию, представление о котором дает нам сон, мечтательное рассеяние и психическая жизнь ребенка. (Теперь принято обозначать это состояние модным термином Блейлера: аутизм).
Таковы мысли давно уже, и с большой ясностью высказанные Бергсоном.
Поэтому аналогичная попытка Кречмера (1921) менее всего должна бы поразить французских психологов и психиатров. Однако, именно классификация Кречмера и его неуклюжая терминология пленили почему-то нескольких передовых французских психологов, группирующихся вокруг Evolution Psychiatrique (об этом интересном органе мне уже приходилось говорить на страницах «Звена»).
Кречмер усматривает два предельных психологических типа: это — синтоны и схизоиды.
Первые — приспособлены к внешнему миру; их чувства, идеи, реакции адекватны действительности, согласованы с нею.
Вторые, наоборот, живут в постоянном противоречии и несогласии с реальностью или просто безразличны к ней. Они создают себе мир, всецело подвластный их произволу, и замыкаются в нем.
Между этими крайними пределами располагаются все психические разновидности — от «человека действия» и просто «среднего человека» до маниака, до мечтателя, окончательно оторвавшегося от действительности.
Болезненный уклон к аутизму, характеризующий схизоидов, проф. Клод (французский продолжатель Кречмера) называет схизоманией.
Два ученика проф. Клода — Борель и Робэн — посвятили свою недавнюю работу[50] изучению типа «мечтателя» — этого наиболее распространенного вида схизоида.
Между нормальным рассеянием здорового человека и болезненной мечтательностью схизомана нет собственно качественного различия. Различие здесь скорее в степени. Всякому свойственна мечтательность как естественный отдых: это временное ослабление сознательного контроля, позволяющее впечатлениям свободно выплывать из подсознания. Далее, личность может находить удовольствие в этой свободной игре образов и впечатлений, любоваться ими, давать им волю. Наконец, человек может уже сознательно и страстно сосредоточиться на этом зрелище; он начинает связывать и комбинировать мелькающие образы, согласно своим затаенным желаниям. Он уже ищет в них иллюзорной компенсации за разочарования и неудачи своей действительной жизни. Мечтательность становится привычным и излюбленным состоянием. Изо дня в день обогащается и растет связный и яркий мираж, покорный воле мечтателя. Здесь можно укрыться от жизни, забыв ее.
Итак, мечтательность болезненна не сама по себе, но лишь поскольку она стремится заменить для схизоида реальность. Именно отрыв от реальности и делает мечтателя схизоманом. С этой точки зрения классифицируют мечтателей Борель и Робэн.
Но здесь необходимо сделать несколько существенных различений.
Отрыв от реальности может быть иногда лишь видимостью. Так, активное сосредоточение воли и мысли на какой-нибудь существенной стороне реальности может создать иллюзию ухода от нее: таково пренебрежение мыслителя или человека действия ко всему, что не касается его основного задания. Но это не аутизм, это прямая противоположность аутизма. Далее, аутизм может быть нормальным и необходимым. Таков, прежде всего, нормальный сон — этот целительный, вседневный «уход от реальности». Таков и аутизм ребенка: психическая жизнь его еще пребывает в состоянии первоначального рассеяния, элементы ее еще не координированы, не соподчинены друг другу иерархически. Но ребенок не «оторван от реальности», он просто еще не окреп до отчетливого разграничения действительного и воображаемого миров. Все это позволяет нам яснее выделить тип мечтателя-схизоида. Но и в пределах этого типа можно усмотреть ряд степеней и переходов.
Во-первых, должен быть выделен тип схизоида-художника (нередкий среди «романтиков»). Такой художник создает свой внутренний мир ценою отрыва от действительности: — и в этом смысле он безусловно схизоид. Но закрепляя этот воображаемый мир в формах искусства, он тем самым возвращает его на службу реальности. Он приходит к реальности окольным путем иллюзии и, поскольку, преодолевает свою схизоманию (если и не в плане личном, то — объективно, в действии).
Во-вторых. Существуют мечтатели, для которых воображаемый мир вовсе не предлог ухода от жизни. Иллюзия для них только усложняет и расцвечивает действительность, как бы обволакивает ее сухие контуры. Иллюзия для них — возбудитель активности и отправной пункт действия. Среди них есть питомцы психиатрических клиник и есть просто болтуны и мифоманы; к ним принадлежат и Тартарэн, и Дон-Кихот…
В-третьих. Люди, которым повышенный аутизм мешает жить и действовать. Но они страстно любят реальность и безнадежно тяготеют к ней. Они обречены на мучительную раздвоенность и неспособны до конца уйти ни в мечтательность, ни в реальную жизнь. Это то, что Жанэ называет психостенией.
Наконец, в-четвертых, мы находим чистый тип мечтателей-схизоидов. Они медленно и любовно создавали себе воображаемый мир, чтобы до конца уйти в него. Они не знают мучительной раздвоенности психостеников. Они пассивны не потому, что не могут, но потому что не хотят действовать. Они прямо замкнулись в безысходном аутизме и, по-своему, они счастливы.
Очень любопытный клинический случай этого последнего типа мы находим в поверхностной, но занимательной книге Робэна и Бореле.
Эмансипация психологии
Еще сравнительно недавно могло показаться, что психология окончательно отделилась, наконец, от философии и стала частной наукой среди других наук. При университетах спешно организовывались психологические лаборатории; немецкие трактаты запестрели чертежами, интегралами и математическими выкладками. Казалось, что преподавание психологии лишь по старой привычке еще остается в руках философов; и уже намечался новый тип психолога-специалиста, ограниченного и философски-невежественного, как и подобает представителю «положительной науки».
Разрыв психологии и философии оказался обоюдным. С эмпирической наукой, изучающей «законы психической жизни», у философии не было и не могло быть ничего общего. Наметилась коренная, принципиальная противоположность методов и заданий обеих наук: окончательный разрыв был необходим в интересах той и другой. И этот разрыв был завершен и неоспоримо обоснован в гениальных «Логических исследованиях» Гуссерля.
Первый том «Логических исследований» был роковой, определяющей книгой для русской философской молодежи (да и не только молодежи) предвоенных лет. В философском семинарии Петербургского Университета все мы только и делали, что исступленно «искореняли психологизм».
Призрак «психологизма» преследовал нас повсюду. Мы уличали в психологизме друг друга и самих себя. Гуссерль в этих преувеличениях, конечно, не виновен: редко кто из нас преодолел бесконечно сложный второй том «Исследований» и добрался до «феноменологии». Еще менее повинен Гуссерль в том, что вся история философии виделась нам окончательно «очищенной», высушенной и препарированной в духе самого радикального неокантианства (Платона мы воспринимали сквозь призму Наторпа и если читали Лейбница, то уж, конечно, «по Кассиреру»).
Как водится, москвичи оказались еще радикальнее. И кончилось тем, что Н.Яковенко изобличил в злостном психологизме… самого Гуссерля. Это было не вполне вразумительно, но зато крайне эффектно и, главное, — дальше идти было некуда.
Не случайно, однако, Яковенко обвинил Гуссерля в психологизме. Разрыв, на котором настаивал этот философ, относится не к психологии как таковой, но к тому течению психологии (уже давнему), которое завершилось математическими формулами, мудреными графиками и психологическими лабораториями. В лице Гуссерля философия раз и навсегда порвала с той психологией, которая ищет законов психологической жизни и утверждает значимость этих законов в пределах философии (в частности — логики). Но сам же Гуссерль показал возможность и необходимость предварительной конкретной дисциплины, из которой должно исходить всякое философское умозрение. Назовем ли мы эту дисциплину, вместе с Гуссерлем, феноменологией или сохраним для нее исконное название психологии (которую она должна завершать) — это вопрос второстепенный. Существенно, что непсихологические моменты познания погружены в стихию психического, и что именно здесь должен усмотреть их философ. Так по-новому утверждается неразрывная связь психологии с философией.
Французская философская мысль никогда не ставила проблему психологизма (перенесения психологической закономерности в область непсихического). Самые исследования Гуссерля прошли для Франции совершенно незамеченными. Это отчасти понятно. Французская психология никогда не страдала преувеличенным стремлением к «психологическим законам». Положение Бергсона — закон применим лишь к материи, в области жизни должно искать форм и типов — отвечает давней бессознательной тенденции. Недаром значительнейшие достижения Франции — не в «научной», но в конкретной психологии (от Монтеня до Пруста). В области собственно-научной, медленно и спокойно совершился переход от рационализма Ренувье и ассоционизма Тэна, через смягченный и умеренный ассоционизм Рибо, — к современной психологии, которая не столько ищет исчерпывающих законов, сколько устанавливает и группирует факты и типические формы душевной жизни. Влияние Бергсона, установившего своеобразие «психического» (несводимость его к формуле и закону), — было и определяющим, и благотворным.
Передо мною двухтомный «Traité de Psychologie», изданный под редакцией проф. Дюма и содержащий работы 25 виднейших французских психологов. Этот капитальный труд (около 2500 страниц) является итогом и систематической сводкой всех существенных достижений современной французской психологии. Имена Блонделя, Делакруа, Дега, Жане, Клапареда, Лаланда, Рея…; отчетливость и сгущенность изложения; наконец, библиография, исключительная по своей полноте; — все это делает «Трактат» книгой совершенно незаменимой. Уже приведенные имена достаточно свидетельствуют о том, насколько разнообразные тенденции нашли себе здесь выражение. Но при всем разнообразии есть и общие черты. Это, во-первых, некоторый консерватизм и сдержанность по отношению к иным модным течениям (осторожность во многом оправданная). Далее, для всех авторов психология прежде всего наука опытная (experimentale, но отнюдь не в смысле германо-американском); не опираясь ни на какие философские предпосылки, она и не предрешает никаких философских выводов. Наконец, согласно с указанной особенностью французской психологии, здесь преобладает стремление строить не абстрактную механику, но конкретную и гибкую морфологию душевной жизни.
Отказ от изучения психического бытия more geometrico[51], с одной стороны, отказ от того, чтобы быть непременно «философской психологией», — с другой, — таковы две основные черты современной психологии и французской психологии прежде всего. Но именно благодаря этому отказу психология обретает свой подлинно философский смысл: она раскрывает перед философией «плодотворные низины» психологического опыта. Ведь только через истолкование уже непсихологическое — возможно философское умозрение: Дельфийское изречение все еще остается в силе!
Вера и знание
Пресловутое противопоставление веры и знания возможно только тогда, когда знание, оторвавшись от целостного духовного опыта, сделалось отвлеченным знанием, а вера, не просвеченная логосом, стала слепо-эмоциональной и темной. Не вера противопоставляется знанию, но лишь умаленная вера — умаленному знанию.
Западная религиозная мысль исходит из этой умаленности, из этого разделения как из факта уже непоправимо совершившегося. Поэтому, противоречие веры и знания преодолевается здесь через их мудрое разграничение, а соотношение обоих начал мыслится как их согласованность — через координацию или субординацию.
Восточное же богословие, в согласии с основным устремлением греческой мудрости, просто не воспринимало веру и знание как два начала, раздельные и разнородные. Поэтому, ему незачем было искать их согласования. Душе дано живое единство целостного религиозного гносиса, в котором вера и знание могут быть различены лишь условно. В этом смысле, восточное богословие — все равно ортодоксальное или еретическое — глубоко гностично.
Русская религиозная мысль, причастная — через культ — духу восточного богословия, всегда была отмечена гностическим дерзновением; она не могла и не хотела стать умаленным, теоретическим познанием сущего. Но, вместо того, чтобы непосредственно — сквозь полтора тысячелетия — связать себя с родственной традицией эллино-христианского богопознания, она искала осознать и закрепить себя в чуждых ей формах западной философии, — ломая их, умаляя себя…
Так, не имея силы дорасти до подлинного гносиса и не желая стать просто отвлеченным знанием, она оказалась не то дурной, неопрятной философией, не то трусливым гносисом.
В частности, губительно было для русской мысли — от Хомякова до Вл. Соловьева — влияние германского романтического идеализма. Так, Вл. Соловьев — добросовестный ученик германских идеалистов — все время оттеснял на второй план подлинного Вл. Соловьева-гностика. (Вот почему можно любить Соловьева не за его философию, но как бы сквозь эту философию, порою — наперекор ей). Явление это крайне показательно для русской мысли. Но не менее показательно (особенно в наши дни) другое, противоположное явление: слепое, неоправданное дерзновение, отталкивание от узкой, но по-своему правомерной, западной традиции, — и срыв в бессвязность, в логическую нечленораздельность.
Любопытный пример этого последнего явления — недавняя книга проф. Карсавина[52].
Исследователь внимательный и осторожный, автор двух значительных работ по истории средневековой религиозности, проф. Карсавин, за последние годы, по-видимому, решительно отказался от истории ради религиозной философии. И об этом можно только пожалеть, особенно после выхода его последней книги.
«О началах» — первая часть задуманного автором «Опыта христианской метафизики». Философ ищет целостного богопознания, «где разум и духовный опыт должны друг друга пронизывать»; он решительно отметает скудные подразделения и категории, созданные западной мыслью, и ищет прямого соприкосновения с древней гностической традицией; наконец, он твердо сознает лежащий на нем «долг правдивости и труда, т. е. обязанность выразить испытываемое рационально». Но книгу эту, напряженную и бессвязную, невозможно читать без чувства какого-то почти физического недомогания. Здесь закреплено какое-то очень существенное стремление, которое не может не волновать. Но закреплено оно как-то случайно, до времени, наспех. Безвкусие никогда не бывает только внешним, оно всегда — показатель какой-то глубинной, душевной нечистоты. Захлебывающееся многословие, неряшливость стиля и мысли, невоздержанность в образах — нигде не могут быть оправданы, и менее всего — в религиозном познании, где первое, неустранимое требование — это строгость и чистота.
Проф. Карсавин принадлежит, по-видимому, к тем мыслителям, для которых отказаться от скудной и честной трезвости, — значит потерять единственную опору…
Но если книга Карсавина — опыт беспомощный и ненужный, то правомерность самого задания остается в полной силе.
В духовной истории человечества все значительное было создано не теми, кто сознавал себя продолжателями наличной традиции или зачинателями новой, но теми, кто умел связать себя с забытой, утерянной традицией прошлого, минуя, отвергая ближайшее (и это «ближайшее» может насчитывать тысячелетия).
«Всякое подлинное творчество сознает себя не как начало или продолжение, но как возрождение» — так может быть формулирован этот существенный закон. Ритм духовной истории человечества — ритм последовательных возрождений.
Мережковский и история
«Когда в самые черные дни большевистского ужаса, в декабре 1918 г., в нетопленных залах петербуржской публичной библиотеки, где замерзали чернила в чернильницах, я просматривал египетские рисунки…, я ничего не понял бы в них, если бы тут же, рядом со мной, не совершался «Апокалипсис наших дней».
Так, через напряженное изживание современности, раскрылся Мережковскому его Египет — «Бесконечная древность и новизна бесконечная».
Таков всегдашний путь Мережковского: прорасти корнями из настоящего, через настоящее — в былое. Все его творчество — медленное прорастание в глубинные и плодоносные пласты Истории: Россия Александра, Павла, Петра; Италия Леонардо; эпоха Апостата; теперь — Эгейская культура, и далее — Египет, Вавилон…[53]
Для него познание прошлого — реальное общение в духе и лестница посвящений.
Можно «уходить в прошлое», укрываться в нем от настоящего и грядущего; можно через историю искать болезненно-щекочущего ощущения повторяемости — «все это уже было, все повторяется»; наконец, можно скопчески-бесстрастно реконструировать, осмысливать и отвлеченно познавать былое.
По слову Вяч. Иванова, «омертвелая память, утерявшая свою инициативность, не приобщает к посвящениям отцов… Дух не говорит больше с декадентом через своих прежних возвестителей, говорит с ним только душа эпох».
Эти «декаденты» — сентиментальные или учено-трезвые фетишисты былого — конечно, увидят в книгах Мережковского лишь ряд произвольных, необоснованных догадок и неточностей.
«Рождение Богов» и «Тайна трех» — написаны не для них.
Но, в самом деле, Египет Мережковского — есть ли это реально бывший Египет, а его Крит — исторический Крит? Наконец, самое понимание истории как «всемирной мистерии-мифа о страдающем Боге» — может ли оно быть оправдано и обосновано? Или все это — «der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln»[54] — как глумился Фауст?
Более того, все живые приобщения к прошлому — не призрачны ли они? Так: античность Возрождения, античность Гете-Винкельмана, античность Ницше — все эти концепции последовательно, одна за другой, изобличили свою историческую несостоятельность и свою творческую плодотворность и правоту.
Как понять эту двойственность?
Всякое осознание былого (равно в плане личном и историческом) роковым образом неадекватно. Есть какая-то коренная недоступность и невыразимость того, что раз совершилось и отошло в прошлое. Память, как Дельфийский Бог, «не скрывает, не открывает, но лишь знаменует». Поэтому, воссоздание прошлого — не обманчиво, конечно, — а символично, условно, по своей природе. Но через символ, через миф, осуществляется реальное прикосновение к живой плоти былого, реально приемлется какая-то сила.
Вот почему подлинное творчество всегда сознает себя как возрождение древней, исконной традиции и кристаллизуется в мифе.
Таково и творчество Мережковского.
В основном и существенном Мережковский тот же, каким мы знали и любили его когда-то. Но корни его творчества еще глубже ушли в былое, руководящие мотивы по-новому усложнились, соприкоснувшись с новыми средами.
Было бы ненужным и праздным делом спешно выделять из живого многообразия его книг — их схему, их идейный остов. Быть может, главное обаяние Мережковского последних лет — именно в живом нарастании, переплетении, скрещивании многообразных мотивов и тенденций, по законам какого-то, ему одному свойственного, контрапункта.
Ф. Ф. Зелинский
«Association Guillaume Bude», заслуги которой перед французским эллинизмом неизмеримы, подарила нас еще одной прекрасной книгой: это французский перевод «Древнегреческой религии» проф. Ф.Ф.Зелинского[55].
Эта небольшая книга, исполненная ясности и простоты, — одна из тех немногих книг, которые способны равно волновать и знатока-эллиниста и читателя, не посвященного в царственное «искусство медленного чтения» — филологию.
Здесь не упрощенность, не популяризация, но та высокая простота, которую может дать лишь органическая близость, подлинное приобщение к предмету. «С детства стремился я сродниться с народами древности, жить их жизнью, проникнуть в их веру: теперь, после пятидесяти лет этого общения, я хочу рассказать, в чем состояла их религия, рассказать просто, как если бы я был одним из них… Эта книга не продукт чистой эрудиции, но — я позволю себе это утверждать — дело жизни и веры».
Многообразны пути, ведущие к живому соприкосновению с античностью. И всякое такое соприкосновение — в плане ли личном или историческом — обогащает безмерно.
Человечество не раз жадно искало этого оплодотворяющего общения в духе, находя его то в греческой философии, то в искусстве. Но одна — и самая существенная — область античного духа до сих пор оставалась для нас недоступной: это религия. А между тем именно из религии, как из некоего центрального очага, исходят все те отдельные лучи, которыми до сих пор светит нам античность.
За философским и эстетическим усвоением нашего древнего наследия нам предстоит религиозное его усвоение: пламенное, напряженное вживание в эллинскую религию. За первым и вторым возрождением должно последовать третье, за романским и германским — славянское…
Величайший из эллинистов наших дней, автор многочисленных исследований, ставших классическими, Ф. Ф. Зелинский — не только ученый.
Он прежде всего — провозвестник и сподвижник грядущего «Третьего возрождения».
Славянское возрождение… Еще недавно, оно казалось таким близким. Теперь все, чего мы ждали тогда, как будто вновь отодвинулось куда-то вдаль. Или, может быть, то, что произошло, только по-новому утвердило и оправдало наши былые надежды? Может быть, нужно было, чтобы чудовищный сдвиг вдруг обнажил перед нами глубочайшие, забытые пласты бытия; чтобы страшная «мудрость Силена» стала нашею мудростью: «мудрость Силена» — корень трагического познания и радостного приятия Рока.
Может быть, именно теперь, когда мировая история вдруг просквозила улыбкою Мойры, мы почувствуем в себе силу, чтобы целостно понять и принять наше исконное, родное, древнее наследие — религию Эллинства.
«Древнегреческая религия» Ф. Ф. Зелинского — подлинно «дело жизни и веры». Наряду с другими его книгами, обращенными к широкому кругу читателей (4 книги статей, «История эллинской культуры», «Религия Эллинизма»), ей суждено будет сыграть определяющую роль в подготовке нового возрождения.
Но самый драгоценный дар Ф.Ф.Зелинского славянскому возрождению и русской культуре — это его перевод Софокла, снабженный совершенно исключительными вводными статьями: труд, равного которому не имеет ни одна из европейских литератур. (Вообще нам выпало на долю редкое счастье: три трагика переведены на русский язык тремя родственными им по духу поэтами-эллинистами: Софокл Зелинского, Еврипид Анненского и Эсхил Вяч. Иванова, — увы, до сих пор не увидевший света).
Но влияние Ф.Ф.Зелинского не исчерпывается его книгами. Он воспитал не одно поколение петербургских эллинистов.
И те, кому приходилось работать под его руководством, навсегда сохранят о нем память как об «учителе», в подлинном и глубоком смысле этого слова.
И эта плодотворная деятельность продолжается ныне в стенах Варшавского университета во имя все того же грядущего Возрождения.
Константин Леонтьев
Появление прекрасной книги Н. А. Бердяева о К. Леонтьеве[56] — в высокой степени своевременно. Я не знаю мыслителя более «современного», более насущно-нужного нам теперь, чем Константин Леонтьев.
Леонтьев, — старший современник Ницше (о котором он и не знал), — сумел по-своему дорасти до того «трагического постижения жизни», которое — впервые после двухтысячелетнего забвения — раскрыл нам энгадинский отшельник.
Человек поверхностной, неглубокой культуры (медик по образованию), Леонтьев первый до конца уяснил себе страшный смысл «вторичного уравнительного смешения», овладевшего Европой с 18-го века. То, что мы начинаем понимать лишь теперь, после всего, что произошло, — Леонтьев уже более полувека тому назад знал осязательно — до боли, до конкретного предвидения.
Бердяев — человек определенной доктрины, в Леонтьеве он ищет ответа на свои, определенные вопросы. И это, конечно, единственно правомерный подход. (Так называемая «объективность» есть лишь благовидный способ ничего не видеть и ничего не понимать).
Однако можно прийти к Леонтьеву совсем иным путем, искать и любить в нем совсем иное, и все-таки книга Бердяева сохранит всю свою ценность.
В ней есть нечто иное и лучшее, чем мертвая объективность: живое, любовно-требовательное общение с мыслителем.
Основной пафос Леонтьева — это страстное утверждение жизни со всеми ее противоречиями и противоположностями.
Он понял, что жизнь, в самом своем существе, есть непримиримость и борьба, — и потому не может, не должна быть оправдана или осмыслена, но лишь трагически принята и утверждена.
Леонтьев знал, что власть единой истины, единой нравственной нормы в условиях земного «феноменального» бытия — есть, в каком-то смысле, подмена и кощунство. «Единой правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть; при человеческой правде люди забудут божественную истину».
Например, Леонтьев утверждает одинаковую правоту Антигоны и Креонта: именно в непримиримом утверждении двух противоположных правд, в их борьбе, в неизбежной катастрофе осуществляется высшая истина; согласие, примирение, торжество одной правды — было бы подменой и ложью.
«Верно только одно, — одно точно, одно несомненно, — что все здание должно погибнуть!»
Таков корень пресловутого леонтьевского «эстетизма»: это древняя «мудрость Силена», мудрость античной трагедии —
И как непосредственный вывод из этой мудрости Силена — радостное приятие жизни со всей ее трагической безысходностью:
«Я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непремиримыми навек, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным и мистически неразгаданным».
Леонтьевская концепция жизни — не плоский «эстетизм», но то, что Ницше назвал «amor fati»[58].
Когда Леонтьев говорит: «нет ничего безусловно нравственного, все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле», то это может показаться элементарным аморализмом эстетического пошиба. Но это не так: мы видели трагическую основу этого «эстетизма».
Поверхностная эстетическая окраска здесь вполне естественна. Эстетика — единственная область, где еще не восторжествовала абсолютная, всеисключающая оценка. Поэтому часто принимает эстетический оттенок та мораль, которая отвергает единую и абсолютную норму как кощунственную попытку выдать (по терминологии Леонтьева) «земную правду» (неизбежно условную, множественную) за «божественную истину» (единую и всеисключающую).
Леонтьев отвергает поддельное единство «абсолютной морали». Его мораль — мораль страстного и трагического изживания неискоренимых противоречий «феноменального» бытия.
Так становится понятным отвращение Леонтьева ко всякой попытке поверхностно примирить и сгладить извечные противоречия, его ненависть к смешению, упрощению, оптимизму — в плане моральном и в плане истории. Здесь основа его замечательной «философии культуры».
Его отношение к культуре и истории, это: «мужественное смирение, которое говорит: колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония». В истории, как и в личной жизни, возможно лишь одно осуществление «божественной истины»: напряженное, трагическое изживание неискоренимых противоречий. А это возможно только, когда история «богата и разнообразна борьбою сил божественных с силами страстно-эстетическими». История живет «разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском унисоне».
Отсюда учение о «трех периодах» в развитии всякой культуры: 1) «первичной простоты», 2) «цветущей сложности» и 3) «вторичного, смесительного упрощения».
Леонтьев явственно видел, что Европа с 18-го века решительно вступила в период разложения, «смесительного, уравнивающего упрощения»; он мечтал противопоставить Европе крепкую своим византизмом Россию. Но сам он вскоре понял всю тщетность своих надежд.
«Русское общество… помчится еще быстрее всякого другого по смертоносному пути всесмешения».
Так писал Леонтьев за тридцать пять лет до наших дней. Но я не могу подробнее остановиться здесь на этой «философии культуры», исключительной по глубине и оригинальности. О ней читатель найдет ряд прекрасных страниц в книге Н. Бердяева.
Шпенглер и Франция
1
Передо мною только что вышедшая книга проф. Фоконнэ «Oswald Spengler (le prophete du Declin de l'Occident)».
Если не считать двух-трех мало интересных журнальных статей, — это первая французская работа о Шпенглере. Надо отдать справедливость проф. Фоконнэ: эта небольшая книга написана с редкой отчетливостью и полнотой и с еще более редким беспристрастием к тому мыслителю, которого до сих пор во Франции знали (понаслышке, конечно) лишь как «un pangermaniste assez pueril et brutal»[59] (E. Vermeil).
Мало того, Фоконнэ удалось даже осветить по-новому один существенный момент в развитии шпенглеровской концепции, а именно: он очень убедительно вскрывает все основные черты этой концепции уже в юношеской, малоизвестной работе Шпенглера о Гераклите (факт, насколько мне известно, в шпенглерианской литературе должным образом еще не отмеченный).
Но не о книге Фоконнэ и не о самом Шпенглере хочу я говорить. Меня интересует здесь явление гораздо более общего порядка.
Чем объяснить, что признанный (по праву или нет — это другой вопрос) «властитель дум» современной Европы, мыслитель, пытающийся разрешать самые насущные вопросы нашей культуры, автор книги, вызвавшей целую литературу, — что этот мыслитель до сих пор остался совершенно неизвестным и чуждым во Франции?
Только ли пресловутый «пангерманизм» и «прусская идеология» тому причиной?
На первый взгляд кажется совершенно непонятной какая-то странная неосведомленность Франции в чужих идеях. Это даже не простая неосведомленность, но какое-то упрямое нежелание видеть и знать, прямой отказ считаться с тем, что в данный момент волнует всю остальную Европу.
Чужие идеи проникают во Францию всегда с запозданием, в тот момент, когда они уже потеряли всю остроту у себя на родине. Воспринимаются они обыкновенно в форме крайне упрощенной, производят короткий, поверхностный «шум» и, не оказав никакого существенного воздействия, вскоре забываются. Это происходит и с великим и с малым: от Ницше до недавно «открытого» здесь Фрейда. Имя Гуссерля во Франции только что узнали из недавней статьи Л. И. Шестова в «Revue Philosophique», Макса Шелера до сих пор никто не знает, а о Шпенглере что-то слышали смутно, как о вредном пангерманисте…
Словом, интеллектуальные моды Европы Франция считает для себя необязательными.
Повторяю, это совсем не простая «неосведомленность». В этой «труднопроницаемости» французской культуры, в этом нежелании и неумении ассимилировать даже самые значительные, но слишком общие, чужие, извне пришедшие идеи, есть какая-то инстинктивная, мудрая осторожность, подсказанная чувством духовного самосохранения. Это совершенная противоположность той неразборчивой жадности ко всему чужому, новому, огромному, потрясающему, которая характеризует Германию.
Конечно, Германия самая «осведомленная» и незамкнутая из современных европейских культур. Но она купила это ценою полной, внешней и внутренней, бесстильности; это было возможно для нее лишь благодаря полному отсутствию вкуса, отбора, концентрации. В наши дни широта — «планетарный масштаб» духовной жизни — неизбежно приводит к бесстильности и сумбуру. Пока у Европы нет единой истины, — невозможен и единый духовный общеевропейский стиль. Возможна лишь общеевропейская бесстильность, разнуздание духа. Поэтому, в условиях современности, должно быть до конца оправдано мудрое оберегание своих границ, своей замкнутости, своего частичного, «провинциального» единства — хотя бы ценою слепоты к чужому.
Франция, несмотря ни на что, все еще не захотела зажить «в планетарном масштабе»; Франция сумела остаться, — в существенном и основном — пленительно провинциальной. И в этом ее ни с чем не сравнимое обаяние.
Но надолго ли?..
И еще: во Франции не до конца восторжествовал современный чисто количественный критерий величия (безраздельно, хотя совсем по-разному, царящий в Германии и Америке). Здесь еще жив наш исконно европейский, эллинский, качественный критерий. Вот почему французской культуре еще чуждо варварское преклонение перед грандиозным, обоготворение огромного в пространственном или временном смысле. (Есть, конечно, разительные исключения, напр., Гюго, но я говорю лишь о существенной тенденции).
А Шпенглер как раз наиболее резкий и последовательный выразитель именно такой концепции величия. Пафос грандиозного — вот основной пафос его книг, делающий их неотразимыми для современников. «Жажда безмерного» — в этом, по Шпенглеру, и заключается сущность новой «фаустовской» души Европы. Не метод, конечно, и даже не содержание его доктрины пленяет нас прежде всего, но именно беспримерный размах его философствованья. Грандиозный масштаб, головокружительные перспективы, игра тысячелетиями, культурами, народами, символами…
«Забава для варваров и рабов», — сказал бы эллин. Недаром Шпенглер ненавидит Элладу какой-то тупой, прусской, «фаустовской» (в его смысле) ненавистью.
Будем надеяться, что не случайно Шпенглер до сих пор оставался (а, Бог даст, и вперед останется) чуждым и непонятным для Франции.
«Обращение» Жана Кокто
Около года тому назад мне уже приходилось говорить о Жаке Маритене по поводу его книги «Три реформатора». Мне казалось тогда, что многого можно ожидать от того движения католической мысли, во главе которого стоит Маритен.
«Недостойнейший и самый поздний из учеников Аквината» — как он сам себя называет — Маритен в своих предшествовавших книгах (из коих особенно примечательны «Reflexions sur l'intelligence») пытался показать неувядающую юность и жизненность системы Ангелического Доктора, ее способность осмыслить все основные и самые острые проблемы нашей культуры и философии. Уже тогда было ясно, что центр тяжести лежит для Маритена в плоскости строго теоретической: учение его отмечено было доброй долей философски беспомощной, но жизненно-драгоценной наивности и мужественной прямоты.
И в самом деле, то, что в предыдущих книгах было лишь неловкостью теоретика, в «Трех реформаторах» оказалось силой обличителя и борца. Здесь Маритен с великолепной непримиримостью вскрывает основные виды лжи, владеющие сознанием новой Европы; здесь он достойный ученик Леона Блуа, но ученик — твердо и сознательно опирающийся на строго определенные и глубоко заложенные в веках теоретические основания томизма.
Как бы ни относиться к Маритену «Трех реформаторов», но нельзя не признать, что здесь он был до конца последователен, прям и чужд дряблого соглашательства.
«Мне пришлось начать со спора, но он все более тяготит меня, — жалуется теперь Маритен. — Так мало любви в мире». Это из его недавней переписки с Кокто, по поводу «обращения» последнего. Маритена-обличителя сменил Маритен, благословляющий современность, всю современность, до русской революции и сюрреалистов включительно. Он хочет теперь, созерцая наше время, «не разделять, но принимать и воссоединять». Переписка обнародована в назидание современникам, и дуновение благодати проникло во все литературно-увеселительные места. «Господь щедр, — трогательно радуется философ, — благодать его взрывается, как граната, и разом поражает несколько жертв… Два крещения, вскоре еще удвоившихся, одно обнаружившееся призвание к священнослужению и еще другие проявления благодати — последовали за вашею встречей с Иисусом».
Что же собственно произошло? С Кокто, героем всей этой истории, — ничего особенного: перед нами еще одна остроумно дерзкая проделка, еще одна — и, вероятно, не последняя — метаморфоза литературного фокусника. Мы уже видели модернизированную «Антигону без патины», «Антигону», приправленную пикантным соусом эстетического жеманства. Теперь перед нами модернизированное «католичество без патины», с большим искусством приспособленное ad usum[60] молодых людей со старчески-женственными ужимками.
«Письмо к Маритену» — очень забавно. Здесь Кокто, как всегда, — талантливый эквилибрист, то пленительный, то отталкивающий: несколько анекдотов, несколько пряных двусмысленностей, несколько парадоксов; рассуждения об опиуме и литературе, о Боге и о себе самом… Мы узнаем, что Кокто «крестьянин неба» и «ребенок», что он хочет «реформировать душу», как реформировал недавно музыку, что «Петух и арлекин» был «книгою любви», и еще многое другое. Мы узнаем наконец следующее:
«Священник поразил меня совершенно так же, как Стравинский и Пикассо… Но Пикассо и Стравинский умеют покрывать бумагу божественными знаками, а chef d'oeuvre, который представил мне священник, это — гостия».
Это Кокто рассказывает о своем «обращении»… Повторяю, с Кокто ничего собственно не произошло. И кроме того: Кокто ведь безответственен. Но Маритен — Jacques de Jean de Gaetan de Dominique de Raginald de Saint Thomas, как он себя именует, — ведь он-то, казалось бы, ответственен за свои высказывания полностью и до конца.
«Ваш Ангел Хранитель никогда не покидал своего места и каждое утро заносил ваше имя в свое поминанье», — умиленно восклицает Маритен в ответ на все эти ужимки и анекдоты. И, ни на минуту не покидая тона теологического благолепия, он выспренно комментирует и торжественно приветствует все капризно брошенные утверждения Кокто.
Оказывается, например, что поэзия автора «Потомака» «в аналогиях и загадках, образах и ребусах» постигает сущность ангельской природы, которая ему, Маритену, раскрыта была «Трактатом об ангелах» Св. Фомы.
В конце концов (во избежание весьма естественного недоразумения) Маритену пришлось даже оговориться, что он вовсе не хочет отожествлять свою и Св. Фомы философию с поэзией Кокто и обратно. Еще недавно неумолимый обличитель Декарта, наш философ столь далеко заходит в своем стремлении «примирять» и «воссоединять рассеянное повсюду наследие мудрости», что всякий литературный скандал кажется ему — вслед за Кокто — посильным благочестивым воспроизведением в миру того «скандала для иудеев и безумия для эллинов», о котором говорит апостол.
Вкусы Маритена модернизировались, он с презрением говорит о «греко-романских прелестях немного жирной музы» и сочувственно «признает»… сюрреалистов, которых, для благолепия, иносказательно именует: «Les amis de Lotreamont».
Дело в том, что сюрреалисты «борются против первородного греха» (la poesie qui se débat contre le mensonge, contre le péché originel en fin de compte[61]).
Маритену открылось, «сколько божественной мудрости отражается в душе, привязанной к (этой и подобной) поэзии». «Правда, — говорит он, — поэзия не сделала их мудрыми, но она развязала им сердце… Они оказываются дивно предрасположенными к приятию благодати; я видел, как они пили с божественною жадностью, quasi modo geniti infantes[62], девственное млеко Церкви».
Сказанного достаточно для того, чтобы убедиться, сколь пикантно и утешительно это неожиданное превращение неотомизма.
Теперь, когда Кокто «очистил католичество от патины», а Маритен благословил эту реформу от имени Ангелического Доктора, — не сомневаюсь: «обращения» дивно приумножатся.
Вся эта история с «обращением» (причем остается неясным, кто кого собственно «обратил»: Маритен ли Кокто, Кокто ли Маритена?) — была бы лишь забавным литературным анекдотом. Но имя Маритена меняет дело.
Я не позволю себе судить, показательны ли утверждения философа для кого-нибудь, кроме него самого. Но сам он твердо и уверенно говорит от имени той силы, которая в наши дни оставалась единственной духовной силой среди жуткого кишения идей-ларв и раскрепощенных полуистин, среди трусливого соглашательства всех со всеми…
И это придает «литературному анекдоту» характер глубоко трагический.
Защитник язычества
В издательстве «Editions du siècle» выходит любопытная серия: «Mâitres de la pensée antichretienne».
Пока появился только «Цельс» Ружье и, совсем недавно, — «Ницше» Жюля де Готье. Но предполагаемый состав серии весьма обширен: сюда войдет, прежде всего, ряд монографий о представителях языческой оппозиции христианству (Порфирий и Неоплатонизм, Император Юлиан, Симмах, Либаний и др.). Этим задача, однако, не ограничивается: намечены, в числе прочих, книги о Спинозе, Вольтере, Гольбахе. Наконец, серию должен завершить такой «maitre» антихристианской мысли, как… Реми де Гурмон. Словом, масштаб грандиозный. Не совсем понятно только, какое понятие «антихристианства» (кроме отрицательного, чисто словесного) способно включить в себя и мистику Порфирия, и трагический пафос Ницше и праздную болтовню Реми де Гурмона.
Книга Ружье, открывающая серию, в значительной степени рассеивает наши недоумения. В пространном введении Ружье — редактор серии — с полной определенностью вскрывает свои задания. Да и самая книга достаточно характерна, чтобы судить по ней о тоне и методе дальнейших работ.
Выясняется, прежде всего, что нам нечего ждать кропотливых исторических изысканий: задача издания — чисто боевая и в высшей степени «актуальная». Читателю хотят помочь «прийти в согласие с самим собой, признав себя назарейцем или эллином». Для этого спешно собираются обвинительные материалы против христианства (все равно какие, все равно где) и должным образом интерпретируются. Так становится понятной странная пестрота серии: читатель, которого не убедил Ницше, может не устоять перед Реми де Гурмоном — важен результат.
В частности, автору книги о Цельсе интересен вовсе не Цельс. Цельс (как, вероятно, и другие мыслители, которым предстоит фигурировать в серии) — только предлог, только маска, из-за которой самоуверенно подмигивает нам давний знакомец — флоберовский аптекарь, враг предрассудков и вольнодумец Омэ! Омэ благосклонно берет под свое покровительство язычество, «нечуждое здравых понятий». Омэ, для пользы дела, сам готов признать себя «эллином».
Правда, «эллинство» это — совсем особого рода. Конфликт христианства и язычества важен для Ружье прежде всего как борьба «трезвой рационалистической мысли» с «невежественными предрассудками религии». При этом возникают иногда серьезные затруднения, но Ружье-Омэ справляется с ними быстро и легко. Он просто заявляет, что не желает считаться с «грубыми суевериями народной религии и орфических сект» и принимает во внимание лишь «просвещенную философскую мысль». При этом Платон и Аристотель, в изображении Ружье, сами начинают напоминать провинциального аптекаря; а там, где эти мыслители уж слишком явно компрометируют себя «религиозными предрассудками», у Ружье всегда есть под рукой несколько ходячих формул стоиков или эпикурейцев, в которых, разумеется, с большею чистотой выразился дух эллинства. Например, надо показать, что идея первородного греха в корне несогласима с трезвой языческой мыслью. Но как раз эта идея с необычайной силой и чистотой наличествует в античном религиозном сознании и поступила в христианство лишь в умаленном и искаженном виде. Более того, можно даже сказать, что вся греческая философия исходит из этой идеи и фактически с нее начинает (Анаксимандр). Но Ружье крайне просто обходит это затруднение: достаточно показать несогласимость идеи первородного греха с воззрениями, например, Лукиана или Лукреция — и вопрос решен.
Но такого рода подстановки возможны лишь при очень общем рассмотрении конфликта язычества и христианства (которому посвящена первая половина книги). Переходя к Цельсу, Ружье поневоле оказывается связанным с текстом Цельса и его доводами против христианства. Здесь уже не приходится противопоставлять мистицизму христианства какую-то выдуманную «sagesse sans mystères de Piaton»[63]. И вот, что оказывается.
Ружье вынужден признать, что даже Цельс грешит отсталостью и мистицизмом и «компрометирует свое дело — стремление к научной мысли и к свободному проявлению разума, — связывая его с защитой обветшавших культов».
Правда, Ружье отдает должное «критическому методу» Цельса и с видимым удовольствием повторяет некоторые его соображения по поводу разных «противоречий» и «несообразностей» в Евангелиях. Эти соображения, «конечно, остаются в силе и для нашего времени». Ружье высказывает даже предположение, что «только тенденциозный характер выпадов христианских апологетов против политеизма побуждал философа взять его под свое покровительство». И все-таки верования Цельса очень его шокируют.
Цельс — трезвый римлянин; ему нечего было противопоставить скудному христианскому откровению, кроме своего рассудка и мертвого груза своей памяти. Но для нашего эллина-Омэ даже этот рассудительный полемист кажется слишком глубоко связанным с эллинской религиозностью. И Ружье неожиданно восклицает: «в одном христиане были правы — они изобличили безобразие мифологии и грубые суеверия языческого культа».
«Цельс, или конфликт античной цивилизации и раннего христианства» — таково официальное заглавие книги. Но повторяю, автора интересует, на самом деле, нечто совсем другое. «Исследование» пересыпано намеками или прямыми указаниями на современность. Всякая глава неизменно кончается нравоучением. Например: «сочувствовать христианским догмам, это и в наше время, еще более, чем в эпоху Цельса, — вступать в союз с бессмыслицей». Итак, перед нами не просто бездарная историческая работа (тогда о ней не стоило бы и говорить), но проповедь определенного типа антихристианства. Тип этот — крайне распространенный и всем известный. Вся пикантность здесь заключается только в том, что проповедь эта хочет выдать себя за апологию эллинства. Почему? Может быть, это отрицание малого и ущербленного религиозного опыта христианства во имя целостной мудрости язычества?
Мы видели, что нет. Пустое отрицание всякого религиозного опыта здесь лишь кощунственно пытается связать себя с подлинным антихристианством — с эллинством. Но подлинное антихристианство всегда религиозно. И если в самом скудном, самом темном христианском умилении все еще судорожно тлеет искра древнего, божественного огня, то в душах бесчисленных Омэ нашего времени — только тление и пустота. Поэтому всякий добрый язычник с отвращением отвернется от этих непрошеных защитников.
Пять идей
Макс Шелер работает в настоящее время над «Философской антропологией», которую определяет как «основополагающую науку о сущности человека». «Только такая антропология, — говорит он, — может послужить последним основанием для всех частных наук, имеющих предметом человека» (социальные науки, нормальная и эволюционная психология, характерология и т. д.).
Антропология Шелера откроет, по-видимому, новый период в развитии этого замечательного мыслителя. Шелер, надо полагать, окончательно отошел от того своеобразного и глубокого обоснования католичества, которое дало ему столько ревностных учеников и последователей. Ученики, как водится, восстанут теперь на учителя, дерзнувшего идти дальше, и будут цепко держаться за изжитую им доктрину. А сам учитель, какова его новая философская позиция? Об этом, в ожидании выхода «Антропологии», можно только догадываться.
Никаких положительных утверждений мы не находим в той части «Введения к «Антропологии», которая только что, в виде отдельной статьи, появилась в ноябрьском № «Neue Rundschau». Это лишь предварительный «типологический» анализ основных учений о человеке. Но анализ этот, сделанный рукою твердой и уверенной, сам по себе представляет большой интерес.
«За нашу, примерно десятитысячелетнюю, историю — это первая эпоха, когда человек окончательно и без остатка стал «проблематичным» для самого себя», — говорит Шелер. Противоречивые психологические, социологические и исторические концепции сталкиваются и переплетаются самым причудливым образом. Но если всмотреться, то становится ясно, что в основе всех этих столь многообразных высказываний лежит лишь несколько основных и коренным образом различных понятий о человеке. Вскрыть эти понятия, привести их к окончательной ясности, свести к немногим определяющим типам — такова задача, которую ставит себе Шелер. С такого типологического анализа должна начать антропология. вот, сквозь бесчисленные оттенки современных утверждений, Шелер различает пять основных и определяющих идей о человеке. Три из них являются общим достоянием, и мы невольно опираемся на одну из них всякий раз, как высказываем что-нибудь о человеке или истории. Две — гораздо более новые; они, может быть, уже давно «носятся в воздухе», но последовательно развиты лишь в новейшей, в частности немецкой, философии.
Каковы же эти пять идей-типов?
Первая идея — это иудейско-христианский миф о сотворенном человеке и смысле его бытия. Идея эта и, в частности, ее основные моменты — первородный грех, искупление, эсхатология — крайне живуча и часто явственно обнаруживает себя даже там, где о догматической вере не может быть и речи. Этой идее соответствует целый ряд концепций истории.
Вторая идея впервые «открыта» Платоном и Аристотелем и, по-существу неизменная, царит в философии до наших дней. Она стала общим достоянием и в обиходе получила даже опасный характер несомненности и неоспоримости. Это идея «homo sapiens». Ее основные черты:
1) человек единственный среди живых является носителем специфического фактора — разума, неразложимого и не сводимого на другие, низшие факторы.
2) основное свойство разума, непререкаемо за ним признанное, — способность познавать сущее как оно есть;
3) разум тождественен себе и неизменен в любую эпоху, в любом homo sapiens.
Лишь третье свойство (неизменность) было подвергнуто сомнению: Гегель приписал разуму, как таковому, становление во времени. В остальном идея «homo sapiens» осталась неизменной в самых противоположных доктринах.
Но способность разума познавать сущее как оно есть — эта способность, сознательно или бессознательно, коренится на одной предпосылке: богоподобие или богоданность разума (а в более исконной форме: торжество или подобие человеческого логоса мировому Логосу). Если устранить эту предпосылку, идея homo sapiens теряет всякий смысл.
Третья идея — натуралистическая, позитивистическая и, позднее, прагматическая. Она отрицает специфичность и неразложимость разума, видит в нем лишь продукт инстинктов и чувственных восприятий.
Определяющее начало в человеке это не разум (нечто вторичное, производное), но инстинкты. Инстинкты распадаются на три основные группы, и обыкновенно одной из этих групп придается первенствующее значение. Соответственно этому существует и три типа натуралистических концепций истории. Во-первых, теории экономические, напр., марксизм, для которого история — «борьба классов», «борьба за место у корыта» (инстинкт питания). Во-вторых, теория, истолковывающая историю прежде всего с точки зрения инстинкта размножения или одной из его форм (пример: Фрейд и его libido). В-третьих, — история sub specie «воли к власти» (уже Гоббс и Макиавелли, особенно — Ницше).
Шелер отмечает, что есть одна черта, неожиданно роднящая между собою все разнообразные натуралистические теории: это неизменная вера в разумную эволюцию, в высокую цель человеческого развития. И здесь обнаруживается странное сближение этих теорий с идеей «homo sapiens».
Четвертая идея — «страшная для западного чувствования и западного мышления». Вот в чем она заключается. Вся история человечества — непрерывный декаданс, самые истоки ее отравлены, ибо то, что делает человека человеком — его разум — есть болезнь. Человек — «животное, заболевшее разумом» и потому — «животное обреченное на вымирание. Подлинные жизненные силы он подменил жалкими суррогатами (— язык, понятия и, вообще, все материальные и духовные ценности культуры). Ради этих призрачных «ценностей» он изменил подлинным ценностям жизни. Человек уже не приобщен экстатически жизни, он не погружен и не укоренен в мире, как все живое, но лишь отвлеченно сознает жизнь и мыслит мир. Наша история — процесс непрерывного разрушения, разъедания жизни разумом, этим страшным «метафизическим паразитом». Однако, ведь этот «патогенный процесс» длится уже 10000 лет. Но что такое десять тысяч лет в жизни вида? — приблизительно то же, что в жизни индивидуума «восьмидневная лихорадка, от которой пациент скончался». Разные культуры в разное время приходят к смерти, но самая культура как таковая есть процесс умирания.
Словом, это давняя тютчевская мысль о неустранимом «разладе» разума и природы, и о «призрачной свободе» нашего духа, как корне этого разлада. Но здесь эта мысль разрослась в толстые томы и вооружилась «наукообразной» аргументацией.
Шелер пытается вскрыть происхождение этой «страшной» теории. Он находит зачатки (только зачатки) ее у поздних (Гейдельбергских) романтиков, у Шопенгауэра, Ницше и Бергсона. Но идея эта обострилась и обрела силу, только пройдя через роковой опыт «страшных лет» Европы. Теперь разнообразные мыслители разными путями подходят к ней с какой-то странной неизбежностью: философы и психологи (Клаге), палеогеографы и геологи (Даке), этнологи (Фробениус), историки (Шпенглер) — и многие другие.
Шелер явно встревожен этой идеей и, с видимой страстностью, ищет показать ее коренную противоречивость… Но я не могу коснуться здесь его высокоинтересных критических соображений.
Пятая идея, в противоположность четвертой, возносит «человека» на еще небывалую высоту. Эта идея — представленная Н.Гартманом (в его «Этике») и Г. Керклером — своеобразное преломление ницшева богоборчества и учения о сверхчеловеке в философском и жизненном опыте современности.
Старые атеисты, признавая желательность бытия Божия, видели себя теоретически вынужденными отрицать его. Наоборот, новое учение, даже допуская теоретическую неопровержимость бытия Божия, провозглашает, что Бог не должен быть, если есть свобода и ответственность. Бытие Бога уничтожает всякий моральный смысл бытия человека, ибо человек обретает себя только в абсолютной моральной суверенности. «Предикаты божества должны быть перенесены на человека» (Н. Гартман).
«Что мне за дело до основы мира, раз я ясно вижу свою моральную сущность, и знаю, что есть добро, и что я должен делать, — так провозглашает Керлер. — Если основа мира находится в согласии с тем, что я сознаю как благо, то я готов чтить ее, как друга; если же нет — то я плюну на нее, хотя бы она раздавила меня и мои цели!»
По аналогии и противоположности с кантовым «постулативным теизмом», Шелер называет это учение «постулативным атеизмом задания и ответственности». Этой антропологии соответствует история как «монументальное воссоздание духовного облика героев и гениев» или, по Ницше, «высших экземпляров человеческой породы».
К сожалению, Шелер лишь бегло останавливается на этой, столь мало нам известной, идее. Получается впечатление: какая странная и жуткая смесь мертвого протестанско-кантовского морализма с дерзновениями служителя Дионисова — Ницше.
Таковы те пять идей, которые — по Шелеру — всецело определяют и исчерпывают всю совокупность высказываний о человеке в современной Европе.
Ни к одной из них Шелер не примыкает, и идея, которая должна лечь в основу его собственной «Антропологии», несомненно представляется ему как существенно новая, шестая идея.
Французский истолкователь Ницше
Мне уже приходилось говорить на страницах «Звена» о коллекции «Maîtres de la pensée antichretienne», выходящей в «Editions du Siècle». Я указывал на непонятное совмещение здесь имен, ничего общего между собою не имеющих: в число «maitres» антихристианской мысли по каким-то непонятным основаниям Ницше входит наряду с Реми де Гурмоном и Порфирий наряду с Вольтером. Но коллекция оказалась пестрой еще и в другом отношении: по уровню и тону входящих в нее монографий. Если книга Ружье о Цельсе, открывшая серию, не заслуживала сколько-нибудь серьезного отношения, то вышедшая вслед за нею работа Жюля де Готье о Ницше[64] достойна самого серьезного внимания, даже если и не соглашаться со взглядами автора и его методом интерпретации Ницше.
Жюль де Готье мыслитель вполне сложившийся: он автор целого ряда интересных работ и создатель своеобразной философской теории, которой он дал имя «боваризма» (согласно Готье, в М-м Бовари с особенной отчетливостью раскрывается тот определяющий факт, что личность всегда сознает себя иною, чем она есть на самом деле; отсюда философ переходит к более общему положению: Бытие неизбежно сознает себя иным, чем оно есть. Это положение — основа диалектической системы «боваризма»). С Ницше у Готье — давняя близость. Если оставить в стороне добросовестные и во многом ценные книги (вроде работ Алеви или Лиштанберже) — исследования скорее биографов и историков литературы, нежели философов, — то можно сказать, что Жюль де Готье единственный мыслитель Франции, который не только знает и любит Ницше, но для системы которого Ницше является определяющим и живящим началом. Такие книги, как «De Kant а Nietzsche» и «Nietzsche et la Reforme Philosophique» — это уже не просто схолии к Ницше, но вполне самостоятельная творческая переработка его учения.
Остался ли Готье «верен» Ницше в его существенных и основных тенденциях? — на этот вопрос можно отвечать различно. Но если он и переработал Ницше по-своему, то надо ли это ставить ему в вину? Не этого ли сам Ницше требовал от своих учеников, когда говорил:
…«Wer nur steigt auf seiner eignen Bahn
Bringt auch mein Bild zu hohrem Licht hinan»[65].
В книге, о которой идет речь, задача Готье несколько уже, чем в двух других его книгах о Ницше. Здесь дело сводится к тому, чтобы собрать материал, относящийся к борьбе Ницше с христианством, привести его в систему и должным образом интерпретировать. Однако, Готье не довольствуется ролью бесстрастного истолкователя, и не воздерживается от собственных выводов и суждений. Это, быть может, и умаляет несколько «объективность» его исследования, но зато придает книге большую остроту, жизненность и напряженность.
Интерпретация Ницше дело крайне неблагодарное. Его философия не обладает рациональным единством системы, не терпит логического упорядочивания и выравнивания. Поэтому истолкователю волей-неволей приходится избирать один из двух путей.
Либо искать, в основе разнообразных и часто противоречивых утверждений философа, единство психологического бытия, которое эти утверждения лишь условно и случайно отражают. Таким образом устанавливается психологическая связь между тем, что казалось несовместимым и непримиримым при чисто рациональном подходе.
Но есть другой путь: с определенной точки зрения и с определенным заданием произвести как бы разрез ницшевой мысли, игнорируя одно, выделяя другое. Живое и многомерное единство как бы проецируется на условную плоскость. Таким способом можно извлечь из Ницше целый ряд довольно законченных и ни в чем друг на друга не похожих систем. И все-таки, каждая из этих систем обладает какой-то долей правоты, отражает какой-то аспект ницшевой мысли.
Оба пути интерпретации равно правомерны и равно относительны. В первом случае грозит опасность истолковать единство философии Ницше как чисто психологическое (а оно столь же психологического, сколь и рационального порядка). Во втором случае, мы рискуем подменить живое многообразие искусственной и скудной схемой.
Но повторяю, умаление, искажение при интерпретации неустранимо, и избрать один из двух путей все-таки приходится.
Жюль де Готье решительно избрал второй путь. Он сознательно и умело упростил и проецировал на плоскость своего интеллектуализма одну из существеннейших проблем Ницше: его отношение к христианству. Схема получилась убедительная и острая. Многое по-новому выделено и подчеркнуто. И как бы ни относиться к выводам автора, — мимо его книги пройти нельзя.
Спорт и зрелище
Факты прошлого становятся для нас реальностью, лишь поскольку мы подходим к ним через настоящее, поскольку поверяем и осмысливаем их, исходя из наших действительных потребностей. Вне этого они — лишь мертвый груз памяти и повод для пустых изысканий и расследований.
Вот почему огромные и богатые пласты былого до тех пор остаются нам недоступными, пока мы не натолкнемся на них в нашем собственном опыте.
Так было, например, с античной агонистикой. Этот существенный структурный и динамический элемент эллинской культуры до недавнего времени оставался нам совершенно чужим и чуждым. Правда, факты давно были установлены и упорядочены (существует несколько почтенных работ, специально посвященных этому предмету); но мы смотрели на них с любой точки зрения, — кроме спортивной. Иначе говоря, мы смотрели мимо них. У нас не было к ним прямого, конкретного подступа. Попросту: они были нам не нужны.
Лишь теперь, когда спорт вновь сделался одним из существенных элементов жизни и культуры, намечается возможность осязательного подхода к древней агонистике и реальной интеграции спортивного опыта эллинства. И это очень утешительно. В самом деле, в религии, в искусстве, в философии стало почти невозможно добраться до подлинного эллинства сквозь чудовищные груды домыслов и глубокомысленных схем, нагроможденные веками «научной работы». Приходится ждать нового Геракла, который расчистил бы наконец Авгиевы конюшни «науки об античности». Но вот, через спорт, нам открывается, кажется, узкая, но верная лазейка в эллинский мир — помимо всякого величия, торжественного благоговения, бесстрастного любования и прочих выдумок патетических педантов.
Это только возможность. Но все чаще становятся попытки осмыслить наличный опыт и построить своего рода спортивную идеологию. Пока эти попытки еще крайне наивны, беспомощны и не лишены какого-то тошнотворно-романтического привкуса. Во всяком случае, самое стремление вновь увидеть мир под знаком состязания, простоты, дисциплины, вновь утвердить реальность тела (давно нами утерянную) и восстановить конкретное, физическое усилие в его исконных правах на благородство — это стремление в высокой степени показательно.
Но вот явление другого рода, свидетельствующее о том же. Передо мною небольшая книжка, только что вышедшая у Грассе[66]. Это уже не туманный опыт «спортивной идеологии», но нечто более скромное и, пожалуй, более существенное: антология греческих текстов, относящихся к спорту. Тексты даны в переводе и снабжены вводными заметками и примечаниями. Переводчики (Берже и Мусса) — отнюдь не филологи, но люди спорта, знающие реальную цену вещей, о которых идет речь. И в этом своеобразие «Антологии». Отсюда и ее достоинства и ее недостатки. Остановлюсь именно на достоинствах: они очень поучительны с той точки зрения, которую я только что наметил.
«Чтобы восстановить настоящий смысл того или иного спортивного текста, недостаточно всю жизнь копаться в древнейших писаниях. Нет, для этого надо самому испытать и бег, и борьбу, и бокс»…
Отсюда — те правила, которыми руководились в своей работе переводчики: не смазывать, не обобщать, не подменять технические формулы агонистики — всегда конкретные и однозначные — расплывчатыми и туманными фразами «высокого штиля». И вот, в перевод греческих текстов Берже и Мусса дерзнули ввести (horribile dictu![67]) целый ряд терминов и речений современного спортивного арго, справедливо полагая, что только эти слова, отчеканившиеся в деле и для дела, могут адекватно передать строго конкретный смысл соответствующих греческих выражений. Кроме того, лишь благодаря этому приему возможно приблизить и оживить текст, возбуждая живые аналогии в уме читателя.
Handicap, penalisation, scratcher, finale[68] и т. д. — в текст Гомера, Пиндара или Фукидида! И что же: результат получается неожиданно убедительный.
Например, в переводе 23-ей песни Илиады (описание надгробных состязаний в честь Патрокла) переводчикам-спортсменам удалось, благодаря строго «профессиональному» подходу к делу, удержать долю живого движения и напряженности. Какая торжественная, «классическая» скука вносилась обыкновенно, при помощи условно-величавых клише, именно в это описание, отмеченное несравненной конкретностью, полное веселого и зоркого любования всеми мелочами и перипетиями агона.
Чего-чего, а пресловутого «классического величия» (выдуманного филологами) и неизбежно связанной с ним скуки — нашим переводчикам удалось избежать вполне. А это уже очень много.
Правда, отсюда же и ряд крупных недостатков: неуважительные вольности и сокращения, не всегда оправданные модернизации и проч. Но все это недостатки выполнения; а принципы перевода остаются в силе. Вообще книга Берже и Мусса во многом неудовлетворительна (кроме указанных недостатков перевода — несколько случайный подбор текстов и чрезмерная отрывочность); но как первый опыт вполне конкретного подхода к Эллинству через спорт, — ее можно только приветствовать. Будем надеяться, что опыт не останется одиноким.
Но действительно ли наш спорт родственен эллинской агонистике? Быть может, поверхностное сходство прикрывает здесь в корне противоположные тенденции? В таком случае, истолковывая агонистику через спорт, мы совсем не приближаемся к ней и понапрасну отказываемся от традиционного представления («культ красоты», величавые теории и проч.) — несколько отвлеченного, но в общем правильного.
Шпенглер, например, думает, что наш спорт аналогичен совсем не агону, но римским circenses[69]: «гимнастика, турнир, агон принадлежит к области культуры, спорт — к области цивилизации. В этом же заключается различие между греческой палестрой и римским цирком».
Так ли это? Оставим в стороне вопрос о культуре и цивилизации. Будем говорить только о фактах. В чем основная черта римских circenses? — Непроходимая грань между зрителем и участником состязания. И еще: первенство зрителя над состязающимися: состязающийся существует только для зрителя, состязание — только зрелище.
А в чем основная черта эллинского агона? — Первенство состязающегося. Чистого зрителя вообще нет, есть соучастники — бывшие, будущие, возможные.
Зритель и зрелище — формула цирка. Участники состязания — действительный и возможный (в данный момент — он зритель) — такова формула агона и, в значительной мере, современного спорта.
Конечно, для многих спорт является в наше время только зрелищем; но, в пределе, спорт несомненно тяготеет к тому, чтобы упразднить чистого зрителя. Да и сам зритель редко согласится признать себя только за такового: он всегда бывший или возможный участник.
Спорт как зрелище, несомненно, — явление совершенно иного порядка (его роль в этом случае аналогична роли кинематографа). Но, как мы видим, такое отношение к спорту совсем не является преобладающим. И спортивный закал последних поколений, все те специфические черты, которые придал спорт современному обществу, — всецело определяются именно активным, действенным отношением к состязанию, а не психологией праздного зрителя.
Конечно, аналогией с античным агоном далеко не исчерпывается характер нашего спорта. Наряду с этим есть ряд очень резких отличий. По своей сущности, спорт — могучее противоядие против интеллектуализма, психологизма и чудовищной сложности довоенной Европы. Но, развиваясь в условиях современности, он не мог не испытать ее воздействия. Отсюда такие факты, как подмена реальной победы над зримым соперником — мертвой числовой абстракцией «рекорда» (которого не знали греки): живое состязание как бы проецируется отчасти в математику и воспринимается (в большей или меньшей степени) как борьба — чисел, с числами, во имя чисел. Далее, чрезмерный рост спортивной специализации. Наконец, какая-то неслучайная и очень компрометирующая близость типа «спортсмена» с типом «технизированного примитива» — «шофера» (по Кейзерлингу). И еще многое другое.
Распутать узел современности, в который невольно оказался вплетенным и спорт — дело очень сложное. Но в какие бы досадные сочетания он ни вступал с разными элементами нашей культуры, — сам по себе, в своей чистейшей тенденции, он, несомненно сила благодетельная, ибо упрощающая и концентрирующая.
Суждено ли ему сыграть определенную роль в преодолении нечестивой сложности, доставшейся нам в наследство от довоенной Европы, или сам он станет в конце концов ее орудием — это пока еще не ясно.
Измена клерков[70]
Недостаточно, чтобы какая-нибудь идея или тенденция была заменена другой, противоположной. Оттесненная, она все еще продолжает жить и смутно тревожить тех, кто ее — как будто — уже «преодолел».
Их много в современности, — этих заглушённых тяготений. Каждое в свое время властвовало или притязало на власть. Иные обречены на окончательное умирание, иные могут когда-нибудь вновь оказаться призваны к господству. А пока они глухо прозябают, составляя как бы темную подпочву нашей духовной жизни.
Проследить и отчетливо выделить их не всегда легко. В чистой форме их можно наблюдать лишь по дальним углам и закоулкам: на поверхность они вырываются редко. Не меняя основного тона современности, они лишь непрерывно сопутствуют ему как обертоны. Именно они и придают нашему времени его специфический, трудно разложимый тембр.
Поэтому очень ценны те редкие случаи, когда какая-нибудь из этих оттененных тенденций вдруг обнаружится с полной определенностью. Прекрасный повод для того, чтобы всмотреться в нее при дневном свете и узнать, есть ли еще в ней какая-нибудь сила и соблазн.
С этой точки зрения довольно поучительна недавно вышедшая «Измена клерков» Жюльена Бенда[71].
Развенчанная и, казалось бы, забытая ценность, которая здесь вновь громко заявляет о себе, это «идеал чистого познания» — и притом в самой его скудной форме. Автор пытается романтически реставрировать ублюдочный тип «чистого клерка». Этим словом он обозначает человека безраздельно посвятившего себя служению духовным ценностям и отказавшегося от всякого активного участия в жизни. Измена современных клерков заключается в том, что духовные ценности утеряли для них чисто отвлеченный и внежизненный характер; клерки захотели действовать, стали притязать на руководительство жизнью. И в этом их гневно обличает Бенда.
Книжка — по-газетному бойкая и незначительная — вызвала неожиданно много толков. Недоумение и негодование Бенда неожиданно многих задело. Обвинения были приняты всерьез, и со стороны «изменников» послышались возражения. Но вот что всего неожиданней: возражатели почти не восстают против сущности обвинения, они только хотят доказать, что были и остались честными клерками.
По-видимому, захудалый идеал, вновь провозглашаемый Бенда, далеко не настолько изжит, как это могло казаться — не изжит даже во Франции, где он никогда, собственно, не находил себе другого выражения, кроме сладенького университетского идеализма, предписывавшегося официальными программами и профессиональными традициями во второй половине 19-го века.
Несомненно, этот идеализм не переставал цвести по глухим провинциальным лицеям среди обиженных судьбой и обойденных по службе профессоров риторики. Но кто мог подозревать, что иной — весьма модный — критик стыдливо таит в душе «un pur attachement à l'universel»[72] и умиляется над идиллической триадой «Добра, Истины и Красоты»?
Собственно, «клерк» — это клирик в противоположность мирянину. Но мы видели, что Бенда пользуется этим словом метафорически. И этой метафорой он невольно выдает настоящий смысл и происхождение того духовного типа, который хочет возвеличить.
Клерк (в смысле Бенда) — не что иное, как Ersatz действительного клерка: этот новый тип слагался по мере того, как церковная идеология теряла свою убедительность, а ее носитель — настоящий клерк, привыкший властно вмешиваться в жизнь и направлять ее, начал казаться стеснительным. Новый клерк возникает за счет старого, как его удобная замена. Церковная мифология сменяется научной. Разница между первой и второй прежде всего в том, что одна требует действия, другая обеспечивает и оправдывает праздное созерцание. Отсюда же главная разница между старым и новым клерком. Первый — носитель не только истины, но и власти, и действия: это он построил Новую Европу (плохо или хорошо — это другой вопрос: но во всяком случае построил). Второй, по самому своему назначению, должен удовлетворять только «чисто духовным запросам», он обязан лишь познавать — «бесстрастно и объективно» — и ни во что не вмешиваться. Обоснованное и последовательное невмешательство в жизнь — в этом его raison d'etre.
«Чистый клерк» (своеобразный способ обеспечить жизнь от воздействия и власти идей) — как бы «громоотвод идей»: при его посредстве духовные энергии отводятся из реальности в пустоту. А жизнь тем беспрепятственнее может отдать себя во власть механики и числа.
Так получают свой настоящий смысл те качества, которые — по Бенда — требуются от чистого клерка.
Он «утверждает себя только в отвлеченном и всеобщем и решительно становится вне реальности» (se pose hors du réel). Для него «действие — это ничто, суждение о действиях — это все». Он «презирает все частное, единственное, индивидуальное» и «привязан только к чистому понятию» (pur concept).
В чем же заключается «измена» современных клерков? В том, что они все яснее обнаруживают «волю к утверждению себя в реальном бытии» (volonte de se poser dans Texistence réele). И только.
В этом преступлении Бенда длительно изобличает трех духовных вождей Франции: Бергсона, Морраса и Барреса. Но корень зла не в них, он в Германии (именно у Гегеля и Ницше).
И здесь Бенда делает замечательное открытие. Оказывается пресловутая volonte de se poser dans l'existance réelle — не что иное, как немецкая выдумка: une creation allemande…
Как мы видели, чистый клерк и его идеология — явление сравнительно недавнее: оно окончательно определилось лишь к середине 18-го века и достигло расцвета ко второй половине 19-го. К счастью, оно оказалось недолговечным, и после войны чистые клерки почти вывелись. На наших глазах слагается теперь новый духовный тип, характеристика которого в мою задачу не входит.
Но Бенда, вопреки очевидности, пытается облагородить своего героя и придумывает для него древнюю и блистательную родословную.
Конечно, всякая попытка строить духовную генеалогию и устанавливать преемственность — неизбежно условна. Это похоже на известную детскую забаву: на бумаге ставится множество случайных точек и вот надо произвольно соединить линией те или иные из них. По желанию и при некоторой тренировке получается все что угодно: Наполеон в треуголке, чайник, трубочист с лестницей. Так и здесь: всегда можно провести от себя в прошлое твердую и непрерывную линию желательной формы и длины, и линия непременно пройдет чрез какие-нибудь существенные явления. Это — забава, но забава порою поучительная. Однако, она требует некоторого минимума остроумия и осведомленности. Ни того, ни другого у Бенда нет. Он нарушает самые элементарные правила игры, и генеалогия получается довольно неубедительная.
Так, мы узнаем, что колыбель чистого клерка — Греция; что философы всех времен, даже отцы и учители Церкви, были «чистыми клерками» и паче всего чтили догмат невмешательства в жизнь. А пифагорейцы, огнем и мечом водворявшие свою доктрину, а Платон при дворе Дионисия, а… но бесполезно напоминать неисчислимые и общеизвестные факты. Все они свидетельствуют прежде всего об одном: идеология чистого клерка — весьма недавняя выдумка. Основные свойства всякой идеи, поскольку она действительно познана, — это тяготение к осуществлению. Идеи искони искали утвердить себя в реальности, требовали власти, нудили к повиновению, создавали очаги строительства и мятежа.
Только в этом и заключается подлинное бытие идеи.
Так оказывается, что «измена клерков» — вновь обнаружившаяся в них воля к реальности — есть лишь возврат к исконному назначению познания.
Действительным изменником был именно «чистый клерк», прославляемый Бенда: как дезертир, он бросил оружие и покинул поле битвы, чтобы на досуге и в безопасности безответственно предаться культу ни к чему не обязывающих абстракций.
Повторяю, на наших глазах слагается новый, более активный и мужественный духовный тип. Но психология чистого клерка еще не утеряла для некоторых своего обаяния и может вызвать сочувствие даже в такой карикатурно-упрощенной форме, в какой мы находим ее у Бенда.
Это лишний раз обнаружилось в спорах по поводу «Измены клерков».
Приложения
«Современность и наследие эллинства»
(Лекции Н. М. Бахтина)
Состоявшиеся в течение февраля и марта четыре лекции Н.М.Бахтина на тему «Современность и наследие эллинства» не рассчитаны были на обширную аудиторию. Они носили скорее «камерный» характер. Все же зала, в которой они происходили, неизменно заполнялась значительным числом слушателей, привлеченных мастерским изложением интересного и трудного предмета и блестящим ораторским талантом лектора.
В представлении Н. М. Бахтина, «объективное» изучение эллинства, как оно мыслится современной филологией, должно уступить место действенному усвоению тех начал, из коих слагается эллинская культура. Если суждено быть новому Возрождению, то оно возможно лишь как реальный возврат к античности. Всякое подлинное творчество не может не сознавать себя, как возрождение утраченных ценностей. Отталкиваясь от ближайшего, оно утверждает себя в отдаленном; ритм истории есть ритм последовательных возвратов к прошлому.
На протяжении последних веков человечество трижды делало попытку возвратиться к эллинскому миру. Ни одной из них не суждено было проникнуть до конца в сущность античного мироощущения; однако, с каждым разом новый мир все более приближался к истинному ядру эллинства. Три последовательных возрождения — как бы три концентрических круга, все теснее смыкающихся вокруг искомой истины. Итальянское Возрождение воспринимало эллинство, главным образом, через призму эллино-римской культуры, т. е. в затуманенном и искаженном виде. Второе возрождение, носителями которого являются Винкельман и Гете, исходило из представления об античности как синониме «гармонии», ясности, законченности. Оно представляло себе эту гармонию как некое начальное единство, характеризующее «зарю человечества» и предшествующее сложности позднейшего исторического развития. Гете, при всем его «язычестве», далеко не растворился в античности: в его миропонимании она сосуществует с другими элементами, явно ей враждебными («Фауст»). Для Гете античность — эстетическая, а не религиозная норма. Трагическое чуждо — если не самому Гете, то, во всяком случае, его Элладе. И найденная им окончательная формула: «Все преходящее — только символ» — есть, разумеется, не что иное, как отказ от античности. Все же второе Возрождение если еще и не раскрыло сущности эллинства, то уловило многие черты, его определяющие, и позволило Ницше приблизиться уже вплотную к трагической концепции мира как истинной основе эллинства. Но Ницше погиб, не осуществив своего задания до конца. Дело его ждет еще своего завершителя.
Вживание в эллинский мир предполагает полное отрешение от основных устремлений, определяющих культурный строй современности. Нет ничего более чуждого греческому сознанию, чем количественный критерий, лежащий в основе наших оценок, и чем наше стремление к беспредельности. Эллинский критерий ценности — чисто качественный; характерная особенность эллинского мира — полное отсутствие выспреннего и огромного; количественная ограниченность действия ощущалась как условие его качественной наполненности и динамической напряженности, замкнутость, предел — основная особенность греческого духа. Она сказывается и в неподатливости иноземным влияниям, поскольку они не могут быть ассимилированы, и в отсутствие стремления к вечности в государственном строительстве и, наконец, во враждебности к идеям политической экспансии. Стремление к беспредельности, к «мировому господству» (Александр) есть уже достояние более поздней эпохи — эпохи разложения эллинского духа. При этом, замкнутая по отношению к внешнему миру, Эллада внутри постоянно является ареной противоборствующих сил, но эта рознь представляется для грека основным началом жизни, условием всякого творчества.
Первое конкретное свидетельство этого мироощущения — гомеровский эпос. Его видимая простота и гармоничность не есть примитивность, «Заря духа», как думал Винкельман: простота всегда сложнее сложности и есть результат ее преодоления. И у Гомера простота — результат длительного и сложного процесса, в исходе которого небольшой касте удалось из взаимодействия разнообразных и противоречивых влияний пробиться к стройному и простому ощущению мира. Преодолен был первоначальный ужас перед обреченностью человеческого существования, перед непонятной, слепою силою рока, над ним тяготеющей. И гомеровская радость не есть отсутствие страха и страдания, а преодоление их путем приятия жизни во всей ее ограниченности и необъяснимости.
Во времени, гомеровская концепция мира стоит между двумя враждебными ей концепциями, отчасти наложившими свой отпечаток и на гомеровский эпос, в том виде, как он дошел до нас. От более ранней сохранились только рудименты. Характерным для нее был, вероятно, мрачный культ душ, как о том свидетельствует, например, описание погребения Патрокла в Илиаде. В гомеровском мире эти представления уже изжиты; после смерти тела, он не признает жизни души в собственном смысле слова. Погребение трудов заменилось сожжением, знаменующим освобождение живых от власти мертвых.
С другой стороны, в гомеровском эпосе различимы и позднейшие наслоения, свидетельствующие уже о разложении лежащего в основе его миропонимания. Сдвиг, о котором мы можем мы можем лишь догадываться, окончательно разрушил гомеровское мироощущение. Ряд новых сил обнаруживает свое действие. Одна из них — это религия Диониса. Культ Диониса дважды заливал Грецию. Первая волна прокатилась по Элладе еще в догомеровскую эпоху и не оставила никаких значительных следов. Вторая волна нахлынула уже в послегомеровское время, пришла в столкновение с религией Аполлона, но не вытеснила ее, а слилась и примирилась с нею. Отражение этой борьбы мы видим в ряде дошедших до нас мифов.
Однако ряд элементов остался непереработанным; они продолжают ферментировать и вносить рознь в эллинское сознание. В двух направлениях действовали разрушительные начала. С одной стороны, воздвигалось здание греческой философии с ее стремлением свести все многообразие жизни к некоему единству (Фалес). Вещи перестают быть собою, познание отрывается от бытия. Здесь сказалась основная тенденция разума: искать тождества сквозь различие и единство во множественности, т. е. смотреть мимо мира, в котором каждая вещь единственна, неповторима и ни к чему сведена быть не может. Другое течение, подрывавшее основу гомеровского мироощущения, — было течение мистическое с его жаждой безмерности и вечности (напр., орфизм). Оба течения постулируют иной мир. Они ищут к нему доступа: одно — чрез чистую мысль, другое — через экстаз и аскезу. Оба они — две формы одного начала. И как Анаксимандр — источник всей европейской философии, так и орфический миф — источник всех религиозных концепций Европы.
Таким образом, перед греческим сознанием вновь стояла извечная проблема бытия в ее страшной обнаженности: вновь твердили ему, что жизнь не несет в себе своего оправдания, что, взятая сама по себе, она лжива и бессмысленна. Предстояло преодолеть это утверждение. На вопрос: должна ли быть жизнь принята, несмотря на отсутствие внутреннего ее оправдания? — эллинство ответило «да». Выяснить, каким образом оказался возможным такой ответ — значит вскрыть сущность трагического миросозерцания.
Основой трагедии как литературной формы является неизменная обреченность героя, приводящая к конечной катастрофе. Катастрофа эта всегда бессмысленна. Она не вытекает из чьей-либо вины. Единственная вина — это вина рождения, вина самого бытия; единственный смысл трагедии — в невозможности оправдать бытие. Но зачем в таком случае нужна была трагедия греческому зрителю, что давала она ему? Об этом мы имеем свидетельства современников. В то время как Платон не скрывает своего презрения к трагедии (и он не мог относиться к ней иначе, если хотел оставаться последовательным), Аристотель, не выходя из роли объективного наблюдателя, констатирует, что трагическое представление приводило к «катарсису», к очищению.
В чем же заключалось это очищение? Было бы величайшей ошибкой отождествлять его с тем катарсисом, который испытывает зритель после пятого действия современной драмы. Здесь катарсис понятен, он есть не что иное, как примирение с бытием через смысл, ибо гибель героя здесь всегда означает торжество некоего смысла. Не то в античной трагедии: в ней катарсис есть примирение с бессмысленностью жизни, примирение с бытием вопреки смыслу, вернее — именно благодаря взрыву всех смыслов и разоблачению в бытии того, что больше и глубже всякого смысла. Трагедия есть испытание духа через зрелище смерти и ужаса. В результате — катарсис, преодоление страха и скорби, вольное избрание жизни и ее утверждение.
На вопрос о том, как возможен выбор вопреки и помимо смысла, — необходимо ответить, что всякий выбор, в конечном счете, вполне своеволен, иррационален, и что разум, предоставленный самому себе, не содержит никаких оснований для выбора. Таков всякий творческий выбор, выбор эротический, основывающийся на рационально-пустой формуле: потому что А = А. Но в этой формуле вскрывается самая сущность подлинного выбора: избрать в вещи можно только ее самое, единственное в ней и неповторимое. Выбор должен быть иррационален, ибо смысл, по самому определению, есть не сама вещь, но ее отношение к чему-то другому (например, к той или иной ценности). И, стало быть, для того, чтобы осуществилось эротическое избрание жизни как таковой, необходимо, чтобы противоположные и враждебные смыслы, сталкиваясь, уничтожили друг друга (в этом — основа всей структурной техники трагедии). При этом, утверждая бытие, трагедия принимает его не только как бессмысленное, но и как ограниченное, обреченное смерти; в смерти она усматривает необходимый коррелят всякого индивидуального бытия, единого во всех своих проявлениях — и, стало быть, единого и в гибели.
Таким образом, сущность трагического — в приятии жизни, созерцаемой под знаком уничтожения; трагедия — есть испытание духа зрелищем смерти и ужаса.
Но осуществление трагического миросозерцания требует силы и воли. Когда воля и силы иссякают, в жизнь вторгаются отвлеченные истины, подтачивающие первоначальную целостность жизнеутверждения. Так случалось и в Греции. Смертельный удар трагической концепции мира нанесен был философией Сократа, его диалектикой, служившей средством вскрыть иррациональность выбора, лежащего в основе всякой деятельности, — и отвергнуть этот выбор. Мысль становится орудием испытания жизни; смысл торжествует под бытием.
Процесс Сократа есть безнадежная попытка эллинства защитить себя от вторжения этого разлагающего начала. Судьи Сократа стояли перед безысходной дилеммой: терпимость была исконной особенностью эллинского духа; но учение Сократа взрывало основу эллинства. И, стало быть, осуждая или оправдывая Сократа, судьи одинаково эллинству изменяли.
Явление Сократа знаменует собою конец трагического миросозерцания. И первая попытка возвращения к нему происходит через два тысячелетия, — когда Ницше, в идее Вечного Возвращения, находит новое оправдание жизни, новое основание для целостного ее приятия. Но, совпадая с эллинством в утверждении жизни, Ницше вводит новый, чуждый и враждебный эллинству, момент — жажду вечности, искажая тем подлинно трагическую концепцию, укорененную в единственности и неповторимости сущего. Пример Ницше должен служить предостережением для всех тех, кто думает о новом Возрождении как рецепции эллинского миросозерцания.
Новое Возрождение предполагает прежде всего преодоление современной культуры. Мы продолжаем жить в мире Сократа: современность — есть лишь последний вывод из разрушительной диалектики смыслов. При этом культура наша не имеет какой-либо одной, всецело ее проникающей идеи, а до конца эклектична. Под влиянием иллюзорной устойчивости, явившейся результатом сравнительной безопасности в течение нескольких веков (XVIII–XIX), культура, перестав быть тем, чем она в существе своем является, т. е. средством самозащиты и самоутверждения, распалась на свои составные части, а отдельные ценности, перестав быть необходимыми, сделались игрушками и предметом праздных умствований. Культура начала развиваться по своей, уже нечеловеческой инерции. Так возникли «чистая» наука, «чистое» искусство. Ритм современности — ритм не человеческий, но ритм чуждой человеку, оторвавшейся от него силы. Ценности восстали на своего создателя: они существуют не для него, а для себя. Основная антиномия современной культуры в том, что, не будучи внутренно-обязующей, она стала внешне-принудительной. И в то время как естественный путь культурного восхождения ведет от сложности и многообразия к простоте, мы идем обратным путем — к новой сложности, к варварству.
Наметившееся после войны тяготение к простоте — приведет ли оно в новому Возрождению? Если суждено этому произойти, то не нового обогащения настоящего через прошлое надо ждать, а замены всей идейной сложности настоящего — другими, совершенно противоположными ценностями; не синтеза, на основе которого никакое действие построено быть не может, а решительного, однозначного выбора. И первая задача на этом пути — вернуть человеку прямое и конкретное видение мира и вещей. От эротического узрения мира — прямой и ясный путь к другим моментам трагического мироотношения.
Н. Р. (отчет)
Памяти необыкновенного человека
Это был один из самых даровитых людей, которых приходилось мне в жизни встречать.
Имя Николая Михайловича Бахтина совсем мало известно. Сравнивая шумные и блестящие карьеры иных посредственностей с его участью, с тем положением, которого он добился, как не задуматься еще раз над случайностью славы, почета, признания, всего того, что будто бы увенчивает заслуги и таланты человека. «Имеют книги свою судьбу», сказано в стихе Горация, горестно процитированном в личных заметках Пушкина. Имеют и люди свою судьбу, столь же мало справедливую, капризную, а нередко и просто вздорную.
В этом человеке были проблески гениальности, — и утверждая это, я прекрасно знаю, что такие слова могут вызвать скептическую усмешку. Но никто из тех, кто Бахтина близко знал, не усмехнется. Слово «талант» к нему в сущности мало подходит, и если на этом слове остановиться, трудно решить, какой у него, собственно говоря, был талант — писательский, ораторский, научный? Ни тот, ни другой, ни третий в чистом виде. Была необыкновенная личность, угадывавшаяся почти во всем, за что Бахтин ни брался бы, даже при срывах. Казалось, рано или поздно эта необычайность должна будет проявиться полностью, во всей силе, — и привести к необычайным результатам. Но так только казалось. Бахтин умер уже не молодым человеком и в последние годы занимал должность профессора лингвистики в полузахолустном Бирмингеме. Им дорожили, с ним считались. Некоторые его работы получили высокую оценку авторитетнейших европейских филологов. Но это все-таки было не совсем то, чего от Бахтина можно было ждать. Да он и сам иллюзий себе не делал.
Отчего люди выдающиеся, подлинно одаренные так часто бывают чудаками? Вопрос этот в психологическом отношении очень интересный и довольно сложный, но самая связь чудачества с одаренностью — явление настолько распространенное, что некоторые, не вполне честные люди чудаками притворяются, зная, что личина эта вызывает доверие. Сколько в последние десятилетия было примеров этому! Разве длинные, золотисто-волнистые шевелюры некоторых поэтов — или псевдо-поэтов — не начало чудачества и не выдает инстинктивную тягу к нему? Многое можно было бы сказать и написать на эту тему, коснувшись заодно и тех поддевок или желтых кофт, в которые рядились некоторые русские писатели: и тут, в этих маскарадах, сквозит желание противоположное тому, которым одержим был толстовский поручик Берг — желание не быть «как другие», с расчетом, что доверие к таланту при этом будет обеспечено в кредит. Повторяю, вопрос интереснейший. Бахтин-то однако хитрецом и актером ни в коем случае не был, и внешние атрибуты чудачества его не прельщали нисколько. Но в самом деле ни на какого другого человека похож он не был, и, не в пример большинству смертных, Бог создал его как будто в единственном, неповторимом экземпляре. Был он исключительно умен и невероятно наивен. Был детски доверчив и буйно вспыльчив. Был дерзок и застенчив. Всегда чем-то был увлечен, куда-то несся, чем-то «горел», но никогда нельзя было быть уверенным, что вечером он с ужимками самого кровного, нестерпимо-брезгливого отвращения не втопчет в грязь то самое, от чего был в восторге утром.
Я познакомился с ним очень давно и помню его еще по Петербургскому университету. В те годы его считали поэтом, но поэзию он в зрелости, кажется, оставил, хотя не перестал страстно и по свойствам своей натуры как-то запальчиво и судорожно ею интересоваться. В эмиграции на него обратил внимание покойный М. М. Винавер и пригласил его сотрудничать в еженедельнике «Звено». Бахтин написал несколько статей блестящих и замечательных, но написал и другие, вызывающие по тону, малоубедительные по содержанию, — вроде свирепой расправы с Паскалем на двух страничках журнального текста. Один только раз оказался он в парижский период своей жизни на высоте своих удивительных и неясных дарований, — когда прочел в маленьком, закрытом теперь зале около Палаты Депутатов, короткий цикл лекций о древнегреческой культуре. Нельзя этих лекций забыть. Среди слушателей Бахтина были люди, носящие самые славные в нашей эмиграции имена, — и я мог бы на их свидетельства сослаться: нельзя этих лекций забыть, соглашаются и они.
Греция была, пожалуй, единственной настоящей любовью Бахтина, во всяком случае единственной его любовью постоянной. Но тянуло его не столько к Греции классической, перикловской, сколько к более ранней, если еще и чуть-чуть дикой, то таинственно-вдохновенной и мудрой. Он безгранично чтил Ницше и вслед за ним с высокомерным пренебрежением говорил о Сократе, тем более о Платоне. Сократ со своим не в меру прославленным учеником будто бы исказил, пожалуй даже «обездарил» то, что эллинская культура в себе несла и сделал ее общеобывательским достоянием. Не того хотел Гераклит, великий, «темный» мыслитель.
Схема знакомая и, разумеется, более, чем спорная. Ничего нового людям, читавшим Ницше, Бахтин в сущности не сказал. Но какое-то золотое сияние от его речей в памяти все-таки осталось, и не столько ценен был их непосредственный исторический смысл, сколько пленительна была их скрытая музыка. «Прекрасное должно быть величаво», сказал Пушкин. Была в этих четырех лекциях величавость неподдельная, и выходя после них на холодный, осенний парижский дождик, по привычке рассеянно переговариваясь о повседневных пустяках, каждый все-таки яснее и полнее чувствовал, что двадцать пять веков тому назад явилось в истории чудо и что имя этому чуду — Эллада. Каждому было хоть на несколько минут понятно то, что заставило Ренана «молиться на Акрополе». Были за время эмиграции и другие вечера, насыщенные мыслью или чувством. Немного можно было бы назвать собраний, где присутствовавшие были бы такими воспоминаниями увлечены и таким высоким волнением охвачены.
По рассказам, дошедшим из Англии, некоторые беседы Бахтина производили порой и там подлинно ошеломляющее впечатление. Один из его товарищей по университетской работе утверждает, что в недавно изданном Бахтиным руководстве по новогреческой грамматике есть соображения и замечания, открывающие совершенно новые, никому не ведомые лингвистические горизонты. — Не зная этой книги, я не сомневаюсь, что это так. С именем Бахтина связать можно было любые надежды. А все-таки имя это известно лишь небольшому числу наших современников, ничего прочного и долговечного Бахтин не оставил, и только друзья его знают, какие редчайшие дарования ушли с ним из жизни. «Имеют люди свою судьбу».
Георгий Адамович
Библиография работ Н.М. Бахтина за 1924–1931 годы
О русском стихосложении. — «Звено» № 73 от 23.6.1924.
Военный монастырь. — «Звено» № 76 от 14.7.1924.
Письма о слове. 1. О произносимом слове. — «Звено» № 81 от 18.8.1924. 2. О формальном методе. — «Звено» № 82 от 25.8.1924.
Рец. на: Эйхенбаум. Сквозь литературу. (Подп.: «Н.Б.»). — «Звено» № 83 от 1.9.1924.
Рец. на: Литературная мысль. Альманах. (Подп.: «Н.Б.»). — «Звено» № 87 от 29.9.1924.
Анатоль Франс — «Звено» № 90 от 20.10.1924.
«Новое средневековье». — «Звено» № 91 от 27.10.1924.
Ницше. — «Звено» № 94 от 17.11.1924.
Книга о солдате — «Звено» № 99 от 22.12.1924.
Пути поэзии — «Звено» № 106 от 9.2.1925.
Рец. на: Е.Спекторский. Христианство и культура. (Подп.: «Н.Б.») — «Звено» № 111 от 16.3.1925.
Рец. на: Бицилли. «Очерки исторической науки». (Подп.: «Н.Б.») — «Звено» № 112 от 23.3.1925.
Поль Валери — мыслитель. — «Звено» № 115 от 13.4.1925.
Рец. на: Георгий Венус. Полустанок. (Подп.: «Н.Б.») — «Звено» № 123 от 8.6.1925.
Пьер Луис. (Подп.: «Н.Б.») — «Звено» № 124 от 15.6.1925.
Под рубрикой: «Из жизни идей»:
Победы фрейдизма. — «Звено» № 124 от 15.6.1925.
«Объяснение нашего времени». — «Звено» № 125 от 22.6.1925.
Относительность самосознания. — «Звено» № 127 от 6.7.1925.
Орфизм и христианство. — «Звено» № 128 от 13.7.1925.
Критика и медицина. — «Звено» № 129 от 20.7.1925.
«Логос». — «Звено» № 130 от 27.7.1925.
«Три реформатора». — «Звено» № 131 от 3.8.1925.
«Метафизическая чувствительность». — «Звено» № 132 от 10.8.1925.
Шарль Моррас. — «Звено» № 134 от 24.8.1925.
«Возврат к средневековью». — «Звено» № 135 от 31.8.1925.
Collection des Universites de France. — «Звено»' 136 от 7.9.1925.
Философия как живой опыт. — «Звено» № 137 от 14.9.1925.
Морфология культуры и язык. — «Звено» № 138 от 21.9.1925.
Проблема Сократа. — «Звено» № 139 от 28.9.1925.
Современность и фанатизм. — «Звено» № 140 от 5.10.1925.
Метапсихика. — «Звено» № 141 от 12.10.1925.
Бесплодный мыслитель. — «Звено» № 142 от 17.10.1925.
Вера и знание. — «Звено» № 155 от 17.1.1926.
Другие статьи:
Мечтатели. — «Звено» № 144 от 2.11.1925.
Поль Валери — академик. (Подп.: «Н.Б.») — «Звено» № 147 от 9.11.1925.
«Эманципация психологии». — «Звено» № 148 от 30.11.1925.
Мережковский и история. — «Звено» № 156 от 24.1.1926.
Искусство марксистское и звериное. (Подп.: «Н.Боратов».) — «Звено» № 157 от 31.1.1926.
Муза гастрономии. (Подп.: «Н.Бор.») — «Звено» № 158 от 7.2.1926.
Ф. Ф. Зелинский. — «Звено» № 162 от 7.3.1926.
К. Леонтьев. — «Звено» № 165 от 28.3.1926.
Шпенглер и Франция. — «Звено» № 167 от 11.4.1926.
«Обращение» Жана Кокто. — «Звено» № 185 от 15.8.1926.
Разговор о переводах. — «Звено» № 186 от 22.8.1926.
Защитник язычества. — «Звено» № 188 от 5.9.1926.
О современности. — «Звено» № 189 от 12.9.1926.
Рец. на: Андрей Ющенко. Пророческий дар русской литературы. (Подп.: «Н.Б.») — «Звено» № 190 от 19.9.1926.
Манифест Бонтемнелли. (Подп.: «Н. Боратов».) — «Звено» № 192 от 3.10.1926.
Популяризаторы. (Подп.: «Н. Боратов».) — «Звено» № 197 от 7.11.1926.
Похвала смерти. — «Звено» № 198 от 14.11.1926. -
Новая немецкая философия. (Подп.: «Н. Боратов».) — «Звено» № 200 от 28.11.1926.
Пять идей. — «Звено» № 201 от 5.12 1926.
Ницше и музыка. — «Звено» № 205 от 2.1.1927.
Апология поневоле. — «Звено» № 208 от 23.1.1927.
Французский истолкователь Ницше. — «Звено» № 209 от 30.1.1927.
Рождающийся мир. (Подп.: «Н. Боратов».) — «Звено» № 216 от 20.3.1927.
«Современность и наследие эллинства». (Лекции Н. М. Бахтина). — «Звено» № 216–217 от 20 и 27.3.1927.
О созерцании. — «Звено» № 217 от 27.3.1927.
Спорт и зрелище. — «Звено» № 219 от 10.4.1927.
Рец. на: Зеньковский. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. (Подп.: «Н.Б.»). -
«Звено» № 219 от 10.4.1927.
Об оптимизме. — «Звено» № 223–224 от 8 и 15.5.1927.
Из записей Поля Валери. (Подп.: «Н.Бор.») — «Звено» № 225 от 22.5.1927.
Паскаль и трагедия. — «Звено» № 228–229 от 12 и 19.6.1927.
О разуме. — «Звено», 1927, № 4.
Два облика Поля Валери. — «Звено», 1927, № 6.
Измена Клерков. — «Звено», 1928, № 2.
Четыре фрагмента. — «Звено», 1928, № 3.
Антиномия Культуры. — «Новый корабль», 1928, № 3.
Разложение личности и внутренняя жизнь. — «Числа», 1930/31, № 4. приложения
Послесловие и комментарии
Николай Михайлович Бахтин. Обычно это имя упоминается в биографиях Михаила Михайловича Бахтина: старший брат (разница в возрасте в один год), в обществе которого знаменитый мыслитель-филолог провел детские и юношеские годы. Из более редких источников можно узнать, что Николай Бахтин был доктором филологии, преподававшим в Бирмингеме, исключительно талантливым лектором. Николай Бахтин как философ, как эссеист, как одна из интереснейших фигур в культурной жизни русской эмиграции первой волны до сих пор остается величиной почти неизвестной. А между тем один из ведущих критиков русского зарубежья Георгий Адамович, — соратник Бахтина по «Звену» и, одновременно, во всем, что касалось поэзии и современной культуры, его «идеологический» противник, — писал:
«Это был один из самых даровитых людей, которых приходилось мне в жизни встречать», — и чуть далее: «В этом человеке были проблески гениальности».
Друг юности, Михаил Иосифович Лопатто в своей оценке был еще решительнее:
«Бахтин относится к тем умам, которые ищут всю жизнь, не останавливаются ни на одном открытии, не пытаются развивать идеи и не удовлетворены собой. Они стеснительны, не приемлют публичный успех. В то время как другие пожинают плоды своих открытий, такие умы, как Бахтин, не оставляют имени, они оставляют рассеянные повсюду откровения.
Гении — это провозвестники, а свершители следуют за ними. Случаи гениальных свершителей очень редки и бывают в результате счастливого стечения обстоятельств. Наша эпоха, кажется, бедна на новые идеи, но множество зерен брошено в почву человеческого ума, и придет день, когда они созреют. Может быть, какой-нибудь щедрый ум вспомнит тогда о бедных рыцарях Духа, затерявшихся в буре, вспомнит и того, кто всеми силами своего гениального ума стремился проникнуть в тайны рождения Слова» (цит. по: Эджертон В. Ю. Г. Оксман, М. И. Лопатто, Н. М. Бахтин и вопрос о книгоиздательстве «Омфалос». - в сб.: Пятые тыняновские чтения, Рига, «Зинатне», с. 236–237).
Вехи биографии Николая Михайловича Бахтина поначалу во многом совпадают с биографией младшего брата: родился в Орле (по старому стилю — 20 марта 1894-го, на один год раньше Михаила), учился в виленской гимназии, поступил в Одесский университет на историко-филологический факультет, перевелся в Петербургский. Здесь его и застигла первая мировая война, не давшая завершить образование. Николай Бахтин поступает в кавалерийское училище, заканчивает его к началу февральской революции. Далее — как у многих: белая армия, эмиграция. Он плавает матросом на кораблях по Средиземному морю, потом вербуется на пять лет в Иностранный легион.
Ему не удалось прослужить весь пятилетний срок: тяжелое ранение, едва не лишившее его руки, госпиталь… С лета 1924 года начинается его сотрудничество с еженедельником «Звено».
К тридцати годам за его плечами была не только богатая событиями биография. С гимназических лет в нем жил подлинный интерес к поэтическому слову, были и собственные поэтические опыты. Судя по крайне скудным источникам (свидетельство друга юности М. И. Лопатто и выступления самого Бахтина), общая направленность поэтического творчества Бахтина заметно расходилась с устремлениями существующих направлений в русской поэзии, что диктовало его пристальный интерес к проблемам теории стиха и к некоторым вопросам самого способа существования поэзии. Он видел, что его стихи не найдут своего читателя, но с тем большим вниманием относился к работам по теории стиха. Первые статьи Бахтина в «Звене» — о поэзии.
Была среди ранних публикаций и еще одна: «Военный монастырь» — попытка человека, прошедшего службу в Иностранном легионе, увидеть это своеобразное военное сообщество как некое культурное целое со своими традициями, своими нормами поведения и неповторимым стилем жизни, где каждая минута наполнена риском, где ситуация выбора, волевого решения — обычна и естественна.
Легион воспитал его ум. И в поэзии, и в философии Н. Бахтина всегда привлекает не совершенство формы, не стройность и завершенность системы, но то, что толкает к действию. И стихотворение, и философия должны адресоваться не к «читателю», не к «мыслителю», но к человеку. Можно говорить о «ницшеанстве», «кантианстве» или «язычестве» Бахтина. Но его прежде всего интересует не сама доктрина, а способность ее стать частью жизни.
Сохранился шутливый словесный портрет Николая Бахтина этого времени, написанный Мочульским от лица самого еженедельника «Звено»: «с осени я уже стал брать уроки философии, у одного отставного унтера и легионера, он очень сердитый, и не любит большевиков и Марселя Пруста. Но если об этих предметах не заговаривать, тогда с ним очень интересно»
(Автобиография «Звена». — «Звено» № ИЗ от 30 мая 1925). За этими строчками проглядывает и некоторая «нелюдимость» Бахтина, его духовное одиночество в среде русской эмиграции, и, в то же время, его оригинальность как мыслителя и как человека. В «Звене» он ведет постоянную рубрику «Из жизни идей», но выступает, при этом, не только в качестве философа. Как и младший брат, он все время — на границе филологии, психологии и философии.
К 1926 году жанры эссе, статьи, рецензии становятся тесны Бахтину. На страницах «Звена» появляются его диалоги и «разговоры»: «О современности», «Похвала смерти», «О созерцании»… Но кульминацией его творческой деятельности в эмиграции стало то «живое», действенное слово, к которому он всегда стремился, — четыре лекции на тему «Современность и наследие эллинства», прочитанные в феврале-марте 1927 года. «Нельзя этих лекций забыть, — вспоминал Г. Адамович. — Среди слушателей Бахтина были люди, носящие самые славные в нашей эмиграции имена, — и я мог бы на их свидетельства сослаться: нельзя этих лекций забыть, соглашаются и они» (Г. Адамович. Памяти необыкновенного человека. — «Новое Русское слово» № 14030 от 24 сент. 1950 г.). Впрочем, не менее значительны и последние эссе Бахтина, написанные на русском языке.
В 1932 году Н.Бахтин «уходит» из русского зарубежья, переселяется в Англию, где начинается новая страница в жизни ученого. Близкий друг Витгенштейна (с которым он совершенно расходится во взглядах), доктор филологии Николай Бахтин умер в Бирмингеме в 1950-м. Его творчество «английского» периода — лекции и эссе» — было собрано в книге: Nicholas Bachtin. Lectures and Essays. - Birmingham, 1963.
«Как преподаватель и учитель он был бесподобен, — писала о Бахтине его английская знакомая Фанни Паскаль. — Внутренне он испытывал колоссальную трудность при записи своих идей, и мне не известна ни одна законченная его работа, кроме тех, которые вошли в посмертный том, изданный профессором Остином Дункан-Джонсом…» (цит. по: Грибанов А. Б. Н. М. Бахтин в начале 30-х годов. (К творческой биографии). - в сб.: Шестые тыняновские чтения, Рига — Москва, 1992, с. 260).
В этих воспоминаниях четко схвачены черты человека, который некогда на цикл лекций, рассчитанных на небольшую аудиторию, собрал невероятное число слушателей, «привлеченных, — как писалось в газетном отчете, — мастерским изложением интересного и трудного предмета и блестящим ораторским талантом лектора», и который, в то же время, оставил не так уж много письменных свидетельств своего крайне оригинального, «неожиданного» ума.
Похоже, обычные слова были тесны для него, к тому же как литератор Николай Бахтин обладал коротким дыханием: несколько статей, эссе, диалогов и — отклики на книги других авторов. Все это, собранное вместе, дает портрет доселе неизвестного русского мыслителя, мыслителя дерзкого и «несвоевременного». Ни в своем отношении к искусству слова, ни в анализе состояния современного ему мира идей он не желал «шагать в ногу» со временем. Он отстаивал величие эллинской «звучащей» поэзии и отворачивался от современной ему «письменной», призывал перечитывать Ницше, когда современникам казалось, что они «преодолели» его, ценил слово неуравновешенное, волевое и презирал дряблую эклектику. В «расслабленной» идейной атмосфере 30-х его твердое самостояние раздражало, казалось вызывающим. Но именно несвоевременные мыслители часто оказываются нужными для тех, кто приходит после.
Большая часть произведений Николая Михайловича Бахтина печаталась в парижском еженедельнике (с середины 1927 года — ежемесячнике) «Звено». Сотрудничество началось с публикации 23 июня 1924 года отклика Бахтина на вышедшие книги В. Жирмунского и Б. Томашевского по стихосложению (см. примеч. к «Письмам о слове») и продолжалось до самого закрытия журнала, после чего Бахтин опубликовал в русской эмигрантской периодике только два эссе: «Антиномия культуры» и «Разложение личности и внутренняя жизнь».
Настоящее издание включает работы, написанные на русском языке в 1924–1931 годы. Составитель позволил себе выделить эссе «Современность и фанатизм» из серии статей Н. Бахтина, выходивших под рубрикой «Из жизни идей» и поместить ее в самом начале книги, поскольку, в отличие от других работ этого цикла, она не содержит в себе ссылок на книги или учения современных Бахтину мыслителей и ставит ключевую для Бахтина проблему, к решению которой он подходит, прямо или косвенно, в каждой из своих работ. Вместе с тем в раздел «Из жизни идей» помещены некоторые статьи, опубликованные вне этой рубрики, но по тону и по основному признаку (статья «по поводу») целиком примыкающие к ней.
В написании имен и терминов, как правило, сохраняется транскрипция Н. Бахтина (например, «Брадли» вместо «Бредли» или «схизомания» вместо «шизомания»). Все тексты даются по первой публикации (см. библиографию).
Составитель выражает особую признательность О. Коростелеву за помощь в поисках некоторых текстов.
Военный монастырь. Статья написана по личным впечатлениям Н.Бахтина от службы в Иностранном легионе (см. также диалог «Об оптимизме»).
Письма о слове. 1. О произносимом слове. Во время учебы в Петербургском Университете Бахтин входил в малоизвестную ныне поэтическую группу, творчество участников которой ограничивалось, главным образом, пародиями на известные в то время течения и поэтические имена. Часть поэтических опытов участников группы увидела свет в созданном ими издательстве «Омфалос» (подробности см.: Эджертон…, с. 218–225). В 1925 году Бахтин публикует рецензию на сборник Георгия Венуса «Полустанок» (Берлин, 1925), которая дает представление об отношении автора рецензии к самой поэтической «атмосфере» этих лет: «Читая стихи Георгия Венуса, даже возмутиться не хочется. Если образы вульгарны, ритмы расхлябаны, а почти все рифмы с отжеванными концами, то это — просто привычная, почти общеобязательная ныне нечистоплотность, которой наш поэт, может быть, и сам не замечает. Сказать: «Когда года нахлынули на скулы, Как лед Невы весной на острова» — это теперь так же общепринято, как когда-то: «Пылает страсть в груди моей». Это выходит само собой, автор тут ровно не причем. «Георгий Венус» — это имя почти собирательное: таких теперь сотни. Писать иначе — это уже оригинальничанье, а наш поэт, видимо, человек скромный и непритязательный. Редко, очень редко, удается поэту достигнуть какой-то собранности и дешевой, но крепкой выразительности (напр., последнее стихотворение книжки). В общем же все стихи сборника сливаются в одну нерасчлененную словесную массу. Хорошо сам поэт определил свое творчество: «Как боль зубная нудные слова» («Звено» № 123 от 8 июня 1925 г.).
Письма о слове. 2. О формальном методе. О том, что «формальный метод», давая много ценного, в то же время не способен дать эстетической оценки произведения, писал на страницах «Звена» и К. Мочульский (см. его статью «Брюсов и о Брюсове» в первом номере «Звена» за 1923 год). Но если для последнего поэты-акмеисты были «неоклассицистами», то Бахтин в понятие «классического» вкладывал, как видно из предыдущего «письма», совершенно иное. Вопрос о возможных путях развития поэзии и вопросы русского стихосложения, разработкой которых занимались русские формалисты, были для Бахтина связаны самым непосредственным образом. В своем отклике («О русском стихосложении») на работу Б. Томашевского «Русское стихосложение. Метрика» и работу В. Жирмунского «Рифма, ее история и теория» (обе вышли в Петербурге в 1923 г.) Бахтин писал: «Порою в словесном творчестве слабеет тяготение к строю, к твердому отчетливому закреплению, и тогда сокровеннейшие ткани стиха, доселе неразличимые в единстве целостной формы, уродливо обнажаются, становятся доступны любопытству всякого. Такие эпохи — раздолье для прагматиков, теоретиков и классификаторов, и мы видим, что никогда в России не занимались так много теорией словесного творчества, как в наши дни. Только теперь вопрос о стихе, из области догматических утверждений поэтов о своем ремесле, вступил в строго научную фазу и стал, наконец, достоянием кропотливых исследований» («Звено» № 73 от 23 июня 1924 г.). Высоко оценив обе работы и особенно — Жирмунского, Бахтин, тем не менее, делает свои выводы: «В общем, книги Жирмунского едва ли не значительнейшее из всего, что появилось о стихосложении в России за последние 12 лет. Релятивизм его, условно, как метод, вполне правомерен: результаты говорят сами за себя. Но пусть Жирмунский вскрыл длительный и непрерывный процесс там, где мы видели (и продолжаем видеть) внезапную катастрофу, пусть «русская рифма дает нам любопытный пример совершающегося на протяжении двух столетий непрерывного процесса деканонизации точной рифмы»: с этим спорить не приходится, и своевременность такого рода исследований не подлежит сомнению. Однако, мы не должны упускать из виду, что все это лишь необходимая предварительная ступень к будущей строго нормативной теории, которой надлежит построить иерархическую систему форм и приемов словесного творчества и установить критерии оценки и уяснения отдельных явлений. Тогда то, в чем Жирмунский условно видит непрерывное «становление без становящегося», раскроется нам как процесс высвобождения или затемнения тех исконно нам заданных форм, что, по Гете, так же цельны, неделимы и самодовлеющи, как формы органические. И, в конечном счете, исследователю явлений эстетического порядка надлежит, — и по праву, и по обязанности, — не только устанавливать и распределять по рубрикам, но утверждать, оценивать и судить» (там же).
Весьма высоко оценивая специальные, узконаправленные работы русских формалистов и около-формалистов (см. также его рецензию на альманах «Литературная мысль» (Кн. 11. Петербург, 1923), Бахтин иначе оценивал работы с претензией на широкие обобщения. Так он с предельной резкостью отозвался о сборнике Б. Эйхенбаума «Сквозь литературу» (Петроград, 1924), где автор пытается связать эстетику «с гносеологией и онтологией», и в результате — «ограничивается общепринятым историко-литературным переливанием из пустого в порожнее и туманными общими местами» («Звено» № 83 от 1 сентября 1925 г.). Заключительная часть рецензии содержит и некоторый обобщающий вывод: «формальный метод требует, прежде всего, узкой, но вполне определенной постановки проблем и тщательного обоснования высказываемых положений (в этом и его ограниченность, и его сила)» (там же).
Ницше. О влиянии Ницше на Н. Бахтина говорили многие. Быть может, наиболее точно выразил позицию Бахтина в этом вопросе Г. Адамович в своем отклике на завершившиеся в марте 1927 года его лекции «Современность и наследие эллинства»: «Оригинальность Бахтина в том, что он отважился Ницше продолжать, в то время, как до сих пор все только и делали, что его «преодолевали»…» («Звено» № 215 от 13 марта 1927 г.). Сам Бахтин в критической статье «Новая немецкая философия» (подп. псевдонимом «Н. Боратов») мимоходом отметил то, что считал наиболее важным у немецкого мыслителя: «Ницше философ культуры и религиозный философ — вот каким видит его современность» («Звено» № 200 от 28 ноября 1926 г.). Продолжением данной работы стало эссе «Ницше и музыка».
Пути поэзии. Критическое отношение Николая Бахтина к состоянию современной ему поэзии выразилось не только в статьях и рецензиях (см. прим. к «Письма о слове. 1. О произносимом слове»). Сохранился отчет о беседе в редакции «Звена», состоявшейся 18 марта 1926 года, посвященной оценке и выяснению значения литературного движения последних 30–35 лет (т. е. «символизму», «модернизму», «декадентству» и пр.), опубликованный в «Звене» № 166 от 4 апреля 1926 г.:
«Докладчиком выступил Н. М. Бахтин. В общих чертах, основные положения его доклада сводились к следующему: Символизм был движением, стремившимся вывести русскую поэзию из того оскудения и застоя, в котором она находилась во второй половине прошлого века, когда величайшие русские духовные силы были обращены к роману. Символизм тяготел к поэтической форме словесного творчества как наиболее цельной и свободной. Он пытался вернуть поэзии ее истинное, забытое в наши дни, значение силы движущей и устрояющей. От французского эстетического символизма символизм русский независим. Два наиболее совершенные поэта символической школы, Ин. Анненский и Ф.Сологуб, внутренне глубоко чужды движению. Символизм стремился не к уединению или замкнутости в прекрасном, но к овладению всей духовной культурой эпохи. В вечном споре поэта и черни символизм признал правоту черни. Словесные эксперименты символистов, их теоретическое любопытство вызвано желанием вернуть слову его былую силу. Наиболее характерным деятелем русского символизма следует признать Андрея Белого: в Белом отражены и искажены все заветы движения. Единственное художественное достижение символизма — поэма Александра Блока «Двенадцать». Но дух и суть этой поэмы лишний раз подтверждает, что в условиях современной культуры цели символизма неосуществимы. На смену символизму пришел трезвый эстетизм и разнузданный футуризм. Футуризм унаследовал от символизма его жажду всенародности, но он ее исказил. Теперь поэтам остается или продолжать заниматься изготовлением поэтических пустячков, приятных и беспомощных безделушек, или, оставив стихи, обратиться к работе над перестроением всей современной культуры.
В завязавшейся после доклада беседе приняли участие Г. В. Адамович, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, К. В. Мочульский и В. Ф. Ходасевич, причем наметилось несколько тенденций. Одна из них, исходя из мысли, что докладчик правильно оценил сущность и устремления символизма, подтверждала, что действительно, символизм хотел преобразить мир. Не его вина, если ему это не удалось. Символизм оказался похожим на вызывателя духов, который сам затем не в силах их укротить. Час торжества идей и чаяний символизма еще не настал. Это торжество придет тогда, когда в русской литературе Достоевский одержит верх над Львом Толстым. Согласно другому из высказанных суждений, поэзия никогда не руководила жизнью и руководить ею не может. Ни Эсхил, ни Данте, на которых ссылался докладчик, истории не изменили. Их роль уже и глубже. Уклад практической жизни был поэзии всегда враждебен. Никогда между общественным бытом и поэзией сочувствия не было. Если бы поэзия оказалась в центре жизни, как ее руководительница, все обычные жизненные начала и принципы были бы уничтожены. Но жизнь сильней искусства и никогда ему власти над собой не давала и не дает. Наконец, третье мнение сводилось к тому, что символизма, как единого поэтического движения, не существует. То же применимо и к романтизму, и к классицизму, и к футуризму: все это лишь школьные ярлыки, едва ли в достаточной мере оправданные. Существуют в действительности лишь отдельные творцы, мало чем между собой связанные, иногда вполне друг от друга независимые. Среди так называемых «символистов» было несколько замечательных поэтов. Этим роль и заслуги символизма исчерпываются. В заключительном слове Н. М. Бахтин высказал предположение, что почти все возражения резко выражают именно то состояние цивилизации, против которого он в своем докладе восстал, и что поэтому примирение его с большинством оппонентов по существу невозможно».
Среди возражавших Н.Бахтину отчетливо улавливаются голоса: 1) З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, 2) Г. Адамовича и 3) К. Мочульского. Этот спор имел продолжение. 4 июня 1927 года на очередном заседании «Зеленой лампы» (отчеты о заседаниях публиковались в журнале «Новый корабль» и потом были перепечатаны Ю. Терапиано в двух книгах своих воспоминаний) с докладом «Есть ли цель у поэзии?» выступил Г. Адамович. Основной тон доклада выразился в следующих словах: «Единственно, что может объяснить существование поэзии — это ощущение неполноты жизни, ощущение, что в жизни чего-то не хватает, что в ней какая-то трещина. И дело поэзии, ее единственное дело, — эту неполноту заполнить, утолить человеческую душу. Если поэзия этого не делает, не отвлекает человека от жизни, не утоляет его, то, скажу прямо, — это поэзия не настоящая» (печ. по: Ю.Терапиано. Встречи. Нью-Йорк, Изд-во имени Чехова, с. 67–68). В обсуждении доклада приняли участие Н.М.Бахтин, В.В.Вейдле, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, М.Цетлин. Стенограмма речи Н.Бахтина приводится ниже. «Г.В.Адамович очень определенно ответил на вопрос, есть ли у поэзии цель? Нет, и не может быть, по крайней мере, у хорошей поэзии. Почему? Потому ли, что поэзия нечто большее, чем целесообразность, не исчерпывается целесообразностью, но отказывается равняться по целям? Или наоборот, просто потому, что поэзия боится цели, что она не в силах дорасти до действия? Г.В.Адамович явно склоняется ко второму решению и в этом видит главное обаяние и величие поэзии. Дальше оказывается, что поэзия крайне опасна и даже разрушительна. Ведь не потому же, что она хочет разрушать, что ей ненавистен всякий порядок? Ибо в таком случае у нее была бы очень определенная цель, а это докладчик отрицает. Разрушительность поэзии это не цель, но неизбежное следствие. Она вредна, как вреден любой наркотик: потому что дает людям дешевую возможность уходить в нирвану. Таким образом, по Г.В. читать поэта то же, что нюхать кокаин: чувство недоступной нормальному сознанию гармонии и полноты. А потом: неизбежное протрезвление и отвращение к бытию. Собственно говоря, докладчик исходит из общепризнанного представления о поэзии и только ставит точки над и. Поэзия, как принято говорить, утешает, — это бесплодное созерцание, тупик, из которого нет выхода к действию. Подламывающая волю, возвышающая над жизнью, точнее, отрывающая от жизни, просветляющая душу на краткое мгновение, из-за которого приходится горько расплачиваться. Как вывод: будем опьяняться, ибо это очень приятно, но будем знать, что ничего хорошего из этого опьянения не выйдет. Эта апология поэзии как духовного наркоза была бы совершенно неопровержима, если бы поэзия действительно была только созерцанием, пассивным и приятным состоянием. Но так ли это? Ведь по прямому смыслу слова поэзии — действие, даже действие по преимуществу — «ποιησις». — В самом деле, весь аппарат стиха с его нарастающей повторностью ритма есть аппарат магический. Стихотворение, из которого должно быть исключено все кроме необходимого, в котором каждое слово должно быть действенным, — есть как бы заклинательная формула, вызывающая в мир некие силы, носитель энергии, непрерывно излучающейся в жизнь. Стихотворение может быть прочтено и забыто. Но, если оно было подлинно воспринято, его действие продолжается; оно медленно воздействует на душу восприявшего, перерождает его личность. Человек, который долго не читал Пушкина, и даже забыл его, все-таки был бы совершенно иным, если бы никогда его не читал. Таким образом, поэзия не есть момент, не есть пассивное состояние, в которое можно уходить с головой, как в наркоз, а живая сила. Но если сила, то благотворная или губительная? Так мы подходим к исходному вопросу: есть ли у поэзии цель? Посмотрим, так ли это. Да, всякое действие ставит себе твердую и определенную цель. Более того, тот, кто действует, должен быть слеп ко всему тому, что не его дело. Все это так. Тем не менее только ничтожное действие исчерпывается целью, всякое подлинное, значительное действие перерастает цель, отрывается от действующего, становится независимым от него и порою грозно и неумолимо обращается против него же самого; оно живет своей жизнью, развивается по своим законам или по своему беззаконию. Так же и творчество. Только тот, кто делает мертвую куклу, может быть уверен, что она до конца останется такой, какой он ее сделает. Кто создает живое, тот должен сознавать, что рано или поздно он будет не в силах связать его своим заданием, потеряет власть над ним. Так же точно и поэт. Возьмем пресловутую 4-ю эклогу Виргилия, наилучшие слова, оставшиеся такими, какими они возникли в устах поэта. Виргилий твердо знал, чего хочет и умел найти слова, которые могли бы его выразить с должной чистотой и ясностью. Но хотел ли он, знал ли, с какими силами вступит в связь его создание? Не содрогнулся ли бы он от ужаса, если бы услышал пресловутую речь Лактанция на Никейском соборе? Как человек, поэт твердо должен определить себя, свою личность, свою веру. В то же время, он должен знать что создает нечто, что больше его самого. Он должен знать, что он лишь вызвал в мир какую-то силу, которая будет рушить или созидать, уже не считаясь с его намерениями. Поэзия, губительна она или плодотворна? И то и другое, она больше этого различия, она перерастает его, она бесцельна, но совсем не в том смысле, как говорил Г.В.Адамович. Не потому что отрывает от жизни, а потому что она есть чистейшее выражение божественной бесцельности самой жизни» (там же, 74–77).
Поль Валери — мыслитель. Некоторые положения, мимоходом сказанные в седьмой главке этой статьи, развиваются в заметке Бахтина (за подписью «Н.Бор.») «Из записей Поля Валери» (Звено № 225 от 22.5.1927), предваряющей публикацию нескольких фрагментов французского писателя:
«В майском номере «Nouvelle Revue Francaise» воспроизведено несколько отрывков, извлеченных из «Analecta» Поля Валери — беглые записи, мысли, схваченные и закрепленные в резком ракурсе, почти не связанные между собою и лишь очень отдаленно группирующиеся вокруг двух тем: «Симуляция» и «Отношение беспорядка и возможного». Эти отрывки, как и те записи из «Личных тетрадей», что появлялись раньше, в каком-то смысле даже более характерны для Валери, чем его законченные и внешне упорядоченные вещи. Творчество Валери фрагментарно по самой своей природе — не «афористично», но именно фрагментарно, случайно.
Ведь афоризм всегда однозначно и твердо закрепляет момент какого-то пути; он — часть, у которой должно быть свое место в целом. Только самим мыслителем это целое не дано, а лишь предуказано и задано читателю: читатель обязан соучаствовать в строительстве, и лишь постольку данные ему части приобретают жизнь и ценность.
У Валери не то. Ни один из его фрагментов не хочет быть частью, решительно отказывается войти в состав какого бы то ни было целого, хочет быть целым для себя. Вновь и вновь находить и формулировать себя — всего себя — по любому, самому внешнему, поводу, говоря о любом, самом случайном, предмете — вот предел, к которому тяготеет творчество Валери. Разница между отдельными фрагментами — лишь в большем или меньшем совершенстве, остроте, адекватности формулировки.
Вот почему философствование Валери не может и не должно быть сводимо ни к каким «общим положениям». То, о чем он говорит, и то, что он говорит, — не существенно: это лишь случайный материал, в принципе всегда заменимый любым другим. «Наша философия характеризуется не своим предметом, но своим аппаратом».
Что же это за «аппарат» — познавательный метод, художественный прием? Ни то, ни другое, но какое-то сложное единство, в котором и ритмическая структура фразы, и тончайший стилистический нюанс, и четкая, математически заостренная формула — равно существенны: живут друг другом, поддерживают друг друга. Отделите одно от другого — и мысль Валери ускользает, как вода между пальцев».
Паскаль и трагедия. Статья стала своеобразным продолжением цикла лекций «Современность и наследие эллинства» (см. в наст. издании). В примечании к статье Бахтин писал:
«На собрании «Зеленой лампы», посвященном обсуждению некоторых положений, высказанных мною в цикле лекций «Современность и наследие Эллинства», мне было сделано, между прочим, следующее — очень существенное — указание: «Нельзя считать трагическое постижение жизни исключительным достоянием язычества; и христианское мироощущение может быть (и бывало) глубоко трагическим». Мне хотелось бы здесь проверить это утверждение и показать — исходя из знаменательного случая Паскаля — что трагедия несовместима с христианским сознанием (понятым в самом широком смысле). Есть ли это недостаток христианства или, наоборот, его преимущество, и какова вообще религиозная ценность трагедии — этого вопроса я здесь не ставлю».
Два облика Поля Валери. Теме «Валери-академик», затронутой в этой статье, предшествовала заметка «Поль Валери — академик» («Звено» № 147 от 9 нояб. 1925 г., подписанная инициалами: «Н.Б.»):
«Валери избран в Академию. Известие об этом — и радует и несколько удивляет. Удивляло уже и то спокойное упорство, с каким сам поэт выставил и продолжал поддерживать свою кандидатуру. Оставим в стороне разнообразные нелитературные соображения, на основании которых вербуется обычно главная масса академиков. Из оснований чисто литературных, — главное, — это, несомненно, «общепризнанность», — все равно бульварно-доступная (Ростан, Омэ), или спокойно-неоспоримая (Анатоль Франс). Для художника с своеобразной и резко-выраженной индивидуальностью (независимо от степени его дарования) есть только одно условие для официального бессмертия: «остепениться». Это то, что привело автора «Chansons des Jeux» к выспренным спортивным одам. Но разве этим путем пришел Валери к академическому креслу от определяющих бесед с Маллармэ, раскрывшего ему, в созерцании звездного неба, императив космической «Поэтики»? Нет, от первых стихов до «Jeune Parque» и «Charmes», от «Soiree avec Monsieur Teste» до «Эвпалиноса» — Валери остается все тем же. Но, может быть, банальный факт академического избрания — это совсем не случайный знак того, что уединенные искания Маллармэ, поэта, назначение которого было не творить, но «повивать идеи» — что эти искания ныне, в лице Валери, обрели осязательную плоть и властно притязают на некую «общеобязательность»?
He это ли притязание на общеобязательность руководило Валери, когда с такой решительностью он утверждал свое право на избрание? В лице автора «Cimetiere marin» и «Эвпалиноса», могучий и опасный фермент маллармэизма до конца ассимилирован и творчески использован французской поэзией и мыслью: ничего не нарушая, он лишь оплодотворил и углубил исконные традиции французского духа. Отсюда несравненное двойственное обаяние Валери: ощущение волнующей сложности и новизны и, в то же время, какая-то спокойная, как бы расиновская опрозраченность. Здесь до конца оправдало себя бесплодное искание Маллармэ, как некогда оправдал себя Сократ, — искатель и совопросник: — чье отрицание предопределило умопостигаемую музыку платоновских идей. Избрание Валери, каковы бы ни были его ближайшие поводы и причины, — событие значительное и радостное. Конечно, официальное бессмертие академика и подлинное бессмертие поэта — понятие весьма разнородные. Но все-таки отрадно, когда, по какой-то странной случайности, они вдруг совпадают».
Четыре фрагмента. Эссе представляет собой более детальную разработку отдельных положений, высказанных в других статьях и диалогах, а также в лекциях «Современность и наследие эллинства».
Антиномия Культуры. Появлению эссе предшествовала лекция Н.М.Бахтина на тему: «Самоотрицание культуры», прочитанная 15 декабря 1927 (Salle Gavefu, 45–47, rue La Boetie).
Разложение личности и внутренняя жизнь. Последняя работа Н.Бахтина, опубликованная на русском языке. В некотором смысле — итог «парижского» периода его творчества.
Н.Бахтин начинал как поэт, статьи писал и как филолог, и как философ. Поэтому решить с полной определенностью, кто из героев этих диалогов и разговоров представляет взгляды самого Бахтина, вряд ли возможно. Скорее, каждое из этих произведений — фрагмент длительного спора с самим собой. Здесь нагляднее всего проявился стиль его мышления: отрывочность, стремление продумать до конца одну из «альтернатив», отодвинув подобную же проработку противоположного мнения на неопределенный срок.
Несомненно, в выборе жанра сказалось стремление следовать античной традиции, хотя не менее очевидно и влияние русской традиции («Три разговора» Вл. Соловьева, возможно — «Русские ночи» В.Одоевского, «На пиру богов» С.Булгакова).
Под общей рубрикой «Из жизни идей» Н.Бахтин публиковал на страницах «Звена» статьи, толчком к написанию которых становилась, как правило, та или иная книга. Первой статье из этой серии — «Победы фрейдизма» — была предпослана редакционная заметка: «Под общей рубрикой «Из жизни идей» редакция предполагает помещать краткие заметки из области современных культурно-философских исканий. При этом редакция, не руководясь никаким заранее определенным планом, уверена, что все наиболее показательные явления в указанной области найдут свое отражение во вновь вводимом отделе» («Звено» № 124 от 15 июня 1925 г.).
Степень самостоятельности статей колеблется от простого пересказа (см., например, «Пять идей»), — что, впрочем, было редкостью, — до совершенно оригинальных работ, где только тема определена вышедшей в свет книгой (см., например, «Константин Леонтьев»). В целом, собранные вместе, эти статьи дают представление не только о пристрастиях Н.Бахтина, но и о его «творческой лаборатории». Многие из этих статей послужили толчком для других работ Н.Бахтина.
«Современность и наследие эллинства» (изложение цикла лекций Н.Бахтина). Все четыре лекции этого цикла: «История и миф», «От Гомера к трагедии», «Торжество и разложение трагической концепции мира» и «О возможности и условиях нового Возрождения», — были прочитаны Бахтиным в феврале — начале марта 1927 года в помещении Русского Торгово-Промышленного Союза, 5, place du Palais-Bourbon.
Отчет о лекциях был опубликован в 216 и 217 номерах «Звена» (от 20 и 27 марта 1927 г.) за подписью «Н.Р.» Точность изложения, особенности стиля и сам факт публикации отчета на страницах «Звена» свидетельствуют, что автор отчета пользовался материалами лектора.
Сразу по окончании лекций Бахтина им посвятил одну из своих «Литературных бесед» Г.Адамович («Звено» № 215 от 13 марта 1927 г.), где написал о впечатлении слушателей:
«Его лекции о Греции и ее духовном наследстве увлекли, скажу даже, очаровали присутствовавших. Увлекала убежденность, стройность, сила мысли, глубокий пафос ее, и очаровывали те «высоты», к которым она была направлена. Историческая тема оказалась современнейшей. Бахтин говорил об эллинстве, но по существу он страстно проповедывал о единственно «интересном» — о жизни и судьбе человека. И столько вложил он в свою проповедь огня, столько непримиримости, что, право, «в наш равнодушный век» эти мало обычные лекции почти ошеломляли. Странный и сложный облик Бахтина достоин самого пристального внимания. Pro domo mea: лично я не нахожу в себе силы согласиться ни с одной его мыслью, ни с одной частицею этих мыслей, меня все от них отталкивает, все в них коробит. Но мне хотелось бы самого широкого распространения этих мыслей, потому что в них есть подлинная энергия, — а это и большая редкость, и большое благо».
Высказав свои возражения и заметив, что «критика современности оказалась у Бахтина неизмеримо бледнее и слабее анализа эллинства», Адамович коснулся и вопроса о том, насколько сам Бахтин соответствует своим идеям: «Я не полемизирую с Бахтиным и не возражаю ему. Спорить или доказывать нечего. Все дело тут в ощущении. Мне, кстати, показалось, что ощущение Бахтина — остро-враждебное его эллинству, т. е. по природе платоновское, галилейское, со стремлением к «безграничности». Но ум восстает против чувства и наперекор самому себе Бахтин еще утверждает то, чего уже не любит. И еще мне думалось, что, если кто-нибудь отказывается от «вечности», брезгует ею, надменно возвращает свой билет, уверенный, что никакого спектакля и не предстоит и «все это лишь надувательство» — то ему пожалуй не сдобровать еще и здесь, как это случилось и с Ницше. Отрава, в нем от рождения заложенная, не находя выхода, может погубить его».
Лекциям Бахтина было посвящено и специальное заседание «Зеленой лампы» от 12 марта 1927 года. На самое значительное возражение — о трагедии и христианстве — Н.Бахтин ответил статьей «Паскаль и трагедия» (см. выше).
Георгий Адамович. Памяти необыкновенного человека. Опубликовано в газете «Новое Русское слово, № 14030, от 24 сент. 1950 г.
Сергей Федякин