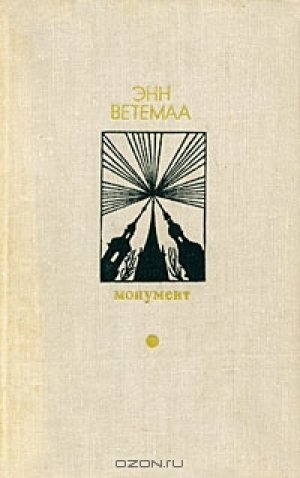
НАПУТСТВИЕ
Дорогие эстонские братья и сестры, ваш Калевипоэг приветствует вас из Ада!
Тут у нас сейчас время вечернее, дела все переделаны, отвозились, отмаялись, можно и пошабашить, а что не закончено, придется в завтрашний график перенести.
Еще кое-где слышно запоздалое бренчание кантеле, нарушающее вечернюю тишину — ведь и здешняя неугомонная молодежь не спешит юркнуть в постель, — но сию минуту протрублю я в свой рог сигнал отбоя, и Ад погрузится в мирный сон. Все уснут, кроме самого Рогатого, его супруги, до ночи за прялкой сидящей, золотую пряжу прядущей, да меня, его главного управляющего. Мы трое уже в таких летах, когда сон заставляет себя долго ждать и иной раз лишь под утро вежды смежит.
Из-под хозяйкиной двери к моей комфортабельной сторожке тянется тоненькая ниточка света. Глядя на сей лучик, вспоминаю и свою младость. Далеконько они ныне, мои земные богатырские денечки, только эта тоненькая нить меня с ними и связывает. Ведь вам, моим образованным читателям, наверное, ведомо, что чем тоньше луч, тем более четкая картина получается на стенке камеры-обскуры. Всматриваюсь я в эти картинки из своих юных лет и размышлениям предаюсь.
Жизнь свою я прожил, как подобает герою: вкалывал на работе, дрался с врагами. И не было у меня на земле минутки спокойной, чтобы хоть что-нибудь до конца домыслить. Теперь могу я сим заняться. Я здесь крупная шишка — страж врат Ада, и работа у меня не пыльная.
Каким зрю я себя в достопамятные времена моей младости?
Нравится ли мне тогдашнее мое «я», преградой лет отделенное?
Смешно вспоминать, до чего этот надутый молодой петушок любил права качать! Но я не стыжусь его, и — не сочтите меня фанфароном — иной раз в деяниях Калевипоэга можно нечто такое узреть, отчего на душе тепло становится. Ведь я о своей младости вспоминаю, а молодежь с ее горячими порывами мила мне.
Вы там, на земле, особливо те, что постарше, зело горазды воспоминания свои строчить — молодым в назидание, себе в утеху. Откуда мне сие ведомо? Ну, мы тут о вас знаем больше, чем вы полагаете. Но пусть то вас не слишком страшит.
Признаюсь, давным-давно уж подумываю я, что и мне надобно бы воспоминания свои запечатлеть. Правда, жизнеописание мое перьями многих достопочтенных летописцев (среди них хочу особливо отметить господина Крейцвальда) в значительной мере записано. Однако в оных писаниях не все удачно, кое-что кое-где малость набок съехало.
Вы спросите, не собираюсь ли я себя большим докой в сочинительстве выказать, чем те высокочтимые мужи? Отнюдь нет, о сем я и помыслить не смею! Иные помыслы владеют мною. Не в меру ретивые биографы перехваливают да приукрашивают поступки мои и поведение; именно с этого боку осмеливаюсь я чуток подправить.
Долго я для письменной работы с силами собирался и дух укреплял. С друзьями совещался; они мой замысел не охаяли. Но каковым предстать мне пред вами? Не подобает ведь древнего героя Земли эстонской в виде серого неуча экспонировать, тем паче что дошло до меня, будто немало среди вас моих ярых поклонников и многие вспоминают обо мне с немалым пиететом.
Поскольку при сошествии моем в Ад книжная премудрость была мне начисто неведома, задумал я культурный уровень свой повысить. Усердно трудился над грамматикой, чужеземную речь штудировал, тьму мудрых и заковыристых словечек выучил. Постараюсь доверие оправдать и достойный вклад внести, как у вас принято говорить. Ясное дело, наперед не ведаю, как оно все получится.
Беру рог и отбой трублю. Протяжно, глухо рокочет он под высокими сводами Преисподней. Белогривый, старый мой мерин, привыкший уже к ежевечернему туру-руру, повернул на миг свою морду ко мне и опять принялся овес хрупать; заметил я в сей миг его мудрый и словно бы одобрительный взгляд.
Кладу заранее припасенную для писания тетрадь на широкий теплый загривок мерина.
Ныне положу я начало своему труду.
Alea Jacta est![1]
I
Безупречный созидатель,
Песнопенье начиная,
Горсть берет в стране мечтаний,
Горсть другую — в доме правды,
Третью горсть — в деревне слухов;
Горсть большую в долг берет он
Из ларей усадьбы мысли [2] …
Любезный читатель! Льщу себя надеждой, что ты, взявший в руки сей манускрипт, уже хоть в малой мере знаком с историей нашего семейства. И потому мне, наверное, нет нужды начинать свое повествование, как говорится, от Адама. Сказать по правде, такая задача была бы мне не по силам, ибо в те давние времена, о коих я поведу речь, на Эстонской земле человека ценили не за пышность и развесистость его родословного древа. Поэтому я о своих далеких предках не больно много знаю. Я, Калевипоэг I, во всех своих делах и свершениях сам себе был опорой, я, как говорят чужеземцы, self-made-man[3].
И все же в немногих словах хотел бы я вам о роде Калевов поведать.
Будучи сыном Калева, прожил я свою жизнь не токмо без фамилии, но и без собственного имени, но ежели бы замыслил завести себе герб, то на нем надлежало бы изобразить двух птиц — орла и тетерку. Старые люди сказывали, что отца моего в Эстонскую землю северный орел на своих крыльях доставил. Орел, конечно, не самое надежное средство воздушного сообщения, но презентабельный его пассажир в глазах очевидцев выглядел весьма импозантно. В те времена люди взирали на небеса с опаской и душевным трепетом, и мой отец, человек мудрый, при выборе транспорта это дело, несомненно, учел. Во всяком случае, вскоре после приземления ему удалось возвыситься до положения ведущего лидера и будущему государству крепкий краеугольный камень заложить. О братьях отца знаю я совсем мало.
сообщают летописцы. Отбывший в Россию дядя вроде бы там прибыльное дело основал и богатым торговым человеком стал. Ежели взять в соображение размеры Российского государства и тамошние благоприятные возможности для предприимчивых людей, следует дядин поступок разумным посчитать. Другой мой дядя, как сказывают, превыше всего ценил красу суровой природы севера и потому связал свою судьбу с дальней Норвежской страной. В народных преданиях воспет он как отважный воин, и я чуток на него смахиваю: в жизни своей я больше в ратных делах отличался, чем в торговых.
Ежели все, что в памяти народной об отце и дяде хранится, можно не процеживая за правду принять, то устная молва о том, каким манером моя мать на свет родилась, есть не что иное, как пустая трепотня, или же, по-научному, фольклор. Она будто бы вылупилась из тетеревиного яйца, которое в одно воскресное утро нашла направлявшаяся на выгон еще довольно молодая, недурная собою вдова. Хотя кое-кто из любителей позубоскалить и тщится эту поэтическую версию охаять, подпуская всяческие шпильки на счет гарпий и сиринов, я считаю, что легенда о рождении моей матушки зело благолепна. Видать, историю с тетеревиным яйцом по той причине измыслили, что такое диво, такая краса, как моя дорогая родительница, просто не могла явиться на свет натуральным образом. Сказывают, что некоторые великие мужи и жены многих народов начало рода своего ведут от проглоченной горошины. Мыслю я, что способ, для рождения эстонского народа измышленный, много поэтичнее.
Как хором твердят историографы нашего семейства, матушка моя в девичестве благодаря румяным щекам, пышной фигуре и примерному благонравию немалой популярностью пользовалась. Ни одна девица в округе не пела звонче ее в хороводе: «Я у мамы ягодка, попробуй-ка сорви», не крутила резвее полушалок в танцах и не удирала шустрее от преследователей в игре «третий лишний».
И еще, как сказывают, у матушки были на удивление полные ножки и до умопомрачения широкие бедра, проще сказать, куда ни кинь, была она писаная красавица. Ясное дело, ворота матушкиного родного хутора то и дело попадались на пути искателей ее руки. И не зря прозвали родительницу мою Линда-шельма: всякий раз ловко выбиралась она из льстивых сетей сватов и женихов, кои вынуждены бывали не солоно хлебавши восвояси отправляться.
Ведомо мне, что не подобает сыну обсуждать моральный облик родной матери, тем паче мнение свое о сем всенародно высказывать, но должен я с некоторой укоризной заметить, что матушка порой опрометчива бывала. Всему свету известно, что нет для молодых девиц приятнее времяпрепровождения, чем достойных женихов отваживать и носик свой при этом все выше задирать. И все же дорогая моя матушка могла бы хоть маленько кичливость свою умерить. Ведь через это я, ваш герой, расположения и протекции сильных мира сего лишился и многих великих свершений не свершил, а сие есть для героя столь малого народа роскошь непозволительная.
К примеру, весьма непочтительно обошлась матушка с достославным Месяцем. Когда сей высокородный господин прибыл к ней на пятидесяти лошадях в сопровождении шестидесяти слуг (тоже несколько своеобразный, но весьма впечатляющий способ передвижения) и предложил свою руку и сердце, мама даже не удосужилась из бани выйти. Из-за двери она звонким голосом пропела:
Вполне понимаю, что многочисленные обязанности Месяца, его переменчивая внешность (то тощий и горбатый, то вновь полный и круглый, как головка сыра), а такожде безалаберный образ жизни не могли прийтись по нраву добродетельной и избалованной девице; понимаю, что постоянные дежурства господина Месяца в ночную смену вряд ли могли споспешествовать упрочению супружеских взаимосвязей, но хоть высунуться-то из бани моя матушка могла бы?! Ведь Месяц — лицо высокопоставленное и влиятельное, а во время солнечного затмения, можно сказать, даже руководящее! Маме следовало бы обойтись с ним полюбезнее, сие не токмо мое мнение, его разделяет одна из теперешних моих приятельниц — героиня эпоса другого народа. Когда я поведал ей, как мама Месяцу нос натянула, она в ответ сказала, что более опрометчивый поступок и вообразить невозможно. Этот матушкин глумливый отказ вполне мог оказаться одной из главных причин, почему Месяц до наших дней столь жестоким образом с женским полом обходится и почему все женщины в лучшие свои годы столь неумолимо периодическим месячным циклам подчиняются.
— Да, Месяц кроваво отомстил, — промолвила приятельница, вздохнув, и по-дружески посоветовала об этой истории помалкивать, по крайней мере при женщинах.
И, конечно, сей Князь Ночи ко мне весьма прохладно относился и палец о палец не ударил, чтобы помочь хоть в одном из моих героических деяний.
Аналогичная история произошла и с Солнцем…
Я не утверждаю, что следовало всенепременно принять предложенные Солнцем руку и сердце, с моей стороны это было бы дурацкой идеей, ведь тогда я не мог бы стать самим собой, тем, кто я есмь, но что ни говорите, матушка моя выбрала отнюдь не оптимальное решение: ей надо было, вежливо улыбнувшись, сослаться на свою молодость и попросить время для размышлений. А того мудрее было бы немного пошевелить мозгами насчет предстоящей биографии будущего сына и, возложив на жертвенный алтарь свою гордыню, попытаться с большим снисхождением отнестись к разумным намерениям искателя ее руки.
Возможно, оно и негоже сыну таким манером рассуждать, но я не могу от сего отказаться. Потому что я весь свой век общественные интересы ставил стократ выше личных. И кто знает, если бы моя мама была менее строптивой, наш небольшой многострадальный народ в награду за ее толерантность, может статься, дождался бы от своего героя более крупных героических деяний.
Я не стал бы столь долго распространяться об этих отворотповоротах, если бы последующие соискатели маминой руки — Владыка Воздуха и Властитель Вод — оказались счастливее и столкнулись с несколько большей учтивостью.
Хорошо еще, что хоть Земля не пыталась к тебе свататься, милая мама! Хоть у одной из четырех великих стихий сохранилось дружественное расположение к нашему семейству. Сильфы, саламандры и ундины не были наставниками и помощниками твоего сына, но иной раз он получал дельные советы и ценные указания от простых служителей Земли — ежей, кузнечиков и лягушек. И на том спасибо! Я земной герой и вовсе этого не стыжусь.
По имеющимся сведениям, моему дорогому отцу Калеву матушка подарила свое сердце с первого взгляда:
И мать, и братья Линды были не в восторге от ее избранника, но упрямая девица стояла на своем, и вскоре сыграли пышную свадьбу. Кое-кто, говорят, пятки до крови стер, плясавши.
В завершение сей главы, изложение коей на бумаге мне вельми больших трудов стоило, добавлю несколько слов.
Дошло до меня, что не перевелись еще среди вас скептики, недоверчиво к историям о высокопоставленных искателях маминой руки относящиеся. Потому, наверное, сии истории многие за истину не приемлют, что в наши дни могущественные силы природы и повелители стихий не взирают, как в былые времена, на женский пол с вожделением, слюнки пуская. Какая же тут подоплека? Не так-то просто на этот вопрос ответ дать. Возможно, что бывшие аматеры женских прелестей с той поры несколько поунялись. Но вряд ли это первопричиной является. Не сами ли женщины в том виноваты? Частенько последнее время видеть приходится, как главные своего пола украшения — женственность и кротость — они забвению предают, а норовят мужские брюки напялить. «Cherchez la femme!»[4] — этот старый боевой клич потерял ныне свой первоначальный смысл и звучит по-новому. Так считает наш предводитель Рогатый Сатана. Но лично я полагаю, что такого рода истории, как с моей матушкой, происходили, и в наше время отнюдь не исключены.
И вот, любезные эстонские девицы, когда вы в жаркий летний день, на лоне природы оказавшись, на теплый песочек возляжете, телеса свои солнцу открыв, либо ласковым волнам предадитесь, вспомните тогда о могущественных силах природы и повелителях стихий — будьте осмотрительны и не слишком доверчивы. Не снижайте уровень своей бдительности и при этом высоко держите знамя своей скромности! Решив кое-что себе позволить, кое-чего не позволяйте. Не забывайте, что стыдливый румянец не только окрашивает, но и украшает ваши ланиты. И если вы обо всем этом будете помнить, то, кто знает, возможно, и на вашу долю выпадет высокая честь, коей моя матушка удостоена была, но воспользоваться не сумела.
II
Всем ведомо, что в нашем семействе я — последыш. Если правду говорит народная молва, то дорогая моя матушка, этим последним яйцом несясь, ужаснейшие муки испытала. Что ж, очень может быть. В молодые годы — совестно признаться — кичился я своим многотрудным появлением на свет. Ведь даже бывалая повитуха Изверга-лиха в тот раз оплошала, и дабы дитя народилось, потребовалось вмешательство нашего главного божества Уку, что следует считать добрым предзнаменованием. От такого дитяти в будущем можно многого ожидать.
Каковы были мои габариты и вес, точно не известно. Но все согласятся, что уж коль моя мама, сроду сложа ручки на манер важных барынь не сиживавшая, целый Вышгород по камушку в переднике перетаскавшая, своими силами с родами не управилась, то чадо было что надо.
Летописцы утверждают, что в младенчестве был я вельми здоров глотку драть:
У богатырского дитяти силы хоть отбавляй, а в колыбели не развернешься, вот я и ревел без передышки. Впрочем, крик изрядно укрепил мои легкие. По сей день неведомы мне грудные болести, думаю, потому, что кричать не ленился.
Дошло до меня суждение, будто причиной моего рева следует считать огорчение по поводу того, что рожден я героем столь малого народа. Это наглое вранье! Скорее можно согласиться с теми из знатоков народного творчества, кои утверждают, не знаю, всерьез или для смеха, будто вопил я оттого, что в моей колыбельке змей для тренировок не было. Ведь Геракл, которому в грудном возрасте такая возможность предоставлена была, впоследствии добился всенародной и даже всемирной известности. Правда, в основном потому, что хорошо чистил конюшни.
В люльке я не задержался. Мне было два месяца отроду, когда, разломав в щепки свое узилище — колыбель, — начал я силушку растить — швырять здоровенные камни и биты. Кое-кто болтал, что были они размером этак с халупку бедного мужика, но я думаю, что навряд ли. Хотя в общем-то я был форменный вундеркинд и всех своих сверстников изрядно мощностью превзошел. Ошибаются утверждающие, что камни я бросал лишь ради забавы, по детской резвости. Увы! Нередко кидался я ими, вознегодовав и озлобясь.
И вот почему.
Моя дорогая мама, рождением моим неувядаемую славу себе снискавшая, после смерти отца осталась интересной молодой вдовой в расцвете сил. Помню ее розовые щеки, голубые глаза, доверчиво взиравшие на белый свет, а также ее пышную грудь. По причине матушкиной красоты и обходительности возле наших ворот вечно ошивалась орава воздыхателей, алчущих Линдины слезки ласково утереть. Они ездили
Да, юному Калевипоэгу можно посочувствовать. Мало у кого в детстве столько беспокойных ночей было…
Вы спросите, почему же не иссякал поток женихов, ежели им упорно отказывали? Дело в том, что матушка моя была женщина добродетельная, даже, можно сказать, порядочная. Это уж точно. И ежели кто-либо осмелится в сем усомниться, я тому в два счета будку разрисую. Что верно, то верно, искателей руки отшивали без передышки. Но ежели в юности матушка со своими самыми что ни на есть высокородными женихами обходилась весьма надменно, то теперь в нашем семействе искателей руки браковали деликатнее. Сперва ухажеру давали понять, что вроде бы обмирают, ну прямо-таки без ума от него, а в последний момент вежливо и интеллигентно отвергали его предложение руки и сердца под предлогом необходимости поразмыслить. А почему? Попробуем понять психологию одинокой работящей вдовы, самоотверженно пестующей сыновей: неужто заслуживает она порицания за то, что по-прежнему хочется ей быть центром внимания, предметом восхищенных взоров именитых и ученых господ? Причем с той лишь целью, чтобы в конце концов дать им от ворот поворот, чем самой себе и всему свету неопровержимые доказательства самопожертвования и бескорыстной материнской любви представить. Льщу себя надеждой, что взыскательный читатель мою матушку оправдает.
Тем не менее нашествие поклонников не прекращалось. У меня и сейчас стоит перед глазами такая картина: наши изукрашенные затейливой резьбой ворота захлопываются за очередным одураченным претендентом; сват мрачно нахлестывает лошадь. А матушка в кухне вместо выходного платья надевает будничный наряд, на губах ее играет загадочная улыбка (примерно такая же, как на известном портрете Моны Лизы). С выражением тихой радости на лице нежно гладит она сыновей своих по головке и, умиротворенная и счастливая, направляется в огород. Еще видно, как в последний раз взбирается на пригорок поезд жениха, и вот уже исчезает он за горизонтом. Матушка, прикрывшись рукой от восходящего солнца, смотрит вослед, смахивает с ресниц одинокую слезинку и склоняется над грядкой, тихо напевая:
Утреннее небо сияет лазурью, птицы щебетанием славят творца, я же со слезами радости на глазах сижу возле матушки под деревом. Видать, здорово опасался я всех этих чужих мужиков, наперебой совавшихся в отчимы бедному дитяти. И то сказать, ведь недаром редко о мачехах и отчимах доброе слово услышишь.
Должно полагать, что матушка догадывалась о моих страхах и даже тайно терзалась угрызениями совести, но напрочь отказаться от невинных вдовьих забав была, видать, не в силах.
Под мамину песенку я вскорости засыпаю после бессонной ночи. Когда же, бывало, проснусь, — а просыпался я обычно в обеденную пору, — матушка тут же, склонившись надо мной, кормила меня, как испокон века заведено, грудью. До чего же вкусное было материнское молоко!
Набивши брюхо, я недолго пребывал в состоянии покоя. Ведь к вечеру следовало ожидать прибытия новых женихов. И я обычно забирался на холм повыше, чтобы издалека заметить их приближение. Натаскаю, бывало, туда камней покрупнее да городошных бит и, только очередная банда воздыхателей подъедет поближе, давай швыряться, а рука-то у меня была хоть и детская, да могутная. Каменюги здоровущие — в народе их зовут «девичьими камнями», а вернее бы звать «вдовьими», — и тех, кто попугливее, не единожды удавалось мне отваживать.
Дотошный читатель, может статься, подивится про себя: как же это, дескать, такой дюжий парень материнскую грудь сосет — но так оно и было:
Теперь, у порога немощной старости, прочел я кучу всяких философских и нервопсихопатических книжек; во многих из них говорится, что это смертный грех — здоровенных мальцов вроде меня грудью вскармливать — и что из этого могут воспоследствовать разнообразные душевные расстройства и неурядицы. Да только не каждому болтуну, вроде Зигмунда Фрейда, верить следует.
Всякие хулители да зубоскалы (а такие завсегда возле любого героя околачиваются) немало острили насчет моего способа пропитания, даже до того договорились, что, мол, потому я и холостяком остался. Что ж, на чужой роток, как говорится, не накинешь платок. О том, по какой причине пожелал я свою жизнь в одиночестве коротать, читатели мои смогут из дальнейшего повествования узнать. Одно скажу: вскормленный сытным и питательным материнским молоком, стал я могучим богатырем, коего никто побороть не мог. И больше я об этом разговаривать не желаю.
А что касаемо до искателей матушкиной руки, так некие из них и мне нравились. Больше прочих был мне по душе один финских кровей холостяк, а по совместительству заклинатель ветров, Дуйслар он прозывался. Всегда, бывало, найдет время рассказать мне какую-нибудь сагу или легенду; преинтереснейшие это были истории! А еще он знал великое множество всяких заклятий и заговоров, от самых заурядных, ходовых заклинаний змей до таких магических слов, коими погоду наворожить можно (поскольку он то и дело гостил у нас, морковка на огороде моей матушки от засухи никогда не страдала).
До сей поры памятны мне вечера в нашем хуторе наверху, в городище Иру, когда, сидя у Дуйслара на коленях, слушал я сказания и на заходящее солнце смотрел, а мама хлопотала у очага и ласково на нас поглядывала. Но порой сказы Дуйслара становились столь мудреными и закомуристыми, что я ничего взять в толк не мог. Матушка, бывало, как заметит, что его опять занесло в сторону, тут же пожурит: «Тьфу, старый греховодник! Какого черта парнишке этакую похабщину несешь! Вот как вдарю поварешкой промеж глаз…»
Да, это были славные вечера, полные теплоты и взаимопонимания, и почтенный господин Крейцвальд весьма заблуждается, когда пишет о Дуйсларе:
Позднейшие исследователи, к счастью, сию неточность исправили и в своих комментариях твердо заявили, что столь почтенную даму такими подарочками не прельстишь. Кстати, ни вина, ни меда мы и в глаза не видали.
Сейчас, вспоминая о тех давнопрошедших временах, я полагаю, что Дуйслар и матушка моя могли бы стать неплохой парочкой и на старости лет друг для друга опорой оказаться. Дуйслар пришелся матушке по душе, и его финское происхождение для нее препоной не было. Смекаю я, что она ничуть не замедлила бы прах земли эстонской с ног отрясти, кабы не мы, сыновья. Многие знамения свидетельствовали, что предназначено мне было королем стать. И, ясное дело, самоотверженной моей родительнице хотелось бы своего сыночка не каким-то там эмигрантом, то бишь королем в изгнании, видеть, а самым что ни на есть законным. Между прочим, Дуйслар в своей Финляндии занимал должность заклинателя ветров — пост по тем временам весьма престижный.
В те поры, когда Дуйслар гостил у нас, опасаться жениховского нашествия не приходилось; ежели какие смельчаки пытались приблизиться, им доставалось и в хвост и в гриву. Набрав полную грудь воздуха, Дуйслар шпиговал его разными волшебными словами, и ужасающей силы вихрь отбрасывал притязателей назад — юзом неслись они по той же дорожке вверх тормашками. Вспоминается мне, что матушка моя, да будет ей земля пухом, не терпевшая никакого насилия и аж само Солнце упрекавшая в жестокости, с любопытством наблюдала за такой пневмочисткой дороги.
— Ну пошто ж ты так уж шибко-то? — слабо протестовала она, когда траектория полета какого-нибудь всадника чересчур круто взмывала вверх, однако же с интересом наблюдала за полетом и словно бы не замечала руки Дуйслара, поглаживающей меж тем ее бедра.
Я тоже не обращал на это внимания, ибо воздушные аттракционы претендентов являли собой вельми занимательное зрелище. Тут же бросался я вслед за злополучными летунами, кое-кому из акробатов, оказавшихся вместе со своим конем на дереве, помогал спуститься с оного, не преминув притом изрядно отлупцевать злосчастного, да еще вволю наедался сластями, коими вокруг вся земля бывала усыпана.
Порой вопрошаю я сам себя, не слишком ли снисходительно относился я к Дуйслару, ведь был он, что ни говори, изрядно мерзкий тип, проще сказать, подонок. Быть может, потому столь близок он моему сердцу, что впоследствии сразил я его в необузданном приступе гнева? Кто может на сей вопрос ответ дать… Но стремлюсь я всей душой к справедливости и объективному изложению.
Теперь скажу два слова о братьях. Детей у матушки было много. Вы, возможно, удивитесь, что я не знаю, сколько у меня было братьев. История о сем тоже умалчивает. Одно лишь доподлинно известно, что каждый год матушка рожала, по крайней мере, по одному ребенку. Выходит, что чем старше она становилась, тем больше насчитывалось детей. Но ведь не пристало же у вдовы допытываться, сколько ей лет! Нас, ее сыновей, это не интересовало, а ежели кто спрашивал, то ответы бывали весьма разноречивы. Самые старшие братья, соскучившись дома, еще в юности разбрелись, разъехались по чужим землям. Больше же того, что уже сказано, и я не ведаю.
Этих двоих, что «оставались в отчем доме», я очень любил и старался во всем им подражать. Ужасно завидовал я легкому пушку, украшавшему верхнюю губу старшего брата; на ночь он мазал ее каким-то зельем. А от среднего брата перенял я искусство плевать в цель. Придется признаться, что не смог я в этой области превысить его рекорды. Еще кое-какие попытки идти по стопам старших братьев также заканчивались неудачей, и тогда приходилось мне терпеть их насмешки и измывательства. Не иначе как грызла их зависть к предсказанной мне великой славе.
Однажды, вернувшись с рыбной ловли на Чудском озере (я, как самый младший, в это время сидел дома), почали братья величать меня Иванушкой — младшим сыном. Это чужеземное имя показалось мне красивым, однако я не мог отделаться от подозрения, что какая-то насмешка здесь кроется.
Разница в возрасте между нами была небольшая, но ведь в детстве каждый год много значит. Братья мои, особливо старший, вкусили уже первые плоды успеха у деревенских девиц, меня же все считали еще младенцем. Помню, нередко наши выходы в свет летними вечерами кончались для меня сидением на завалинке в ожидании братьев. Штаны изодраны в клочья дворовыми собаками, а сердце переполнено сладкой тоской. Чтобы утешиться, принимался я думать о предначертанном мне великом будущем, но это было не так-то просто: мешали шуршание сена и сдавленные девичьи повизгивания, за которыми следовали странные, похожие на чмоканье звуки.
Да, первые мои впечатления по части женского пола были весьма обескураживающи и туманны. Почему-то местных девиц совершенно не интересовали ни моя сила, ни мои добродетели, ни моя серьезность и впитанное с молоком матери младенческое простодушие. И с тех самых пор для юного северного богатыря все женское сословие стало неиссякаемым источником страстного вожделения и ненависти одновременно. Мысленно сравнивая сих обладательниц прекрасных глаз со своей любимой матушкой, решил я навечно ей верным остаться.
Подводя итоги, я все же назвал бы свое детство счастливым; единственное, о чем ныне, оглядываясь назад, могу я пожалеть, это то, что не было возле меня ни одного достойного человека, который мог бы стать моим наставником по труду и в общественной деятельности.
Жили мы в то время просто. Отец мой Калев не пожрал живьем своих отпрысков, подобно Кроносу, который сим диким поступком дал своему сыну Зевсу повод для весьма примечательной и справедливой войны против отца, окончившейся для последнего печально — вечным заключением. Матушка моя не имела возможности пригласить для меня в качестве гувернантки какую-нибудь нимфу или по крайности хоть дочку повелительницы эльфов, сумевшую бы придать изящную форму моим пробуждающимся страстям. А сам я в те поры не допер направить свои стремления в заоблачные выси, следуя античным образцам, ну, к примеру, превратиться в золотой дождь, чтобы слиться в любовном объятии, или же поубивать всех своих братьев, или вступить в кровосмесительную связь со своими сестрами… Нет, в те времена в наших краях почитали родителей и единственно к чему стремились, так это к тому, чтобы усердием и прилежанием добиться выдающихся успехов в труде. А любовью в наших деревнях занимались по-простому, не мудрствуя лукаво, где-нибудь в скирде соломы или же в хлеву, чтобы потом вскорости и свадьбу сыграть. Все это происходило под покровом ночи и безо всяких там фокусов, в каких многие южные народы поднаторели, доведя простую ночную работенку до уровня высокого мастерства.
Не думайте, однако, что я теперь себе локти кусаю. Многие летописцы рисуют меня скромным, сдержанным, благоразумным, как и пристало северному богатырю, острым умом не блистающему и тонкой психикой не обремененному. Я со всем этим согласен и полагаю, что простота есть самая высокая красота. Не зря же многие поэты в своих песнях отдавали предпочтение какому-нибудь скромному лесному цветку, а не пышной розе. Так что, в общем, я на свою судьбу не жалуюсь. А чего жаловаться-то? И вы поступите мудро и похвально, приняв меня таким, каков я есть.
III
Юноша мужает быстро. В один прекрасный день наскучат ему городошные биты да игры в камешки, и начнет он смекать, что вроде бы пришло время заявить о себе. Хилые да чахлые стараются блеснуть певческими талантами, виршеплетством, математическими способностями. Ну, а кто подюжее, те, чтобы свою силушку, ухватистость да проворство показать, откалывают разные фортели. Ясное дело, я был среди этих последних не последним. Но как же тебе, друг любезный, во всю мочь разгуляться, богатырство свое выказать, ежели все твои сотоварищи давно синяками да шишками изукрашены, а со взрослыми мужиками тягаться вроде бы резона нет? В те времена юношей на охоте испытывали — кто с лесным зверем справится, считай, аттестат зрелости в кармане. Ох, и клянчил же я, чтобы меня на охоту пустили! Губы надую, под носом мокро, и давай расписывать дорогой родительнице ужасающие картины всяческих комплексов и отклонений, могущих в неокрепшей психике юноши произойти, коли воспитатели насильно впрягают его в оглобли возрастного ценза. Молодежи, говорю, надо доверять, молодежь — это наше будущее. К тому же я ведь не какой-то там сопливый молокосос, я давно уже de facto опытный охотник, чай, не меньше десятка волков вот этими руками передушил. Но на все мои доводы ноль внимания. Что ж, со временем все приходит для того, кто умеет ждать.
Как-то вечером слышу шум — матушка с братьями ругается. А причина в том, что наши медвежьи шкуры вдрызг истоптаны да в клочья изодраны толпами матушкиных поклонников; она же хоть и скромница, а авантажность любит. Вот и требует она, чтобы завтрашний день с утра отправились братья на охоту. А те не очень-то охотой интересуются, потому как завтра большое событие ожидается — открытие ярмарки в соседней деревне — и всякий уважающий себя парень там присутствовать должен. Я, конечно, матушке поддержку оказал, братьев в вопиющем небрежении к ее сединам упрекая.
— Вы что же думаете, мама наша только стряпуха да портомоя, — яростно накинулся я на братьев, — вы небось и не знаете, какая она почтенная дама, мало того, что она достойной супругой нашему отцу была, ее руки Месяц и Солнце домогались!
Тут рожи у братьев вытянулись, а матушка подарила меня долгим благодарным взглядом.
«Или сейчас, или Сатана Рогатый знает когда», — промелькнуло у меня в голове, а сердце затрепетало, словно овечий хвост, в сладкой надежде. Гневным перстом указав на многочисленные дыры и проплешины в наших коврах, я заявил, что они позорят не только хозяйку дома, они являются свидетельством недостойного поведения в быту, даже, можно сказать, морального разложения совместно проживающих в сем доме жильцов. И что могут подумать о таких позорных пятнах, сиречь о дырах, деревенские красотки Трийну и Леэну? А то, что их избранники боятся волков-изегримов да медведей косолапых. Трус же, было бы вам, братья мои, ведомо, продолжал я, сроду ни у одной девицы положительных эмоций не вызывал. Чтобы несколько утешить братьев, я напомнил им, что ярмарка только завтра начинается, так что они еще успеют там повеселиться.
Дело было решено. Утерев слезы, матушка высморкалась в уголок передника и сказала, что я стал совсем взрослым. А это всегда и радует, и печалит матерей.
В те времена охотники не опасались остаться без добычи. Леса наши кишмя кишели всевозможным зверьем. Медведи и волки частенько рыскали даже по хуторам, и зимней ночью можно было услышать за окном злобный вой и скрежет зубовный. Что же говорить о лесной чащобе. Мужики покрепче да посмелее не боялись и по ночам ходить лесными тропами — от волчьих глаз было так светло, что не приходилось опасаться о какой-нибудь корень споткнуться или в кусты забрести.
С утра помолился я Уку. Поскольку это наше главное божество помогало при моем появлении на свет, выступив в роли акушера, надеялся я, что не откажет оно в поддержке и при первой моей охоте. Испробовав о коленку крепость дубинки, я дал себе клятву не оплошать и уж по крайности от пентюхов братьев не отстать.
Снаряжаясь в путь, был я столь серьезен и важен, что матушка решила избавить меня от наставлений и, утирая глаза, промолвила только, как подобает матери богатыря: «Со шкурой или на шкуре!»
Всем известно, что поход наш завершился наиуспешнейшим образом. Прилежный читатель «Калевипоэга» может для собственного развлечения перечислить содержание моего ягдташа: медведь, сохатый, зубр, сорок восемь волчьих, сорок восемь лисьих, сорок восемь заячьих — вот сколько шкур пришлось мне на своем горбу домой переть. Сдается мне, что эти цифры несколько завышены, но настоящему историку по должности положено делать разумные приписки. Что же касается собак, вполне позволительно верить авторам «Калевипоэга», тут они пишут чистую правду: «Гонит Ирми, ловит Арми, валит зверя Мустукене…» О братьях же упоминается лишь тогда, когда, закончив охоту, мы втроем затянули песню.
Да, так оно все это и было. Тащился я, придавленный тяжеленной грудой-грузом, ни шатко ни валко, то туда, то сюда, и вправо, и влево, в глазах аж разноцветные круги полечку пляшут, а братцы мои тем временем придумали себе занятия — кидались каменьями в белок, посвистывали да земляникой лакомились, и ни тот, ни другой мне на помощь не пришел, если, конечно, не считать помощью их иронические замечания (которые, впрочем, иной раз и вправду могут силы прибавить объекту насмешек). Видать, брательники мысленно уже на ярмарке были.
Как завидел я крышу родного дома, радостно стало у меня на душе. И братья вроде вдруг спохватились, предложили помочь мою ношу нести. Но я сказал, что не след им себя изнурять — у них впереди нелегкая дорога на ярмарку. Зато тут же согласился с ними, что после столь счастливой охоты не грех на зеленой мураве чуток отдохнуть. Сели мы под шумящим листвою дубом и веселую песню затянули, хотя и приустали изрядно. А как же! Ведь теперь наша матушка, столь желанною бывшая для супруга своего и для многочисленных знатных поклонников, отвергнутых ею, может достойно дом свой шкурами украсить. И сказать нельзя, до чего мне сие было приятно! А то, что я к смертоубийству способен не хуже взрослого, успешная охота подтвердила. Хоть и ныли зело руки, ноги и заплечья, молодую грудь мою переполняли восторг и стремление поведать всему свету, какой я молодец. Эта манера раздувать грудь вроде бы всем представителям мужского сословия присуща. Разве не ревет так, что листья дождем осыпаются, сохатый, упершись рогами в древесный корень, коли нет лучшего соперника? Разве не кичится молодой петушок своим мощным кликом, взлетев на забор и махая крыльями? Порой и мышонок не может сдержать стремления писком известить мир о своем презрении к коту.
Позже, умудренный жизненным опытом, осознал я, что bel canto и правильное ведение мотива не самые сильные стороны моего пения, но тогда, сидя под дубом, ни хрена я в этом не понимал. Просто орал во всю глотку, не разбирая ни диезов, ни бемолей, орал долго и с большим удовольствием. Видать, не зря говорят, будто лесные звери и птицы, у коих острый слух был, от моих песен в глухих дебрях укрытия искали, а лебеди при такой беде инда головы свои под воду прятали.
Первая охота юного богатыря и его первая победная песня — чему же тут дивиться? Да ведь пение и по сей день любимейшее занятие моего народа! Может, именно там, под дубом, и заложили мы краеугольный камень ваших нынешних грандиозных праздников песни. Но обращаю ваше внимание: напели мы горя на свою голову!
Да, вот то-то и оно. Пускай небо ясное, а мудрый человек о зонтике не забывает. Боги злы и алчны: беспечные радости и удовольствия, не влекущие за собой расплаты, они взяли себе, а людям то и дело напоминают, что ежели они хотят пользоваться отпущенными им крохами счастья, так придется за эти крохи сполна заботами и передрягами платить. Ну, а ежели заботы и горести от денег происходят, так верный способ есть от них избавиться — ступай себе в кабак, ни забот, ни денег не будет.
Итак, мы пели, о горестных последствиях сей забавы не помышляя. Как говорится в пословицах: «Ели, пили, веселились, подсчитали — прослезились» и «Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела». В то время как трое юношей оглашали лес и долы мощными руладами, свершилось подлое и коварное нападение, произошел гнусный, из ряда вон выходящий инцидент, а именно: нашу маму умыкнули.
Проведав о нашей отлучке, хитроумный проныра Дуйслар решил воспользоваться случаем и в последний раз попытать счастья у матушки. Что из этого вышло, читатель может узнать из эпоса «Калевипоэг», хотя и я в своем писании к сей давней и темной истории не раз возвернуться намереваюсь.
Взошли мы в родной дом, воротившись с охоты, и встретил нас потухший очаг да вонища от выкипевшей гороховой похлебки. А матушки и след простыл. В пору возмужания нервная система у богатырей слабовата. С грохотом шваркнул я оземь охотничью добычу и горько заплакал. Сердце мое страшная мысль пронзила: а вдруг наша драгоценная хранительница очага сама дала тягу? Не всегда ведь бывали мы примерными сыновьями. Не раз увещевала нас матушка смирить норов, порой грозилась даже, что ежели мы в наше поведение не внесем кардинальных изменений, она в один прекрасный день возьмет да и выйдет за Солнце, Месяц или какую другую высокопоставленную особу. По правде сказать, мы такие матушкины речи не больно-то всерьез принимали, но, глядя на почерневшие головешки, вспомнил явственно я эти угрозы. Психиатры утверждают, что молодой человек, особенно получивший подобное моему воспитание, непременно норовит считать себя пупом земли или центром вселенной, и вот самовольный мамин уход представился мне тогда весьма жестоким ударом, лично мне нанесенным.
А может, Дуйслар? Не он ли сотворил это злодейство? Ведь от такого ветрогона и раздувателя можно ждать любых провокаций, преступных актов и прочих действий с позиций силы.
Я тут же решил, что всякую ответственность за последствия с себя снимаю, и, сиганув в воду, поплыл в братскую страну. С дружественным визитом.
Общественное объяснение маминого исчезновения — умыкание — долгое время не вызывало у меня сомнений. Только здесь, в Аду, уже несколько состарившись и изрядно оплешивев, я это дело обмозговал. Беру на себя смелость своими мыслями с вами поделиться, ибо твердо верю, что не нанесут они ущерба доброму имени дорогой моей матушки. Однако я не хотел бы подобные рассуждения в школьном учебнике увидеть. Прошу это учесть.
Начать следует, пожалуй, с некоторых противоречий в этой истории. Дуйслар был влюблен, следственно, слаб. Не раз бывал я свидетелем, как матушка с помощью поварешки, мокрой тряпки или другого какого бабьего ратного снаряда весьма эффективно его страстные порывы усмиряла. Отчего же в тот раз удалось Дуйслару прорвать мамину оборону? Таков первый мой вопрос. Возможно, не главный. Однако идем дальше. Дуйслар был златоуст, а проще сказать, порядочное трепло. Ведь о нем так говорится:
Видите, даже рыцари пера и служители муз, при описании моих богатырских деяний проявлявшие пуританскую сдержанность, во имя торжества истины вынуждены были признать всепокоряющую силу духа Дуйслара, весьма действенную при осаде женских сердец. Так зачем же надо было ему применять физическую силу? Таково второе мое сомнение. Уже чуток посерьезнее. Однако, любезный читатель, идем далее.
До сей поры никто не осмеливался брать под сомнение нелицеприятность повелителя грома и молний Пиккера. Не вверяют огненные стрелы в руки того, кто способен использовать их для неправого дела. Ежели не на земле, так на небесах это твердое правило. Но что же случилось в те незапамятные времена, в тот далекий летний день, когда ударом молнии превращена была Линда в каменную гору, а оглушенный Дуйслар, лишившись на время чувств, так сказать, отделался легким испугом? Почему решил в тот раз Пиккер покарать не наглого ворюгу, а беззащитную жертву? Почему счел он достаточным слегка припугнуть Дуйслара, оголтелого похитителя бедной вдовы, ее же, проливающую слезы и взывающую о помощи, превратил в камень? Где же тут справедливость? Неужто же бедную женщину, силой отторгнутую от родных сыновей, стоило так свирепо наказывать?
Это все непростые вопросы. И, наверное, никогда мы не узнаем, как все было на самом деле.
А теперь, поведав вам мои сомнения, намереваюсь я под надежную защиту дорогую матушку взять. Разве не отказала она решительно целой ораве женихов? Разве не вырастила она сыновей своих, кои могучими мужами стали? Справедливость требует признать, что исполнила она материнский долг свой в полной мере. Разве не сказала матушка накануне того рокового дня, сморкаясь в уголок передника: «Сын мой, ты стал совсем взрослым…» Видно, и впрямь настал час, когда Дуйслар, бедный холостяк и богатый владелец хутора, долгие годы и коров собственноручно доивший, и порты свои самолично чинивший, большее, чем мы, право на ее заботу получил. На ее заботу и на ее суровую и нежную руку…
Не знаю. Не ведаю. Не дано мне дознаться. Ignoramus et ignorabimus. Да и надо ли выяснять?
IV
Но вернемся, друг читатель, снова к морю. Многотрудным и долгим был мой заплыв, коего Повелитель Вод даже попутным ветром не пожелал облегчить. И никто не ждал меня на другом берегу с поднятыми знаменами. Однако плыл ваш юный герой с вполне приличной средней скоростью по направлению к северу, к Финской стороне, плыл затем, чтобы Дуйслара строго к ответу призвать.
В таком темпе залив преодолеть у меня наверняка сил хватило бы. Но судьба решила иначе. Со всех сторон водой окруженный, услышал вдруг я, ушам своим не веря, прелестный мотивчик. Вскорости из лона вод малый островок показался, и подумал я, что не грех бы передохнуть. Жизнеописания богатырей учат, что лучше подальше держаться от подобных сомнительных островков, но откуда мне тогда было это знать? Я ведь в те поры и слыхом не слыхивал ни о сиренах, ни о Цирцее (о той, что быстрее других бабенок умела нашего брата, мужчин, в свиней превращать), вообще ни о каких такого сорта островитянках.
Песенка, коей я внимал, была весьма благозвучна. Вполне. Но ничего экстраординарного она собой не представляла. Кабы мог я предвидеть то, что вскорости воспоследовало, ноги бы моей на этом острове не было. И воска, чтобы уши от соблазна залепить, не потребовалось бы, как для Одиссеевых спутников, уж я-то не дал бы себя заморочить каким-то визгливым кудахтаньем.
Да, беда моя была только в недостатке образования, ни в чем ином.
Однако, ахнуть не успевши, сидел уже я на прибрежном песочке и дух переводил. Вроде бы даже задремал слегка под сладкозвучный напев. Продираю глаза — певица на новый манер тянет: то все красу суровой северной природы хвалила, а теперь про какого-то храброго молодца завела. И еще хвастает, что за семью болотами, за десятью ручьями имеется у нее ужасно славный жених. Ну прямо уж такой жених, сроду ничего подобного на белом свете не было. Вот попробуйте-ка назовите мне хоть одного стоящего молодого богатыря, который стал бы спокойно слушать этакий панегирик другому мужчине.
Поскольку не довелось мне еще встретить достойного противника, страх как любопытно было получше узнать, что же это за уникальный мужик, коего певица — так она заявила — готова ждать годами. Авось поспеем в Финляндию, надо прежде тут кое-что уточнить. Потихоньку, укрываясь за скалой, подобрался я поближе к певичке. С виду солистка эта не произвела на меня впечатления, ибо эталоном женской красоты считаю я свою матушку. А этой до мамы было далеко. Голени и ляжки худые у бедняжки, зад тощеват, живот мелковат. И все же был в этой худосочной свиристелке какой-то шарм. Задорно вздернутый нос, платиновая челка, из-под которой, словно болотные огоньки, блестели зеленые глаза, нахальные и в то же время манящие. Подошел я еще ближе; теперь певунья сетовала, что
Остановился я, заинтересовавшись телодвижениями девицы. Сколько можно было разобрать, она чего-то вытворяла с нитками.
Приятно смотреть на женские ручки, когда они ловко пряжу сучат либо спутанную шерсть разбирают и в пасмы сматывают. Так и жизнь человеческую, словно нитку, крутит судьба в разные стороны, из пасмы в клубки перематывая. Заворожила эта картина меня, ведь в моих-то руках не то что нитки — канаты порой рвутся. Еще подошел я, и тут островитяночка меня узрела.
Вскочила она и звонко вскрикнула.
Задним умом крепкий, мыслю я теперь, что вскрик тот притворным был. Небось уж давно меня приметила, чай, слыхать было, как я на прибрежном песочке вздремнул, не зря, чай, храп мой с шумом битвы сравнивают.
Да, вскрикнула все же островитяночка. Ну, думаю, сейчас сомлеет. Бросился я к ней, подхватил ее, как тростинку, — ужасно деликатный стан у нее оказался! И что чудно, тоненькие эти косточки страсть как приятно было в руках держать.
Очнулась она тут же и с благодарностью мою воспомоществующую длань отклонила.
— Благодарю за внимание, мой юный витязь, — начала она. — Надеюсь, вы простите мой абсолютно неуместный испуг. Такой реагиринг извинителен в силу исключительно редкого появления гостей на нашем острове. Вам следовало бы о своем прибытии авансом проинформировать.
До чего же мило нежный голосок всю эту мудреность выговаривал. Я прямо заслушался. Инда совестно мне стало, что таким телепнем нескладным возле этой беленькой барышни стою.
— Прошу вас, не сердитесь на меня, — проворковала девица и, можете себе представить, погладила своей ручкой мои нечесаные волосищи и коснулась сахарным безымянным пальчиком моего толстого носа. Как видно, из-за немалых размеров и картошистой формы он ей понравился. Первый раз в жизни почувствовал я себя малым дитем, аж в жар меня бросило и в ушах зазвенело. Наверное, здорово я покраснел. — Мы живем там… Я сейчас позову своего предка.
И, влезши на скалу, помахала она ручкой в сторону видневшегося вдалеке домика, где, надо быть, ее отец проживал, коего она призвать собиралась. И тут же, чудное дело, окошки стали темными.
— О, они уже погасили свет! — огорчилась девушка, но быстро успокоилась. — Не имеет значения, ведь скоро рассветет.
Спустившись со скалы, она уставилась на меня, словно что-то соображая.
— Будьте добры, протяните мне ваши атлетические лапки.
Такая просьба несколько меня ободрила: ежели смогу я хоть как-нибудь свою силу показать, может, и смущение пройдет. Поглубже вдавил я ноги в прибрежный песок, вздохнул всей грудью и руки вперед вытянул. Чего это ей от меня надо-то?
— Ах, ну что вы… — колокольчиком прозвенел голосок девушки, и, улыбнувшись умильно, набросила она на мои ручищи что-то пушистое, как облачко, и давай раскручивать, вытягивать, мотать нитку, или как там это дело у ихней сестры называется, не знаю. — Пожалуйста, не шевелитесь, хорошо?
И в тот же миг у меня жутко зачесалось веко, засвербило под мышкой, сотни блох принялись прыгать и кусаться в штанах. А потом напал чих. Ведь это же страшное дело, когда человеку пошевелиться нельзя! А девушка, мотая нитку, то приближалась ко мне, то отдалялась, и запах от нее шел такой приятный! Я смотрел вниз и чувствовал себя вконец очумевшим. Эх, и трудная же это была работенка! Хорошо хоть, что никто меня за таким занятием не видел.
— Вот и все. Мерси. Но скажите — почему вы молчите? Разве красота этой ночи, трепетный шепот ласковых волн, мистический лунный свет не пробуждают у вас стремления к декламации, к глобальному диалогу с природой, к космической риторике? Ну, скажите же что-нибудь, вы, нескладный, но симпатичный гигант!
Прошло немало времени, пока я смог выдавить из себя, что погодка этой ночью действительно недурна, да и луна вроде ничего, светит как полагается. Девушка с воодушевлением согласилась со мной, добавив, что такие прекрасные ночи случаются не часто. И еще она сказала, что восприятию ночной красоты в высокой степени способствует симпатичный собеседник, могущий поделиться своими остроумными и точными наблюдениями над жизнью.
И тогда я сделал ловкий финт, сказав, что душевно сочувствую девице: жених, мол, ваш небось тоже мастак языком молоть, а по всему видать, давненько уж тут не бывал, и очень, мол, это огорчительно, когда не с кем при лунном свете насчет, как вы выразились, конфирмации лобастого бульдога да косметического ритуала покалякать, а еще того хуже, что
После этих моих слов девушка покраснела и сказала, что я чего-то недопонял, что, дескать, это просто эстонская народная песня, создание неизвестного гения, и она, то есть островитяночка-то, сюда никакого отношения не имеет. И еще добавила всякие хвалебные слова насчет эстонских песен, что, мол, больно там аллитерации хороши. А потом говорит, что, дескать, напрасные мои насчет нее подозрения, она не в том еще возрасте.
— Ах, так вон оно что, у тебя, значит, нету еще жениха-то? — радостно вскричал я.
— Да оставьте вы, право. Мой отец ни в коем случае этого не разрешил бы.
— Да ты что, ягодка моя, да ты ж давно уж поспела, в самой поре, чтоб жениха выбирать, это время упускать никак не годится.
— Вы чрезвычайно красноречивы, — промурлыкала девица, потупив взор. — Я вынуждена предположить, что при такой аргументации вы представляете собой большую опасность для девушек и, очевидно, были причиной многочисленных душевных и иных травм.
— Ну, ясное дело, уж не без того, — неопределенно промычал я, не совсем разобрав, что она такое нагородила. Ужасно мудреные у нее слова, не иначе, как она наполовину шведка, их тут, на северных островах, говорят, не толченая труба.
Щеки у девушки алели, как маков цвет, она погрозила мне тоненьким пальчиком, за что, не знаю, только все же дошло до меня, что, видать, я ей крепко по сердцу пришелся. Ну, тут осмелел я чуток и давай куражиться:
Девушка внимала этой моей похвальбе о широком лбе и больших мослах, опустив ресницы. А я вдруг расхрабрился да как обхвачу ее за плечи обеими руками! Она только пискнула, беленькие ее кудряшки, пахнущие земляничным мылом, щекотали мой подбородок — малышка склонила голову ко мне на грудь… Ну и повезло же, подумал я, что довелось мне допрежь полморя проплыть, авось звериный дух-то после охоты водой смылся.
— Ах, чертенок, что же это ты делаешь? — хихикнула девица, уткнувшись курносым носиком мне под мышку.
А я что, я ничего, я просто стоял, ничего не делал.
Что дальше было, совсем не помню. Вроде потащила она меня за руку куда-то в кусты, а там:
Так, во всяком случае, в «Калевипоэге» говорится. Перед глазами у меня замельтешило, завертелось…
— Ах ты мой дурачок! — услышал я шепот. — Ах ты мой дорогой большой малыш… — и нежные ручки островитяночки, проворством коих я давеча любовался, уверенно пришли мне на помощь, направляя по всем известному пути, по каковому я до сей поры не хаживал.
O-o!
Безрассудство мое искуплено быть могло разве что великим моим пылом да похвальной жаждой знаний. Прошла целая вечность, пока я заметил, что звезды снова на небе взошли.
Почва вокруг нас была изрыта до неузнаваемости. Думаю, что и сейчас еще какой-нибудь ученый мог бы на этом островишке в Финском заливе обнаружить следы наших проказ, так сказать, нашу усладительную площадку. Свидетельствую, что это и есть настоящее ложе Калевипоэга. Да, одно из немногих подлинных, ибо благодарный народ связывает с моим именем видимо-невидимо долин и ложбин. Кабы я хоть раз в каждой из них повалялся, так больше бы ничего за всю жизнь сделать не успел.
Так вот, значит, опять я звезды узрел. Склонившись к островитяночке, хотел я ее в благодарность за обучение облобызать, только вижу — вроде она чем-то недовольна. А чем, не знаю, может, думаю, ущерб ей какой нанес либо изъян причинил, спросить надо, однако не успел я рот открыть, как вновь оказался в роли ученика, продолжающего курс наук.
Сказать по правде, сия любезная девица не больно-то старалась из меня просвещенного человека сделать. Когда я этак через часок решил поинтересоваться, хорошо ли у них на острове рыба ловится и какой урожай собирают, эти мои вопросы были названы неуместными, бестактными и ответа не заслуживающими.
Меж тем занималось утро, и я поглядывал на отчий дом островитяночки. Хоть бы уж там кто-нибудь пробудился поскорей, хоть бы по двору кто-нибудь прошелся!
Перед самой зарей глаза мои смежаться стали, да и девица вроде бы унялась. Смекнул я, что, видать, дело мое сделано, миссия закончена, и, радостно улыбнувшись восходящему светилу, погрузился в крепкий, как дубовая чурка, сон.
Но недолго предавался я сладостному отдохновению. Разок один лишь всхрапнуть успел, как пришлось глаза продирать — чей-то голос громко призывал на помощь.
Силы небесные! Что такое стряслось?
Островитяночка, заливаясь горючими слезами, причитала до того пронзительно, что меня инда до костей пробирало:
Сломлен цветок! Как в глаза мне смотреть теперь людям?
С моря явился жестокий пришелец сюда,
Девичью честь осквернил он бесстыдно и дерзко…
Да свершат небеса праведный суд свой над ним!
Я вскочил на ноги и свирепым взором обвел окрестности, готовый как следует наподдать этому с моря явившемуся жестокому пришельцу, кто в краткий миг моего отдыха таких безобразий натворил. Но поблизости никого не было видно, кроме благородного седовласого старца, который, размахивая посохом и дико вопя, несся к нам через поле.
С немым вопросом взглянул я на свою партнершу, но та не умолкая читала вирши, ко мне спиной оборотясь, словно бесповоротный бойкот мне объявила. Выходит, я в чем-то провинился? В чем же?
Сказать по чести, я всегда был парень смекалистый, котелок у меня варит хорошо, однако не быстро. А тут еще мне ни отдохнуть, ни выспаться не дали. Старец уже стоял рядом, махая посохом и непотребно ругаясь. Страсть какие он забранки загинал! Девица наконец бормотать бросила, но в мою защиту ни словечка не сказала.
А старец — по всему видать, был он не кто иной, как ейный папаша, — давай меня вопросами поливать: и кто я, дескать, такой, и откуда это меня принесло, и из какого я сословия, и какую должность занимаю. И еще какая у меня вера, и зачем это я, черт бы меня побрал, из богатой Швеции к здешней деревенской гольтепе припожаловал, да притом еще воображаю, что ихний местный язык знаю. И вообще когда свадьба и могу ли я его дочери достойные условия жизни обеспечить.
Половину его вопросов я не разобрал, и о какой такой чертовой свадьбе он тут орет?.. Помотал я башкой, словно конь, слепнями облепленный, и откровенно признался, что ни из какой я не из Шведской земли, а происхожу из достославного рода Калевов, я сын Калева, иначе сказать — Калевипоэг, а Калев, отец то есть мой, всем известен своей храбростью и силой.
— Так он не Олофссон, не сын Олева! — вскричала девица, и в этот раз слыхать было, что и впрямь она огорчается. А старец так струхнул, инда посох из рук выронил.
Гляжу, скидает с себя папочкина дочка все одежки, лезет на высокую скалу и в море бросается.
— Денудировали, дефлорировали, дискредитировали! — так или наподобие того прозвучал ее последний душераздирающий возглас, тут же заглушенный громким всплеском. И снова стало тихо вокруг, только безмятежные волны с ласковым шепотом продолжали свою извечную игру, догоняя друг друга.
— Смышленая девчонка, хоть платьишко свое оставить догадалась, — вздохнул папаша-островитянин, утирая слезы.
Не хочу я больше говорить об этой грустной истории. Чуток погодя я тоже было подумал, не броситься ли мне за девушкой, но она уже исчезла в волнах.
А теперь, друг читатель, обрати свой мысленный взор на седые от пены валы Финского залива, где горемычный пасынок Фортуны, незадачливый молодой богатырь смертельной опасности подвергается, с волнами борясь. Ненасытная девица все силы из меня выпила, и изнуренные мои телеса с морской пучиной справиться не могли. Трижды затягивало меня в глубь морскую, и я троекратно гибели избежал, ибо как раз в тех местах мелководно было и мог я стопами своими дна коснуться.
Да, это было мрачное зрелище. Я едва стою на цыпочках, полон рот воды, ничего в волнах не видно, я кашляю, чихаю, фыркаю и задыхаюсь. Тщетно ищет взор мой в широких водных просторах спасительную лодку или хоть клочок паруса…
И когда завиделся вдали Финский берег, то с трудом я поверить мог, что молодая жизнь моя не окончилась на дне морском. Тут опять вспомнилась мне островитяноч-ка. Стало быть, там кого-то другого дожидались? Стало быть, род мой недостаточно почтенен для них? Горько было у меня на душе от этих дум, а всего горше было то, что довелось мне узнать о женской добродетели. И манила, и прельщала, и умильно миловала! И все сплошная липа! Ничего в этом субтильном создании не было, кроме шарлатанства и показухи. Ну что прикажете после всего происшедшего думать о прекрасном женском сословии?
— Ах, матушка моя дорогая, как же это я мог с дороги сбиться и о тебе забыть! — бормотал я, сокрушаясь. И тут же мысленный обет дал, что буду кружным путем обходить всех молодых девиц и предамся строгому воздержанию. Я этой своей клятве долгое время верен был, хотя теперь, много лет спустя, не могу признать ее разумной и рациональной. В конце концов примирился и привык я к своему холостяцкому состоянию, хотя это, скажу я вам, не бог весть какое достояние.
На Финском берегу свалился я, как сноп, на песок. И осенил милосердный сон многострадального мужа своими мягкими крылами.
V
Те, кому обо мне все ведомо лучше, чем мне самому, утверждают, что на финском пляже я спал без просыпу двое суток. Но, как известно, все, что однажды началось, свой конец имеет. Окончился и сон мой, пробуждением от коего я начало самой злосчастной главе в моей жизни положил.
Озираясь назад, вижу с несомненностью, что зелен и незрел я был для заграничного путешествия.
Восстал я ото сна, жаждой мщения переполненный. И решил сей же час отправиться на поиски Дуйслара, чтобы счеты с ним свести.
На хуторе его, до коего я после долгих скитаний и розысков добрался, был, по всему видать, порядок и достаток. Добротный дом, молодым дубняком окруженный, блестел, как стеклышко. И много было подсобных строений — амбаров, хлевов, конюшен. Следственно, не врал Дуйслар, когда свой хутор расхваливал, желая для него достойную хозяйку сыскать. Ведь как мужик ни домовит, а все ж для коровьего вымени да огородной грядки женская рука требуется. И вообще правильно говорят, что бабой весь дом держится.
Дуйслар отдыхал, лежа на травке возле хлева. Подле стоял подойник с пенящимся молоком: видать, старый холостяк только что коров подоил. Подойник был грязный, изгвазданный навозом, в молоке мухи плавали, из чего я заключил, что матушки моей тут никак быть не может.
Неужто напрасен был мой круиз? Ужели тщетны были мои устремления?
Покуда я созерцанию и размышлениям предавался, Дуйслар глаза продрал. Увидавши меня, побледнел он как снег и затрясся всем телом. Изумленный, слушал я невразумительный его лепет о матушке, о взгорье Иру, о молниях и о том, что он, Дуйслар, ей-же-ей, ни в чем не виноват и заслуживает снисхождения. Стало быть, он матушку мою умыкнул все же! Так где же она? Вырвал я из земли молодой дубок, отряхнул с корней его землю и с угрозой занес над Дуйсларовой башкой.
Вороватый сей заклинатель ветра был уже не первой молодости, уже брюшко себе успел отрастить, и силенки у него, похоже, уже не те были. Видать, свой период бури и натиска он давно позади оставил. Такой комплекции мужики с куда большим успехом и прилежанием занимаются повышением продуктивности крупного рогатого скота, с интересом изучают вопросы глубокого охлаждения спермы хряков, гораздо охотнее заготовляют сенаж и силос, чем принимают участие в битве на палицах. Однако, заметив нависшую над головой угрозу, Дуйслар вынужден был о спасении своей жизни помыслить. Выхватив из кармана заношенной жилетки пригоршню перьев, он дунул на них, вызывая свою волшебную рать. Воинство сие недалеко от своего предводителя ушло. Дородные ратники с трудом держались на конских спинах, и неровное то седалище, надо думать, немалые мучения им причиняло. Притом мечи у них, как видно, заржавели и никак из ножен не извлекались.
Взмахнув два-три раза своей дубовой палицей, разогнал я их всех бесповоротно. Так что впечатляющая картина боя, изображенная в «Калевипоэге»:
есть не что иное, как игра поэтического воображения. В действительности на хуторском дворе валялись ржавый меч с тупым лезвием да пара стоптанных лаптей.
И вновь стал я перед Дуйсларом, махая дубовой палицей. Он взмолился о пощаде и обещал все мне подробно рассказать.
— Ведь благородный Калевипоэг и сам знает, что у нас с Линдой с давних пор хорошие отношения были, — с опаской начал Дуйслар. Он, Дуйслар, как порядочный человек, многажды предлагал благонравной и добродетельной вдовице их особливые пути в один соединить. Не для греховных плотских утех замыслил он сей союз, о нет! — Если оглядишься ты, мой Калевипоэг, вокруг, — продолжал Дуйслар, — всюду узришь ты божьим соизволением предначертанную тягу к соединению. Птицы на деревьях парочками щебечут и гнезда вьют, зверь лесной сам-друг в норе обитает, даже крот, подземный житель, в согласии с кротихой ходы свои под твоими ногами роет. Ужели ж человек должен порыв души своей смирить и от любовных радостей отказаться?.. — и при сих словах Дуйслар скромно потупился, а я еще пуще освирепел.
— Давай дуй дальше, — прорычал я.
И дальше он поведал мне, что все его матримониальные прожекты матушка напрочь отвергла, младостью сыновей своих отговариваясь. Однако же малое время назад на сиром холостяцком небосводе сверкнул для Дуйслара луч надежды: как обычно, встретились они с матушкой на берегу, чтобы…
— Ах, так вы тайно встречались! — прохрипел я.
— Уж чего уж теперь скрывать, — признался Дуйслар, — было у нас тайное местечко и условленное времечко, дабы совместно мудрости создателя восхищению предаваться и о многосложных жизненных вопросах размышлять…
— Заткнись, окаянный, все ты врешь, мерзавец! — взревел я. Не желал я больше слушать этого наглого охальника, ибо любое слово из его поганого хайла на мою добродетельную матушку черную тень бросало. И, чтобы заставить его замолчать, ничего другого я в тот миг не придумал, как со всех ног шарахнуть лиходея дубовой палицей.
Итак, убийство свершилось. На сей раз хроникеры были предельно точны:
Да, плюхнулся Дуйслар, словно пустой мешок. Не поспел и глазом моргнуть. Сковырнулся — и дух вон.
В унынии стоял я возле поверженного тела. Только теперь до меня дошло, что не дал я ему договорить. Скудоумный я чурбан, дубовая голова! Ведь не узнал же я ничего о том, где моя матушка находится! И тут же с горя новых глупостей натворил:
Да, разорил я весь хутор, сровнял его с землей. После чего, повалившись на развалины, вперемешку детские и богатырские слезы проливал. О том я горько плакал, что без матушки остался, да и без старого знакомца, что нет у меня на чужой сторонушке ни наставника, ни сподручника.
Где же ты, где, дорогая моя матушка?
И, глотая слезы, понял я, что детство мое окончилось…
VI
Финская земля — красивая земля. Скалистые берега, дремучие леса, великое множество озер, синью сверкающих, — вельми все это мне по сердцу. Сказать честно, не прочь был бы я финским богатырем стать. Да только там своих, говорят, было довольно.
Бродил я по этому родственному, хоть и чужому мне краю, с рыбаками и дровосеками беседовал, беспримерной красой природы восхищался. Впервые постиг я, сколь прекрасны самые простые ее творенья — тонкий ствол березки, синий глаз озера среди густых дерев, — и радовался их безыскусному благолепию.
Однако мало-помалу стало меня некое беспокойство одолевать. Без сомнения, вояжи, променады, изучение природы для повышения культурного уровня весьма пользительны, да только не затем я рожден был. Не геройское это дело — без толку по лесам шляться. Основная работа любого богатыря суть баталии с врагами, их массовое уничтожение, а также всяческого рода силовые номера. Силовых номеров хватало, ибо нередко случалось мне участвовать в различных стройках, где я цельными возами бревна на себе таскал, всенародное восхищение вызывая. Только одного мне недоставало — не было у меня врагов, отчего я порой в уныние приходил. Это вроде бы безосновательное беспокойство я называю чувством долга, и хотя проку от него было мало, я все же; гордился своей сознательностью.
Как видите, для богатыря я был довольно-таки чувствительной натурой, может, даже слишком.
Таскание бревен и выворачивание валунов — работа, конечно, завидная, да только для меня она была, как говорится, на один зуб. Как-то раз вызывает меня к себе прораб и таковы слова молвит: вишь ты, мол, дело-то какое, нулевой-то цикл, благодарение небесам, мы, дескать, вроде бы как-никак осилили, надобно теперь, хошь не хошь, мастеров созывать. И не умею ли я, дескать, еще чего окромя подсобных работ делать? Ну, пришлось мне, сославшись на отсутствие времени, срочно оттуда драпануть. Не мог же я этому блаженному простаку напрямик выложить, что деятельно готовлюсь к занятию должности короля и богатыря, а, по слухам, претенденту на такое место не след интеллект свой сверх меры знаниями перегружать.
Так вот, значит и подвизался я там, в финской земле, на вспомогательных работах, или на подхвате.
И вновь на склоне лет предаюсь я бесплодному сожалению. Хоть бы кто-нибудь в те поры вразумил меня отечески, что не зазорно герою практические навыки осваивать. Теперь-то я знаю, что ежели у кого даже из богов какая-никакая смежная профессия есть, так ему цена вдвое. К примеру, наш Гадес, коего допрежь всего специалистом по разложению живой материи, то бишь биохимиком, считать надлежит, он, окромя того, и в драгоценных камнях маракует, да еще и изрядный спелеолог (таскается по всяким вертепам, иначе сказать — пещерам). Повелитель вод Посейдон в нерабочее время занимается разведением устриц и гидрометеорологией. В заоблачном мире его предсказания наиточнейшие.
Однако же продолжим рассказ о Финской земле.
Ежели бы теперь, подводя итоги, сказал я, что нечему мне в Финляндии учиться было и что никаких полезных знаний я там не набрался, то жестокую обиду тамошним жителям нанес бы. Сугубо важным считаю я обстоятельство, что там родилась у меня идея обзавестись мечом, идея, которая была претворена в жизнь. Да ведь все вы, эстонцы, в долгу перед финскими братьями! Кабы не они, так ваш Калевипоэг до конца дней своих махал бы дубовой палицей и у вас не было бы оснований изображать меня на обложках с шикарным мечом в руке. А у кого меч в руке, тот уже не вахлак, тот уже себя культурным человеком считать может. Следственно, начиная с меня, эстонский народ относится к культурным народам.
Как я себе меч добыл?
Скитаясь по Финской земле, забрел я однажды в маленькую прибрежную деревушку. И там с мельником насчет работы столковался. Днем мешки с мукой таскал — очень даже прекрасная работа, — а вечера в приятной беседе с хозяином проводил. Мельник рассказал, что, дескать, в последнее время дела у него на лад пошли, жизненный уровень, так сказать, непрерывно растет, а перспективы все светлеют и светлеют. И предложил мне к нему в работники наняться. Я, конечно, отказался, но из вежливости поинтересовался, какие факторы способствуют упомянутому им повышению благосостояния и прогрессу. Мельник пояснил, что до последнего времени он беспрерывно конфликтовал с Дуйсларом и его челядью. Эти бандиты чуть ли не каждый день обламывали крылья его мельницы. Прямо ума решиться можно! И мельник показал мне богатую коллекцию ножей, пояснив, что коли поспеешь в середину вихря нож метнуть, так тот, кто его породил, получает рану. Вот мельник ножи и кидал, а Дуйсларовым холуям это, ясное дело, не нравилось. Беспрерывное ратоборство — вот какое было прежде житье-то, так-то вот, да… А теперь уж, почитай, сколько времени ветровое начальство свои штучки бросило. Может, у него характер исправился.
Доверился я мельнику, рассказал о своей кровавой мести за кровную обиду — уж он-то меня не выдаст! Мельник обрадовался безмерно, обещал тайну мою железно хранить и полюбопытствовал, каким образом удалось мне одолеть этого, как он деликатно выразился, «испускателя ветров». Я сказал, что ножа, мол, у меня нету, обхожусь пока дубовой палицей. На радостях подарил мне мельник красивый финский нож.
Ночью, лежа на мешках с мукой, долго я любовался блестевшим в лунном свете клинком. И вдруг меня осенило: невредно бы обзавестись оружием посподручнее, да, зело надобен меч!
И тут уж не до сна мне стало. Я мысленно себя владельцем роскошного булата воображал, враги, словно кошенина, валились, кровь по лезвию волной струилась. А голос сердца внушал: давай, дорогой Калевипоэг, справляй себе меч, сим внесешь ты достойный вклад, так сказать, отворишь своему горемычному народу двери в новую эру, в ранний железный век. Ведь чем раньше начнет народ действовать в этом направлении, тем более доблестным и предприимчивым будут его потомки считать. Осознание сей великой исторической миссии заставило меня окончательно воспрянуть ото сна, не дожидаясь крика третьих петухов. Времени не тратя на прощание с мельником, стряхнул я с себя муку и отправился своему народу меч добывать.
Усадьба кузнеца раскинулась, как в «Калевипоэге» сказано, «посреди долины светлой, вся деревьями укрыта». Из дырки в крыше возносились к небесам снопы искр и валил густой дым. Да, именно здесь добуду я себе пособника в ратных делах, подумал я, остановившись на склоне холма. А вот какую цену за него заломят, это вопрос. Ведь талеров в моем кармане изрядно поубавилось. Ну, авось в кредит дадут, по крайности отработаю.
Пока я таким манером мозгами шевелил, гляжу, откуда ни возьмись, ворон — видать, старый-престарый — уселся на сосновый сук, раззявил свой клюв и давай пророчества выкаркивать. Надо сказать, что в те времена всяческие предсказания, прорицания и прогнозы, причем чрезвычайно замысловатые, высокоэрудированные и стилистически усложненные, были весьма в моде и получили широкое распространение.
Да, так вот эта птичка божия напыжилась, нахохлилась и сообщила, что из посещения кузницы для меня ничего хорошего не воспоследует. Кузнец есть человек в себе, с важностью вещал ворон, притом он немного не в себе, ибо он не токмо кузнец, но еще и великий маг. С помощью первозданных сил Огня, Воздуха и Воды укрощает он четвертую стихию — Землю, извлекает из ее недр руду и пустую породу, снижая, таким образом, за счет Земли всеобщую энтропию. Будучи волшебником, он обращает три праэлемента против четвертого. Чем это грозит Калевипоэгу? Поскольку Калевипоэг является представителем праэлемента Земли, ему надлежит обходить стороной любые возникшие на его пути кузницы, а также держаться подальше от кузнецов, кузнечных мехов, кузнечного инструментария, продуктов и субпродуктов кузнечного производства, равно как от литейщиков, штамповщиков, раскерновщиков и разметчиков всевозможных металлоконструкций и других изделий из железа. В то же время, продолжал вещун, из учения о диалектике непреложно явствует, что между антагонистическими противоположностями существует единство, своего рода взаимопроникновение, которое, будучи объективным фактором, способствует скорейшему становлению раннего железного века. Невозможно повернуть вспять колесо истории, продолжал каркать ворон, конфликт созрел, и в создавшейся ситуации случайности превращаются в необходимость. Так что, кор-р-реш, давай кр-р-рой на всю катушку, ты малый геройский, только гляди в оба, а то с тебя в момент шкуру через уши спустят — так закончила старая мудрая птица свое прорицание.
Надо полагать, нет нужды сообщать вам, что большую часть из того, что этот пернатый накаркал, я не понял. Только теперь, в результате постоянного ежевечернего самосовершенствования, я начинаю малость кумекать, о чем он в тот раз болтал. Что касается заключения вороновой трепотни, то его я, естественно, понял еще тогда. Ужасно мне все это не понравилось, и запустил я в вещую птицу подвернувшимся под руку лошадиным катухом.
В ответ старый ворон сообщил, что для него не является чем-то новым доходящая до наглости неблагодарность подрастающего поколения, и, неторопливо махая крыльями, перелетел на елку.
— Здравствуй, мастер! Таара в помощь при свершенье дел премудрых! — так обратился я к кузнецу, входя в кузню.
На эти мои слова никто не обернулся. Я не обиделся, ибо ведомо мне, что мужи, кои свою работу знают и почитают, допрежь дело закончат, а потом ответ держат.
Огляделся я вокруг. Копоть, сажа, адский красный огонь в горне, на наковальне раскаленная змея, брызжущая искрами, — все это страсть как меня испугало поначалу. Но я виду не показал.
В конце концов приветствие мое приняли, однако тут же добавив, что недостачи в рабочих руках не испытывают. Я заявил, что к кузнечному делу влечения не имею, но интересуюсь кузнечными изделиями. А именно — желаю подходящий меч приобрести.
Кузнецы сгрудились в кружок, пошептались. Потом старший, видно, отец ихний, глядел-глядел на меня и говорит:
— Кто ты, пришелец, не сын ли ты Калева?
Я говорю:
— Точно, сын.
Они опять пошептались и младшего в дом послали за товаром. Воротился он с большой охапкой мечей — один другого лучше, у меня инда сердце затрепыхалось. Только я опять виду не подал, взял один меч, гну его на коленке, прикидываюсь, что вроде бы качество продукции невысокое. А сам не знаю, чего делать, ибо ведать не ведаю, сиротинушка, как надобно добротность мечей проверять. Однако одна мыслишка в моей черепушке крутилась. Имеется же, думаю, у кузнеца наковальня для своих надобностей. И небось из крепкого металла, не будет же кузнец себе наковальню из дерьма делать. Вот на ней-то как раз и впору крепость меча испытать.
Хватил я со всей силы острием клинка по наковальне — искры брызнули, меч вдребезги. Только рукоятка в руке торчит.
Ну, тут я на кузнецов посмотрел свысока и небрежно этак спрашиваю, нет ли, мол, чего попрочнее.
А этот мой удар-то не только меч поломал, но и кузнецов пронял. Сыновья стариковы рассердились, раскипятились, только что не кусаются. Ишь ты, думаю, не нравится, что брак-то в работе обнаружен, а сам ехидно им улыбаюсь. Однако в душе досадно — вот бракоделы несознательные! Человек для своего народа, вам же родственного, хочет подходящий меч раздобыть, чтобы прочный мир обеспечить, а вы, тати поганые, очковтиратели, прощелыги, всякое хламье ему подсовываете!
Старый кузнец опять посмотрел на меня вдумчиво и чего-то сыновьям пошептал.
Я лишь отдельные слова разобрал: «Да он только из лесу вышел», «Отец у него богатый», «Он это, видать, по глупости». И средний сын с кислой рожей потопал за новой партией мечей.
Эти вроде были получше. Я одним мечом навернул по наковальне, так он аж застрял в ней. Клинок, правда, чуток погнулся, но это наплевать, может, оно и лучше, что не такой тонкий. Я уж было собрался торговаться, вдруг смотрю — на крыше кузни тот самый престарелый ворон сидит, какую-то муть несет. Насчет того, что, дескать, скоро производительные силы получат такое развитие, что следует ожидать возникновения первых ростков феодализма. И тогда, говорит, на исторической арене появятся железные рыцари, против которых потребуется более совершенное оружие. И еще он чего-то каркал, что, дескать, феодализм будет более прогрессивным общественным строем супротив нынешнего и что на него может поднять меч только отпетый обскурант или реакционер, но тем не менее… и так далее и тому подобное. Всю эту бодягу я пропустил мимо ушей, но все же решил попросить меч получше.
Теперь в дом пошел старший кузнецов сын.
начал старый кузнец в каком-то хорошо знакомом и приятном ритме, хитро подмигнув мне, но закончил он довольно-таки сурово:
— Если, конечно, у тебя, хиляк ты недорослый, денег хватит.
А цену он заломил бешеную: кроме золота и серебра «девять жеребцов отборных, восемь кобылиц табунных, двадцать пять коров молочных, пять десятков телок пестрых».
То, что он целый список наворотил, меня несколько обнадежило — ведь не могли же эти чумазые носы всерьез рассчитывать, что я все ими требуемое с ходу выложу. Авось в кредит дадут!
Поведал мне финский кузнец, будто меч, что сейчас принесли, он семь лет оттачивал потоньше, оттягивал покруче, выравнивал поглаже. Чистую правду он говорил или с добавками, не ведаю, только изделие сие явно драгоценным было, не зря же его в потаенном подвале хранили.
Взмахнул я мечом богатырским — кузнецы с испугу зажмурились. Видать, знали, чего он стоит. Помедлил я чуток, чтобы, значит, страху на них нагнать, да как хрястну со всей силы дорогой вещицей по наковальне. Искры по всей кузнице брызнули. Кузнецы глаза вылупили, рты разинули, глядят на наковальню, а она пополам. Ну и ну, говорят, вот так клюква, надо же! Да и сам я тоже слегка удивился.
Итак, меч оказался подходящий, как раз мне по руке, и следовало его моим достоянием сделать. Вот только насчет цены надобно было поразмыслить. Корова-то у нас дома, правда, имелась, да еще телка, да еще поросенок. Но как же мне, всесильные небеса, с кузнецами расплатиться? Недолго я себе голову ломал. Поскольку суждено мне было королем стать, значит, скорей всего с помощью сего меча стану я таковым. А король для чего нужен? Для того, чтобы подданные могли свою преданность изъявлять. А как ее изъявлять? Налоги платить исправно. Ну, а ежели кто заартачится и свои личные интересы вздумает выше общественных ставить, так меч ершистому протестанту быстро ума вложит. Очень я был доволен, что додумался до правильного решения и что в столь еще юном возрасте подлинно королевский образ мыслей имею.
Ударили мы по рукам с мастерами кузнечного дела. Как я и думал, старик согласился меч в рассрочку продать. Договорились о сроках платежа, о размерах пени, и кузнец предложил вспрыснуть эту сделку. Я против выпивки возражать не стал, ежели за чужой счет, почему не выпить.
Накрыли во дворе длинный стол, выкатили из подвала бочки с пивом, притащился откуда-то музыкант с кантеле, а вскорости и девицы объявились.
Можно было приступать к торжеству.
Для начала финский кузнец фартовую речь толкнул о традиционной дружбе финского и эстонского народов. Любезно упомянул он о моем покойном отце и его достойном вкладе в историю прибалтийско-финского становления. Я рявкнул в ответ, что эсты — истые баталисты, и звонко стукнул своей о его кружку.
Сказать по совести, бражничать мне до сей поры не доводилось, и хмель, по всем жилочкам пробежав, лихо в голову мне ударил. Однако богатырю теряться не пристало, и я резво осушал кружку за кружкой, проворством своим соседей по столу в немалое изумление приводя. Вспоминается мне, что вроде бы порывался я ответную речь произнести, но вроде бы получилось из сего нечто весьма невразумительное, неясное и сбивчивое, что, впрочем, вполне согласуется с национальной традицией. Во всяком случае, летописцы ничего о моем тосте не сообщают. И понять их нетрудно.
Вспоминается еще, что вскорости рядом с собой заметил я прекрасную деву. Густая пшеничная коса, соблазнительные пышные руки — ну, одно слово, красотка. И притом глаз с меня не сводит.
Усердно черпал я смелость из кружки, о недавнем уроке, что на острове получил, памятуя. И вскорости ваш юный богатырь в немалом подпитии оказался, что уже на заре того железного века называлось «пьян в драбадан».
О дальнейшем в памяти моей сохранились лишь отдельные клочки. Так, помнится мне, что пригожая дева за руку притащила меня в сарай, полный сена, я же при этом без умолку похвалялся и куражился. Очень она мне по сердцу пришлась своей мягкостью и пышностью. Хорошо помню, что наобещал ей с три короба: поклялся возвести эту Айно (или Кати?) на престол объединенного королевства Эстонии, Финляндии, Латвии, Турции и Татарии. И не далее как завтра.
Златовласая пастушка — так она отрекомендовалась — со вниманием меня слушала и мило улыбалась, однако через некоторое время начала нетерпение проявлять. Тогда я попытался развлечь ее вокальным репертуаром, популярным в наших краях. Немало славных песен было спето — и «Наши мужики, будто дикие быки», и «Тверды, как скалы в океане», и много других романсов, — только пастушка ни малейшего восторга не выказала. Прослушав мой концерт, она спросила лукаво, все ли это, дескать, что я умею. Вспоминаю, что, ссылаясь на духоту, при этом расстегнула она свой корсаж. Пошевелив мозгами, смекнул я, что пастушке-то, видать, охота со мной в любовную связь вступить. Я бы и сам не прочь, да только меня как понесло, ну никак с собой не совладаю — опять бахвалиться начал крупными победами на любовном фронте да еще добавил, что в этом деле всем здешним мужикам сто очков вперед дам. Во всяком случае, сказал я самоуверенно, коль со мной часок побудешь, так до смерти не забудешь.
А дальше все как в тумане. Твердо помню только, что вдруг одолело меня непреоборимое желание заснуть и что предложил я своей партнерше сперва как следует выспаться. И вроде бы эта моя идея не встретила у нее поддержки, потому что вскорости она, похоже, куда-то исчезла.
Спал я изрядное время. Когда глаза продрал, темно было уже. Посреди двора горел большой костер, и мои сотрапезники вокруг него плясали. Видно, перебрал я за трапезой здорово, потому что и поспавши «папа-мама» сказать не мог. Хотел было еще вздремнуть, да слышу, шуршит что-то в сене. Представшая пред моим взором картина мгновенно сонливость прочь прогнала: будущая властительница объединенного королевства и младший сын кузнеца нечто столь непотребное вытворяли, что язык мой прилип к гортани и рука перо роняет. Да, было сие зело непохвально и для сурового эпоса неприхотливого северного народа никоим образом не подходяще. (Буде любознательный читатель проявит нездоровый интерес к данному эпизоду, надлежит ему обратиться к той главе греческой мифологии, в коей описывается связь Посейдона и Деметры, в результате чего, как известно, родился говорящий конь Арион.)
Мерзостное это зрелище сердце мое горестью и негодованием наполнило. Выбрался я, шатаясь, из сарая на свежий воздух. Забывшая стыд и потерявшая совесть парочка на мой уход никак не реагировала. А на дворе-то дым коромыслом, столпотворение вавилонское, сиречь беспросветный разгул. Даже в «Калевипоэге» не смогли обойти молчанием происходившее:
На мой взгляд, было все сие зело предосудительно, и, чтобы горькое разочарование в местных нравах и обычаях умерить, я вновь за пиршественный стол уселся, тем роковую ошибку совершив.
Кузнецовы сыновья, ухмыляясь нахально, ехидные шуточки в мой огород отпускать принялись, открыто надо мною потешаясь. А вскорости и пастушка (Кати или Айно — никак не вспомню), о коей я столь возвышенные планы строил, к ним подсела. И что-то такое старшему Кузнецову сыну на ухо шепнула, что тот аж за бока схватился. Нахохотавшись вволю, посоветовал он мне пить настой из вороньих ягод, добавив, что средство это, видать, беспременно мне требуется.
От сих слов разгневался я безмерно, однако сдержался, крохи трезвого разума собрав, ибо чувствовал, что заслужил осмеяние, — ведь не раз говаривал я: нынешнее дело на завтра не откладывай. Так что мое нерешительное в сарае поведение, пожалуй, и впрямь зубоскальства достойно было.
Пил я пиво да в гневе губы кусал. Силился обиду забыть, но хмель трезвое помышление угасил. И словно со стороны, словно кто-то иной говорил, словно издалека услышал я вновь свой голос. И вновь голос мой выхвалялся и куражился. Уж больно хотелось мне осмеянную мужскую честь реабилитировать. Громко поведал я всем, за столом сидящим, как некая островитяночка, папочкина дочка, бережно хранимое девицами сокровище потеряла невзначай.
Вскочил тут в ярости старший кузнецов сын.
— Заткни, — заорал он, — свою поганую пасть, дурацкое самохвальство и скудоумное фанфаронство свое сей же час прекрати! Опрометчивое твое пустословие может благороднейшего происхождения примернейшего поведения достойнейшей девице непоправимый урон нанесть и репутацию изгадить.
Э-э, думаю, тут дело нечисто, у него, видать, рыльце в пушку; ведь до этаких россказней все мужики страсть как охочи, и за честь девицы лишь тот вступится, у кого с ней шуры-муры и амуры.
Ладно, думаю, я тебе хвост прижму, и, встав во весь рост, провозгласил во всеуслышание:
И тут же сцепились мы с Кузнецовым сыном крепко.
Ох уж эта ложная мужская гордость! Ведь оба мы, всяк на свой манер, одурачены были той девицей. Не разумней ли было бы друг другу руки протянуть и за кружкой пива утешиться? Как бы не так! Кузнецов сын сгреб меня за грудки, а я меч выхватил. Сподручный был инструмент сей драгоценный меч, что кузнецы для меня своими руками выковали. Сам не знаю как, здравомыслие начисто утратив, опустил я меч с силой и снял с плеч долой молодецкую Кузнецову голову. Покатилась она под стол, словно репка.
Силы небесные, что тут началось! Братья кинулись в кузницу, один в молот вцепился, другой щипцы хватает. Со мной чтобы расправиться. Пастушка Айно (или Кати?) где-то овечьи ножницы нашла, а овечьи ножницы в женских руках — страшное оружие. Словом, со всех сторон на меня накинулись.
— Давайте подходите, кому жить надоело! — крикнул я, крутя меч над головой, готовый любого пополам рассечь.
Тут старый кузнец сынов своих отозвал, и правильно сделал, я бы их обоих не моргнув уложил. Умолкли и замерли все вокруг, и в страшной той тишине произнес старик зловещее проклятие, многочисленные беды и напасти на меня призывая.
Я не стал его до конца дослушивать, повернулся и пошел прочь со двора, через выгон, по лугу, по дороге, кузнецов род, а заодно всех его соотечественников последними словами честя. Дорога была почему-то чертовски неровная, вся в ухабах и рытвинах, невозможно было на ногах удержаться. Как сквозь сон помню, что мудрый старый ворон, перелетая вслед за мной с дерева на дерево, из клюва своего весьма остроумные изречения ронял. Наконец доплетухал я до какого-то водопада, рухнул на траву и заснул крепко.
Ну и тягостное же было пробуждение после веселой попойки, ох, до чего тягостное! С трудом разодрал я опухшие глаза, в голове пламень грохочущий, руки-ноги дрожмя дрожат. Худо мне было, ох, и худо же! Однако в юности недуги недолги, помаленьку стал я в себя приходить и к жизни возвращаться.
Со стыдом признаюсь вам, что не сожаление о содеянном терзало меня и не скверное самочувствие (в ваш век абстинентным синдромом именуемое). В те далекие времена был я неискушен и бесхитростен, не ведал различия меж добром и злом и прочих мудреностей. Не забыли летописцы поведать вам о моих душевных муках, таковых просто не было. Зрелый муж силой славен, а кто силен, того и верх будет. Я так разумею и на том стою твердо. И скажу вам, что сия точка зрения правителю государства весьма пригодна.
Простодушный и безмятежный, стер я травой ничтоже сумняшеся кровь с лезвия и возрадовался, что столь острым ратным оружием владею. И вознес хвалу всевышнему, первое в жизни мужское дело (таковым считал я убийство) достойно свершить меня сподобившему. Кто его знает, что там, в семействе кузнеца, еще сотвориться могло бы, ведь эти железные лапы — дюжие мужики, а мечей, молотов и прочего добра, для смертоубийства сподручного, у них навалом. Однако впредь все же решил я держать себя в узде, возлиянию предаваясь.
Бродил целый день по лесу, брусникою муки похмелья утишая, и обдумывал, что же мне делать надлежит. Видать, надо с Финской землей расставаться и прах ее со своих ног отрясти: сперва Дуйслар, теперь еще этот кузнецов сын подвернулся. Нет, надо удирать, а то худо будет.
Итак, направил я путь свой к морю, чтобы побыстрее из сего злосчастного края удалиться.
Удача сопутствовала мне. В тихой бухточке покачивали волны стоящий на якоре парусник, условной меткой Дуйслара украшенный.
Осиротелый сей кораблик я резонно своим считать мог. А чтобы никаких квипрокво не возникло, счистил я острым камушком Дуйсларову метку на носу кораблика, после чего взошел на борт и взял курс на юг. Крепкий норд-ост исправно парус надувал, и я плыл к берегам Виру.
Так закончился мой первый зарубежный вояж.
VII
Добрался я до дому, братья тоже, как и следовало ждать, с пустыми руками с розысков матушки воротились.
Начал рассказ старший брат. Поведал он, что все свои надежды и чаяния на женский пол возложил, поскольку женщины всегда хорошо осведомлены о том, что, как, где и с кем делается; им всегда известно все, а иногда и гораздо более. Сперва встретил мой брат Оловянную деву. Девица сия была пригожа и мила, но о матушкином исчезновении ничего не знала. Они немного поболтали, скромно сообщил брат, а затем он, будучи преданным сыном, поспешил на встречу с Медной девой. Удивления достойно, что сия рыжая красотка о чем бы то ни было к нашей матушке отношение имеющем также оказалась абсолютно не осведомленной и притом полную игнорабельность проявила. И с ней мы маленько поболтали, на полном серьезе продолжал брат, не обращая внимания на мою ехидную усмешку. После чего отправился он Серебряную деву навестить. Можете себе представить, и от среброкудрой сей особы об исчезновении мамы ничего ему узнать не удалось. Ну, поскольку невежливо сразу уходить, погостил старший брат у Серебряной девы денька два, в течение коих занимались они в основном различными интересными дискуссиями…
Мне уж ясно стало, что следующим номером будет Золотая дева, также ни черта ни о чем не знающая, и я предварил братнин о сем рассказ вопросом, куда понесло его после расставания с этой дорогостоящей штучкой. Тут брат расчувствовался и сообщил, что
Ну тут я окончательно убедился, что старший мой братец, вовсе о матушке позабывши, без толку по свету шатался, беспутно время проводя. Озлобился я на него и огорчился вельми. Таковой ли должна быть сыновняя благодарность той, коей всем, что в нем есть хорошего, он обязан!
Средний брат поведал, что, матушку по лесам разыскивая, повстречался он с волком, потом с медведем малость покалякал, а опосля того с кукушкой чуток покуковал. Этому я прямо сказал, что всяким басенкам про волков и кукушек грош цена, и что он, средний то есть брат, тоже не стоит и десятой доли тех забот, кои незабвенная родительница наша на его воспитание и всестороннее развитие положила.
Братья злыми взглядами обменялись, и почудилось мне, что, не будь на моем боку добрый меч подвешен, история нашего народа обогатилась бы весьма колоритным братоубийством, что, впрочем, для многих культурных народов отнюдь не диковинка.
Набычившись, глядели мы исподлобья друг на друга и молчали. Первым нарушил молчание старший брат: пора, говорит, решать, кто нашей страной управлять будет. Не втроем же, мол, нам распоряжаться.
Струхнул я тут изрядно. Ну, думаю, сейчас выложит: старшему править, среднему казной владеть, а младшему — вот те бог, а вот порог, скачи себе во чистое поле на белогривом мерине. Однако он по-другому решил:
Я аж прослезился от умиления. Ей-богу, мировой мужик мой старший! Добровольно от права первородства отказался и такое дельное предложение вносит.
— Жребий по-всякому кидать можно, — продолжал меж тем старший брат, — а лучше всего камни бросать. Кто дальше кинет, тот и король.
Теперь дело было за средним братом. Ведь в случае отказа старшего от престола он бразды правления принять должен. Чудеса, да и только! И этот туда же — согласен, говорит, обеими руками кидать буду. Ну и ну! И в кого это они пошли, братаны-то мои, откуда у них такое великодушие? Чокнулись, что ли, оба?
А может, тайные козни супротив меня замышляют? Чего это они разиндифферентничались? Чай, целая страна — это не баран начихал. А братья меж тем уселись преспокойно в «подкидного дурака» играть, а о жребии, что завтра с утра кидать будем, и говорить больше не желают.
Я же в смятении и тревоге пребывал. Ни есть, ни пить, ни спать не мог. Ерзал на ложе, словно на муравьиной куче, сна ни в одном глазу, а ведь перед таким ответственным соревнованием крепкий сон ох как нужен.
До полуночи с боку на бок ворочался, потом решил к отцу на могилу пойти.
Поделился с ним кручиной своей.
С трепетом ждал я отцова ответа. И вот донеслось из могилы:
Да… Нельзя сказать, что это был дельный совет…
Нимало не успокоенный, брел я сквозь ночной лес к дому. Ни одно окно в нем не светилось, братья мои спали спокойным сном. А высокие ели возле дома шумели, покачивая острыми верхушками, и почудилось мне, что они в беспокойном раздумье о судьбе родной земли, об исходе завтрашнего турнира. Сорвал я ромашку и стал лепестки обрывать. Что-то ждет меня завтра?..
Едва заря заалела, вскочил я с ложа своего, умылся у колодца, утреннюю зарядку совершил и несколько валунов со двора на луг зашвырнул. И чего это братья придумали — камни метать? Я же их обоих здоровей и в плечах шире. Ежели рука не подведет, я их сегодня славно причешу! Да, только бы рука не дрогнула!
До того мне не терпелось королем поскорее стать, что я и позавтракать путем братьям не дал. А они над моей спешкой насмешки строить взялись. К чему это, дескать, такие темпы и что это за горячка, вроде бы не пожар. А средний и того чище отмочил: надо бы, говорит, сперва на ярмарку заглянуть… И так, и сяк, и криком, и уговорами выпер я их наконец из дому. Потащились мы нога за ногу к озеру Саадъярва — месту нашей олимпиады, и пока дошли, братья, наверное, раз двадцать отдыхать присаживались, а я в это время от нетерпения с ноги на ногу переминался да ногти грыз.
Долго ли, коротко ли, а только к полудню добрались мы до Саадъярва, и можно было зажигать олимпийский огонь.
Старший брат сказал, что раз он из нас старший, так ему первому и бросать. Ладно, думаю, валяй, спорить не буду. Выбирал он выбирал, наконец выбрал себе здоровенный валун, ну вовсе к сему случаю негожий, словно сроду не бросал он камешков, коих дети «блинчиками» зовут, и не любовался, как они по воде прыгают. А такая глыба куда брякнется, там и шмякнется. Удивился я на старшего брата, однако ничего не сказал.
Приготовился он к броску. А допрежь того многозначительно произнес: дескать, чему быть, того не миновать, но чтобы никаких свар и ссор. Кто дальше камень кинет, тот король, и вся недолга. Честная игра благородных людей, все без обмана.
Со свистом взлетел его камень. Да, это был богатырский бросок, и на всякий случай мы со средним немного попятились. Ибо наш старший пульнул свой камешек прямо вверх, аж в самые облака. На время он вообще скрылся из виду. А когда вновь показался, стало ясно, что и полверсты не пролетит. Возблагодарил я в душе всех известных мне богов — слава тебе, тетерев, один утерся, не видать ему королевской короны как своих ушей. Ура, ликуй, Эстония, не сядет бабник на твой престол!
Со вполне понятной тревогой стал я ожидать броска дорогого моего среднего брата. Неужто эта мякинная башка провал старшего себе на ус не намотает?
Вид у среднего был зело деловой. Он по примеру старшего также свой бросок торжественным заявлением предварил:
Это было хорошо сказано! И когда он добавил, что:
я от души пожелал ему полного в сем успеха.
С шумом взвился вверх второй валун. Я замер в волнении, ногти в ладонь впились — сей был брошен куда толковее! Но увы! (Вернее, ура!) Траектория полета подкачала. Чуток через озеро камень не перелетел, упал в воду возле берега. Результат для молодого здорового мужика, прямо скажем, хреновый.
В предвкушении великой победы сердце мое забилось, как овечий хвост. Ежели я не растеряюсь, ежели не дрогнет моя рука, то вскорости дождется радости Эстонская земля, испытает счастье быть под моей державой.
Ни для чего иного, как только чтобы с волнением справиться, произнес и я краткую речь, в коей братьям о младенческих своих летах напомнил и о матушке нашей:
Так, бывало, баюкала меня матушка в давние времена; с той поры я подрос, возмужал и закалился, причем последнему мои любимые братья немало споспешествовали, и теперь, в сей решительный час, я великую мощь и крепость в себе ощущаю, что позволяет мне со взрослыми мужиками на равных быть. Тому убедительное доказательство я представить не замедлю.
И с этими словами принялся я камень себе искать. Рыл, перебирал, отбрасывал, прикидывал. Хотелось мне подходящий найти, чтоб поплоще был, чтобы, коли запустить его не слишком высоко, долго по воде прыгал.
И вот вышел я на старт. Мысленно поклялся богам, эстонскому народу и даже народам пограничных стран, что ежели победу одержу, то сроду об этом никто не пожалеет!
Быстренько помассировал плечо и предплечье. Троекратно на ладони поплевал. Трижды вздохнул глубоко. И!..
И он полетел. Ну и полетел же! Еще не приземлился, а уже ясно было: победа за мной.
О радость! О счастье! Камень плюхнулся прямехонько на другой берег. Я превзошел братьев! Я король!
Побежал я взглянуть на результат. Прямо через озеро вброд побежал, чревом воду столь мощно надвое разделяя, что братья могли за мной по дну следовать, ног не замочив.
Старшего брата камень валялся в озере, среднего — на краю берега, половина камня в воде мокла, половина на прибрежном песке сохла. А мой камень, достойный краеугольным камнем престола стать, возлежал посреди зеленого луга.
Ну, а братья, что они по этому поводу думают? Признают ли мою победу? Что за диво! Они не только не прекословят, а вроде бы даже рады.
Подошли оба ко мне и руку мою крепко пожали. Затем старший сказал:
Я инда прослезился от умиления. И подумал, что надобно бы братишек как-нито утешить, подбодрить, что ли, ведь королевская милость — великое дело, о королевской милости долго помнят, детям да внукам рассказывают. Однако, как видно, ни старший, ни средний в утешении не нуждались, оба с довольной миной друг на друга поглядывали.
В конце концов, решил я, ведь в том, что произошло, ничего неожиданного не было. Я же с младых ногтей ведал об избранности своей. Кто бы, кроме меня, мог вдруг, королем оказаться?
Братья почтительно разрешения у меня испросили совершить надо мною обряд помазания на царство, как положено королю. Ах, вот как? Даже помазание? Об этом я и мечтать не смел и, конечно, милостиво согласился…
Усадили меня братья на пенек и раздели догола. Только меч на поясе оставили. Я тогда понятия не имел, что это за помазание, а потому не сопротивлялся.
Сидел я на пеньке в натуральном виде. Чтобы не мешать братьям магический обряд совершать, я на муравьиные укусы не отвлекался. А муравьев там было как собак нерезаных, и таких же злых! Братцы же наносили целую кучу мелкой гальки и принялись меня энергично натирать ею. Оба они сроду усердием не отличались, а тут, дорвавшись до должности королевских массажистов, небывалое рвение проявили. Вскорости заблестел я, словно медный котелок после субботней чистки, все тело было красное и горело адским пламенем, но я ни спереди, ни сзади звуков никаких не издавал, терпел молча, королевское достоинство уронить опасаясь.
Засим окатил меня старший брат водой из озера. А дело-то было ранней весной, водичка была не сказать чтобы теплая, да и прозрачностью не отличалась. И почему-то полно воды у меня в ушах оказалось, насилу вытряс. Но все это было безделкой и детскими игрушками по сравнению с чесанием головы, к чему братья приступили с великой ретивостью.
Смолоду отличался я буйной шевелюрой. Будучи по натуре противником всяческой суеты, а тем паче кокетства, я волосья отродясь гребнем не баловал. Важно не то, что снаружи, а то, что внутри, так я всегда считал и обычно космы свои пятерней, так называемым гребешком Калевипоэга, расчесывал. Оттого и мучения теперь велики были. Стараниями братьев волос на моей голове изрядно поубавилось. Выдранные лохмы валялись вокруг, словно солома возле риги нерадивого хозяина. Я даже маленько забеспокоился и попросил братьев рвение свое умерить. Они же словам моим не вняли и продолжали трепать поредевшие космы, лишь тогда истязательство прекратив, когда средний брат, плоды совместных трудов довольно оглядев, с ехидной ухмылкой сказал, что плешивая голова почтение всякому внушает. Должен отметить, что это злодейское причесывание моему преждевременному облысению начало положило, о чем летописцы не нашли нужным поведать (и правильно сделали).
Поскольку с волосами, по мнению братьев, было все в порядке, началась смазка (может, сие и называлось помазанием?). Я и тому противиться не стал. Покорно сидя на пне, поглядывал я на братьев, а они, из мешков горшочки с медом да с гусиным салом достав, телеса мои умащали, тайно переглядываясь и посмеиваясь. Начал я смекать, что братья шутят со мной шутки не гораздо добрые. Но опять промолчал. Хорошо смеется тот, кто смеется последним!
Глядел я на бегающих по голым моим лядвиям рыжих муравьев, на клочья волос, в траве вокруг пня разбросанные, и в душе у меня черная злоба росла. Не над братом родным здесь глумятся и изгаляются — над законным правителем Земли эстонской! А это уже плевок на весь народ! Однако и тут смолчал я, ибо некий внутренний голос шепнул мне, что не пристало голому королю мечом размахивать.
Наконец помазание на царство завершилось, и братья в один голос провозгласили меня стойким помазанником и натуральным королем Эстонии.
Я встал и поблагодарил братьев.
— Король дозволяет вам за ваши хлопоты и заботы его королевскую руку облобызать. Разумеется, честь сию коленопреклоненно принимать надлежит, — промолвил я милостиво. Братья сделали вид, что удивлены и такой чести достойными себя не считают, а посему почтительно ее отклоняют. — Скромность и смиренность украшают мужчину. Да будет так. Вот вам моя королевская стопа. — И при сих словах рука моя весьма недвусмысленно потянулась к мечу.
Братья объявили, что стопу мою лобызать такожде для них много чести. Но я процедил сквозь зубы, что король лучше знает, чем своих подданных жаловать, и что их заботы о моей особе награды заслуживают.
— Между прочим, это ведь высокосортная легированная сталь, — промолвил я, разглядывая меч, сверкающий в лучах заходящего солнца.
И братья поцеловали ногу своего короля.
Говорят, что месть сладостна, но я, на них глядя, радости не ощущал. Как видно, в королевской жизни не так уж ее много бывает.
Помолчали мы. Грустно всем нам стало. Как-никак, а все ж таки мы родственники.
затянули братья. Они эту песню пели, отправляясь на очередную ярмарку либо к знакомым девицам, но нынче привычный сей мотив звучал невесело. Отнюдь. На словах «кукушка счастья» средний брат даже всхлипнул. И у меня на сердце кошки заскребли. Чтобы кручину развеять и полезный совет братьям дать, стал я подпевать:
Тут братья решили обратить дело в шутку. Вылупив глаза, завыли они во весь голос:
Однако сколько можно дурака валять, когда в горле слезы стоят. Братья собрались в путь и на прощанье обозвали меня жеребьевым помазанником. Не очень-то мне сие название понравилось, но я взял себя в руки — пусть обзывают, это облегчит им разлуку со мной. Я был милостив и даже протянул им руку на прощанье.
Ушли они. А я сидел на камне, пригорюнившись, но не дюже сильно. Когда скрылись братья за холмом, принялся я травой сало и мед оттирать, а потом в озере искупался, чтобы пакость эту смыть. Вода была мягкая и приятная. Почудилось мне, что волны нежно ко мне ластятся. Я понял, почему: ведь это озеро теперь мое.
VIII
После многотрудного дня и ночь была несладкая. Пожалуй, одна из самых тяжких в моей жизни. Кинулся я к сундукам с добром да к ларцам с наследством. Что же я обрел? Долговые расписки да закладные. Выходит, дорогое мое отечество, любимая моя земля давным-давно от рогов до кончика хвоста трем соседним народам заложена-перезаложена. Вовек мне с этими долгами не расплатиться, подумал я. Да, горькое было разочарование! Понурившись, стоял я возле раскрытых сундуков.
Но гнев разогнул мою спину, расправил мне плечи. Ругаясь и проклиная братьев, грозил я им кулаками и королевским мечом своим в ярости. Меня подло обманули! Теперь понял я, почему братцевы камни летели в поднебесье, теперь оценил я их спокойствие и коварные усмешки. Вовек им не прощу! Ведь втроем мы с долгами втрое скорее расплатились бы! А матушку я не винил. Привыкшая к достатку, всечасно окруженная многочисленными поклонниками, беззащитная вдова пыталась по мере сил поддерживать материальное благополучие семьи, нелегкое бремя на слабые свои плечи взвалив. Чего еще можно требовать от женщины? Нет, на маму я не гневался. Тут братья всему виной, из-за их постыдного отступничества и гнусного бегства не токмо я один пострадал, весь эстонский народ в беде оказался.
Впрочем, я чересчур разошелся.
Прошу меня извинить.
Вновь заалел восток, и петухи бодрым кукареканьем принялись приветствовать восходящее светило, а я сидел на траве посреди двора, рукой голову подперев, и размышлял, что мне теперь делать и с чего начинать. Может, последовав примеру братьев, драпануть из Эстонии, бросив весь этот хлам? Но тогда я из национального богатыря рискую превратиться в бездомного бродягу, а сей удел малопривлекателен. Такому бродяге придется стать наемником, сражаясь то за один, то за другой народ, а этаким манером славы национального героя не добьешься, ведь народ только тех героев возвеличивает, лавровым венком венчая, кои ему верны.
Так что оставил я мысль о бегстве. Не хотелось каким-то безродным космополитом становиться.
Что ж, значит, надо засучив рукава за дело приниматься. Но вот беда! Ведь в крестьянской-то работе я ни уха ни рыла. В отрочестве я ведь в основном спортивным играм да размышлениям о своем великом будущем предавался. Дело в том, что молодые богатыри, да и вообще подрастающее поколение не так чтоб уж очень к повседневной работе рвутся. Им подавай приключения, сражения, ратные подвиги. И лично у меня не было ни малейшего желания свой меч на орало перековывать. И все же, никуда не денешься, придется к полевым работам приступать. Ведь земледельцы издревле богатыми считались. А мне необходимо было разбогатеть. Как видите, я к государственным долгам относился серьезно.
Вывел из конюшни нашего старого белогривого мерина, поставил его впереди плуга. Запрягать мне, слава богу, и раньше приходилось.
Привязал я лукошко через плечо, укрепил (на всякий случай) меч на поясе, и вот прекрасным солнечным утром начался недолгий, но широкую известность получивший период моей жизни: пахота Калевипоэга. Мне приходилось видеть художественные полотна, на коих запечатлели живописцы сие событие. Уж слишком оные произведения помпезны и глубокомысленны: твердой рукою с важностью держу я чапыги плуга, словно некое божество плодородия! На картине все это выглядит весьма импозантно, а в действительности было далеко не так блистательно.
Ученые мужи много толкуют о правде жизни, о правде мифа, о правде искусства. А разница между ними порой еще больше, чем между бороздами, Калевипоэгом проложенными, прямо-таки пропасть зияет. Однако истинный пахарь, какую бы ниву ни пахал, смущаться и задумываться о сих премудростях не должен, коли не хочет свихнуться.
Вот я и пахал, трудился в поте лица, а ежели со стороны посмотреть, так первые борозды мои на витые крендели походили. Но я не сдавался, работу не бросал. Крестьянскую закваску и способность доблестно трудиться должен был я всем на обозрение представить. Ежели мужик вкалывает прилежно, ему всякий с охотой снова взаймы даст, а по крайности со старым долгом потерпит. Шагая за плугом, вспоминал я о Дуйсларе. И зачем я, дубина стоеросовая, его угробил! Сейчас Дуйсларовы наставления мне весьма пригодились бы.
Биографы отмечали мою очевидную некомпетентность в части улучшения земель, или мелиорации, и в других-вопросах. Как обычно, они весьма корректно, не останавливаясь на продуктивности и успешности моей работы, уделили основное внимание грандиозности замыслов и силе исполнения. В результате мое нерачительное ковыряние земли производит недурное впечатление:
Летописцы с признательностью упоминают, что я распахал и широкие долины, и большие поляны
Для забав, для игр веселых…
Не буду скрывать, что за моим плугом действительно не всегда оставалась должным образом вспаханная под посев земля; это верно, значительная часть моей пашни более пригодна была для забав, для игр веселых. Ну и что? Разве не похвальна сама идея заняться полевыми работами?
И вот пахал я, почитай, дней десять уж, инда добрый мой мерин чуть не скопытился. Да и я приустал. Жара, солнце припекает, сил больше нет. Стреножил я своего Белогривого и лег вздремнуть в тенечке на пригорке. Спал зело крепко и пробудился только к вечеру.
Продрал глаза, чую, беда — не слыхать мерина, травой не хрупает, копытами не стукает. Побежал я искать помощника моего. Плохо дело: земля в крови, клочья шерсти повсюду, да несколько мертвых волков, конскими копытами поверженных, валяются.
А когда до лесу добежал, вижу — шабаш: от горемычного конька, на коем отец некогда матушку мою сватать ездил, только шкура, хвост да грива остались. Пасется теперь он на вечном выгоне! Мир праху его! Со слезами преклонил я колени на месте гибели верного коня и поклялся отомстить всему роду серых разбойников. Безмерно опечаленный, даже тому не радовался, что по не зависящим от меня обстоятельствам могу сельскохозяйственные работы к чертям послать.
Да, на том пахота Калевипоэга и закончилась, до настоящего сева дело не дошло…
Этой скандальной истории башковитые летописцы благолепный конец присочинили. Известно ведь, что в лесах наших всяких ягод видимо-невидимо. Ну, это обстоятельство и вдохновило ретивых борзописцев. В «Калевипоэге» сказано так:
Прежде чем продолжить рассказ об истреблении волков, мне хотелось бы молвить несколько слов о некоторых неточностях и домыслах, имеющих место в описании моего сна.
Ежели, о юности моей повествуя, летописцы большей частью не грешили против истины, то при восшествии моем на королевский престол стремление их к гиперболизации сверх меры разыгралось. Не токмо сила, испарина моя и та, по ихнему мнению, королевским изобилием отличалась. Это же чистая брехня, что
Читать противно, честное слово! И не пристало серьезному эстонцу побасенки и байки за истину принимать. Пусть подобные домыслы остаются областью фольклора. Надеюсь, что вы со мной согласитесь.
Однако в принципе я не возражаю против некоторых преувеличений и дополнений. Насчет моего посева ягод придумано довольно здорово. И не имеет никакого значения, что все происходило не совсем так — ну где мог я, бедный человек, достать семена морошки? Но ежели детишки, гуляя в лесочке, найдут среди мха несколько ягод и решат, что это я их посадил, то не следует разрушать поэтические детские фантазии. Здесь, среди адского племени, уже на старости лет ударился я в сентиментальность, и, хотя у меня детей нет, мне чрезвычайно симпатичны эти милые карапузы. Бесенята, кои еще головку не держат, иной раз в душе моей нежность пробуждают, и я ласково глажу их по темечку с едва пробивающимися рожками.
Так что, категорически отметая дурацкие выдумки о моей потливости, я согласен считать сказочку о севе ягод весьма подходящей для малых ребятишек.
IX
Разрешившись богатырским проклятием и готовый к бою, взмахнул я мечом и бросился со всех ног в сумерки густого леса.
Следует сказать, что косматого волчиного племени повсюду было хоть отбавляй. Я их бил, колотил, лупил и колошматил так, что от меня пар валил, а вокруг и трава, и деревья — все было в крови. Впервые довелось мне всерьез испробовать мое могучее оружие. Эта волтузировка и демедведизация дремучих лесов моей отчизны после однообразной пахоты были приятным развлечением. И я предавался этому занятию весь день. Когда же к вечеру растянулся я под елью на шкуре дорогого моего мерина, черные мысли вновь одолевать меня начали. Где коня взять? Денег у меня нет, а с конокрадства начинать королевскую деятельность вроде бы негоже. А тут еще словно забубнил кто-то у меня в башке: «Девять жеребцов отборных, восемь кобылиц табунных…» Ох и долго же придется финскому кузнецу их дожидаться!
Хотя я зверски устал при очистке лесов от избыточной фауны, уснуть мне удалось только после полуночи. И выспаться опять не пришлось. Только я вежды смежил, слышу, за кустом кто-то шебаршит и кашляет робко, но упорно.
— Давай иди сюда, чего ты там дохаешь! — не выдержал я наконец.
Из-за куста вылез тощий мужичонка с маленькими бегающими глазками, несколько раз поклонился до земли и сообщил, что он является злосчастным вестником бедствий, как правило, военных. И простуженным, хриплым голосом затянул длинную грустную песню об ожидающих эстонский народ великих напастях.
Поведал мне сей гонец, что подданные мои неоднократно обнаруживали тайных вражеских лазутчиков. А еще какие-то мрачного вида неизвестные вояки на длинноносых судах делали попытки нарушения священных морских границ нашей родины. Отмечались даже случаи высадки их на берег с целью подвергнуть моральную стойкость эстонских дев неуместному и непозволительному испытанию и, кроме того, произносить по адресу мирного населения непонятные чужеземные и наверняка нецензурные слова. И мои подданные, в массе своей довольно-таки смекалистые, будто бы тут же сообразили, что все эти пограничные инциденты носят провокационный характер, а наиболее башковитые небезосновательно сделали вывод, что наши соседи за последнее время перестали должным образом ценить заключающиеся в мирном сосуществовании возможности всеобщего прогресса.
Я с неудовольствием сказал болтливому вестнику, что ежели то, что он наболтал, истиной является, то тут особой смекалки не требуется и тратить время на размышления не приходится — надо спешно укреплять военную мощь государства.
Вы, возможно, удивитесь, почему я сразу за меч не схватился и тотальную мобилизацию моментально не объявил. Дело в том, что все богатыри к ратному делу большую охоту имеют, но терпеть не могут, когда их среди ночи будят и выспаться не дают. Кроме того, покойная моя матушка не раз мне рассказывала, что главное занятие королей — спать между двух тулупов, в остальное же время они без передышки пьют мед и салом закусывают. Меня такая тусклая жизнь не привлекала, но дайте же мне, черт вас возьми, хоть одну ночь выспаться как следует! Я, черт бы вас побрал, как собака, пашу, бродячих волков и медведей со страшной силой истребляю, и всего этого, видите ли, мало! Надо среди ночи меня с ложа выкашлять, чтобы я тут же, с ходу, занялся строевой подготовкой и фортификационным делом! Ну, знаете, это уж слишком! Я не буду распространяться о данных богом и конституцией правах помазанника, потому что даже рабы и те имеют право на ночной отдых!
И что это за мужики, которые до того войны боятся, что своему единственному богатырю выспаться не дают? Каждою верного сына Эстонской земли мысль о войне, насупротив, вдохновлять должна. За своего короля сражаться — распрекраснейшее дело! Или, может, мужики теперь бабами стали и в юбки обрядились? Вроде бы на Эстонской земле не наблюдалось недостатка в могучих воинах и бравых ратниках.
Гонец только в смущении глазами хлопал и молчал.
Ужасно он был хилый и убогий. Впрочем, с виду не дурак — так и зыркал во все стороны хитрыми глазками. А уши у него были остроконечные, и я заметил, что, когда он начинал шевелить мозгами, у него шевелились и уши.
Он что, он просто курьер, гонец, так начал мужичонка, а боевая готовность в нашем государстве имеется. Да только простые люди, ну, которые не богатыри, не очень-то воевать рвутся, потому как:
Вот не было печали, придется пойти помочь — такова первая моя мысль была. И тут же другая: ну ладно, пойду я с ним, а что толку? Что это за народ, ежели он только на богатырей надеется? Такой народ в два счета любой расколошматит.
И решил я, что не резон мне всю ответственность на себя взваливать. Пускай мой народ сам за себя постоит. Ну а ежели вовсе невмочь будет, так я подмогну, одначе сперва сам справляться старайся, а потом уж Калевипоэга на подмогу зови.
Так я ему ответил, заключив сию королевскую речь словами, что в бою погибнуть и лестно, и прелестно. Пока я речь держал, мужичонка ушами шевелил и по сторонам зыркал, уши у него были как у рыси, глазки вострые, брови взъерошенные, а сам хлипкий, дохлый, соплей перешибешь. Ну куда такому ратным делом заниматься, он и меч-то поднять не осилит! Этакого в первый же сече с ног собьют. От козла молока, а от петуха золотых яиц не дождешься.
А только он, видать, не промах и на свой лад пользителен быть может. Ежели его в середку поставить, он, чужими спинами прикрытый, горланить мог бы: «Вперед! Погибнем, но побьем!» — и всякое подобное, тех подбивая, у кого дух слабоват. Мысль вроде бы благая. Ведь на войне не только сила требуется. Иной почнет мечом махать, того и гляди сам себя изувечит. А есть такие, что как кровь завидят, так и затрясутся. Вот я гонцу-то и сказал:
Мужичонка просиял. Пошевелив ушами, призадумался чуток и весьма разумную речь выдал:
— Вообще-то мужики у нас отважные, однако во всякой отаре черные овцы попадаются. Ведь Калевипоэгу, верховному главному предводителю, всякий час знать требуется, каково рвение, усердие и душевное расположение его воинов. А то порой случается, — привел он весьма примечательный пример, — что капля дегтя, по нечаянности в бочонок с медом попавши, прекраснейшие вкусовые качества сего высокополезного продукта природы существенно подпортит. Таковой скверный оборот предотвращать и не допущать надлежит. И ежели подлый враг страну нашу в войну втянет, то я, верный его королевского величества слуга, желал бы именно на поприще организации воодушевления своим способностям применение найти. Какое будет на сей счет указание и заключение его королевского величества Калевипоэга?
Я некоторое время молча глядел на него, а потом сказал, что такое дело, по моему разумению, в самый раз ему впору будет как по его телосложению, так и по нраву. Велика была радость военного гонца!
Воротясь обратно, тут же приступит к организации работы по части воодушевления, объявил он, задыхаясь от восторга, и поведает эстонскому народу о завлекательности сражений, а также о великой чести, каковую доверие Калевипоэг народу оказывает.
Вошедший в раж мужичонка еще долго бы растабарывал, да только слушать не хотелось мне — от его болтовни на душе у меня неспокойно стало, и я велел ему удалиться.
Мужичонка прощенья попросил и, лапти мои облобызав, заявил, что король великую цель и смысл жизни ему открыл. И что ежели дозволено будет, то он за счастие почтет сон королевский стеречь и мух гонять. Таковое угодничество в гнев меня привело, и я сказал ему пару теплых слов. Он поклонился низко и, тщедушный и хилый, но с гордо поднятой головой, в ночной темноте исчез.
Долго я вослед ему глядел — и довольный, и опечаленный. Верно ли поступил я? Повоевать мне давно уж хочется, инда рука зудит, меча просит. Однако же всякий народ уметь должен сам за себя постоять. А уж я подоспею, когда занадобится.
Не было в душе моей ни покоя, ни радости.
Из дупла старой ели послышалось уханье филина.
И почувствовал я, что, видать, имеется у эстонского короля некоторое раздвоение личности.
X
Выспался я недурно, настроение было бодрое, небо ясное. Ивы на берегу ручья шелестели под легким ветерком, нижние ветви в журчащей воде купая.
Прелестная сия картинка природы в немалое умиление меня привела, и непреодолимая потребность возникла похвальное что-нибудь изречь и подходящее сравнение измыслить. Призадумавшись, сочинил: ветки воды касаются ласково, словно уста материнские, спящему богатырю, сыночку своему, тайком чело лобызающие. Доволен сим сравнением вельми был. Понежился еще на ложе своем мшистом, помечтал, затем, искупавшись, взбодрился.
Пора за дела приниматься.
А какие у меня неотложные дела? С чего начинать-то? Может, кое-кого из старых дружков разыскать либо просто по своему королевству без дела побродить? Оно бы недурно, да только не королевское это дело — без толку бродить. Король не гуляет просто так, он бдит, в корень смотрит, до сути докапывается, причины устанавливает и выводы делает. И это есть важнейшая королевская работа.
Сунул я последний ломоть хлеба за щеку и пошел Алевипоэга искать.
Так начались мои странствия.
Может, некоторые читатели подумают, что путешествие властителя по своему королевству — это приятное занятие, увеселительная прогулка? Сперва оно так и было. Да только и добрая еда приедается.
Через несколько недель многочисленные встречи и приемы были мне не внове, я уже без смущения принимал почести и даже неудовольствие выражал, ежели в какой деревне меня встречали без должной пышности. По правде сказать, я вполне бы мог впасть в аморалку, кабы не разумный Алевипоэг (он вместе со своим оруженосцем мне повсюду сопутствовал). Алевипоэг мне намекнул, что, дескать, не пристало повелителю без передышки развлечениям предаваться, у него, мол, и обязанности кое-какие есть.
Когда мы однажды утром после славной пирушки с опухшими глазами, тяжелыми головами, мерзостным вкусом во рту собирались на очередную попойку отправиться, сказал мне Алевипоэг тихо, но твердо, что гусь свинье не товарищ, а он мне больше не попутчик. И что он не желает ни делириум тременс, ни цирроз печени себе наживать. И что алкоголизм приводит к полному разрушению личности и весьма опасен для хромосомного гарнитура мужских гормональных препаратов. Примерно так он выразился.
— Чего ж нам делать-то, черт возьми? — проворчал я.
— Разложение прекратить решительно!
На это я Алевипоэгу сказал, что мне оные встречи, речи, пьянства и буянства изрядно надоели, неясно мне только, с какого конца приниматься за прекращение разложения. Ведь я своей родине немало уже послужил. И пахал усердно, и леса от волков очищал. А между прочим, коня и того не имею, не говоря уж о пустой казне. И по совокупности всех сих обстоятельств не следует мне с соседями войну начинать, пока они сами не лезут. И еще, сказал я, мне хотелось бы знать, что сей мутноглазый наставник, сей занудистый фарисей, на шее коего красуется подозрительный синяк, что он может мне посоветовать предпринять в моем затруднительном положении. Давай-ка бери ноги в руки, да пойдем опохмелимся, может, чего разумное придумаем.
Однако Алевипоэг меня не слушал и продолжал бормотать какие-то нудные наставления.
— Ах, так, ну ладно! — разозлился я и тут же решил отправиться к болоту Кикерпяра. — Не хочешь в теплой компании время проводить, давай сиди у гнилого болота, жуй клюкву для опохмелки, а я погляжу, откуда на тебя умная мысль свалится.
И в мрачном настроении поперся я в болото. Алевипоэг ни на шаг от меня не отставал. Скажу, вперед забегая, что сие наше в трясине погрязание наисчастливейшим изо всех погрязаний в трясине было, ибо именно на зыбкой болотистой почве заложил я своего молодого королевства прочные экономические основы.
Началось все с того, что мы вдруг услышали ругань, крики и злобное зубов скрежетание. Что такое? Откуда это? Из зарослей камыша, что ли? Тут и виновники шума показались — двое грязных, косматых, злобных мужиков, форменные злыдни. Они таскали друг друга за волосы, царапались, кусались и ругались последними словами. Заметив посторонних, они притихли и вдруг, словно сговорившись, дуэтом провыли тоненькими голосами:
Нашли дорогого, какой я вам дорогой, хотел было я ответить, но эти дремучие мужики выглядели так комично, что невозможно было на них рассердиться: все в шишках, синяках и царапинах, волосы, еще оставшиеся невыдранными, торчат во все стороны. Когда человеку плохо, он нипочем не упустит случая полюбоваться на чужую беду, так что я подобрался к драчунам поближе и спросил, из-за чего двое мирных поселян затеяли столь ужасную распрю.
— Ты давай слушай сюда! Тут такое дело, — начали по очереди взъерошенные мужики. — Мы, вишь ты, никак болото меж собой не поделим. Я ему хозяин! Нет, мое! — перебивая друг друга, вопили злыдни. При этом они нежно держались за руки, словно жених с невестой, а из глаз у них катились крупные слезы. — Ох, до чего же ладно мы с братом жили, — продолжали плакаться мужики, — пока из-за болота с панталыку не сбились. А теперь чего, теперь конец мирной жизни, один даст по роже, и другой тоже, бьемся, деремся, никак не разберемся. И сумнительно, чтобы кто другой разобрался.
Я хотел было предложить злыдням решить их тяжбу путем метания жребия, но вспомнил свой опыт, и ёкнуло мое сердечко… Нет, жребия я никому не пожелаю.
— Оно вроде бы складно, да только нет, при разделе не столкуемся, — с грустью ответили злыдни.
Тут Алевипоэг захохотал и сказал, что согласен от нечего делать заняться землемерством. Все равно, добавил он, с похмелья голова не варит.
— А мне чего делать прикажешь, пока ты тут мерки снимать будешь? — спросил я с неудовольствием.
— Поди опохмелись, только, смотри, к вечеру ворочайся.
Я пообещал не задержаться. В летописях об этом моем небольшом променаде дискретно сказано:
Тут следует произнести похвалу ловкости Алевипоэга, его расторопности и деловой сметке. Когда я вечером вернулся к болоту, он восседал на пеньке, а рядом высилась огромная куча… золота. Разинув рот, глядел я на это богатство и долго не мог заговорить. А Алевипоэг, посмеиваясь, любовался моей растерянностью и сказал, что все это золото принадлежит Калевипоэгу и эстонскому пароду.
— Силы небесные, да где же это ты такой куш оторвал?
Поведал мне Алевипоэг, что, старательно размечая болото, добрался он до речки Мустапалли. Чтобы не ущемить интересы злыдней, Алевипоэг решил проверить результаты замеров и вдруг заметил Водяного, который опасливо поглядывал на него из-за куста. Наконец, набравшись смелости, Водяной осведомился, долго ли сей скудоумный меряльщик собирается здесь придуряться и что сие означает. Как известно, Водяные не переносят вращения мельничных колес, почитая их личным для себя оскорблением. Ну Алевипоэг ему и выдал, что, мол, в ближайшее время намечается здесь крупная стройка, может, две-три водяные мельницы поставят, а может, и гидроэлектростанцию.
— А нельзя ли эту гидру в другое место перенести? — взмолился Водяной.
Тогда Алевипоэг прочел ему небольшую лекцию о значении гидроэнергетики для населения и вообще для процветания королевства, причем воду все время белым золотом именовал. Тут Водяной, как принято в подобных случаях, предложил Алевипоэгу крупную взятку.
Будучи не обремененным излишней щепетильностью, Алевипоэг в сем посуле не увидел ничего диковинного. Ожидаемый доход от гидростроительства составит примерно шапку золота, сообщил он Водяному. Тот сказал, что тут же выплатит эту сумму наличными, лишь бы работы не разворачивались. На том они и поладили.
Алевипоэг правильно рассудил, что при незаконченном гуманитарном образовании Водяному не известны сказки, бытующие у многих народов, и, выкопав изрядную яму, покрыл ее шапкой, а в шапке дыру сделал. Расчет был верный, Водяной об этом способе обмана (см. каталог Аарне-Томпсона, № 1130) действительно никогда не слыхал. И весьма значительную часть фамильных сокровищ своего царства в бездонную шапку перекидал.
— Вот откуда денежки-то. Надеюсь, что они пойдут на пользу обществу, — сказал Алевипоэг строгим тоном.
Мы молча обменялись рукопожатием.
— Век твоего благодеяния не забуду, — растроганно молвил я
— Теперь с бродяжничеством покончить можно, а? — спросил Алевипоэг.
В смущении потупил я очи долу, склонив согласно свою главу, и поклялись мы друг другу, что отныне в трезвости и праведной жизни будем радостей и утешения искать.
— И ты, дорогой Алевипоэг, будешь королевским министром финансов, — закончил я милостиво.
— Ох, нет, только не это! — в испуге вскричал Алевипоэг, побледнев, как воск.
Меня огорчил его отказ, но я не стал настаивать на своем предложении, потому что Алевипоэг поведал мне, что давно имеет склонность к крестьянской жизни и мечтает заняться пчеловодством.
Глядел я на кучу золота — наконец-то за меч расплачусь! Завтра же можно в Финляндию отправляться. Но безоблачный небосвод моего счастья заволокло темной тучей: решусь ли я преступить порог злосчастной кузницы? Осмелюсь ли пред очи старого кузнеца предстать?
Как видно, Алевипоэг понял, о чем я задумался, и снова на помощь мне пришел, предложив доставку долга на себя взять. Охота ему, так он сказал, по финским скалам полазить и с бытом финских племен северного побережья Балтийского моря ознакомиться. Я от души поблагодарил его.
— Ты, это… ежели когда ненароком… ну… так, по дурости… кому-нибудь голову… — мне трудно было подбирать слова, — так я… это… тут же приду на помощь.
Алевипоэг прервал мою несвязную речь тактичным покашливанием и перевел разговор на другую тему. А немного погодя он заметил, что король должен помнить, что каких бы глупостей он ни напорол, он все равно король, а потому всегда прав.
Подсчитали мы наше богатство, оказалось, что расплатиться за меч хватит и еще чуток останется.
— Король должен возводить, сооружать и воздвигать, — мечтательно произнес Алевипоэг, — что-нибудь этакое, грандиозное и пользительное, чтобы потомки с восхищением и благодарностью… Слушай, а не купить ли нам на оставшиеся деньги досок и балок? — вдруг предложил он.
На такую разумную идею возразить было нечего.
Ссыпал Алевипоэг золото в мешки, и мы попрощались. Ужасно мне хотелось сего достойнейшего мужа по обычаю славянских народов облобызать троекратно. Чертовски досадно, что это у нас не принято!
XI
Итак, вперед за досками!
Не долго думая направился я во Псков. Мне приходилось слышать весьма одобрительные отзывы о развитии лесной промышленности в этом районе.
Широкий шаг лаптей меньше жрет — гласит народная мудрость. Вот и шагал я бодро, широким шагом, в прекрасном настроении прямо на восток.
В карманах золото звенело, а в душе радость пела. Насвистывая старинные молодецкие песни, вскоре дошел я до берегов голубого Чудского озера, два дружественных народа разделяющего. Только хотел в воду броситься, глядь, откуда ни возьмись мужик, да такой чудной, одежка на нем диковинная, не стригся, не брился, видать, лет десять, косматый, патлатый, ну чистый колдун! Он поманил меня рукой и попросил немного задержаться.
Ну и чучело! Форменное пугало огородное, удивился я про себя. Кто же это такой, черт его возьми?
— Меня и прозвали Колдуном, — словно прочтя мои мысли, сказал чудной мужик. — Да народ-то дурак, болтает без понятия. А кто понимает, что к чему, тот меня мудрым кудесником величает, ну да это так, для красного словца. Но, скажу я тебе, король, знаний у меня немало. Недуги врачевать могу, заговоры ведаю, а иной раз и пророческие видения мне бывают.
Колдун подошел поближе. Весьма своеобразная личность, ничего не скажешь! Где у меня меч висит, у него был бубен привязан, непонятными закорючками испещренный; шею украшал красный шнурок, на коем висели ржавый ключ, рыболовный крючок и маленький молоточек. А из набитых карманов вываливались пучки каких-то трав. Что это за придурок, подумал я, у него явно чердак не в порядке. Но зеленоватые глазки мужика смотрели на меня спокойно и уверенно, так что свое предположение я отбросил.
— Ты прости меня, о мудрый муж, хочу спросить: что за диковинные вещички на тебе навешаны? — вежливо осведомился я.
— Спрос не беда, — дружелюбно ответил колдун. — Сия нить с чародейскими узелками кровь остановить может и боль утишает, ключ, что на вые подвешен, вора обличит и краденую вещь отыщет, а молоточком по бубну постукивая, я, король, ворожу, добрых лесных духов призываю и мысли их узнаю. — Тут колдун, насмешливо улыбнулся. — Только ты, повелитель мой, небось в добрых духов-то не веришь?
Этот нахал разговаривал со мной, своим королем, как с малым дитем!
— Ну да, не верю, — рассердился я, — а если б и верил, так на ихние мысли мне наплевать, пускай мои мысли и желания исполняют.
Он сии гневные слова без внимания оставил. Только прищурился на меня и сказал, что молодой наш король, видно, задиристый.
— А синие закорючки на твоем бубне что означают?
— Кабы ты, король, более просвещенным был, разобрался бы, что закорючки сии суть магические знаки, кои математики из южных стран именуют пента-, гекса— и октаграммами, в них могущественная сила заключена. Вот волшебный квадрат, а это гаммированный крест, — вежливо разъяснял мне колдун. — Ежели случится, что ты, мой повелитель, или другой кто разгневается сильно либо убоится чего, могут у него в разных местах красные пятна выступить. Таковой недуг при помощи магических сих знаков излечивается.
Я чуть было не разгневался, но взял себя в руки. Неудобно же сердиться на любезного и доброжелательного собеседника. Я только спросил, какая причина побудила столь мудрого эрудита поперек моего пути становиться.
— Беспокойство о тебе, король, — серьезно и взволнованно ответил колдун.
— Скажи на милость, надо же!
— Отдай мне меч свой. Проклятье на нем, проклятье! — И добавил тихо: — Сей меч тебе погибелью грозит, если ты с ним не расстанешься.
Я вздрогнул. Откуда известна ему история моего меча? И уже тянулась рука моя к рукояти, чтобы его… ну, не знаю точно, с какой целью; только вспомнился мне верный Алевипоэг, сейчас поспешающий с долгом моим за меч расплатиться. Опустил я руку и молча от колдуна отошел.
— Видать, не отдашь ты добром, — сказал он грустно. — Тогда я сам возьму.
— Ишь какой шустрый! Да ты что, ты за кого меня принимаешь-то? — Я уже не мог больше сдерживаться. — Интересно, как это у тебя получится!
— О том узнаешь ты, — кратко ответил колдун и, слегка согнувшись, медленной поступью пошел прочь.
Я поплелся к озеру и вошел в воду, настроение у меня было испорчено. Вот дурак, псих ненормальный, воображает невесть чего, тут таких шарлатанов, вроде этого, из-под Алатскиви, много шатается, пытался я себя успокоить, но какая-то неясная тревога терзала мне сердце.
В мрачной задумчивости брел я к белым стенам и крутобоким луковкам псковских храмов.
Следует отметить, что славяне приняли меня с распростертыми объятиями. Не успел я на берег выйти, несколько почтенных бородачей, низко кланяясь, кинулись мне навстречу и поднесли на вышитом полотенце огромный каравай, на котором стояла маленькая солонка. Я здорово проголодался и, склонившись над караваем, откусил изрядный кус. Это вызвало бурное ликование представителей дружественного народа.
Потом мне подвели прекрасную белую кобылу, и еще с двумя всадниками, не спеша, с королевской величавостью, направился я к центру города. Всадник, что ехал слева от меня, мощью и дородством мне не уступал, а в имени его было что-то знакомое, где-то я его слышал, не то Муруметс, не то Мурумютс. А справа гарцевал некто Иван Колыванович, тоже весьма крупная фигура, так по крайней мере утверждает П. Йохансен (см. «Нордише Миссион», стр. 57).
Славный город построили эти русские на берегу озера — крепкие стены, позолоченные крыши башенок, любо-дорого смотреть! И народу на улицах немало. И девицы недурны — в длинных пестрых юбках, пригожие, румяные, сдобные, глаз не оторвешь! Я с несколькими перемигнулся, причем улыбались они весьма игриво и соблазнительно. Не будь их язык сплошным шипением и всплесками, в которых сам черт ногу сломит, не одна наша Юта либо Меэли в старых девках осталась бы. Слишком долго описывать все почести, кои мне воздавали. И кланялись, и ублажали, и веселили меня. Пытался закинуть удочку насчет покупки досок, да ничего не вышло, и слушать не стали, привели в богатый дом с башенками, кутил там трое суток, сало ел, орехи грыз, медовухой запивал.
Только на четвертый день свели меня с дельными людьми, кои в сем городе рубкой, колкой, пилкой и прочей обработкой древесины ведали. Показали мне склад лесоматериалов, и удостоверился я, что истинна народная молва о выдающихся успехах славянских братьев в части лесо-пило-деревообделочных производственных объединений. Доски здесь пилили при помощи мудреного снаряда, водяной сохой называемого. Почему-то посмотреть вблизи сей снаряд меня не допустили.
Набрал я себе досок, и уселись все снова выпить да закусить. Поскольку доски я через озеро на своем горбу переть собирался, то на медовуху не дюже налегал. Договорились за чаркой, что и впредь буду я доски только во Пскове покупать. Тут же договор на золотом блюде поднесли, и скрепил я его своим перстом, в дегте смоченным.
В трапезе сей именитые мужи соучаствовали, коих пригласил я в удобное для них время ответный дружественный визит на Эстонскую землю нанести. Сие предложение с благодарностью принято было. А затем из-за штабелей досок вылезли гусляры и дудошники. Под благозвучную их музыку взвалил я себе на спину доски и направился в обратный путь. Сотрапезники мои долго махали мне вслед, а сопровождающая музыка еще посередке Чудского озера слышна была. Плелся я через озеро, голова легким хмелем одурманена и приятных мыслей полна. Славная штука мирная торговля! Небо было ясное, озеро тихое. И вдруг нежданно-негаданно буря поднялась, да какая! Ни с того ни с сего, внезапно, я даже Дуйслара вспомнил. Да, вспомнил я старого Дуйслара, а потом этого чудака из-под Алатскиви — колдуна или кудесника, как его там звать. Не он ли это собрался свою мощь показать и колдовством блеснуть?
Страсть как я разгневался! Нашел, сукин сын, время для похвальбы! Я тут пру доски, тесовый товар для своего маленького народа, руки у меня заняты, тяжесть несусветная, черт бы его побрал, разве это подходящий момент дурака валять! Может, он воображает, что я доски в воду брошу? Доски, на государственные деньги купленные! Я король, но в шутках разбираюсь, и этот тип со своими дурацкими шуточками у меня дождется! Ну, погоди!
А вода вокруг кипела, волны с ревом бросались на мой меч, казалось, разбушевавшаяся водная стихия проявляла интерес именно к моему мечу, ибо огромные валы, с силой ударявшие по ножнам, уже до половины выплеснули, вытащили из них меч. Ах, вот в чем дело! Ведь Колдун-то меч у меня выпрашивал! Нет, этот номер не пройдет!
Гнев удвоил мои силы, а беда — ловкость, и я исполнил акробатический трюк высшей категории сложности: присел глубоко (при этом доски чуть не свалились со спины) и выхватил зубами меч из ножен.
Что тут началось! Маленькие злые барашки набросились на меня сверху, словно стая крыс, а тяжелые валы били меня сзади, пытаясь опрокинуть. Но я не сдавался. Да неужто какая-то Чудская лужа одолеет сына Линды и Калева! Как бы не так! С трудом пробивался я к берегу, и с каждым шагом возрастало мое упорство.
Очень мне хотелось обложить крепкими словами и волны, и их повелителя, но пришлось воздержаться: не мог же я повторить ошибку вороны, не сумевшей пред лисьей лестью устоять и при ответе вкусный кусочек из клюва уронившей. Я, напротив, еще крепче зубы сжал, но сумел все же процедить:
Скинул на песок тяжкую свою ношу, вынул меч из зубов, покрутил его, готовясь с Колдуном счеты свести. Но сквернавец этот куда-то сгинул. Видать, схоронился в кусты и отсиживается там. Постой, доберусь я ужо до тебя, ракалия!
Одначе переход через взбесившееся озеро изрядно меня умаял. Пожалуй, расправу и завтра учинить не поздно. Устроив себе возле досок песочное ложе, прилег я отдохнуть. Уже начал смежать мои вежды сладостный сон, да пришлось погодить: как бы беда не приключилась, ведь Белогривого-то своего я проспал. Нет, надо озаботиться, чтобы и оружия во сне не лишиться. Положил я свой меч поблизости, поверх доски навалил. А досок-то было:
Пусть хоть мертвецким сном засну, а от шума, ежели кто доски перекладывать станет, вмиг пробужусь. Хитроумием своим довольный, беспечно погрузился я в сон.
Как всем известно, пробуждение было горестное. Гляжу и глазам не верю — все доски в иное место переложены, да с каким тщанием, одна к одной, а меж рядами прокладки, чтобы доски не прогибались.
Ну, а меч, естественно, тю-тю, ищи ветра в поле… Да, силен Колдун!
И с ушами у меня что-то неладно, ничего не слышу — ни птиц щебетанья, ни шелеста волн.
Околдовал-таки меня окаянный!
В том, что Создатель наш может чудеса творить, я не сомневаюсь. Ведомо мне, что компетентному человеку иной раз силы природы покоряются, но чтобы какой-то шелудивый Колдун меня, Калевипоэга, одолел, это уже фантастика! Какой же я тогда богатырь?
Долго я в ушах ковырял. И, гляди-ка, глухота прошла. Должно полагать, опилки да мусор в уши набились. Никакого тут колдовства нет, одначе и меча тоже нет…
Бил-колотил кулаками по башке, зубами от гнева скрипел.
Как пить дать, Колдун тать, он меч украл: на месте преступления нашел я пучок сухих трав, кои у вора из кармана выпали. Убрал вещественное доказательство в свой карман и приступил к розыскам.
Продирался сквозь чащобу, словно разъяренный вепрь, меж кустов рылся, в траве искал, вельми притомился и закручинился. Да… Ведь Колдун-то болтал, что проклятье на мече лежит…
До сего дня финляндское убийство меня мало волновало, я об оном и запамятовал. Вот долг — это да, о долге я беспокоился. А сейчас припомнил злосчастный сей эпизод, как старый кузнец анафеме меня предавал, как со стуком, упав с плеч, голова сына к отцовским ногам покатилась… Да, страшное я злодейство свершил!
Бродил по лесу, горькой кручиной объятый. И какой-то неясный трепет в душе зародился. Чудилось мне, что чибисы стенающими криками остеречь от беды хотят; ветка под ногой хрустнет — меня в дрожь бросает. Это меня-то, Калевипоэга! Потерял я покой и душевное равновесие.
Кружил по лесной полянке в задумчивости, словно не меч свой искал, а иное что-то.
Припомнилась матушка, давно уж не вспоминал я о ней. Как захотелось мне зарыться лицом в ее колени, вдохнуть родной запах материнских юбок!..
И вдруг очутился я на берегу неглубокой речки. В прозрачной воде сиял мой меч! Кинуться, схватить его, но дивный блеск словно заворожил меня — я стоял в оцепенении, не в силах пошевелиться.
«Сей меч тебе погибелью грозит…» — звучало в ушах предсказание Колдуна; а меч сверкал в воде, и красноватые водоросли, колыхавшиеся на дне ручья, придавали лезвию кровавый отблеск.
Долго стоял я возле речки в глубоком раздумье. А потом тихо заговорил с мечом, словно он был живым существом. Вспомнил, как с ним вместе скитались мы по лесам и полям; единожды лишь случилось то, чему не должно бы случиться… Неужто меч мой покинул меня и здесь, в лесной речке, решил остаться?
Вода тихо журчала, и сквозь грустные ее всхлипы послышалась мне скорбная песнь меча:
Видно, суждено моему мечу остаться лежать на речном дне. Навеки. Так предначертано свыше. Не висеть ему больше у меня на поясе… И заклял я свой меч на некий срок, до той поры, пока в надлежащий час явится муж зело разумен, вельми могуч (ну примерно вроде меня), и пусть тогда меч повелит волне со дна его извергнуть и в достойную десницу вложить. Все окрест внимало моим словам, птицы смолкли, шум дерев утих, вроде бы даже и речка журчать перестала.
С трудом отвел я взор свой от дорогого меча, поворотился кругом и прочь пошел. Ах, кабы тем мне и удовольствоваться, попридержать язык, не трепаться зря! Да куда там! Всего несколько шагов отойдя, горькую утрату свою я в полной мере осознал и, гневом ослепленный, с проклятиями тяжкую кару на вора Колдуна призывать принялся. Да только в яростном умопомрачении переврал я слова заклятия:
После сего заклинания по лесу пронесся неистовый вихрь, и промелькнуло среди внезапной бури перед моими очами суровое, черное от сажи лицо финского кузнеца… Что бы это означало? Как видно, дошло мое заклятие.
Тяжело было у меня на душе. Со штабелем досок на плечах скитался я по лесу. И ежели замечал меж дерев одинокий чей-то домик, обратно в чащу отступал. Надо полагать, оные мои действия разумны были, ибо не пристало королю, в смятении душевном обретающемуся, народу своему показываться.
Неведомо, сколь долго бродил бы я по лесам в глубокой раздумчивости, но однажды среди ночи напали на меня разбойники. В «Калевипоэге» сказано, что то были сыновья Колдуна, но я в сем сомневаюсь. Поелику схватка в кромешной тьме вершилась, наверняка сказать не могу, кто они были.
Собирался я почивать, трогательную песенку «Молчи, грусть, молчи» на сон грядущий напевая, и вдруг как треснет меня кто-то сзади по башке мельничным жерновом. От такого удара любой, у кого голова послабее, тут же лапти откинул бы. Я уж на что крепок и то очумел — давай спросонья досками размахивать. Бился, метался, во все стороны мотался, лупил куда ни попадя, а доски-то трескались, пополам лопались, ох, беда! Чем бы дело кончилось, не ведаю, а только слышу, тоненький голосишко откуда-то из чащи совет подает:
Это своевременное указание оказалось весьма уместным: разбойников-то я осилил бы, а вот доски драгоценные, с тяжкими трудами добытые, вдрызг измочалил бы. Кто же был сей тонкогласый помощничек? Писк его, как ни странно, напомнил мне тенорок Колдуна, похитителя меча, но я не стану оспаривать тех, кто твердо заявляет, что наставником моим был просто-напросто маленький ежик. Особой чести для меня нет, что этакая крошка хитростью Калевипоэга превосходит, но, согласитесь, трудно ожидать остроты мысли от головы, по коей только что мельничным жерновом стукнули.
Жахнул супостатов раз-другой ребром доски, аж пыль столбом взвилась, и тут же неведомые вороги стрекача задали
Стоял я один посреди леса, одежка разодрана, на затылке шишка, и ругался, да так забористо, что темная ночь еще темнее стала. Благосклонный читатель, возможно, обладающий нежной душой и тонкой нервной организацией, пожалуй, захочет посочувствовать мне. И зря — после оной баталии обрел я вновь веселое духа расположение и бодрость. Черная меланхолия одновременно с половиной стройматериалов на кусочки разлетелась и в кусты заброшена была. Еще малость отвел душеньку крепкой, ядреной руганью, так сказать, в целях профилактики, после чего спокойно сел на пень, дабы дух перевести.
Тем временем из-за тучи выплыла полная румяная луна. Глядел я на нее и чувствовал, что кризис окончился. Досадно только было взирать на освещенное лунным светом поле битвы — большая часть досок разве что на растопку годилась. «А, наплевать, — подумал я, — смотаюсь еще разок во Псков, и все дела. Еще на одну порцию теса монеты хватит».
Сказано — сделано.
И на сей раз во Пскове я отменно время провел, но полагаю, что подробное описание моего времяпрепровождения вряд ли представит интерес для читателей сих мемуаров. Лучше я перед завершением настоящей главы возвращусь к вопросу о похищении меча, ибо думаю, что оная таинственная история теперь, много лет спустя, мною объяснена быть может.
Вы, конечно, знаете, что большинство ученых мужей, навеки опочив, к нам в Ад попадают. Причем преобладают здесь у нас умники из области физики, химии и фармакологии. Возможно, любезный читатель не забыл, что на том месте, где меч мой похищен был, обнаружил я сухой клок дикорастущих трав. Долгие годы лежал он на дне моего кармана, и наконец, оказавшись в Преисподней, смог я по поводу оного колдовского сырья компетентную консультацию получить. Сведать, что за тайные травы Колдун обронил. Ответ, на мой запрос полученный, как мне спервоначалу показалось, не больно-то сие темное дело прояснил. А все ж таки, однако ж, может быть?
Во всяком случае, присовокупляю я письмо ученых мужей к своему манускрипту, ибо наслышан, что добавление подлинных документов к художественному произведению сейчас весьма модно.
«Ув. Калевипоэг, эскв.
Присланный Вами гербарный материал был подвергнут анализу. Имеем честь сообщить Вам классификационную принадлежность растений Вашей коллекции, а также их фармакологический эффект.
Рябина (Sorbus domestica).
Рябина особых фармакологически действующих компонентов не содержит. Плохо перебродившая рябиновая настойка может быть использована как слабительное.
Тимьян ползучий, или богородская трава (Thymus Serpyllum).
Особых иатрохимически действующих компонентов не содержит. Однако в древности это растение использовали при изготовлении тимьяновского масла, которое входило составной частью в средства от кашля. Как гигиеническое средство имеет частичное применение тимоловое мыло.
Папоротник мужской, или щитовник (Dryopteris Filix mas).
Мужской папоротник содержит значительное количество фармакологических веществ, из которых следует упомянуть аспидинол, альбаспидин, флаваспидин, флаваспидиновую кислоту, папоротниковую кислоту и фильмарон. Весьма сильным действием обладает алкалоид последнего; в экстракте корневища папоротника его содержание составляет до пяти процентов. Это соединение первым выделил фармаколог Крафт, который, кстати, имеет честь быть одним из подписавших настоящее письмо.
Содержащийся в экстракте папоротника фильмарон в старину использовали для изгнания почти всех паразитирующих в пищеварительном тракте гельминтов, но в наши дни применяют его преимущественно против плоских глистов. Экспериментальным путем доказано, что корневище папоротника убивает лентецов широких уже в концентрации 1:20000. Более слабый раствор парализует мускулы присосок цестод, так что лентец широкий отпадает от слизистой оболочки спазматически контрагирующих кишок.
Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum).
Для медицины плаун имеет некоторую ценность в связи со свойствами его пыльцы. Это желтоватое порошкообразное вещество до сих пор используется народами, не испытавшими пагубного влияния цивилизации, в качестве средства против потения. Как хороший абсорбент и химически достаточно аффинное вещество, ликоподиум используется в качестве присыпки для младенцев.
Валерьяна, или кошачий ладан(Valerianaofficinalis), с давних пор применяется для подавления истерических припадков и зачастую весьма болезненных эрекций и поллюций. Основным активным компонентом является барнеолэфир изовалерьяновой кислоты; это вещество присутствует в корнях валерьяны, а также во хмелю и в ножном поте. Корни валерьяны содержат 0,5–2 процента эфирного масла, в состав которого входят камфон, пинен и другие терпены, способствующие повышению терпимости и терпеливости. В аптеках валерьяна продаётся обычно в виде тинктуры (Valeriana aetherae). Обычная доза 0,5–1,0. К сожалению, упомянутую тинктуру в низших слоях современного общества употребляют и в качестве недорогого горячительного.
Дождевик (Lycoperdon gemmatum).
В наше время в фармакологии не используется. Утверждают, что спелые споры этого гриба применялись в народной медицине прибалтийских стран в качестве средства от прения. Порошком ликопердона будто бы посыпали потеющие ноги.
С уважением
(подпись)
(подпись)
(подпись)».
Многажды перечитывал я сей документ с начала и до конца. И каждый раз все сильнее гневался. Насмешки надо мной строят, так, что ли? Я герой, храбрый воитель, раннего железного века прогрессивный деятель — и вдруг какие-то порошки от пота, лекарства от кашля и даже слабительные средства! Это что же получается? Меня, Калевипоэга, мельничным жерновом не оглоушенного, какими-то детскими снадобьями усыпали?! Это же форменное издевательство!
Я уж даже подумывал, не сообщить ли куда следует об оных лжеученых, но уважительный тон ихнего письма не позволял полагать, будто собирались они меня придурком выставить. Да, по всему видать, и в деле своем они мастаки, ведь каждую травку точно распознали…
Писал же мой второй отец, достопочтенный господин Крейцвальд, что Колдун
Хотя составителю «Калевипоэга» далеко не всегда доверять следует, однако полагаю, что в бытность свою эскулапом города Выру поднабрался же он хоть каких-никаких представлений о фармакологии.
Странная вещь, непонятное дело… И решил я эту неясную и удручающую историю из головы выбросить.
Но оная часть человеческого тела обладает способностью твердые орешки разгрызать, даже не будучи к тому понуждаема. Вовсе того не ожидая, иной раз по прошествии длительного времени, случается искомое объяснение найти. Вдруг словно осенит тебя, и, будто блеском молнии высвеченная, вспыхнет желанная ясность на небосводе мышления.
Как же удалось мне разгадать загадку? Чистосердечно и с радостью сообщаю: в сем бестселлетрическая литература мне пособила. При раскрытии тайны была мне подмогой премудрая пьеса славного аглицкого сочинителя Шекспира (оный мастер пера вкупе с италийским в своем деле мастаком Джованни Боккаччо безмерно мною ценим).
В пьесе той презанимательнейшая история о юном самодеятельном датском философе излагается. Сей достопримечательный труд потому дорог мне, что в несчастливой любви злопамятного и скептичного принца, а также прелестной Офелии много схожести с некоторыми моей судьбы поворотами нахожу. И часто оттого вновь историю оную перечитываю.
Так вот, любезный читатель, как только я клубок рассказа моего до конца размотаю, узнаешь ты, каким манером я казус разрешил.
Как-то раз вечерком, над любезной сердцу моему книгою склонившись, перечитывал я то место, кое, без сомнения, и тебе, читатель мой, знакомо:
Хотя изложенное происходит в ином королевстве, пред мысленным взором моим возник вдруг брег Чудского озера, штабель досок и некий богатырь, в сон погруженный. В задумчивости глядел я в книгу, глаз отвести не в силах от строчки, петитом набранной:
Вливает яд в ухо спящего…
Ах, так, вливает, значит?.. В ухо, стало быть?.. Да притом спящего?..
И малые буквочки внезапно стали расти, распухать, раздуваться и мистический смысл обрели:
ВЛИВАЕТ ЯД В УХО СПЯЩЕГО!
ВЛИВАЕТ ЯД В УХО СПЯЩЕГО!
!!!
Небо и ад! Что же за зелье в тот раз в руке похитителя меча было?!
Нет, то не «Гекате посвященная отрава» и не снотворное, ведь не умер я, а поутру в свою пору проснулся благополучно.
Я просто начисто оглох…
И вообразил я такую картину: Колдун с зажатой в кулаке присыпкой — золотистыми спорами плауна и пыльцой ликопердона — подкрадывается к спящему, и вот наполняет мелкий порошок ушную раковину утомленно похрапывающей жертвы.
Но ведь ветер может сдуть пыльцу и прочистить ухо?.. О нет, злодей того не допустит! Из махонького туеска льет хитроумный травосмеситель на присыпку густое тимьяновое масло, а также клейкий экстракт папоротника, и пробки в ушах готовы, пациент глух, как тетерев. Но может ли Колдун спокоен быть, что спящий не проснется вдруг? Ведь подопытный субъект молод, здоров и притом холост. И кто предугадает, что ему приснится, — самый благонравный из нас от фривольных шуток Морфея не гарантирован, — а при неспокойном сне и пробки из ушей выскочить могут… Ну, а ежели клок мха валерьяной окропить? Тогда уж надежно будет.
Сказано — сделано. И похититель меча без помех приступил к перекладке штабеля досок, ведь спящий ни хрена не слышит.
Так оно и было. Именно так должно было быть.
Открытие сделано, объяснение найдено. Радостно возопил я «эврика», как принято у греков, да так громко, что Белогривый с испугу задними ногами взбрыкнул, аж комья полетели.
После долго не мог я уснуть, все размышлял о руководящей и направляющей роли литературы и искусства. Поучительного содержания художественные произведения широкие горизонты человеку открыть могут. И не только в небесных сферах и на земле, но и в подземном мире.
XII
Ежели бы какой ученый муж вздумал сравнивать меж собой богатырей разных народов, он с несомненностью установил бы, что кое в чем между ними есть немалое сходство. Почти все проявляли интерес к подземному царству и стремились попасть в оное. Богатыри Амиран и Прометей побывали там еще при жизни. А я, как вам известно, дважды проделал сей рейс.
Когда ныне, постаревший и умудренный, оглядываюсь я назад, приходится признаться, что первая экскурсия в Преисподнюю была мною предпринята не из духовных, а из плотских побуждений. Объяснением сего может служить, что в ту пору я еще не являлся законченной, вполне сформировавшейся героической натурой, а был рядовым молодым богатырем-сангвиником без твердых убеждений и свойственных всякому порядочному герою качеств, позволяющих ему служить личным примером.
Много дней таскался я с досками на горбу по зыбучим болотам, питаясь при этом весьма нерегулярно. Устал, как собака, инда коленки дрожали, чуть в плевой луже Ильм-озере не утоп. Но, как говорится, лихи напасти, ан привалит счастье; и вот нос мой вдруг учуял приятнейшее благоухание — пахло супом, что весьма меня удивило, так как поблизости никакого жилья не было, только лес густой. Есть мне зело хотелось; сбросил я доски, раздул ноздри и, повинуясь указке своего носа, потопал в чащу. В густых зарослях предстала моему взору диковинная пещера, перед входом горел большой костер, над ним огромнейший котел подвешен, а вокруг трое перепачканных сажей мужиков хлопотали, хворост в огонь подбрасывали. Запах из котла шел божественный, облизнулся я и спросил мужиков, из чего они варят сию ароматную похлебку.
Так уж и волчьим? — усомнился я. И слыхом не слыхал о такой приправе. Ну и гурманы тут собрались! Интересно, какова калорийность этакого супчика? Мужики прыснули в кулак от моего вопроса и сообщили, что сие варево не для жратвы предназначено:
Мужик постарше, видать, шеф-повар, с важным видом процедил сквозь зубы, что любой деревенский вахлак, хоть малость пообтесанный, мог бы по запаху разобрать, что готовят здесь не какой-то там суп, а благородную афродизиаку, то бишь любовное зелье, плотское вожделение разжигающее.
Я ушам своим не поверил. Да кому же такая фордыбака, или как там ее, каковая плотское вожделение разжигает, надобна, и без обиняков свое мнение высказал, что порядочным людям на этом свете скорее охладитель плотского вожделения требуется.
— Ну уж, такую мерзость нипочем в рот не возьму, — решительно заявил я, хотя в брюхе у меня бурчало и изо рта слюни капали.
В ответ мне высокомерно сообщили, что сей деликатес никто вшивой рогоже предлагать и не собирался.
Я возмутился:
— Перед вами молодой правитель развивающейся страны, и если вы, копченые хари, сей же час не сообщите, где ваш начальник, то со всеми своими вшами и блохами полетите в котел с фордыбакой!
Мужики чуток смутились, старший кухмистер, запинаясь, просил меня сменить гнев на милость, они, дескать, не ведали, с кем имеют честь, и указал на ход в пещеру, ведущий куда-то вниз. Хозяин живет там, куда ведет этот лаз, сказал он, причем заметил я, что глаза его злобно блеснули.
— По мне, хоть сам черт ваш хозяин, я туда отправлюсь и жратвы потребую! — крикнул я и полез на манер барсука в указанную нору. Я и представить себе, бедолага, не мог, насколько мои слова были близки к истине.
Как видите, в ту пору у нас, на Эстонской земле, в Ад попасть было не так уж сложно. Хитроумному Одиссею, чтобы до царства теней добраться, пришлось куда больше поиздержаться.
И на краю ее всем мертвецам совершил возлиянье
Раньше медовым напитком, а после вином медосладким, —
сообщает он. Кроме того, Одиссей еще овцу да барана зарезал. Апостол Павел и святой Фурзеол, чтобы посетить подземное царство, вынуждены были прибегнуть к помощи господа; ирландскому рыцарю Тундало, коему, как известно (А. А. Берс, «Естественная история черта; В. Фишер, «История дьявола»; А. Craf, «Geschichte des Teufelglaubens»), в 1145 году посчастливилось подробно ознакомиться с достопримечательностями Ада, пришлось свою голову под топор положить. А мне достаточно было присесть на корточки — разве не ясно, что всевластный повелитель Ада превосходно учитывал местные условия Эстонии? Ну где бы мог я достать медового напитка или виноградного вина?
Всякое начало трудно — это в полной мере относится и к дороге в Ад, которую несведущие люди безосновательно объявили гладкой и широкой. Однако постепенно путь стал легче, и я смог распрямиться во весь рост. Подземный ход привел меня в уютное сводчатое помещение, в коем узрел я неведомое и невиданное чудо:
Многочисленные исследователи «Калевипоэга» этот превосходный светильник называют анахронизмом. Пускай называют как хотят, но светил этот анахронизм отменно. Грамотному человеку не было нужды брать глаза в руки, чтобы прочитать вырезанное на массивной дубовой двери изречение (в то время бывшее для меня непонятным):
CREDO, QUIA ABSURDUM EST.
Я разглядывал надпись на двери и вспоминал про трех поваров, варивших в котле изысканное варево из волшебных трав.
Видать, здесь, в подземном жилище, проживает культурная и зажиточная публика, подумал я. И тут до моих ушей из-за дубовой двери донеслись жужжание прялок и прелестная трехголосная песня.
Троеустно восхваляли пряхи высокое качество обрабатываемого ими сырья и выражали одобрение надежности прялок, но песня сия не была веселой. В последнем куплете прямо говорилось, что еще не изжиты существенные недостатки в организации досуга, главным же недочетом следует считать отсутствие кавалеров соответствующей квалификации.
Жалобы такого рода, да еще громкие, на мой взгляд, были несколько неуместны и даже неприличны, но пряхи, надо полагать, не подозревали, что их кто-то слушает. И стало мне грустно, и невольно вспомнил я о своих промашках. Однако при пустом мамоне не до церемоний, и соловья баснями не кормят.
Постучался я в дубовую дверь. Песня смолкла. Послышались сдавленное хихиканье и шорох, но дверь открывать не торопились. Совсем напротив. Было слышно, как топают, убегая куда-то, две пары резвых ножек. Потом вновь зажужжала одна из прялок и прерванная песня возобновилась.
Следует заметить, что голос певицы был нежен и звонок, словно аккорды струн арфы, и, несмотря на голодное бурчание в брюхе, затрагивал тонкие струны моей души Я опять толкнулся в запертую дверь. Безрезультатно. Дубовые створки даже не шелохнулись. Что же делать-то? Ничего другого не оставалось, как тоже запеть. Я не счел нужным заниматься самовосхвалением и, не упоминая о своих больших мослах и высоком лбе, решил прибегнуть к посулам:
Весьма странно, но из-за двери в ответ снова послышалось хихиканье. Как может подобное соблазнительное предложение вызвать у женщины смех, было мне совершенно непонятно. Ужели придется с пустым брюхом на землю возвращаться? И тут наконец уже знакомый нежный голосок произнес из-за двери, что, мол, ладно уж, входи, коли пришел, у нас тут не принято от ворот поворот давать. А для тех, у кого кишка тонка, дверь отворить, возле нее два сосуда поставлены, правый из коих мощь увеличивает.
— Путник, отбрось опасения, омочи персты свои в сосуде!
— Никого я не боюсь и прекрасно своими силами могу дверь одолеть. Ну, а впрочем, так и быть, — ответил я надменно, сунул пальцы в правую кадушку и толкнул дверь. Не успел дотронуться, она распахнулась настежь.
Передо мной стояла пригожая яснолицая дева. Скромно улыбаясь, она приглашала меня переступить порог, промолвив, что, к сожалению, хозяина дома нет, он находится в двухдневной туристической поездке.
Я собрался было обменяться с девой рукопожатием, но та отпрянула, словно ужаленная: предварительно я должен воспользоваться второй жидкостью, поскольку моя излишняя мощь для интерьера Ада, не говоря уж о девьих перстах, весьма пагубной может оказаться. Я окунул руку в другую кадушку и тут же почувствовал, как по всем членам побежали мурашки и некая сладостная слабость меня объяла.
И я взошел в прихожую горницу.
Ну и поднакопили же в этом доме добра! Шик, и люкс, и экстра-класс! Золота повсюду навалом, мало того, что вся утварь вокруг сверкала, даже на прялке висели золотые нити. Дева указала рукой на большое кожаное кресло с тисненой позолотой, а сама села на золотую скамеечку за прялкой.
Сидел я, рот открывши, не зная, куда руки девать, однако ж приметил, что девица-то на меня поглядывает.
Нет, нельзя тут оконфузиться и народ свой осрамить, подумал я и, собравшись с духом, вежливо сказал «здрасте». А затем поведал деве, что аз есмь молодой король Эстонской земли. По правде сказать, среди всей этой роскоши мое сообщение прозвучало не слишком внушительно, тем более что лапти оставляли на паркете грязные следы, а с порток сыпались опилки. Но дева словно не замечала сего и старалась мое смущение непринужденной беседой развеять. Я, как мог, пытался быть comme il faut, мы болтали о погоде, о ценах, моя собеседница проявила немалый интерес к новинкам наземной моды. О сем ничего толкового я сообщить ей не мог, и темы нашего разговора иссякать начали. Но тут заметил мой взор на отливающей золотом стене два странных предмета: огромную потрепанную шапку и кривой ивовый прут, причем предметы сии никак не вязались с окружающим великолепием. Я высказал предположение, что сие суть чьи-то памятные подарки.
Дева засмеялась.
— Прут и шапка, — сказала она, — вовсе не сувениры, а самые обыкновенные волшебные орудия, — и предложила мне разглядеть их.
Я снял шапку с крючка, и оказалось, что это презанятнейшая вещица: не из соломы сплетена, не из шерсти сваляна, а из обрезков ногтей склеена. Пораженный усердием ее изготовителя, осмелился я высказать предположение, что ежели мастер не отличался необыкновенным ногтей приращением, то для выделки сего головного убора не менее половины жизни ему понадобилось. Речь моя на лице адской девы улыбку вызвала, и она объяснила, что волшебный сей предмет не только из собственных ногтей шляпник создает, в любых обрезках ногтей частица жизненной силы (ученые мужи называют ее vis vitalis) бывшего их владельца остается, именно это и придает шапке волшебную силу. В смущении посмотрел я на свои грязные, давно не стриженные, ястребиные когти, дева также на них взглянула, ехидно заметив, что правитель Эстонской земли не больно споспешествовал Рогатому в его работе.
Так мастер-то — сам Рогатый, испугался я, но, к чести пишущего сии строки, следует заметить, что смятение мое недолго длилось. Интересное кино, подумал я и мысленно поклялся, что шагу отсюда не сделаю, доколе пресловутую личность воочию не узрю.
— Какое же волшебство с сей шапкой провернуть можно? — полюбопытствовал я.
Мне порекомендовали примерить, тогда, дескать, узнаешь. Я в сомнении продолжал вертеть в руках тускло поблескивающий головной убор.
Дева с усмешкой взяла у меня уникальное изделие, не лишенное, между прочим, своеобразной элегантности, и водрузила его на свои пышные волосы. Шапка была деве очень к лицу и придавала ей вид бывалой туристки.
произнесла дева и, пленительно улыбнувшись, добавила;
Надо же! После этого распоряжения хваленая шапка доказала, что не зря ее хвалили: дева начала расти, возвышаться и вскоре сровнялась со мной ростом. Мы встретились взглядами высоко поверх голов простых смертных (впрочем, их там в этот момент не было), ее рот с маленькими темными усиками на верхней губе был рядом с моим, богатырская грудь моя соприкасалась с ее гигантскими персями… А руки! Кабы эти атлетические руки обхватили меня, это было бы объятие равных! Крепкие ноги, казалось, вросли в пол, восхищенным взором не в силах был я охватить мощную громаду ее бедер. Силы небесные! Вот это да! До сих пор я не встречал женщины, которая была бы мне хоть до плеча.
Во рту у меня пересохло, руки дрожали. Не судите меня строго, иначе я поступить не мог: сняв с головы девы шапку, нахлобучил ее на себя. Хотелось изведать, как чувствуют себя карлики: вам небось невдомек, что богатыри иной раз здорово переутомляются от великих своих размеров и сил и порой даже завидуют недоросткам. Вот теперь я и попробую, каково маленькому человеку.
Ты смотри, что делается! Я уменьшался, усыхал, мой зад был уже возле самого пола. Адская дева возвышалась надо мной, словно кафедральный собор, а я был вроде грабельного зуба возле мощных ступней этой тяжело дышащей горы мяса. Покрытое патиной времени, забытое счастье легендарной поры матриархата и мои подсознательные младенческие грезы, сомкнувшись надо мной, лишили меня способности конкретного мышления…
О великое двуединство филогенеза и онтогенеза! Так, вероятно, воскликнул бы на моем месте какой-нибудь ученый муж.
Соединив ладони, дева осторожно подняла меня, поднесла ко рту и принялась согревать своим дыханием. Наверное, детская невинность моего взгляда была трогательна — на толстых (толщиной этак в руку) ресницах девы выступили исполинские слезы умиления, и она легонько погладила меня по голове. Уже в преклонном возрасте прочитав воспоминания путешественника Гулливера, я сообразил, что тогдашняя ситуация была для меня отнюдь не безопасна… Мало ли какая фривольная мысль могла прийти в голову великанше. Но ничего не случилось, дева накрыла меня шапкой, и я начал быстро подрастать. Мне не хотелось опять превращаться в богатыря, я решил ограничиться габаритами среднего нормального эстонца.
Так продекламировал я, обращаясь к деве, и посетовал, что не было у меня сестренки, с коей мог бы я поиграть. Дева же призналась, что ей всегда не хватало братней любви, и, в свою очередь воспользовавшись шапкой, приняла подобающие размеры.
Что за игры тут начались! Я был ястребом, а она курочкой, я носился за дьявольски прелестной птичкой по навощенному паркету, мы кружились, падали, барахтались, обретая в невинных сих ребяческих забавах высокое наслаждение. Разумеется, я нет-нет да и настигал ершистую курочку, разумеется, я хватал ее за бедра, а порой рука моя вроде бы случайно касалась маленькой твердой груди, но, ей-богу, ни разу не перешли мы границ благопристойности, не позволили себе слишком увлечься (как кое-кто, может быть, воображает). То были утонченные удовольствия добровольного самоограничения, доставлявшие нам радость, недоступную пониманию примитивных, низменных натур. Когда же искушение увеличилось до рискованных размеров, дева благоразумно пригласила в горницу своих сестер.
Чтобы никто не помешал нам, мы заперли в кухне хозяйку Преисподней (эту проделку добрая женщина давно мне простила) и продолжали развлекаться вчетвером. Обе сестрицы, вступившие в игру, вскорости признались, что и они в сих беспредельно сладостных забавах предельную слабость находят.
Так, в приятной неге и упоительных удовольствиях, провели мы время до утренней зари.
Это была прекрасная, блистательная ночь.
С утра девы, чьи сердца уже безраздельно мне принадлежали, решили поближе меня с адскими порядками и образом жизни познакомить.
Первое помещение, с коего началась наша экскурсия, было общежитие батраков. Меня поразили уют, комфорт и обилие железной утвари. Впервые в жизни привелось мне сесть на кресло из гнутых железных труб.
Сроду не подумал бы, что из столь твердого материала можно изготовить столь удобные сиденья. Под железным потолком поблескивали железные жерди.
— Зачем это в аду жерди? Здесь же не рига, и снопов здесь нет, чтобы на жердях сушить, — поинтересовался я.
— Вообще-то они не так уж и нужны, — объяснили девы, — их укрепили наверху просто для того, чтобы здешние батраки, а большинство их происходит из небогатых семей, чувствовали себя как дома.
Весьма похвальное проявление заботы о соблюдении навыков и традиций рядовых сотрудников должен я теперь, задним числом, заметить.
Затем направились мы в общежитие, или дормиториум, батрачек. Тут приложили руку дизайнеры, помешанные на меди. Все было медное: тускло поблескивали красновато-золотистые медные ложа с медными тумбочками возле них и медными же ночными посудинами. На медном столе красовались медные блюда и кружки. Потолок в горнице был покрыт медным купоросом, отчего помещение казалось более высоким и в то же время изысканно интимным. В этом святилище девы предавались сладким мечтам.
Я не находил ничего экстраординарного в том, что Рогатый свою личную квартиру оформил в золоте и серебре. Ведь и земные правители весьма привержены к сим благородным металлам, да только не часто проявляют они подобную заботу о своих подданных. На земле батраки и батрачки проживают обычно в сырых каморках или сараюшках, а железные да медные горницы разве что во сне видят.
Дальше повели меня девы в свою опочивальню, каковую они будуаром именовали. Ох ты! Тут и шелк, тут и бархат! Великолепные одеяла, ослепительные ковры, шикарные парчовые покрывала! Величественные и в то же время вызывающие, высились вдоль стен широкие двуспальные кровати под пышными кружевными балдахинами. К чему они тут, я спросить постеснялся. Только ясно мне стало, что у Рогатого мошна тугая и живет он на широкую ногу. Я пробормотал несколько панегирических слов по адресу здешнего хозяина, моим спутницам столь превосходные условия жизни создавшего. К удивлению моему, девы со мной не согласились: ад — он и есть ад, упорно твердили они.
«Вызволи нас отсюда!» — такую просьбу читал я в их глазах.
— Чего же вы тут сидите-то? — недоумевал я. — Сбежали бы, и конец, раз охота есть…
— Как же можем мы отсюда сбежать? — в три голоса возопили девы.
Это уж было смеху подобно, и я сказал, что давеча мелькнула у меня мыслишка, не похитить ли их всех троих, но нынче эта идея кажется мне дикой и даже преступной.
Девы сделали вид, будто меня не понимают. Тогда я им напомнил о шапке, исполняющей желания, ведь вроде бы шапочка сия всегда у них под рукой? Они покраснели, помолчали в смущении, потом пошептались, и средняя, моя зазноба, взяла слово. Речь ее была туманна и вначале напомнила мне философические завулоны ученого ворона, но эрудированный читатель, возможно, разберется, что сие все же не совсем тарабарщина.
— Калевипоэгу, — сказала дева, — не следует вульгаризаторски схематизировать обстановку. Весь этот шик, люкс и экстра-класс есть не что иное, как цепи, коими Рогатый хитроумно нас опутал. Роскошь и увеселения подавляют, глушат благородные порывы, среди коих можно назвать любовь к труду и стремление самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. Ведь так? То, что шапка, исполняющая желания, всегда находится в пределах досягаемости, висит на гвозде перед самым носом, подчеркивает так называемый принцип свободы воли.
Девы вновь пошептались меж собой, и опять заговорила моя зазноба. Стыдливо опустив очи долу, призналась она, что прошедшая ночь была для них троих переломной: немудрящие деревенские шуточки, грубоватые мужицкие игры пробудили их к новой жизни, заставили сделать переоценку ценностей и из чрезвычайно мучительного адского положения выхода искать. Они хотели бы знать, возможно ли рассчитывать найти в моем королевстве работу по специальности прях, — этот вопрос их весьма глубоко интересует.
Я ответил девицам, что ежели их дурацкое желание серьезно, то в беде они, пожалуй, все же не окажутся. Упомянул о своих друзьях — Алевипоэге и Сулевипоэге, отметив, что сии симпатичные холостяки сроду нищенского посоха в руках не держали. Моя зазноба при сем хитровато на меня взглянула: мол, о себе-то я почему молчу?
— Мы идем с тобой, о Калевипоэг! — в унисон молвили девы после небольшого совещания.
— Коли это окончательное ваше решение, то так тому и быть! — ответствовал я торжественно.
Продолжая экскурсию, подошли мы к адским амбарам, всего их было семь, но мое внимание привлекли два из них:
Что за черт! Из самого что ни на есть хрупкого материала столь прочные постройки возведены! Обратился за разъяснениями к девам, но они признались, что в строительном деле ни бум-бум. Сказали только, что подобные сооружения называются мелкоблочными. Досадно, что не удалось получить более точных сведений об этих желточно-белочных амбарах. А здорово было бы обучить такому способу строительства какого-нибудь эстонского бетонщика — весь свет удивили бы!
Последний амбар был доверху набит свиным салом, и хотя волшебная шапка вчера избавила меня от мук голода, устоять против сала я был не в силах и тут же принялся свой мамон тешить. Девы же помирали со смеху, глядя, как я уписываю столь достойную короля Земли эстонской жратву.
Затем уселись мы рядком на золотую скамеечку, и я стал расспрашивать об ихнем владыке — Рогатом. Любопытно мне было, откуда он родом.
Девы выразили сожаление, что не знают подробностей о генеалогии Рогатого. Доводилось им, правда, слышать, что свояком ему приходится некий Тюхи (тоже дьявольского семени особа), а бабушкой — белая кобыла, но есть ли в этих слухах хоть крупица истины, никому не ведомо. Однако, судя по тому, что высокий лоб Рогатого украшают большие рога, в жилах его кроме кобыльей крови имеются и другие примеси.
Так что придется удовольствоваться данной, весьма скудной информацией, оставив происхождение и историю головокружительной карьеры Рогатого под покровом тайны. Примем на веру, что
Я задумался. Адские девы собираются из-за меня покинуть отчий кров (что средней сестричке, моей зазнобушке, приспичило, тут уж точно уж…); я слоняюсь по всему дому без ведома хозяина, как наглый, даже, можно сказать, бестактный басурман. А благоверную Рогатого мы аж под замок посадили. Ежели подобные порядки в Аду и в самом деле могут иметь место по велению Таары, то мое поведение, пожалуй, все же нельзя похвальным считать. Я поделился своими сомнениями с девами. Они все трое тут же губы надули.
— Сразу видать, что ты трусоват, — язвительно усмехнулась моя зазноба. — Впрочем, чего можно ждать от деревенщины, разве такой сиволапый пентюх осмелится порядок преступить, господам не угодить. Вернее всего тебе в Аду не задерживаться, а чесать отсюда побыстрей. Да неплохо бы рот утереть — сразу видно, что сало тебе по вкусу пришлось, одначе на твою жирную рожу смотреть тошно.
Такие речи не могли не привести меня в ярость. И привели. Да только глаза-то девичьи другое говорили. Взор ее не уничижительным, не осуждающим был, но вроде бы призывал меня силу и нрав свой показать. А все горшки перебить — нет, этого она отнюдь не хотела.
— Кончайте кудахтать! — вскричал я. — Марш за свои прялки, захудалые паклечесалки, вздорные куделемоталки! Ни одна задрыга чтоб тут не смела хвост поднимать да пасть разевать, пока мужчина ее не спросит!
Воздействие моего монолога оказалось сногсшибательным. Девы, затрепетав, отпрянули и воззрились на меня упоенно. Зело пригожи были они в сей миг. На ланитах моей зазнобы играл нежный румянец, грудь тяжело дышала, но ни одно словечко не сорвалось с уст ее.
Одначе немудреная их хитрость удалась все же. Разъярили они меня. Так, значит… Я, значит, сиволапая деревенщина, а Рогатый, значит, прирожденный аристократ… Ну ладно, это мы еще поглядим, кому от кого драпать придется.
заорал я. — Вот сейчас вас всех из вашего барахольного пекла за хвост вытащу, пикнуть не успеете! А то вы тут загнили, разложились и того и гляди копыта отрастите!
Засим оборотился я к девам спиной, будто мне на них глядеть противно, и быстро рот утер рукою.
Они же, вновь пошептавшись, заговорили по-иному: мягко, кротко, проникновенно. Просили простить их опрометчивые речи и дали совет немедля в путь собираться. Дескать, властитель Ада столь премудр и хитроумен, что ни единому смертному вовек его не осилить. То время, что мы вместе провели, совместные наши забавы и игры, а особливо в кошки-мышки и в ястреба с курицей, они отродясь не забудут, но сейчас пора опамятоваться и остепениться, ибо Рогатый может в любой миг вернуться, и тогда как бы чего не вышло.
— О дорогой Калевипоэг, не губи себя! — так заключила моя зазноба со слезами на глазах.
— Что за разговор! Об чем речь! Ретироваться — так всем вместе. Да только допрежь желаю я с папашей Рогатым кое о чем tete-a-tete побалакать, — сказал я решительно.
И в тот самый миг в дверь сильно застучали.
Девы побледнели, струхнули, видать, зело.
— Схоронись скорей! — шепнула моя зазноба, ни жива ни мертва.
— Еще чего! И не подумаю! — был мой смелый ответ. — Я этому рогатому гаду покажу, где раки зимуют. — И, на всякий случай взяв у дев волшебную шапку, сунул ее за пазуху.
Передо мной стоял Рогатый.
Он был элегантен до предела: черный атласный плащ на красной подкладке, фрак и цилиндр, белый шелковый шарф, заколотый брошью с огромным рубином. Волосы и небольшие усики Князя Тьмы благоухали бриллиантином. Сей инфернальный джентльмен молча и, как мне показалось, даже с некоторым сочувствием разглядывал меня.
Затем более официальным тоном Рогатый сообщил, что, к сожалению, не может тех, кто сюда попал, выпускать обратно на землю. Это давно установившийся порядок, нарушать который он не собирается. А кроме того, нельзя допустить проникновение на землю точных сведений об Аде.
— О tempora, о mores! — укоризненно пророкотал он, добавив, что решительное начало и дерзкий эпатаж, возможно, некоторые небезосновательно считают залогом успеха, но лично он отдает предпочтение изысканным манерам и хорошему тону. Тут я заметил, как одна из дев, прокравшись за спиной Рогатого, поменяла местами два бокала, стоящие в изголовье его кровати.
Рогатый сбросил свой шикарный плащ, швырнул его по-барски в шкаф, туда же закинул цилиндр и сообщил, что готов соответствовать ратоборским стремлениям нетерпеливого посетителя. Он взял один из бокалов, наполненный беловатой жидкостью, и старательно прополоскал рот.
Ежели я окажусь побежденным, он будет вынужден заковать меня, сказал Рогатый. Цепи не стесняют движений и довольно удобны, но убежать из Ада в них не удастся. Возможно, этот акт выглядит варварским, но таков заведенный обычай, он, Рогатый, всего лишь исполнитель.
Произнеся эти извинения, сатана отхлебнул из бокала несколько глотков (потом девы поведали мне, что в подменном сосуде была жидкость, умаляющая мощь).
Выбрали мы место для борьбы, поставили вехи, обменялись, как полагается, рукопожатием и приступили к поединку.
А допрежь того договорились, что будем придерживаться правил и запретов, принятых в греко-римской борьбе. Должно отметить, что Князь Тьмы в сем поединке весьма достойно себя держал и подножку мне ни разу не подставил. Несколько часов боролись мы на равных. И пыхтели, и кряхтели, уж спотыкаться начали, а все друг друга одолеть не можем. Меж тем мои болельщицы подбадривали меня поощрительными возгласами.
Поскольку борьбе нашей конца не видно было, решили мы устроить перерыв и мирно уселись рядом на лужайке, вроде бы и не противники. Однако обоим было ясно, что ничья невозможна.
И когда вновь сошлись мы, я решил бесплодную сию схватку в свою пользу закончить. Хоть и совестно мне было, пробормотал я волшебной шапке соответствующие слова и тут же стал так быстро расти, что аж суставы захрустели. Обхватив Рогатого поперек живота, я шмякнул его оземь, да так крепко, что он и шевелиться перестал.
Девы ликовали. С радостным визгом кинулись они к поверженному и принялись плеваться и пинать его каблуками.
— И ты, Бруута! — вздохнул Рогатый, поглядев на младшую из сестер.
После сих укорительных слов Князь Тьмы к дьявольскому чародейству прибегнул: вдруг стал сокращаться, съеживаться, таять, пока с тихим хлюпаньем не всосался в пол. Осталась лишь маленькая лужица синеватой жижи да тонкая струйка дыма над ней.
Тогда девы повели меня в сокровищницу. Я захватил там пару-другую мешков с золотом, перекинул через плечо, посадил на них дев и скомандовал волшебной шапке подбросить нас быстренько к устью пещеры.
Столкнувшись с Рогатым, понял я, что лучше с сим крутым фруктом не связываться, а топать из Ада не мешкая, ибо на земле нечистая сила только тем и опасна, что может в грех ввести, а сие не так уж страшно.
Мгновенно очутились мы у входа в пещеру.
Узрел я с радостью вновь дневное светило, девы же взирали на пылающий диск со страхом и изумлением. Спросили, где я достал такую роскошь. Скромно, без излишней похвальбы, сказал я, что здесь у всякого даже самого захудалого короля такая игрушка имеется. Сестры безмерно удивились и почтением к земному существованию прониклись.
Варильщики афродизиаки куда-то запропастились, однако под котлом дотлевало несколько головешек. Я раздул огонь и, повинуясь внезапному порыву, швырнул в костер волшебную шапку. Повалил густой дым, запахло горящим рогом, и вскорости шапка сгорела дотла. Девы жутко расстроились, рыдая, вопрошали они, почто загубил я чудесный сей предмет. Сказать по правде, и мне было жалко расставаться с магическим трансформатором, но что-то словно толкнуло меня — изничтожь, и я повиновался.
Теперь тому уж много лет, и по зрелом размышлении убежден я, что поступил разумно: оставшись владельцем волшебной шапки, был бы я всемогущ и всесилен, а раз так, то не о чем было бы и эпос сочинять. Но ведь тогда эстонцы не имели бы героической истории, а сие любой народ может к комплексу неполноценности привести.
Вот так, в таком примерно разрезе…
Девам же я сказал, что любой уважающий себя земнородный король плевать хотел на всякие шапки, кепки и прочие волшебные штучки Рогатого.
Прикусив языки, сестры с опаской вокруг оглядывались, но, как полагается молодым девицам, быстро оклемались, особливо когда напомнил я о своем обещании познакомить их с Алевипоэгом и Сулевипоэгом. Вскорости девы совсем оправились и, восседая у меня на закорках, запели песенку, в коей свои тайные помыслы и чаяния излагали:
XIII
Итак, первое мое сошествие в Преисподнюю закончилось благополучно.
Настроение у меня было недурственное — жив-здоров, золото в мешках позвякивает. Правда, одна заноза в сердце сидела: куда дев девать? Уместно ли сегодня же просить руки или с этим делом обождать следует? И вообще как это руки просят — дайте-ка, дескать, ручку, что ли?
Инда взопрел, вот до чего тяжкая забота! Тут силенкой не возьмешь, тут башкой работать надобно…
Решил снести дев на хутор Алевипоэга, он малый бывалый, может, какой дельный совет подаст.
Вскорости стоял я со своей ношей перед воротами Алевипоэгова хутора, и выскочивший из подворотни славный пестрый пес эстонской породы с радостным визгом обнюхивал мои лапти.
Навстречу мне вышел сам хозяин, а с ним Сулевипоэг, вот удача! Оказывается, он ненароком в гости зашел.
сказал я другу. Ну, думаю, Алевипоэг меня выручит, он обхождение знает, сперва о погоде поговорит, об урожайности зерновых, приусадебный участок девам покажет, потом закусить пригласит и ловко разговор в нужное русло направит.
Как бы не так! Стоило сему мужу узреть старшую из адских дев, его словно скипидаром помазали: подскочил с прыткостью, помог девице с моей спины слезть, за ручку подхватил, да и не отпускал ту ручку больше. А дева пылала, словно маков цвет. И никто уж ни слова от сих двоих не слыхал, они друг на дружку только и смотрели.
А Сулевипоэг с младшей девой тоже не больно-то во внимании да советах нуждались — они, взявшись за руки, в полном единодушии отправились по окрестностям прогуляться. Все бы оно ничего, да вот то худо, что хозяин еще двоих гостей самим себе предоставил, и сия парочка, баран да ярочка, ниоткуда поддержки и помощи получить не могли.
— Это самое… мне теперича… как его… недосуг… — пробормотал я. — Вот ужо завтра…
— Завтра? — В голосе моей зазнобы слышалась обида.
— Ну да, ясное дело, завтра… Куда я денусь-то?
— А нельзя ли мне сейчас с тобой вместе пойти? — спросила она робко.
— Да ты что, балбешка несмышленая… У меня эти… как их… мужские дела.
— Мужские дела? Что сие означает — мужские дела? — И закончила грустно: — Впрочем, то королю лучше знать…
Стояла зазноба моя под яблонькой, мне вослед смотрела. Жалко ее, да только не привык я на попятный идти. «Успеется… успеется… подумать толком надобно прежде», — успокаивал я себя.
Мужские дела не больно далеко меня завели, всего лишь в тенек на пенек поразмыслить.
«Да, слабоват ты, победитель Рогатого, слабоват оказался», — зудел у меня в голове один голос. А второй тут же приводил возражение: «Правильно поступаешь, правильно! Кто ее знает, чего она там творила и как себя вела, в подземном-то царстве!»
«Да стоит ли герою в брак вступать? Ведь он себя народу своему целиком посвятить должен. А супружеские радости короля от государственных дел отвлекут, — не сдавался первый голос. — И вообще много ли в ней проку, в плотской-то любви? Вспомни, Калевипоэг, как над тобой островитяночка измывалась! А ты? Ты до того с ней изнурился, не хуже мартовского кота, что чуть во вшивой луже, морем именуемой, с жизнью не расстался».
«Нет, нельзя островитянку с адской девой равнять, одна другой не чета!» — возмущалось второе «я».
«А вот возьму и посватаюсь завтра же!..»
Раздираемый тезами и антитезами, преклонил я главу свою на мшистую кочку. Может, небеса мудрости мне пошлют во сне.
Хотел бы я знать, почему историографы ни словом о моих сомнениях и сердечных терзаниях не обмолвились? Утверждают единоустно, словно в черепушку ко мне заглядывали, что полон я был мыслями о войнах, Эстонской земле грозивших, о бедствиях Виру и так далее и тому подобное. Вообще-то верно, государственные дела у меня всегда на первом плане были, но в тот вечер одолевали меня иные печали.
Однако под утро задремал я все же.
Неспокоен сон мой был, виделся мне грустный взор адской девы, ее дружеская рука, доверчиво волшебную шапку мне в Преисподней протянувшая… Не скрою, что и прочие прелести девицы снились мне. Например, крепкая ножка, золотистыми волосиками покрытая, что мелькала пред моими глазами, когда мы сюда шли, а под коленкой кожа гладкая да тонкая, инда жилочки просвечивают. И еще шаловливая пятка, может, ненароком, а может, и намеренно по лбу меня в такт моим шагам постукивавшая. До чего же мягкая и розовая она была, ну ровно ягнячий носик!..
Видать, я вновь в поэзию ударился! Предоставляю слово летописцам, у них это лучше выходит:
И надо же, чтобы именно в оную ночь терзаний и сомнений, именно в оный час раздумий и мечтаний некая распутная бабенка, дочка какого-то местного знахаря, лучшего времени не найдя, надо мной надсмеялась: бесстыдно присела она на косогор… и вот уже солоноватая влага оросила мечущегося в беспокойном сне младого богатыря.
Пробудившись, никак разобрать не мог, что же случилось со мною.
Не успев опомниться, был я омочен сей мерзостной и непристойной жидкостью с ног до головы.
Я вскочил.
Сонным взорам моим мерзопакостнейшая картина представилась. На высоком холме восседала на корточках знахарева дочка, со смеху помирая. Бесстыдный хохот искривил узкую ее рожицу, с мордочкой горностая схожую.
А утро выдалось прекрасное, теплое, безветренное, и торжественно всходило за спиной мочеиспускательницы багряное солнце. Полагаю, что божественное светило немалую охоту имело обратно за горизонт сокрыться, ибо то, что оно ласковыми своими лучами освещало, паскудной гнусностью являлось. Страшное дело! Не то что рассказывать, вспоминать и то жутко!
Вскрикнул я и глаза руками закрыл.
Однако поток не иссякал. И еще того хуже. Та, что виновницей его являлась, писклявым мышиным голоском гнусное предложение произнесла: не поднимусь ли я, дескать, на бугор к ней, чтобы в приятных утехах время провести? Теперь, дескать, всем на свете ведомо, что не больно-то король к адской деве прикипел.
У меня не было слов…
Ошалев от стыда и гнева, схватил я под руку подвернувшийся валун и запустил его в негодницу.
Раздался вопль и зовы о помощи:
В первый миг сладостное злорадство овладело мною: не иначе как сам Уку удар мой направил, дабы безобразницу сию покарать! Так ей и надобно, сквернавке! Однако орала она все истошнее, и я забеспокоился.
А вдруг — десница-то у меня богатырская — изувечил я бабенку? Как-никак, а все же женский пол, да и гоже ли северной земли богатырю камнями баб по центру бомбить?
Взглянул я на холм. Знахарева дочка каталась по земле в корчах, словно с жизнью расставалась. Может, ваньку валяет? Да нет, вроде непохоже. Стоял я, руки опустив, чего делать, не зная. Она же меж тем стенать продолжала. Придется на помощь идти, а то как бы не окочурилась совсем.
И я полез на холм.
До чего же нескладно я карабкался! От громких призывов о помощи руки-ноги мои дрожали. Может, я с непривычным делом и управился бы, кабы вдруг из ольшаника не вышла… Кто? Да зазноба моя, адская дева, всю ночку мне снившаяся. И вот она въяве стояла недвижимо и смотрела на меня, над орущей знахаревой дочкой склоненного.
И огласил лучом денницы освещенные окрестности новый вопль:
— Мужские дела!.. Мужские дела!.. Так вот они какие, дела-то!..
И пала дева на землю, чувств лишившись.
Ну тут уж я совсем растерялся и бросился бежать в спасительную чащу леса, словно подлинный злодей, на месте преступления застигнутый.
XIV
Многажды-много раз приходилось мне рассказывать о горестях своих и печалях, и сызнова к тому же приступаю, хотя знаю, что труд сей непосилен. Прилежно штудировал я рассказы о муках принца Гамлета, короля Лира, молодого Вертера и даже Блаженной Женевьевы, с завистью дивясь гладкому слогу и ровному бегу пера, их записавшего. Однако толку от сих штудирований мало было. Впрочем, быть может, и не следует от настоящего героя требовать мастерства скорбных элегий сложения.
Скажу лишь, что вновь надолго укрылся я в лесу. Не ел, не пил, думу думал. И до того додумался, что чуть руки на себя не наложил. Мне бы пойти к зазнобе своей да толком объяснить, как дело-то было, да я и приступить к сему боялся, наперед зная, что не справлюсь. Ведь чтобы словами девку убедить, а паче того — переубедить, крепкий краснобай требуется, а тут еще выскочила она в столь критический момент, что хуже не придумать.
Но герои с собой не кончают. Притом и закалился я, возмужал, в аду побывавши. Некоторые люди утверждали, что когда я снова к народу своему явился, скорбная морщина, коей допрежь не было, на довольно гладком еще лбу Калевипоэга пролегла…
Зрелый муж в труде душевный покой обретает. И, взявши вновь в руки кормило власти, осознал я сие.
Вышел из лесу, на загривке изрядную кучу досок неся, полный решимости основательной работой заняться. Перво-наперво укрывалища построить, дабы народ, ежели война придет, не страшился. Засим жилища возведу, форты, крепости, мастерские. Особые хоромы для молодых, чтобы в радости жили и героев новых рождали. Благо короля есть благо его народа!
Фортуна улыбнулась мне. В первый же день, как лес я покинул, дезертирскому житью конец положив, повстречался мне достойный муж по имени Олоф. Приходилось мне уже об Олофе, или Олеве, или Олевипоэге, слышать, говорили, будто славный он зодчий.
— Можете Олевом, на эстонский манер, меня звать, — учтиво промолвил Олоф и добавил, что странствует уже давно по нашей земле, что в жилах его малость норвежской крови имеется и что эстонское «Олев» недурно звучит. А еще сказал, что давно мечтал с прославленным Калевипоэгом знакомство свести и о строительных делах посоветоваться. — Я, — говорит, — умилился, глядя, как король сам доски таскает, прекрасное, трогательное зрелище! Льщу себя надеждой, что мы придем к соглашению, — закончил он почтительно.
Затем Олев принялся доски разглядывать. Выстукивал их, нюхал, гнул во все стороны, вытащил из кармана стеклышко и сквозь него в торец смотрел. По ухваткам распознал я, что сей муж дело отменно знает.
Манипуляции окончив, заявил Олев, что доски, по всему видать, с восточной стороны, из соснового леса, первого класса бонитета, и хоть сыроваты чуток, однако в дело годятся.
Я к Олеву полным доверием проникся. Был он темноволос, волоок, одет богато, но просто, без пышности, — кафтан из тонкой шерстяной ткани, на ногах сандалии с кожаными ремешками. И держался скромно, не важничал. Пытался грубый свой прононс смягчить, притом немалое старание прилагая, дабы по-эстонски разговаривать чисто.
Вступили мы с ним в приятную беседу, прошедшую в обстановке сердечной дружбы, товарищества и полного взаимопонимания. Откровенно признался я, что не с того конца государить начал: охота на волков, экскурсия в Ад, пустая трата сил, от важных дел меня отводили, потому добротных крепостей и фортов у нас нет. А в порядочном государстве еще и столица нужна, да и капитолий требуется.
Олевипоэг внимал мне почтительно. Когда же я речь свою закончил, отметил он, что столь самокритичные высказывания короля о наличии трезвого разумения и отсутствии чванства свидетельствуют. И со вздохом присовокупил: немало-де еще на свете правителей, кои власть свою на то употребляют, чтоб охоте, да поединкам, да блуду без меры предаваться.
Так, весьма похвальные мысли изложив, он вновь к главному делу вернулся. Без столицы королевству не обойтись, и ежели король его, Олева, градостроительными познаниями не пренебрежет, то он, Олев, хоть сейчас к королю на службу поступит и помощников себе найдет. И пусть платит ему король столько-то да столько-то талеров и пенни. Цена немалая, но вроде бы без запроса, решил я. Ударили мы по рукам, и посулил я чернорабочих на стройку пригнать, ведь от возведения столицы ни один гражданин уклоняться не должен.
И сам обещал подмогу оказать — бревна да камни перетаскивать. Тут Олев чуток засомневался, пристало ли королю при всем честном народе надрываться, однако я строго ему ответил, что у нас на Эстонской земле всякий труд почетен. Олев не перечил, буркнув, однако, что на стройке он сам король и в своих руках вожжи крепко держать желает.
— На котором же месте мыслит король столицу свою ставить? — осведомился он.
— Человеку всего дороже мать родная, — промолвил я. — На свет нас в муках родит, и пока взрастит, намается. Моя мама отменно с сим справилась, да и во вдовьей ситуации эталоном благонравия служить могла. Как-то в недобрый час обронила она изрядный камень из руки на ногу и палец жестоко зашибла. От боли света невзвидев, слезами залилась. Люди сказывают, что за недолгое время цельное озеро наплакала. Священные те слезы до сего времени эстонцы попивают, Линдиной беде сострадая и добрым словом ее поминая. Сего напитка для будущей столицы хватит. И порешил я в память хоть и недолгого, да счастья исполненного совместного житья матушки с батюшкой на берегу озера Юлемисте столицу строить. Приморское расположение впоследствии пользительным оказаться может, — добавил я. — И соседям лестно — вроде окошка в иные страны город сей станет. И в друзьях недостачи не будет, а коли какой народ друзей имеет, так и ума и хитрости наберется от них. А малому народцу сие особливо важно, ежели, меж больших народов находясь, желает сохраниться.
Олевипоэг слова мои одобрил и заявил, что через три дня строить начнет, а сперва поститься будет — так по обычаю положено.
Разослал я с гонцами повсеместно строгий указ: из каждой семьи одному на стройку явиться. Поелику королевские указы народу в новинку были, стали людишки помаленьку стекаться. Однако не больно охотно, у всякого своих дел невпроворот. Обратился я к народу с пламенной речью, в коей значение современного градостроительства объяснил и кратко генеральный план будущей столицы обрисовал. Не преминул коснуться возможностей, строителям открывающихся, стать горожанами и культурную жизнь обрести. Слова мои нашли в ихних сердцах отклик, а когда я первый непомерную кучу бревен и камней себе на спину взвалил, работа закипела.
Многие рты поразевали, глядя, как король по доброй воле вкалывать изволит. Да и в нынешнее время бывает, что при начале большой работы кое-кто из главных собственноручно камень положит либо гвоздь вобьет. И не суть важно, что гвоздь загнется. Все равно хороший пример подчиненных вдохновляет.
И то сказать, ведь одна только работа человеку не изменит, не обманет и утешит в горькую минуту. После дня труда ко сну отходя, не предавался уж я более грустным размышлениям о происшествии со знахаревой дочкой. Едва успевал в мыслях перебрать, что за день сделано, и тут же засыпал крепко.
Замыслил я строительные работы до конца довести и тем навечно звание короля-передовика заслужить себе.
Увы, не довелось мне в жизнь сию идею воплотить…
Однажды утром, по указанию Олевипоэга раствор большой мешалкой перемешивая, услышал я сдержанные смешки и перешептывания девиц-штукатурочек. И взгляды их любопытствующие приметил. Как обеденная пора настала, подозвал я к себе бывшего гонца, вестника войны. Он с того времени успел большим государственным мужем стать и ежевечерне мне об умонастроении народа доносил. Зашли мы с ним за штабель досок, и потребовал я доложить, по какому поводу штукатурочки головы друг к дружке склоняют.
По лицу тайного советника ясно было, что сие ему доподлинно известно. Однако принялся он почему-то мяться и темнить:
— Да так, тут об одной блудоватой деве пустое плетут, языки чешут.
— О ком это? — спросил я, чувствуя облегчение, что дело о ерунде идет.
— Ну, об этой самой, об той, что наш достославный правитель из Преисподней на королевской своей спине вынести соизволил…
— И что же о ней болтают? — спросил я сколь возможно равнодушнее.
— Да ерунду, гиль всяческую… Будто шашни завела она с колдуном не то знахарем каким-то из-под Алатскиви…
Выразил ему благодарность за сообщение, хотя считал, что оно гроша ломаного не стоит: девки ровно флюгер — куда подует, туда и вертятся. Так что и знахари им в самый раз по вкусу.
Поставщик новостей внимательно на меня посмотрел.
— Может, чего предпринять требуется? — спросил он, глядя мне в глаза и шевеля ушами.
Я помотал головой.
Удрученный и озадаченный, принялся я вновь за работу. Дообеденного рвения не было больше, то и дело ловил я себя на том, что стою, глаза в серое месиво уставив и подняв в руке мешалку, словно палицу.
Так, значит… У зазнобы моей с Колдуном, значит, шуры-муры…
— Блудница, блудница, блудница! — бормотал я, в то же время вспоминая невольно, как стояла адская дева под яблоней, покорно шепча: «То королю лучше знать…»
Пойти колдуна тюкнуть? А какой прок, ежели дева сердце свое отдала ему?
Бросил я мешалку и домой побрел.
А надобно бы к деве поспешить. Пагубным сим промедлением сам я себе изрядную свинью подложил.
Поутру, на работу придя, по глазам тайного советника понял — дело нечисто. Потребовал разъяснений.
— Ах, насчет этой девы-то? Да она, кажись, напрочь к Колдуну махнула. Иные, правда, болтают, что Колдун ее умыкнул, ну да это бабушка надвое сказала… Что такое?.. Королю дурно?
— Ничего, ничего… — Я прислонился к штабелю досок. — Солнце больно здорово печет нынче… инда голову дурманит… Прошло уж…
Тут Олевипоэг подошел и в свою сколоченную из досок лачужку потащил меня. Обложенный чертежами и расчетами, завел он речь о бревнах, нехватка коих грозит ход строительства нарушить. Не мог бы, мол, ты, Калевипоэг, в бедственное положение войдя, еще бревен принести? Слышно, что под Алатскиви их навалом…
Чаша терпения моего переполнилась.
— Понятно, на что намекаешь! — вскричал я. — Да, понятно, однако, было бы тебе ведомо, я и знать не хочу ту, что порядочному человеку шарлатана предпочла. Между нами все кончено. Бревна принесу, ежели требуется, да только не из-под Алатскиви!
Помолчав, спросил Олев негромко, было ли что меж нами, а голос его, всегда ровный, дрожал почему-то, словно листва под ветром.
— Да ничего не было промеж нас. И вовек быть не может!
— Уверен ли в том король? — не сдавался Олевипоэг.
— Ты что, в королевских словах сомневаешься?! — И я гордо сообщил, что насчет сей особы, под землей выросшей, никаких серьезных намерений отродясь не имел.
— Я и сам так полагал, — со вздохом облегчения промолвил Олевипоэг.
XV
По бурному морю плыл я в утлом челне. Не ведаю, сколько дней и ночей. Куда плыл и зачем, не ведаю. Долгими часами валялся я брюхом вверх на дне лодки, созерцая мрачное, как могила, полярное небо, по ночам озаряемое северным сиянием.
И являлись мне видения странные, диковинные.
То в утренней мгле, то в вечерних сумерках возникала предо мною милая моя адская дева. Грандиозна она была, словно башня, и власы ее в тучах терялись.
Будто рассудка лишенный, слушал я бессмысленные вопросы. Нараспев вещала она хриплым голосом, ожидая ответа:
Или:
Я обнимал ее колени, клялся в вечной любви, она же в ответ бормотала туманные загадки, саркастически хохотала и вдруг исчезала во мраке.
Не взял с собой ни еды, ни питья. Но ни голода, ни жажды не знал. Кошмарные призраки окружали меня: исполинские красные петухи, давясь, глотали золото, пухлые лиловые кочаны разрастались, становясь высотой с елку. Отвратительное и тошнотворное то было зрелище! А тут еще откуда-то вылезли страшные люди с песьими головами. Мерзостно лая, прогрызали они дыры в бортах лодки… Сплошной сюрреализм окружал меня, безысходный и беспросветный.
Долго ли плыл я по морю, не ведаю. И не помню, когда чувств лишился. Очнулся от горячего вкуса во рту. Неужто вновь я в Аду очутился? Долго тайный советник и Олевипоэг внушали, что в рот мне не серу, а отменную водку льют и что я среди живых людей нахожусь. Пока я по волнам скитался, тайный советник на веслах с двумя надежными гребцами за мной следовал. А приблизиться они не осмеливались, дабы не помешать королю в изучении моря-океана.
Несколько дней меня в себя приводили, и верные друзья неотлучно возле одра моего в дозоре сидели. Когда оклемался я и разумно на вопросы отвечать смог, сказал Олевипоэг, что надобно мне пред народом моим предстать. Все жаждут встречи со мной после возвращения моего из многотрудной полярной экспедиции.
— Полярной экспедиции? — изумился я.
— Натурально! — вскричал тайный советник и, шевеля ушами, уверять принялся, что смелый мой полярный рейс золотыми литерами вписан будет в историю океанологии и освоения Арктики и Антарктики и что в народе только о том и говорят. Все жители Эстонии гордятся своим королем, неутомимо знания копящим. Слова, произнесенные его величеством перед отплытием, — он, тайный советник, знает нескольких человек, слышавших их лично, — слова те стали крылатыми и многих вдохновляют образование свое повышать.
— Какие еще, черт возьми, слова?
продекламировал тайный советник, и в его похожих на пуговки глазках светились восхищение и хитрость. — Сперва-то болтали, что Калевипоэг из-за какой-то девчонки умом помутился и сбежал, да только оным пустозвонам веры не было, а кто этакие слухи распускал, над теми народ самосуд учинял, и притом безо всякого подстрекательства, — с гордостью закончил он.
Олевипоэг смотрел в сторону, но когда заговорил, речь его была учтива и серьезна.
— Отрадно, что ныне и эстонцы, кои искони поморами слыли, начало покорению морей положили. По утверждению Саксо Грамматикуса, автора «Деяния данов», легендарный король Гормос под водительством мудрого Тхоркиллуса одиссею предпринял, дабы край света узреть. Пусть же датчане смирят гордыню свою — теперь и эстонцы ту трассу освоили! И что примечательно — ведь Калевипоэг, сам того не ведая, в тягостном своем сновидении многотрудное путешествие правдиво нам изложил. То не бред был и не кошмар, а подробнейший и точнейший рассказ, и рассказ тот некий мудрец, к постели занемогшего короля единолично допущенный, а после того внезапно и скоропостижно от разрыва сердечного скончавшийся, прилежно записал. Да будет мне позволено, — продолжал Олевипоэг, — оную запись сей же час королю зачитать в целях уточнения.
Разинув рот, внимал я повествованию о своем триумфе в Лапландии; о счастливом избавлении от опасности погибнуть в Мальстреме, по утверждению скандинавов, являющемся пастью морской, суда поглощающей; кровь в жилах стыла от описания встречи с Гигантской Девой, о коей, правда, и до того было кое-что известно, ну, а уж теперь никакой Фома Неверующий в ее существовании не усомнится. И, кстати, Гигантская Дева живет как раз в тех краях, где петухи золото пожирают и капуста величиной с елку растет.
Я хотел было возразить, но Олевипоэг с улыбкой подмигнул мне. Тем временем со двора рыбацкой хижины, где меня отхаживали, послышалось конское ржание. Выглянув в окошко, увидел я роскошную карету.
Олевипоэг и тайный советник под руки вывели меня и посадили на мягкое сиденье.
По улицам Таллина проезжая в шикарном экипаже, наблюдал я приветственные махания руками и одобрительные возгласы слышал от горожан.
Хоть и немощен еще я был, однако, приоткрыв окошко кареты, хотел предуведомить народ о неудаче своего похода, однако же слабый мой голос плохо мне повиновался.
На что ликующий народ, принаряженный по случаю торжества, проревел хором:
Карета остановилась возле дома Олевипоэга, ветвями берез и гирляндами цветов украшенного. Растроганный таковым почетом, пошутил я, что подобная встреча более невесте подходит, и, усмехаясь, свадебную песнь тихо затянул. Что за диво! Тайный советник тут же мне во весь голос подпевать принялся, да и люди, во дворе толпящиеся, бодро припев подхватили…
А Олевипоэг в сторону смотрел и сморкался с трубным звуком.
— О король! Я с моей невестой просим тебя в сей высокоторжественный день занять почетное место за нашим свадебным столом, — произнес он взволнованно.
И в тот же миг появилась на крыльце девица красоты дивной — то была зазноба моя, адская дева! На главе ее невестин венец красовался…
— О Таара великий! Дай мне силы! — пробормотал я и вошел, пошатываясь, в свадебный чертог.
XVI
«Ах, младость так прекрасна, нельзя ее вернуть!» — совершенно справедливо отмечает поэт. Ведь именно в младости накапливаем мы материал для последующих воспоминаний, и нередко оные воспоминания оказываются куда приятнее того, что судьба впоследствии нам преподносит.
Отпировав на свадьбе Олевипоэга, задумался я над тем, что младость моя миновала. И решил вплотную заняться устройством дел государственных. Если довелось тебе «Калевипоэг» штудировать, любезный читатель, вероятно, обратил ты благосклонное внимание на то, что и в оном сочинении о зрелости моей мало говорится. И у меня большой охоты нет о сем времени распространяться. То была весьма нудная и докучная пора. С утра обряжайся усердно, концом косы бороду скобли, онучи наматывай, лапти напяливай. Негоже, чай, королю в разгильдяйском виде на люди показаться. А дел навалом, только поспевай поворачиваться: со старейшинами совещайся, послов иноземных принимай, награды вручай, а ежели краеугольный камень где заложить надобно, так и тут король хоть тресни, а явись! Нет, незавидное житье, вельми незавидное! А уж ежели притом у тебя в жилах геройская кровь течет, так совсем со скуки скапустишься.
Впрочем, дела на Эстонской земле шли успешно.
Под дельным руководством Олевипоэга вздымались в безоблачное небо пахнущие смолой стропила новых домов. Справлялись новоселья, свадьбы, крестины. Повышался жизненный уровень. На рынках появлялись новые, невиданные до сей поры товары.
Счастье и мир. Мир и счастье.
Всюду, где я появлялся, встречали меня с радостью и уважением — из меня вышел правитель, любимый народом. Однако в душе у меня счастья и мира не было. Частенько сиживал я на берегу озера Юлемисте, на волны глядя, а оттуда взирала на меня суровая, мужественная, но чуток мрачноватая личность короля средних лет: не нашел я своим силам достойного применения.
Что же мне теперь, до конца дней своих байбачить, лодыря гонять? — горестно вопрошал я себя. Эх, оседлать бы борзого коня да в сечу кинуться! Для того ведь герои на свет родятся, чтобы врагов сокрушать да подвиги совершать. Но с кем тебе, человече, биться-то? Дела в королевстве идут исправно, границ наших уж давно никто нарушить не смеет. В младые-то годы я, долго не размышляя, ворога сам сыскал бы, а ныне, королевским саном облеченный, не решался я безо всякой причины, только лишь чтоб мощь свою показать, народ на поле брани гнать.
на Эстонской земле, как в «Калевипоэге» говорится; терпение мое истощалось. Каждое утро от сна пробуждаясь, откинув тулуп, коим укрывался, вставал я с ложа, другим тулупом покрытого, и со страхом великим на брюхо свое взирал, не разжирело ли, ибо прилежных занятий зарядкой и гимнастикой, что простых людей в форме поддерживают, для героя маловато. В сердце моем вынашивал я планы бегства. Ну разве не здорово было бы наняться под чужим именем на какой-нибудь парусник и махнуть в теплые края с дикарями сражаться?
Одна радость оставалась — охота. Но и этой услады меня лишили. На одном заседании совета старейшин какой-то ученый муж объявил, что травлю волков и медведей надлежит прекратить немедля, ибо грозит им полное истребление. Будто бы Калевипоэг столько их перебил, что природное равновесие, изволите ли видеть, пошатнулось, а это для человечества, частью природы являющегося, опасность немалую будто бы создает. И можете себе представить, приняли-таки закон о защите и нарушителей оного постановили браконьерами нарекать…
После принятия столь зверского закона решение мое о побеге укрепилось окончательно. Решил последний разок под покровом ночи на охоту сходить: последняя охота и — привет королевству!
Долго блуждал я по темному лесу, пока на захудалого бирюка не наткнулся. Врезал ему здоровенным валуном с силошкой молодецкою, повалился он на бок и был готов. Подскакал я к трофею, а из кустов мужичишка вылезает, серого разбойника за хвост хватает и орет, что то его добыча. И в самом деле у волка в груди стрела торчит.
— Я его уложил, мой он, — вопил мужик, в темноте короля своего не признавший, — а ты убирайся к черту, проваливай в Ад!
«Проваливай в Ад!» — слова эти пронзили меня, как стрела бирюка. Это ценная мысль! И как я сам не додумался, что не в теплые страны, а в Ад свои стопы направить могу. А может, мне удастся устроить присоединение Ада к Эстонской земле и за счет сего густонаселенного пункта тесные границы государства нашего расширить?
— Во имя эстонского народа, Отца Небесного и самого Рогатого завтра же отбываю в Ад! — радостно возопил я.
Откуда-то донеслось странное блеяние. Потом уханье филина послышалось, зловещее и многозначительное.
Мужик рот открыл и глаза вылупил, когда я коня поворотил и вскачь пустился, о волке позабывши.
Поутру поведал я друзьям о своем решении. Сулеви-, Алеви— и Олевипоэг инда с лица спали и пылко меня уговаривать принялись от нового опасного похода отказаться. Однако я был непреклонен: горящую свечу в сундуке не держат; коли есть у тебя горчичное зерно, дай ему прорасти. На Эстонской земле, благодарение небесам, все складно идет, народ со своей работой и без меня справляется. А уж друзьям моим и вовсе резону нет меня удерживать: ведь, в Аду побывав однажды, принес я на собственной спине каждому по курочке.
— В стране нашей табуны холостяков, жаждущих столь же пригожих и домовитых хозяек себе заполучить, — шуткой пытался я приободрить друзей.
— Проводить-то хоть можно? — спросили они.
— Валяйте, — ответил я.
И мы отправились в путь.
Шагали мы к озеру Эндла, там, насколько я знал, находился единственный в Эстонии вход в Подземное царство.
Нерадостным было шествие наше. Никак не удавалось мне друзей своих расшевелить.
Двухчасовым броском продвинулись мы к знакомому месту. Вновь узрел я костер меж деревьями и нос мой учуял супное благоухание, от коего я зело возвеселился. Друзья же струхнули чуток, хоть и виду не показывали.
Возле костра на сей раз не толклись мужики — варители фордыбаки, а сидела морщинистая старуха с крючковатым носом. В одной руке держала она поварешку, в другой — какой-то свиток. Подойдя поближе, заметили мы, что хрычовка подслеповата. Олевипоэг, отменный грамотей, учтиво старушенции помощь предложил, та же призналась, что не в силах решить, сколько кочанов (большая куча капусты лежала возле костра) в котел класть. Олевипоэг прочел без запинок и с выражением:
С недоумением смотрел на меня Олевипоэг.
— А, заурядные колдовские штучки, — объяснил я и рассказал о прежних поварах.
Сулевипоэг нахмурился: уже в те стародавние времена был сей муж ярым противником чародейства и убежденным последователем материализма. Без лишних слов пнул он ногой старухин котел.
— Ну, теперь следует прощальную вечерю сотворить, ибо неведомо, когда нам вновь свидеться придется, — предложил Сулевипоэг, пустой котел для щей на место водружая.
Я-то не прочь был немедля в пещеру направиться, но по лицам друзей приметил, что они Сулевипоэгов замысел одобряют. Алевипоэг, слюни глотая, сказал, что сей вечер торжественно отметить надобно. И я уступил их пожеланиям.
Сулевипоэг первым дежурство у котла принял. Мы же все, в отдалении усевшись, на рдеющий закатный небосвод молча любовались. И печаль меня вдруг объяла: тут милое мое королевство, тут други мои дорогие… Увижу ли я вновь их?..
Ветер верхушки дерев колыхал, ночные мотыльки к костру летели, прямо в огонь, неразумные, стремились. Они — в огонь, я — в Ад…
Как видно, не судьба мне была счастье в любви изведать, думал я, однако есть у меня верные друзья, предстоящей разлукой столь опечаленные, что слова вымолвить не могут. А друзья — немалое благо. Тут Алевипоэг засвистел носом, и высокому тому звуку завторил густой, степенный Олевипоэгов храп, словно из бочки доносящийся…
«Пойти, что ли, с Сулевипоэгом словечком перекинуться», — подумал я. И что же узрел — Сулевипоэга, с жадностью щи хлебающего! То были уж последки, ибо приходилось ему круто котел наклонять, дабы из желобка последние глоточки допить.
«Не успеет в третий раз петух пропеть, как вы меня предадите», — подумал я с горечью. Ужели уместен сейчас сладкий сон и аппетит добрый? Ушел я от костра и прилег, глаза зажмурив. Пусть Сулевипоэг полагает, что я тоже сплю. Да, прискорбно, зело прискорбно…
Слышно было, как Сулевипоэг котел выскребал, после чего, вновь водой его наполнив, капусту заложил и хворосту подбросил. Затем крадучись к спящим приблизился, Олевипоэга растолкал и котел сторожить послал.
— Неужто до сих пор щи не поспели? — удивился тот.
Сулевипоэг, запинаясь, объяснил, что какой-то махонький человечек, из пещеры выйдя, щей испробовать попросил. Он дозволил, и человечек в момент все щи слопал…
— И то сказать, Ад-то, чай, недалече, — добавил Сулевипоэг многозначительно.
Олевипоэг тому рассказу не поверил. Тогда Сулевипоэг спросил: неужто Олевипоэгу, во многих странах побывавшему, неизвестна старинная повесть о сошествии в Ад некоего добра молодца? А в повести той и о карлике — опростателе котлов рассказано. Олевипоэг признался, что приходилось ему слышать сию историю, но в истинности оной он всегда сомневался.
— Ступай сам посторожи, тогда поверишь! — И с теми словами Сулевипоэг Олевипоэгу легкий подзатыльник отвесил, причем почудилось мне, что он с трудом от смеха удерживается. — Да смотри, спящих не тревожь! — закончил он, на согретое Олевипоэгом местечко улегся и вскорости захрапел.
А мне в ту ночь ни поесть, ни поспать не довелось, ибо карлик-опростатель куда как прожорлив оказался — еще два доверху полных котла опорожнил…
И смех, и грех, право!
Пред рассветом Алевипоэг разбудил меня. На лице его был испуг, а на усах висели кусочки капусты. Сконфуженно забормотал он.
— Слушай, тут такое дело, темное дело, слушай…
— Да уж догадываюсь, какое дело, — усмехнулся я.
— Господи, сохрани и помилуй! Уж не думает ли король…
— О чем?
— Ну… о том…
— Думаю, думаю. Как-никак Ад-то рядом, видать, опростатель-то котельный опять приходил?
— Ага, точно!
Поскольку не совсем еще развиднелось, возможно, на Алевипоэговых щеках не румянец стыдливый играл, а отсветы костра.
— А ведь я тебя, парень, в министры финансов прочил!.. Ладно, ступай поспи, — сказал я, посмеиваясь.
Пошел сам к котлу. Костер догорел. Стрекотание кузнечиков стихало. В лесу просыпались певчие птицы.
— Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни… — тихо затянул я.
Откуда-то издалека донесся звук пастушьей свирели… Ну, дружки! Во дают!.. Надо же удумать — карлик-опростатель!
— Lupus in fabula, — послышался сзади чей-то чертовски знакомый голос.
— Чего это? — обернулся я.
— А того, что коль о волке толк, так вот тебе и волк.
Предо мною стоял, почесывая козлиную седоватую бородку, симпатичный низкорослый человечек. На шее у него висел золотой колокольчик.
— Из любой затруднительной ситуации, — а данная ситуация именно такова, — можно с помощью черта найти выход, — с этими словами коротышка, радостно улыбаясь, присел возле костра.
— Ежели тебе щей хочется, давай рубай, — попотчевал я.
— Очень благодарен, но, как известно, я уже три котла опростал, — еще шире улыбнулся он и добавил что-то совсем непонятное, про какую-то Демьянову уху. — Следовательно, у Калевипоэга имеется новый план посещения наших краев?
— Имеется.
— Милости просим, добро пожаловать!..
Тут Сулевипоэг прегромко всхрапнул, словно собираясь пробудиться.
Коротышка (чем-то его глаза напомнили мне Князя Тьмы) протянул мне золотой колокольчик и торопливо сказал, что ежели я в него позвоню, то без хлопот на месте окажусь. Дело в том, что после моего визита Ад стал чрезвычайно популярен и пришлось ввести ограничения и препоны. Так что звони в колокольчик.
Сулевипоэг проснулся. Стукнув меня дружески по коленке, коротышка исчез. Я тупо смотрел ему вслед. Сладкий аромат щей смешался со знакомым запахом серы. Что все это означает? Неужто Рогатый и впрямь зовет меня в Ад? Отомстить, что ли, хочет? А сам такой обходительный… Ничего я не понимал.
Золотой колокольчик тихо звякнул в моей руке. Я быстро сунул его в карман.
Меж тем Сулевипоэг, потягиваясь, встал и принюхивался к щам. Проснулись и остальные.
— Ну, други, — сказал я, — прошу к котлу! Подкрепимся — и в путь.
Заспанные и сконфуженные, расселись друзья вокруг котла. Чтобы скрыть смущение, принялись они с ожесточением уплетать щи.
С нежностью смотрел я на них — как дороги были они сердцу моему!
XVII
Возможно, достоуважаемый читатель помнит первое мое посещение Ада. Оно нетрудным было. Превосходным светильником, или анахронизмом, освещался тогда вестибюль Ада, дабы никто ничего во тьме повредить себе не мог. Теперь же картина, как говорится, кардинально изменилась. Едва в туннель вступивши, от копоти, дыма и серного смрада задохся я, закашлялся и зрения лишился.
— Цель оправдывает средства, а иногда и наоборот! — прокаркал кто-то над головой, опускаясь ко мне на плечо. Во тьме кромешной не видел я, кто сей афоризм изрек, однако же стиль последующего монолога был весьма выразителен.
Было мне доложено, что, с точки зрения объективного наблюдателя, акт, предпринятый мною, не заслуживает одобрения. В нем можно усмотреть сползание в сторону, выражаясь точнее — сползание вниз, притом сползание, могущее иметь весьма печальные последствия, а именно — уклонение от прямых обязанностей, и хотя не подлежит сомнению, что каждый второй предпринял бы при данных обстоятельствах попытку внушить Калевипоэгу мысль о несостоятельности планируемого им, так сказать, отправления (чтобы не сказать «оправления») и постарался бы убедить упомянутого Калевипоэга в правильности идеи о возвращении на землю, он, объективный наблюдатель, этого делать не станет, так как ему известно изречение: пес возвращается к своей блевотине; тем не менее он все же считает своим долгом напомнить чокнутому Калевипоэгу о некоем, из весьма ценного желтого металла изготовленном звукоиздательном приспособлении адского производства, причем делает это с единственной целью попытаться убедиться, сможет ли Калевипоэг доперато в оный звонато, ибо что касается пернатых, то они в подобных весьма вредных для организма условиях — ох, какая вонища! — не чувствуют себя комфортабельно; еще того менее приятно им при таких обстоятельствах проводить педагогические симпозиумы…
— Звони, черт бы тебя побрал, в колокольчик, ты, скудоумно-беспамятная финско-прибалтийская героическая дубина! — прокаркал он, задыхаясь.
Тут я наконец вспомнил о золотом колокольчике и сразу же позвонил. Мгновенно исчезли копоть, дым и вонь, словно их и не было.
— С высокой степенью надежности действующий прибор, — констатировал господин Ворон, старый советчик моих финских дней, коего я наконец смог воочию узреть. — Досадно, дружок, — тут же пустился он вещать далее, — досадно, что ты так необразован. Ты веришь в Рай и в Ад как в реально существующие явления. В действительности же это отвлеченные понятия, так сказать, два полярных принципа. Мало того, — допуская реальность Ада и Рая, ты во имя ложных представлений готов рисковать своей жизнью. А ведь мне приходилось наблюдать в первых главах эпоса о твоей жизни практичные поступки, совершаемые тобой! Допустим, ты отвергнешь и уничтожишь принцип Ада, — разумеется, это гипотетическое суждение, по существу, абсурдное, — скажи, что же произойдет тогда с Раем? Ведь не может существовать добро без зла!..
Дымовая завеса, преодоленная мной при помощи колокольчика, была цветочками по сравнению с тем, что ждало меня впереди. Липкие ловушки, кошмарная трясина, тучи кровожадных насекомых — вот что преграждало мне путь, и хотя я неустанно боролся с оными трудностями, кабы не колокольчик, не раз расстался бы с жизнью. Меня несказанно огорчало то, что я, покоритель Ада, нипочем до него не дошел бы без помощи волшебного снаряда, данного мне Рогатым. Я бился как оголтелый, и все же пришлось мне в конце концов для победы над крысами, жабами и прочими погаными тварями внять совету глумливой птицы и униженно звякать в колокольчик. Лишь на новом, совсем недавно возведенном мосту смог я с арбалетчиками, пращниками и копьеметателями своими силами справиться.
Однако и тут пришлось мне прибегнуть к колокольчику:
Через горы трупов, шатаясь, вошел я в главные ворота Ада и, тяжело отдуваясь, грохнулся на знакомый мне стул.
Рогатый хмуро взглянул на меня. Когда я чуток отдышался, сказал он с укоризной:
— Есть же люди, которые даже в том случае, когда им доверяют ключ, пытаются дверь лбом прошибить.
тяжело дыша, выпалил я не слишком остроумный ответ.
Рогатый вновь задумчиво посмотрел на меня, как мне показалось, с пониманием и заметил, что, пожалуй, бессмысленную удаль Калевипоэга можно отнести за счет слишком долгой праздности и уподобить буйству теленка, выпущенного весной на пастбище. Если это сравнение задевает честь героя, он готов взять его обратно, добавил Рогатый, заметив мое неудовольствие.
— Хорошо, что вы пришли. Мы вас давно уж поджидаем. — И он сделал жест в сторону большого полотнища, висевшего на стене. — Если бы вы смогли разобрать этот шрифт, то убедились бы в наших теплых чувствах. Вот что здесь начертано:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАЛЕВИПОЭГ! ЖЕЛАЕМ ЕМУ УСПЕХОВ В ТРУДЕ НА БЛАГО АДА!
Не обнаружив на моем лице особой взволнованности, Рогатый улыбнулся приветливо и к делу перешел. Маленькая Эстонская земля в силу своих ограниченных возможностей не может предоставить герою достаточного поля деятельности. Учитывая это, он, Рогатый, главный, так сказать, начальник Ада, делает мне предложение отдать все свои силы адским делам.
— Ну уж нет, нипочем! — выдавил я сквозь стиснутые зубы решительный отказ.
Рогатый на мой ответ и ухом не повел.
— Первый ваш визит и воспоследовавшее за ним все возрастающее увеличение популярности Ада привели нас к необходимости провести коренную и весьма дорогостоящую реорганизацию, — тараторил Рогатый. — И если бы уважаемый Калевипоэг согласился взять на себя охрану ворот Ада, мы могли бы значительно сократить затраты сил и средств на содержание вахтеров и бюро пропусков.
Я снова яростно замотал головой, тем дав понять Рогатому, что все, о чем он тут распинается, ни капли меня не интересует.
— Это не по-джентльменски, — упрекнул меня хозяин Ада. — Ведь именно из-за вашей, дорогой Калевипоэг, необдуманной опрометчивости вынуждены мы были приступить к модернизации патриархального, архаического, если можно так выразиться, классического Ада. Конечно, такова историческая необходимость, если бы не вы, то кто-нибудь другой поставил бы перед нами эту задачу, так что особых претензий мы к вам не имеем, но все же следовало бы вам хорошенько взвесить, прежде чем отказываться от почетной должности главного стража врат Ада, поста, предоставляющего широкие возможности для реализации ваших способностей. Если же вас смущают религиозные предрассудки, то следует иметь в виду, — продолжал Рогатый, — что охрана врат Преисподней — весьма важная и ответственная работа и что вообще противопоставлять друг другу Ад и Рай свойственно только философски необразованным людям. Ведь ни в Рай, ни в Ад нельзя пропускать тех, кто не заслужил попадания ни туда, ни сюда. В Раю должность привратника уже давно создана, и ее занимает весьма почтенный господин — отец, Пеетрус. По слухам, он очень доволен и гордится своим занятием.
От трепотни Рогатого меня клонило в сон. Нет, нечего больше слушать этого болтуна, еще околдует меня, подумал я и, вскочив на ноги, проревел:
— Ничему-то вы не научились, — вздохнул Рогатый. — Да, весьма грустно… Конечно, можно еще раз померяться силами, но ведь это ничего не даст, ибо дело-то в общем решенное и даже в высших сферах, то есть на Небесах, получило поддержку. — И свое предложение, продолжал Рогатый, он сделал мне только для того, чтобы избавить от некоторых неприятностей. Дело в том, что в случае отказа мне надлежит вернуться на землю и там земную смерть принять. А он, Рогатый, не любит смерти, он считает, что в ней есть что-то неестественное и даже унизительное. И потому настоятельно рекомендует мне не валять дурака, а немедленно приступить к исполнению обязанностей главного стража.
«И чего он так растрещался…» — подумал я со злостью и, дабы полное небрежение показать, принялся, посвистывая, под ногтями чистить.
Рогатый вздохнул. Да, он понимает, что у меня иная цель. Но он не теряет надежды, что в будущем, пресытившись участью короля малой страны, я ожидаемое согласие изъявлю. А пока он не возражает удовлетворить первоначальное мое пожелание: если мне угодно, мы можем тут же приступить к борьбе. И Рогатый любезно протянул мне бокал, наполненный мутноватой жидкостью. Знакомый запах — увеличитель мощи! Я было заколебался, но противник мой заявил, что сомнения здесь неуместны, и я одним духом выпил волшебное зелье, от коего тут же мускулы мои силой налились.
На том же месте, где первый наш поединок был, пожали мы, как водится у джентльменов, друг другу руки и приступили к борьбе. Как известно, продолжалась она семь суток.
Одержав победу, возвеселился я и шаловливо Рогатого спросил: а что, ежели я возьму да закую его в оковы? Как, мол, он на то посмотрит?
Рогатый отвечал, что идея сия вообще-то недурна, охаять ее нельзя и что ежели мне охота, так ладно, валяй, дескать, и даже указал, где оковы взять.
Ну, я и надел кандалы на Князя Тьмы да еще потешился над ним:
Рогатый снисходительно усмехнулся и посоветовал мне прихватить с собой на землю в качестве награды несколько мешков золота.
Я уже выходил из ворот, когда донеслось до моих ушей прощальное его напутствие:
— Истинно говорю тебе, завтра же будешь со мною в Аду.
XVIII
Как же это Калевипоэг, предостаточно времени имевший пагубное воздействие пива или меда осмыслить, снова зеленому змию предался? — может спросить недоверчивый читатель. Однако ежели он не ханжа и не аскет, то в оправдание несерьезномысленности моей учесть должен причину сего застолья: Рогатый в цепях, четыре мешка золота прихватив, из Ада я воротился благополучно, всенародным ликованием встреченный, — оснований для кутежа предостаточно. Однако иные помыслы побудили меня возлияниям предаться.
Когда шагал я, Преисподнюю позади оставив, по родным зеленым лугам, с триумфом домой возвращаясь, не только радость, но и неясная тревога теснила мне грудь. «Истинно… завтра же будешь со мною в Аду!» — звучало в моих ушах прорицание Рогатого, как капля яду чашу радости отравившее. Странно однако же, что яд сей не слишком горек был. Королевство мое показалось мне тесным, улицы — узкими, дома — низкими… С Рогатым я силами померился, но, как видно, справедливо говорится: «Дай черту палец — он руку отхватит…»
Чуяло мое сердце, что не врал Рогатый, скорый конец богатырского пути предсказывая. Страшился ли я смерти? Не более, чем вы; заботило меня лишь, какова она будет. Хотя латыни я не обучен, ведомо мне было, что Finis coronat opus[7]. И мой конец должен героическим, величественным и славным стать, дабы ущерба богатырской моей земной репутации не нанести. Истинный народный герой от вражеской чужеземной руки пасть не должен, ибо надлежит ему выше всех героев иных народов быть. Ну, на худой конец, можно пасть жертвой какого-нибудь тайного заговора, да где его взять-то? Ведь после вторичного моего в Ад нисхождения окружен я был безграничнейшим всенародным обожанием. Стоило одному мое имя произнесть, как тут же разворачивались всеустное ликование и неумеренные восхваления. Обычно кричали: «Эсты — истые баталисты!», «Стояли, стоим и стоять будем!», «Под предводительством Калевипоэга всех одолеем!» И так далее.
На здоровье тоже грех было жаловаться. Что сердце, что всякие там почки-печенки — никаких хворей и немочей. Здоров, хоть воду вози.
Поясню, отчего я в пивной кружке утешения искать начал. Кроме утраты душевного спокойствия пришпоривала меня тайная надежда, что, может статься, выпадет мне за пиршественным столом судьба финского Кузнецова сына. А может, вдруг, чем черт не шутит, кто из близких друзей покушение устроит. Тогда к истории моей примешается предательский душок. Как в том случае, когда сказано было: «И ты, Брут…»
Но никакие мои дерзости, колкости и придирки не помогли ссору разжечь — у друзей иные планы были:
Вот скудоумные слепцы! Чего удумали — силки ставить да с птичками чирикаться! Силком женить меня собрались!
Не мог же я им признаться, что с той поры, как адская моя зазноба стала домашней курочкой Олевипоэга, во всей вселенной не сыщется для меня предмет любовных воздыханий. И потому пришлось мне вновь беседу на бражные радости повернуть, вскричав громогласно:
Днями выпивали, ночами прикладывались, неделями уж зашибали, и вот как-то в четверг — ночь была лунная — выскочил я из-за стола — да во двор, душа с телом расстается, мутит, тошнит, наизнанку выворачивает, и вдруг смотрю — Черт передо мной.
— Давай, давай! С перепою окочуриться — тоже смерть! — съязвил он, криво ухмыляясь.
Опочившему по причине пьянства герою в школьных учебниках сроду не бывать. Куда там! Еще детей стращать им примутся…
До того я перепугался, инда протрезвел изрядно. И, вернувшись в горницу, твердо друзьям заявил: ныне и присно конец гулянке (ежели тебе, любезный читатель, по пьяной лавочке Черт явится, ты тоже так поступай).
Оказалось, что самое время бросать пировать. Только я, сутки проспавши, более-менее на ноги встал, гонцы прискакали: беда, война, телега брани скрипит, железные мужи на берег высадились! «Может, прослышали, что король в беспробудное пированье ударился!» — подумал я сокрушенно и тут же приказ отдал, чтобы все мои соратники со своими ратниками с утра в боевом снаряжении на месте были.
А сам побрел куда глаза глядят, закручинившись. Неужто вправду судьба мне гибель уготовила от меча исконных наших ворогов-псов — железных рыцарей? И как к тому эстонский народ отнесется?
Ноги сами привели меня к отцовской могиле. Холм, под коим покоился дорогой мой родитель, весь желтоцветом и незабудками полевыми зарос. Не просил я на сей раз батюшкиных наставлений, стоял молча…
XIX
Срок бренной моей жизни, читатель дорогой, к концу подходит. Лари памяти, кои я в интересах истины пред тобой широко распахнул, дабы мог ты взгляд бросить и в правдивости моей убедиться, начисто обшарены: разве что в последнем найдется уголок, куда мы не заглядывали. Итак:
Вижу себя на белом коне, впереди войска гарцующим. Война — это служба богатыря, а ведь всякий человек на своем месте, при своей работе хорош. Любо-дорого смотреть, как кузнецы у наковальни молотами по раскаленному железу бьют, не налюбуешься на пахаря, по весне черную землю поднимающего. Может, кто скажет, что я много об себе понимаю, а только, вспоминая минувшее, невольно думаю, что именно в сей позиции — верхом на белом коне во главе рати — и есть мое истинное место, мое подлинное дело. Ежели у мужа в деснице меч, а в шуйце уздечка, не надобно ему думать, куда богатырские свои нескладные ручищи девать. И ежели он вдаль глядит, где, может быть, смерть его бродит, величием и глубокомыслием взоры его исполняются.
Теперь, когда вновь я на коне был, мысли о подобающей герою смерти оставили меня. Народ сыновей на поле брани провожал, и ты, Калевипоэг, должен быть ратников своих достоин!
Восхищался я своим народом: легко ли матери сына, жене мужа в ратный путь собирать, но сии заботы и тревоги они за честь почитали.
О собственной доле больше не помышлял я. Лишь бы многим из воинов моих храбрых суждено было домой воротиться!
Когда собралось войско, дал я ратникам один день для роздыха, другой для выучки: всякий знать должен, где в доспехах уязвимые места, чай, с железными рыцарями сражаться идем. На третий день поутру подошли мы к лагерю противника.
Приближение нашей рати заметив, вражеские латники на коней своих, железом обитых, повскакивали, и вот началась битва.
Историографы много пышных слов употребляют, баталии описывая, желая всячески оные приукрасить. В юности и мои представления таковы же были. Однако в зрелые годы война для меня уже не столь вожделенною стала. Не полнилось сердце упоением, когда вражеского воина меч мой разил, а ежели сей павший молод был, так инда жалость меня порой брала.
На закате Сулевипоэга смертельно ранили. Пал он с коня, словно подкошенный, и сколько ни старались знахари кровь унять, не помогли их заклинания. Не подействовали и мази, из девяти трав варенные, не удержали алый сок жизни и повязки, магическими словами заговоренные. Пред кончиною просил меня Сулевипоэг о супруге его и детях позаботиться.
«Почему сие не мне суждено было?» — с такой мыслью устремился я вновь в яростную битву.
К вечеру железные мужи отступать начали, мы, преследуя их, победу предвкушали, а на зеленой траве, как в эпосе сказано, «сотни тел, голов валялись, рук отрубленных без счета».
Подсчитали мы тех, кто в живых остался, и уже вознамерился я войско по домам с сообщением о победе распустить, да пришли худые вести о том, что границу наши
Всего два дня отдыхали мы, и вот уже новый бой. Бесстрашно кидался я в самую гущу сечи, но опять обошла меня смерть — ни копье, ни меч меня не брали. Неужто и впрямь Рогатый со мной скверную шутку сыграл?
Говорили старые люди, что сей наш победный бой семь дней продолжался. Может, оно и так, недосуг мне было подсчеты вести.
Победить-то мы победили, но на том беды наши не кончились. Отправились мы втроем, тяжело дыша и пот утирая,
Дошли наконец до малого озера, берега его крутые были. Склонился Алевипоэг над озером, дабы жажду утолить, поскользнулся, и — картина сия и сейчас пред мысленным моим взором стоит — бултых в воду! А были на нем латы тяжелые, кои снял он с предводителя железных мужей, им сраженного, и латы те славного Алевипоэга в момент на дно потянули. По воде пузыри пошли, и пока мы на помощь бросились, герой главою своей в тину погрузился. Так в жидкой грязи нашел свою могилу муж, чьи заслуги пред эстонским народом зело велики и коего народ отродясь не забудет. Светлая память об Алевипоэге навсегда сохранится в сердцах его товарищей.
Долго стояли мы с Олевипоэгом на берегу озера. Смотрел я в мутную воду и кулаки сжимал. Опять живой остался… А друзья один за другим у меня на глазах смерть находят…
Перед нами была могила Алевипоэга, позади нас сотни павших на поле брани молодых мужей. Солнце рваные раны их золотило, кровавые ручьи журчали, и чудилось мне, что мертвые лица насмешливыми улыбками искажены. Сие зрелище наполняло мою душу виной и раскаянием. Можно ли какого правителя мудрым считать, коли он со всеми соседями подряд ратоборствует? Поляки, литвины и татары, силы свои объединить догадавшись, вкупе на нас напали. Почто же я не допер союзников себе сыскать?
Сидел я на кочке, голову на руки опустив, и раздумьям предавался… Видать, не для меня таковская работа — государством управлять! Не гожусь я, видать, в государственные деятели столь бурной новой эпохи. Видать, не те данные!
Олевипоэг, возле меня стоя, с грустью на место гибели Алевипоэга смотрел, и в бороде его две слезинки застряли. Сколько славный сей муж советов дельных мне давал, да не всегда я их слушал. Видать, лучше меня он разбирается в современной жизни…
И вновь я в думы погрузился.
Давненько уж приметил я, что вокруг Олевипоэга всечасно молодежь крутится: он и за переменчивой модой завсегда поспевает, и в нынешнем стиле разбирается. Я-то все без перемен — в лаптях да в посконине, а он выудит из кармана этакую штучку с зубчиками, гребнем называемую, да и почнет ничтоже сумняшеся вихры чесать. И что чудно, глядишь на него — вроде бы курам на смех, а никто не смеется. А потом из другого кармана тряпицу вытащит (ее шалопутные бабенки носовым платком зовут) и давай глаза утирать да нос выбивать. И так сноровисто с оными деликатными вещичками управляется! Полагать можно, что и в управлении государством подобный искусник мне бы нос утер. А что ежели ему полную волю дать?.. Ежели… ежели взять да поставить его королем?!
Славная затея! И от тяжкого бремени вздохнуть можно, и размышлениям время будет предаться. Тоска-кручина прочь уйдет, а вместо того покой и умиротворение в душу снизойдут. Тишина дубрав, блаженное житье, грибы, ягоды, всяческая природа!.. Ах, до чего же мне всего сего захотелось! До чего сладостной и желанной виделась мне доля сия!
начал я, голос мой пресекся от сильного волнения.
Олевипоэг с недоумением обернулся. Он не понимал, о чем я.
— Дорогой король, — прошептал он, — да что ты, да с чего это ты?..
— Друг мой, решил я, в здравом уме и твердой памяти находясь, бразды правления в твои руки передать. Хочу я тебя, Олевипоэг, королевской властью облечь! Отныне ты король и пребудешь им до конца дней своих. А супруга твоя сиятельной правительницей Эстонии станет. И да не угаснет род ваш, и отпрыски ваши престол эстонский да унаследуют!
Олевипоэг стал на колени, но я тут же поднял его.
— Королю ни перед кем не пристало колени преклонять! И молчи! Никаких благодарений слушать не желаю! И не пялься на меня, как хорек на орла, — добавил я, хлюпая носом и роняя слезу.
Прошелестел легкий ветерок над лугами, неся слабый аромат близящейся осени.
Я вошел в лес, и деревья расступались предо мной.
Олевипоэг смотрел мне вослед, рот полуоткрыв, словно что-то крикнуть собираясь. Глаза его были влажны.
XX
Неужто пустынник сей, для душеспасительной жизни в лесную чащу удалившийся, и вправду бывший богатырь и король?
Построил я шалашик из веток, сквозь них по ночам мерцающие звезды взирали на меня. Сколь бесподобно и поучительно, в небесную высь взор устремив, о мудрости создателя всего сущего размышлениям предаваться… Вот карабкается по твоей руке махонький жучок, усиками шевеля. И вот уже раскрыл он крылышки и улетел от тебя. Куда? Зачем? Скромный лесной цветок созерцая, призадумаешься, отчего таков он, а не иным создан…
Прекрасно вечернее затишье в дремучем лесу, и только чибис жалобными своими криками тишину нарушает да стая уток, над шалашом пролетающая.
Много ли человеку надобно?..
В те дни одиночества подводил я итоги жизни своей. Не столь уж много дел совершено, коими гордиться следовало. Утешало меня сознание, что с чистым сердцем и на благо я всякое начинание затевал. И, хоть немало ошибок натворил, все же Эстония под моим управлением далеко вперед шагнула.
Темными ночами, когда сквозь тучи молнии сверкали и гром во всю мочь грохотал, размышлял я о величии всемогущей природы и о том, что есть человек пред ликом ее. Постиг я, что и королю, как всякому смертному, свои пределы положены. И осознание сей истины не унынию, а духа моего укреплению споспешествовало.
Вспоминался финский кузнец и сын его, коего безвинно я жизни лишил, но грех тот не сгибал меня, и не мыслил я небеса о прощении молить. Нет, за свое злодеяние готов я был кару понести, а порой и жаждал возмездия.
Трудно название найти смешению чувств, меня обуревавших: то было ожидание, смутное томление, неясный трепет. Подобное смятение души можно, пожалуй, жаждой искупления счесть. И полагаю я, что оная жажда искупления и на справедливый суд надежда подвигнули меня удалиться от суеты мирской, посвятив себя целомудренному и постническому затворничеству.
В один день, прекрасным его не назову, явились перед шалашом моим трое мужей, в доспехи закованных. По-эстонски не чисто изъясняясь, выразили они гнев свой и осуждение народу, каковой славного короля, полного сил и всяческих способностей, изгнанию попустительствовал. Приходилось им в сражении меня видеть и восхищаться не раз способом ударов нанесения, ни французской, ни итальянской школе не соответственным: больно уж часто экс-король вместо coup d'epee бой в свою пользу заканчивал мощным coup de pied'oм[8] в зад противника. Должно признаться, что подобный манер ведения поединка цивилизованным народам вовсе не известен. И они все втроем охотно к моей великой силе свою немалую мудрость приложить согласились бы, дабы изумить весь свет совместными невиданными подвигами.
— Вступай с нами в союз, и мы весь мир покорим, — так закончил старший из трех железных мужей.
Суетный их разговор и властолюбивые устремления не по вкусу мне пришлись.
— А на кой его покорять, весь мир-то? — спросил я. — Нешто покоренный мир непокоренного лучше? Загляните, мужи неразумные, в душу свою и пустую амбицию из оной изгоните, так обретете вы подлинное могущество и покой.
Железные мужи презрительный взгляд на меня кинули и о чем-то на своем корявом чужеземном языке болтать принялись. Но я свары не хотел и сказал приветливо:
— Садитесь-ка лучше на зеленую травку да разделите со мной простую мою трапезу. Сия почтенных размеров щука в излучине речки мною поймана, хлеб свой я из съедобных кореньев испек, а для услаждения дикого меду, лесными пчелками собранного, отведаете. Запить же все ключевой водою пользительно, оная прохладная вода горячие ваши головы остудит и мысли на благоразумный путь направит.
— Нет, он более не муж, а еще того менее — предводитель войска! — бесстыдно зубоскалить младший из троих принялся. — Это же баба! Видать, его в бою по известному месту стукнули.
«Калевипоэг, сдержись!» — сказал я сам себе.
Тихо шептались камыши, дыханием вечернего ветерка колеблемые. Плыла по спокойной воде утица с утятами. Мирная и благолепная сия картина, без сомнения, утишила бы досаду мою, кабы не заметил я, что железные мужи, головы содвинув, прикидывают, как, уж хоть из милости, прикончить сего столь капитально на задницу усевшегося короля. И еще заметил я, на отражение в воде глядя, как один из них за меч схватился.
Кроткому праведнику ничего не оставалось, как место герою уступить.
Давно уж такого со мной не было, когда разноцветные круги перед глазами полечку пляшут. Прежде чем понял я, что творю, сгреб я всех троих железных мужей за вихры и по глотку в землю вогнал.
С огорчением взирал я на дело рук своих — три кумпола, из песка торчащие, — и уронил три слезы о потерянном душевном покое. «Не научился ты сдерживаться, Калевипоэг! — подумал я грустно. — Все твои благие намерения прахом пошли…»
И нырнул в шалаш, словно щенок нашкодивший.
Долго в ту ночь не мог я уснуть. А в предрассветной дреме Рогатый ко мне явился.
— Искупление твое ждет тебя в реке Кяяпа, оно вид меча имеет. Помни о судьбе Зигфрида и Ахиллеса и стоек будь!
Кто они такие, не ведал я тогда, но в голосе Князя Тьмы сочувствие заметил.
Поутру отправился я в путь.
Навстречу своей судьбе спокойно и твердо идти надлежит. Шагал я по осенним полям, и на душе легко было. Опадали желтые листы с дерев, воздух осенний прохладой дышал, а небо было чистое и синее. Птицы в теплые края улетать собирались и кричали призывно.
Шли мои ноги сим последним для них путем к знакомой излучине реки. Вновь увидел я меч свой. Странно сверкал он… Словно не меч, а живое что-то.
Угадывал я, что случиться должно. Но страха в сердце не чувствовал. Огляделся вокруг, страну свою обозревая.
Ветер стих, деревья ветки опустили, словно поникли, все вокруг молчало, дыханье затаив.
И вдруг заблестело все ярким золотом — это солнце из-за облачка вышло и осветило ласковым своим сиянием осень Эстонии.
Я вступил в воду. Мягко сомкнулась она.
XXI
Читатели дорогие, не судите меня строго. Никому ведь из вас не доводилось о собственной смерти писать, и поэтому не ведаете вы, сколь это затруднительно.
Однако следуем далее. Конец недалек уже, и тому, кто через собаку перешагнул, негоже на хвосте ее споткнуться.
Последнее, что запомнилось мне, — песчаное дно реки Кяяпа. Воспоминания о дальнейших событиях в памяти моей туманом покрыты и отрывочны.
Полагаю все же, что попал я в некую обширнейшую и роскошнейшую весовую, где тут же кинулись меня обмерять и взвешивать. А народу там было великое множество, и все друг за дружкой стояли и очереди своей дожидались с великим страхом и опасением. Не припомню, чтобы я тоже страшился. Наконец-то моя смерть пришла и искупление наступило, оттого был я спокоен и даже радостен.
К удивлению моему, главным начальником весовой была женщина — высокая, стройная дама приятного облика. Очень хотелось мне на лицо ее посмотреть, но лицо главной весовщицы тонкой черной повязкой до половины закрыто было. Читатель, десятилетку окончивший, наверное, догадывается, кто сия важная антропометрица была, я же того не знал. Спросил у одного обмеряльщика, как, дескать, даму сию зовут-величают и для какой цели она глаза свои тряпочкой прикрыла — из форсу или, может, шрам или другой дефект какой? Ни «да» ни «нет», ни черного ни белого мне на это не сказали. И вообще в весовой сей делом занимались с великим старанием, а языком впустую не мололи.
Постепенно дошло до меня, что все сии хлопоты научную цель имеют… Чего время-то у людей отнимать, подумал я и главной начальнице прямо сказал, что меня, мол, взвешивать да мерить особого резона нет, потому как мы с Рогатым вроде бы договорились, и ежели хозяин Ада в гильдии врунов не состоит, то мое в Ад направление с высшими инстанциями согласовано. Хотите — верьте, хотите — нет, но в ответ из-под черного шелка тихий смешок послышался. И… и провалился я в какой-то бездонный колодец.
Очнулся — прекрасная тихая музыка играет, а уж пахнет!.. Амбре и фимиам! Да что же это?! Заместо Ада я, видать, в Раю оказался.
Большие небесно-голубые, розовые, золотые и… Нет! Не годится вашему любопытству потакать! Да и не пристало смертному простым гусиным пером славу и сияние райское описывать! Скажу одно: прием мне был оказан отменный, и со многими друзьями и родичами довелось там повстречаться вновь. Перво-наперво я финского кузнеца и его сынка разыскал, чтоб прощенья у них попросить. Достойные те мужи и думать забыли о моей скверной выходке, а кузнецов сын намекнул, что я вроде бы благо сотворил, свечу его жизни погасив. Потому как девушка-островитянка, к коей в те поры он сердцем прикипел, видать, в Рай не попала…
С кузнецами подружившись, предался я в полной мере райским удовольствиям. Однако опять же точных сведений об оных сообщать вам не намерен. Скажу только, что был то сплошной и поголовный праздник цветов и бесконечное трали-вали. Когда же вкусил я всего сполна, задумываться начал, как-то ныне в Аду поживают и что Рогатый относительно решения, главной весовщицей принятого, мыслит.
Рай и Ад друг от дружки отделены строго. А все же вести о том, что в Аду делается, к райским жителям просачиваются. Окольными путями дошло до моих ушей, что дела в Преисподней хреновые: некий шкодливый богатырь, сказывают, Рогатого в цепи заковал, а тот в цепях сидит и разрывать их не желает. И в Аду теперь великая смута, развал и брожение. Как порядок навести и дела поправить, давно уж мерекают небесные мудрецы Таары, собравшись на совет.
Вишь ты, петрушка какая!
Мигом благодушие мое и благомыслие как рукой сняло. С духом собравшись и умом пораскинув, решил я, что господин Крейцвальд справедливо утверждает:
И отправился я на прием ко Вседержителю. Пожал ему руку, с ходатайством вошел — прошу, дескать, по собственному желанию на другую работу в том же ведомстве меня перевести.
Посмотрели бы вы, как эти ангелы, архангелы и прочие архаровцы руками развели и глаза вылупили! А блаженные и преподобные мужи аж вздохнули все разом от изумления.
Надо полагать, этаких прошений никто из них сроду не видывал.
Ну, я им пояснил, что, мол, райское житье оно и есть райское житье, да только ведь не кто иной, как я с почтеннейшим господином Рогатым сей аттракцион сработал; и еще сказал, что мудрые головы (Ворона я тут упоминать не стал) давно уж разобрались, что Рай и Ад следует считать двумя противоположностями, которые вместе все же составляют единое целое.
В Раю-то небось врата охраняются — почтеннейший отец Пеетрус (да сопутствуют ему успехи в труде и в личной жизни) за них ответственность несет, а в Аду до сих пор возле входа ни досмотра, ни проверки нет. Вот меня туда и назначить бы.
— Даю обещание полностью оправдать оказанное мне доверие! — закончил я.
Воцарилось молчание.
Затем Вседержитель встал и пожал мне руку. Такая просьба, сказал он растроганно, свидетельствует о высоких моральных качествах, и если быть честным, а только подобным всякому преподобному быть надлежит, то придется признаться, что нам самим подобная мысль в голову приходила. Да только мы затруднялись, как приказ сформулировать, того опасаясь, как бы Калевипоэг таковое назначение не счел проистекающим из его, Калевипоэга, небеснонеуместности и раенепригодности.
— Приятно дело иметь с образованным человеком. Обычно богатыри в отвлеченных понятиях не слишком сильны. Прошение Калевипоэга удовлетворить без промедлений, — заключил он.
Осмелился я еще одно ходатайство подать. По лошадиной части. Нельзя ли, мол, ваши преподобия, верховым конем меня обеспечить, потому как в Раю-то оно вроде ничего, а в Аду, кто его знает, может, без ног пешком ходить несподручно будет?
Это можно, ответили мне, любую лошадь воскресить ничего не стоит. Попросил, чтобы Белогривого оживили, того самого, что после свадьбы матушку мою домой вез, с коим вместе мы неудачно закончившуюся пахоту начинали.
— Да будет воля моя яко на Небеси, тако и в Аду, — молвил творец всего сущего. И — надо же — мой дорогой меринок уже стоял передо мной! Ну словно он с неба свалился!
Тут же меня узнав, Белогривый радостно заржал. И ткнулся мордой в карман Вседержителя.
— Какой великолепный ломовик эстонских кровей! — изумились все. А Вседержитель, руку в брючный карман запустив, порылся в нем и мерину горстку райского овса протянул.
И вот я уже сижу на своем Белогривом.
— Счастливого тебе пути, Калевипоэг, удалой ты молодец, первый король эстонский. Смотри не подкачай в Аду! А когда настанет время (а оно тогда настанет, когда все лучины с обоих концов загорятся), ты сможешь в кратковременном отпуске на любимой своей родине побывать.
— И тебе счастливо оставаться, славный ты наш отец небесный, славный ты парень, право. Ты меня уважаешь, и я тебя уважаю, — так ответил я Вседержителю и под рукоплескания всех присутствующих рысью выехал из тронного зала.
Как я в Аду оказался — секрет. Скажу лишь, что в провожатые мне дали падшего и потом раскаявшегося ангела — пресимпатичного малого с черной бородкой, каковой немало презанятнейших историй из своей жизни мне по дороге рассказал.
А приняли меня в Аду еще лучше, чем в Раю.
Тетрадь, в коей все сие я записываю, положив ее на широкий теплый загривок старого мерина моего Белогривого, уж от доски до доски заполнена.
Мог ли помыслить я, что столь тяжек сей труд — о минувшем повествовать; мнилось мне — рассказать обо всем, что человеку на долю выпало, дело не такое уж мудреное. Лиха беда начало. Ныне же мне лишь опасаться остается, одобрен ли опус сей будет читателями. И все же признаться должно, что от записывания жизненных моих перипетий получил я немалое удовольствие. Ваши научные труды изучая, заметил я, что сочинители их любят произведения свои подведением итогов заканчивать. Поскольку резвость пера моего, с коей вы теперь ознакомились, не слишком велика, Калевипоэг просит вас, любезные читатели, сию тетрадь считать также научно-исследовательским трудом, ибо таковые труды весьма редко за нескладный слог и топорные слова упрекам подвергаются.
Выводы делать и итоги подводить не решаюсь, ибо для того я все же незрел и неопытен. Осмелюсь лишь предположение высказать, что многие мои начинания и дела оттого наперекосяк пошли и в сторону занеслись, что действовал я, советами да указкой высокопоставленных лиц — Олеви-, Сулеви— и Алевипоэга — руководствуясь, того не разумея, что не они, а простой люд историю-то вершит.
Ну, из моих ошибок вы, дети мои, высшее образование имеющие, полезный урок извлечь сумеете. Предоставляю вам сделать сие.
Ночь на исходе. Беру рог свой и трублю сигнал подъема адскому населению. Мощные туру-руру, когда-то в Эстонии звучавшие, отражаются эхом под сводами Преисподней. А старый мерин мой Белогривый ушами прядает и овес хрупает.
Вседержитель что-то о лучинах упомянул, каковые однажды с двух концов загорятся… Кто его знает, может, и доведется мне еще вас навестить…
А до той поры — мира и благодати тебе, мой любимый эстонский народ!