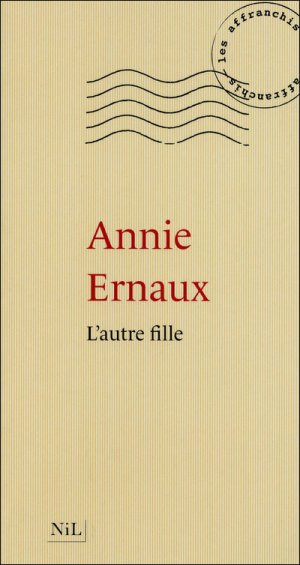
«Проклятие детей в том, что они верят — всем и всему»
Фланнери О’Коннор
Передо мной старая, пожелтевшая фотография овальной формы, наклеенная на желтую картонку фотоальбома. На фото сидит дитя, обложенное со всех сторон подушками в рюшечках. На ребёнке вышитая рубашонка с одной бретелькой, и там, почти на самом плече, то ли большой цветок, то ли большая бабочка. Дитя пухленькое, во весь рост, скрещенные ножки его заканчиваются едва не у края стола. Из-под темных волос, завитками спадающих на крутой лоб, таращатся глазёнки. Руки дитя, как у куклы, разведены в стороны, и кажется, будто они двигаются, кажется, что вот-вот подпрыгнет и само дитя.
Внизу фото подпись фотографа — М. Ридаль, Лильбонн; те же инициалы украшают и верхний левый угол обложки, изрядно замусоленной и наполовину оторванной.
Когда я была маленькой, то думала (видно мне так говорили), что это я. Но это не я, это ты.
Было, впрочем, и другое фото, того же самого фотографа, с тем же самым столиком, и волосы были такие же темные, буклями спадающие, только казалась я упитанной, глаза на круглой физиономии выглядели глубоко запавшими, а руки прятались между ног.
Не припомню, чтобы явное это отличие когда-либо удивляло меня.
Выбравшись на окраину Туссэна, направляюсь в Ивето. Это кладбище, мне нужно положить цветы на две могилы. Одна родителей, вторая твоя. Из года в год путаюсь в их розысках, нахожу с трудом, лишь по светлому и высокому, заметному уже с главной аллеи кресту, водруженному над родительским холмиком, бок о бок с твоим. На каждый из них кладу по одной хризантеме разного цвета, на твой, иногда, ставлю ветку вереска, горшок с которой втискиваю в гравий, насыпанный по бокам от могильной плиты.
Я не знаю, подолгу ли думают возле могилок. Перед родительской я задерживаюсь обычно лишь на миг, только чтобы сказать им: «вот и я», чтобы успели они заметить, как я за год изменилась, что сделала, что написала или надеялась написать. После чего перехожу к твоей, она справа; смотрю на надгробие и каждый раз читаю на нём надпись, выполненную большими золочеными буквами, нанесёнными в восьмидесятые поверх старых, мелких и ставших едва приметными. По собственному усмотрению гранильщик убрал половину прежней надписи, решив, что вместо имени и фамилии, лучше оставить напоминание о главном: «Скончалась в чистый четверг 1938 года».
Именно это и поразило меня, когда я впервые увидела твою могилу: этакое подтверждение Божьего промысла и твоей святости, да к тому же и высеченное в камне.
Все те двадцать пять лет, что хожу я к этим могилам, мне так и не нашлось, что тебе сказать.
Официально, по закону, ты моя сестра. У тебя та же фамилия, что и у меня в девичестве, Дюшесн. В потрепанном родительском свидетельстве о браке, в графе «рождение и смерть рожденных в замужестве детей» мы фигурируем одна за другой. Сначала ты, с двумя печатями мэрии Лильбонна, затем я — с одной; это потом, в другом официальном документе, будет отведена графа и для моей кончины, тем документом будет освидетельствовано моё воспроизводство, в иной семье, под другой фамилией.
Но ты мне не сестра, ты никогда ею не была. Вместе мы не играли, не ели, не спали. Я ни разу не коснулась, не обняла тебя. Я не знаю, какого цвета твои глаза. Я никогда тебя не видела. Ты бестелесная и безголосая, ты — всего лишь плоское изображение на нескольких черно-белых снимках. У меня нет о тебе воспоминаний. Два с половиной года минуло с твоей кончины, прежде чем родилась я.
Ты дитя небес, неведомая девчушка, о ком никогда не упоминают.
Ты то, о чем не говорят, ты секрет, ты тайна.
Ты всё время мертва. Так, мертвой, и вошла ты в мою жизнь, десятым её летом. О твоём рождении и о твоей смерти доложено было сразу, в одном и том же рассказе, как о Бонни, маленькой дочурке Скарлетт и Ретт из «Унесенных ветром».
Случилось это в летние каникулы пятидесятого года, в пору последних беззаботных забав с утра и до позднего вечера, в компании с некоторыми из местных девочек и приехавших в Ивето на отдых горожанок. Помнится, играли в продавщиц, во взрослых, сооружая, по образу и подобию родительских, магазины; в ход шли ящики из под бутылок, разные картонки и старое тряпьё. Летая на качелях, горланили, что есть мочи, поочередно то одну, то другую песенку из «бывших на слуху», уподобляясь уличным радиорупорам. Лазали, срываясь и падая, по каким-то стенам. Игры с мальчиками были под строгим запретом, родители считали, что их забавы неподобающе грубы. По домам расходились к вечеру, чумазые словно поросята. Помню, как отмывая руки и ноги от грязи, пребывала в счастливом предвкушении предстоящих назавтра подвигов. Годом позже девочки бесследно разлетятся, я стану изнывать от скуки и от того примусь за чтение.
Повествование о тех каникулах мне хотелось бы растянуть во времени — поведать о том разговоре, то же самое, что избавиться от зыбкости и невнятности воспоминаний о былом. Это вроде, как прокрутить старую, потёртую пленку, с незабвенных шестидесятых годов минувшего столетия забытую в потаённом углу какого-нибудь шкафа.
Ну, так вот, воскресная послеобеденная пора, узкая улочка, вьющаяся на задворках бакалейной лавки родителей, в которой подавали и кофе. Называлась та улица Школьной — в начале века на ней была частная женская, мамина, школа с палисадником, полным роз и георгинов, огороженным высокой проволочной сеткой, убегавшей к подножью склона, поросшего сорной травой. Битый час мама ведёт нескончаемую беседу с молодой женщиной из Гавра, проводившей отпуск вместе с маленькой, лет четырех дочуркой у своих родителей, чей дом стоит в десятке метров ниже по той же улице. Чтобы не прервать столь интересный для них обеих разговор, она даже вышла из лавки, в ту пору почти не закрывавшейся. Я и малышка Мирей играем в салочки и, не припомню, что меня тогда насторожило, может быть внезапно притихший голос мамы, только я, затаив дыхание, вся обратилась в слух.
Не могу восстановить в памяти сказанное ею дословно, помню лишь тон, каким это было сообщено и фразы, пробивающие и по сей день толщу времени, а тогда полыхнувшие над всей моей по-детски хрупкой жизнью немым и холодным огнём, а я, как ни в чём ни бывало, продолжаю пританцовывать и вертеться вокруг неё, лишь ниже опустив голову, чтобы ничем не выдать своего смятения.
Теперь я думаю, что прозвучавшие тогда слова пробили сумеречную зону моего сознания, завладели им, и всё было кончено на том.
Она рассказала, что была у них другая девочка, и что умерла она от дифтерии в шестилетнем возрасте, перед войной, в Лильбонне. Она живописала, как та задыхалась, и какое у неё при этом было страшное горло. Помню, как она сказала: «она умирала, как ангелочек»
и повторила даже слова, сказанные тобой перед самой кончиной: «скоро я встречусь с матерью Божьей и с сыном её, Иисусом»,
а ещё она сказала: «муж был вне себя, когда вернулся с работы, с нефтезавода в Порт-Жероме, и увидел её мёртвой»,
а потом обо мне: «она ничего не знает, мы не хотели её огорчать»,
и уже в конце о тебе: «она была такая милая… не то, что эта».
Та эта, конечно же, я…
Сценка застыла, в ней ничего не меняется, как на фото. Я вижу точное расположение двух женщин на улице, одна против другой. Мама в белой блузке, время от времени утирает платочком слёзы, силуэт молодой женщины, она в чем-то светлом, более строгом, нежели у привычных клиенток. Волосы стянуты назад в низкий шиньон… нежный овал лица.
(Нескончаемый, спонтанный отбор памятью из множества когда-либо встреченных людей схожих лиц — в поисках такой же неразлучной пары, как половинки с игральных карт — подталкивает меня сравнивать её с директрисой летнего лагеря в Имаре, что неподалёку от Руана, где в пятьдесят девятом довелось мне работать воспитателем: тотемом лагеря являлся муравей, и все ходили в белом и бежевом).
Реальности той сцене более всего придаёт моя чувственная галлюцинация: всякий раз, припоминая её, я ощущаю себя бегающей вокруг этих двух женщин, вижу мелькающий под моими ногами галечник улицы, закатанной в асфальт лишь в восьмидесятые годы, откос, рабицу забора и слабеющее, словно вбирающее в себя все краски освещение и усиливающее, тем самым, эффект происходящего.
Не могу в точности датировать тот воскресный летний день, но связываю его всегда с августом. Лет этак с двадцать тому назад, перечитывая «Дневник» Чезаре Павезе, я открыла для себя тот факт, что он покончил с собой в одном из отелей Турина 27 августа 1950 года. Я тут же сверилась, и оказалось, что тот день выпадает на воскресенье; с тех пор мне кажется, что речь идёт об одной и той же дате.
Год за годом я удаляюсь от неё, но это аллюзия — нет между нами времени, одни лишь слова, и нельзя что-либо изменить.
Милая… мне кажется, я даже знала, что слово это не может быть употреблено на мой счёт вместе с теми, что каждодневно доставались мне в награду от родителей за поведение: оторва, жадина, всезнайка несносная, кокетка чертова, задира, племя бесовское. Только упрёки их, омываемые надеждой на то, что я любима, подтверждением чему служили бесконечные их хлопоты обо мне, забота и подарки, стекали с меня как с гуся вода. Единственная, потому и избалованная дочь, без каких-либо усилий всегда лучшая в классе, я чувствовала за собой право быть такой, кем была.
Милая… вот кем уж я точно не прослыла пред очами Господа, о чём и объявил мне аббат Б. в первое же моё причастие, по достижении мною возраста семи лет, на котором я честно созналась в «недостойных поступках по отношению к себе самой и к другим», расцениваемых сегодня, как нормальное пробуждение сексуальности — он же предрёк мне прямёхонький путь в ад. Почти то же предскажет мне потом и директриса пансионата, пронзая меня яростным взором: «можно получать по всем предметам высшую оценку и не быть при этом приятной Всевышнему». Меня не влекли внешние проявления теизма, Бога я не любила, боялась его, о чём никто не догадывался. Я упрямо молчала, коленопреклоненная перед огоньком красной лампады, когда она нашёптывала мне на ухо грозный приказ: «молись Господу нашему милосердному, как следует, авось простит», воспринимаемый мною как глупость, недостойную всемогущей матроны, какой она была для меня сама.
Милая… это же то же самое, что и ласковая, нежная, любящая, а ещё — в Нормандии так говорят о собаках — дружелюбная. Державшаяся от взрослых на расстоянии, предпочитавшая разглядывать и слушать их, а не обнимать, вряд ли я могла сойти за такую. Но с ними обоими я была уверена в себе, как никто.
Шестьдесят лет спустя я всё также спотыкаюсь об это слово, тону в хитросплетениях его толкований в отношении тебя; всякий раз обращенное ко мне, вместо тебя, пронзает оно меня болью. Между ними и мной всегда невидимая, но обожаемая ты, а я оказываюсь отстранённой, отодвинутой с твоего, предназначенного именно тебе места, задвинутой в тень, тогда как ты продолжаешь парить в горнем свете вечности. Это я то, несравненная, единственная в своём роде! и, вдруг, сравниваемая…
Реальность, это всегда и всего лишь сказанное слово; это система взаимоисключений: да — нет, больше — меньше, до или после.
Быть или не быть, жизнь или смерть…
Между мной и мамой всего два слова, мною же и написанные; ей вопреки и всё же для неё, гордой и смиренной труженицы — «милее чем…». Я спрашиваю себя, а не она ли и дала мне право, или даже наказ, не быть такой же — милой. Но в то воскресенье я обхожусь без обычной своей мрачности, в день откровения «обо всём и начистоту» я именно такая — милая.
В свои двадцать два, после очередной весьма жаркой застольной беседы с ними, я сделал запись в своём дневнике: «Ну почему всегда одно и то же: мне хочется причинить им боль, но от этого лишь я, сама, и страдаю?»
Тому, что случается в детстве, нет имени. Не припомню всех ощущений самой себя той поры, но жалости к себе я не испытывала. Ближе — подозрение на облапошенность, но словечко это появилось у меня много позже, по прочтении Бовуара, а потому кажется и оно тоже не к месту. Не достаёт ему основательности, приземлённости, не годится оно для описания сущего из моего детства. После долгих размышлений, как самому верному для этого, неопровержимо верному, отдаю я предпочтение слову надувательство, то бишь одурачивание, до смерти оскорбительное слово. И оказалось, что жизнь моя была иллюзией, что никакой я единственной не была, была и другая, явившаяся из безвестности, как из-под земли. И вся безграничность их любви ко мне, тем самым, оказалась ложью. Мне даже кажется, что слова в упоминание о том, что ты ушла к святой Деве и доброму Боженьке, вызывали у мне к тебе неприязнь. Те слова выявляли всю мою несостоятельность перед Господом, потому как ни разу не слетело с моих уст имя его, никогда не хотела я встречи с ним. Позже, уже взрослой, выводило меня из себя, едва не доводя до ярости, её желание заставить во все эти глупости верить тебя. Теперь та ярость во мне угасла, я сжилась с мыслью, что всё перевешивают их слова утешения, колыбельные и молитвы, которыми сопровождала она покачивания твоей колыбели, и потому предпочитаю думать, что ушла ты из жизни счастливой.
Если верить кузине Ж., правда о твоей смерти и твоём существовании стала для меня явью годом или двумя раньше, и благодаря другой кузине, С. Я готова согласиться с тем, что именно той хвастунье и следует отдать пальму первенства в ознакомлении меня со всем ранее мною непознанным; доподлинно помню, что в секреты секса меня посвящала именно она, хотя будучи всего лишь тремя годами старше вряд ли знала о том больше моего; подробности те, слаба Богу, память не хранит, заслоняет всё, и до сих пор, неизменно сиявшее там солнце, из безвозвратно утерянной той поры.
Может, и признанию существования твоего я противилась оттого, что предпочитала: лучше бы его не было и вовсе.
Может, и пишу-то я тебе от того лишь, чтобы тем самым воскресив, вновь затем убить…
И вот, задаюсь теперь вопросом, а не было ли там и тебя со мной, послеобеденной той порой, того самого лета, за год или два до этого повествования… я в саду, пишу рассказ о некой, коротавшей лето в деревне девчонке, уснувшей в одной из копён соломы, разбросанных после жатвы по окрестным полям, и случайно в ней задохнувшейся.
Рассказ тот я заставила прочесть отца; от изумления перед моими успехами, он на глазах у всех клиентов чрезмерно, по-моему, но поохал. Как и она, тоже… не помню только, что при том говорилось.
Продолжаешь ли ты пребывать в той мечте, в которой пребывала я с пяти и до десяти лет — я в кроватке под розовым балдахином, вместе с малышкой Ж., беженкой из Гавра, перебравшейся с родителями в Лильбонн в сорок четвёртом, любимой подружкой по забавам в городском саду, с радостью обретаемых мною каждое лето, и наш совместный сон собирает вместе наших родителей. Вспоминаю нас, похожих на кукол с незакрывающимися глазами, прижавшихся в той колыбельке друг к дружке — образчик безоблачного счастья.
(В письме к матери, в восемьдесят шестом, я напомнила ей о том «розовом счастье». Но в книге о нём ни слова, поскольку нет и у меня уверенности в его значимости; весьма оно нарочито, интересно мне одной, да и то, видимо, лишь как ностальгия по вышедшему из той же, что и я утробы существу).
Тебе на долю выпало незримо скитаться где-то по близости, мне быть укутанной в удушливые, словно ватные пелена твоего небытия. Во все эти её пересуды с кем-либо из женщин, в лавке ли, на скамьях ли городского парка, куда, в отсутствие клиентов и покупателей, всю войну, каждодневно, послеобеденной порой приносила и приводила она меня. Но о том не осталось в памяти моей ни образа, ни слова.
Застрял там только тот разговор, который я не должна была слушать; не мне он предназначался, был он адресован прилизанной молодке, в благоговейном ужасе застывшей перед гипнозом исходившей от него беды.
Единственно правдивый и честный, из-за слов и интонаций, только ей и дозволенных, прозвучавших в нём её голосом. Потому что это она там, в тот самый день, оказалась сильнейшей из них двоих, перенесших совместную утрату общего, их существа.
И мне всё тогда стало понятным — озвученное получилось и исчерпывающим, и беспристрастным, и безысходным. Единственный, невообразимый разговор, положивший начало миру, где, в смерти и в святости, пребывала ты.
Изрёкший правду и устранивший меня…
Когда я размышляю о том, непонятым остаётся одно: как же это случилось, что она, знавшая о моём присутствии (она же указывала на меня), позволила всё же себе это, и в такой форме, сказать? Подходящее тому объяснение нахожу в области психоаналитики: лукавя с собственным безрассудством, она тем самым изыскала способ посвятить меня в тайну твоего существования — истинным адресатом услышанного была именно я. Она ведать не ведала о таком понятиях, как умственное развитие, умственные способности или склад ума. В те годы, в середине XX-го столетия, взрослые смотрели на нас, как на существа всё пропускавшие мимо ушей, рядом с которыми можно было говорить о чём угодно и без последствий, за исключением тем с сексуальной окраской, которые и затрагивались потому в намёках и через намёки. Знаю, о чём говорю, потому как частенько приходилось мне «подслушивать» сногсшибательные эти истории, доверяемые только женщиной женщине — в поездах, в парикмахерских, на кухне за чашкой кофе — этакое momento mori, наспех изливаемое и непременно разделяемое, с обязательным уточнением всех деталей и обстоятельств.
Начав говорить, она не могла сдержаться, чтобы не высказаться до самого дна, находя в повествовании о твоём уходе перед лицом молодой матери, услышавшей всё это в первый раз, своё утешение, воскрешая, тем самым, тебя… для себя.
Есть, однако, иная история.
Фото пухлой, крепко сбитой малышки, якобы меня, ложь. В свои десять лет, в момент получения вести о тебе, я была правообладательницей на тяжёлое детство и слабое здоровье, несчастной жертвой необычного недуга, детали которого выложили тогда передо мной во всей красе. Я отличалась от прочих детей, переболевших банальными краснухой или ветрянкой (хотя их я тоже подхватила и долго не могла выкарабкаться) также, как разнятся между собой прощение и проклятье. Очень скоро начались у меня неприятности: в течение нескольких месяцев ящур (редчайший случай передачи этой заразы человеку от коровы, через молочко из детской кухни) и тут же, следом, как только я поднялась на ноги, подмеченная одной из постоянных клиенток лавки лёгкая хромота, обернувшаяся для меня полугодовой недвижимостью с наложением гипса. В четырехлетнем возрасте падение на бутылочный осколок, во дворике за домом, с порванной при этом губой (она говорила, тыча в меня указательным пальцем, что «могла бы засунуть его мне в ту дыру»); на всю жизнь так и остался у меня бугристый шрам на том месте. А в довершение ко всему прогрессирующая близорукость и плохие зубы.
Нескончаемый этот перечень лишён главного — в пять лет я чуть было не померла, но о том отдельный разговор, в нём главной героиней становлюсь уже я.
Тот летний воскресный день, которым в безоблачном моём детстве внезапно, как чёрт из табакерки, объявилась ты, помню я наизусть. Не раз, и не два пересказывала его она, моя мать, безо всякой опаски, в моём присутствии, чаще чем то позволял себе отец (детские же дела — удел женщин), и всегда с неким воодушевлением, едва не ликуя, поскольку рассказ тот неизменно вызывал у слушавших пусть и недоверчивое, но изумление и восхищение.
В августе сорок пятого года, в городском парке Лильбонна поранила я себе коленку, о ржавый гвоздь. Несколько дней была я ужасно слаба, не было сил даже подняться с постели, голова раскалывалась от боли, с трудом открывался рот. Наконец они вызвали врача, тот оказался новичком. Закончив осмотр, молодой человек на какое-то время задумался, потом изрёк: «не хотелось бы ошибиться, посоветуюсь-ка я с коллегой». Оказалось, то был столбняк. Ни мать, ни отец понятия не имели, что это за штука, ничего они о нём не слыхали. Горе медики вкололи мне лошадиную дозу противостолбнячной сыворотки и заявили: «если к вечеру она свой рот не раскроет, ей не выкарабкаться».
И принялась она меня отпаивать святой водой из Лурда, насильно вливая её, по ложечке, меж моих крепко сомкнутых зубов; рот мой возьми да и откройся. И на следующий год в знак благоговейной признательности совершила она паломничество в тот самый Лурд, к источнику, всю ночь протрясясь на деревянной скамейке местного поезда, с баночкой сардин в качестве единственного источника пропитания по причине подобающего случаю поста, а затем совершила свой крестный ход, карабкаясь на коленях к вершине тамошнего холма. Привезла она мне оттуда куклу; кукла могла ходить, у куклы было имя — Бернадетт[1].
Ничуть не сомневаюсь, что благодаря именно многочисленным тем пересказам с раннего детства и зафиксировался в памяти моей тот случай, пережитый мною с не меньшим ужасом, чем бомбардировки той же поры. Вижу себя в залитом солнцем городском парке, я бегу к родителям, только что поранившись, забавляясь лазанием по скамье с поломанными рейками. Родители лежат прямо на траве, я показываю им маленькую покрасневшую дырочку, под коленкой на левой ноге, а они говорят: «пустяки, иди, играй…»
…и вот я на кухне, в шезлонге, моя кузина С. рядом, она у нас проводит лето, она только что поела, забралась на стол и распевает песенку, и я ей завидую… а вокруг шезлонга плавают, словно в тумане, тени предметов… вот я уж в кроватке, а она из своей, стоявшей рядом, склоняется ко мне… а потом, видимо уже следующим днём, у меня ртом хлынула кровь, вокруг суматоха, и мать… она кричит, что надо положить меня на что-то твердое и подложить что-нибудь под голову, чтобы остановить кровотечение. На глаза мне попадается Бернадетт, несгибаемая кукла, её нельзя усадить, на ней голубое платье…
Имевшее место в двух изложениях происходит вопреки и наперекор привычному ходу времени, согласно которому я должна умереть прежде, чем это произошло с тобой. Я абсолютно уверена, что тем самым летом пятидесятого, впервые слушая рассказ о твоей смерти, услышанное я себе не представляла, я в нём себя вспоминала; я видела, и тогда с большей, нежели теперь ясностью комнату в Лильбонне, их кровать, стоявшую вдоль окна, и мою, розового дерева, бок о бок с их кроватью… спавшей на моём месте вижу тебя, а умиравшей себя…
Читаю Лярусс издания тысяча девятьсот сорок девятого года: «заразившиеся столбняком чаще всего умирают. Однако случаются и выздоровления, если вовремя, в больших дозах и многократно вводится противостолбнячная сыворотка»; о вакцине ни слова. Из Интернета узнаю, что прививки от столбняка стали обязательными в сороковом году, начались же они, по-настоящему, лишь после войны.
Мне почему-то кажется, что предпочтение всё же отдаётся сыворотке, а не воде святого источника Лурда, редкие же случаи, подобные тому, со мною и из моего детства, преданы забвению. К примеру, некий студент-медик рассказывая мне в шестьдесят четвёртом году, у себя в квартирке на улице Буке, в Руане, о дежурствах в клинике, упомянул и про неслыханные муки, в которых умирали пациенты, подцепившие столбняк. И тогда на память мне пришли ужаснувшие меня в своё время слова матери: раньше таких душили… промеж двух тюфяков.
Среди не заданных самой себе вопросов есть у меня такой: почему тебя лишили права на святую воду Лурда? Или же право то и у тебя было, но оказалось не действенным?
Сыворотка ли, вода ли святого источника, не столь уж это и важно, да и источников тех превеликое множество, который из них праведнее, поди разбери… жили же в ту пору лишь непреходящей верой в чудо.
Детство не допускает реальность к вратам своей веры. И тогда, в пятидесятом, благодаря лишь этому чуду я и осталась жива, и ему же благодаря продолжаю жить.
Главное из той, из первой истории — объявление о моей смерти, вторая слеплена из моего воскрешения, в ней о твоей смерти и гнусной моей личности. Они происходят одна из другой, и вместе вершат правду. Нужны они мне обе, чтобы выпутаться из загадочной несуразицы: ты вся такая славная, невинная, просто святая отвержена, спасение минуло тебя, я же, демон во плоти, осталась в живых, больше, нежели живой — чудодейственно исцелённой.
Ведь потребовалось же, чтобы ты умерла в свои шесть лет, и всё для того лишь, чтобы в мир явилась я, и чтобы была спасена…
Надменность, в крутом замесе с покаянием за данность бытия должны быть избраны при написании зыбкого до неудобочитаемости портрета выжившей. Должно быть даже с преобладанием спеси по поводу моей живучести, чем вины за её итог. Лишь в двадцати летнем возрасте, пережив сошествие в ад булимии и познав иссушающие ежемесячные кровоизлияния, я узнала и ответ — для писательства.
На стене моей комнаты в родительском доме вывешена фраза из Клоделя; выписана она на большом листе бумаги с обожженными краями, и потому похожа на некий, заключённый с дьяволом договор: «Да, мне известно, что появление моё на свет неслучайно — во мне есть нечто, без чего миру не обойтись».
И в этом: я пишу, потому что ты умерла, и ты умерла для того, чтобы я писала — две большие разницы.
Всего твоих фотографий у меня шесть, все они достались мне от кузин, одни сразу после маминых похорон, другие совсем недавно. Лишь две из них, запрятанные в один из ящиков маминого платяного шкафа и исчезнувшие году в восьмидесятом, я видела раньше. Выброшены они, видимо, были ею в один из её приступов, закончившихся Альцгеймером. На тех снимках тебе должно быть лет пять, шесть… Сделаны они тем же фотоаппаратом, что, как поговаривали, был выигран в лотерею на ярмарке, перед войной, бережно хранившимся до самого конца пятидесятых, нередко пользовалась им и я.
Почти всегда ты опускала голову, гримасничая и кривляясь, либо загораживала лицо рукой, словно тебе мешал не без труда тобой переносимый свет; недавно, в письме ко мне, заметила кузина Ж., «у неё такой вид, будто она саму себя недолюбливает».
Это замечание меня глубоко задело. Была ли ты счастлива? Никогда прежде не задавалась я этим вопросом, как если бы тот звучал оскорбительно, абсурдно по отношению к умершей девочке. Потому что их страданием вызванным утратой, сетованием на недостаток твоей приветливости к ним, всем этим проявлением их любви к тебе и оберегалось твоё счастье. По поверью «коль окружен заботой, то и любим», ты, несомненно, была таковой. Святые девы счастливы. Может, ты не из их числа…
Ужас и чувство вины от заполонившей моё сознание мысли, что ты была создана не для жизни, что смерть твоя изначально была запрограммирована, а на землю ты была отослана, как пишет о том Боссюэ, «лишь затем, чтобы сошлись цифири», не оставляют меня. Постыдно чувствовать крепнущую в себе веру в надобность твоей смерти, в её первопричинность моему появлению на свет.
Хотя, какое тут предопределение, откуда ему взяться. Обычная эпидемия дифтерита, а у тебя не было прививки: вакцинирование по версии Википедии стало обязательным 25 ноября 1938 г., ты же умерла за семь месяцев до того…
Две девчонки, одной умирать, другой жить…
Пока мама, являвшая собой саму жизнь во всей её прелести и богатстве, была жива, она же, как мне кажется, была и разносчицей смерти; ею соблазнённая, её же и навлекавшая. Вплоть до четырнадцати, а не то и до пятнадцати лет, я смутно ощущала, что она и мне позволила бы умереть вслед за тобой. Случалось, грозила наложить руки и на себя, в знак заслуженной нами с отцом кары, на что указывало и её: «подождите вот не станет меня», звучавшее в пору особого её гнева, хотя угроза та должно быть означала лишь желание перебраться куда-то и пожить одной…
Умиравшие молили её посидеть у изголовья, всякий раз звали обряжать умерших. Отправлялась она туда в охотку, странно обрядившись: одной молодой девушке, угасавшей в чахотке, явилась в образе святой Терезы из Лизьё, повязав на голову простыню.
В сорок пять, ложась на операцию, боялась я, что не выберусь из анестезии, умру раньше неё — ушла, дескать, она, то есть ты, затем отец, теперь вот и я, так всех нас и перехоронит.
На одном из своих рисунков Рейзер Ж.-М. нарисовал мужчину, со спины, мужчина ведёт за руку ребёнка, ведёт по длинному мосту. Мост переброшен через глубокое ущелье, и у моста нет перил. Мост в три полосы: правая из них осталась позади (за спиной мужчины) низвергающимся в пучину разломом, на левой (по ней идёт ребенок) через несколько шагов такой же разлом, с зияющей после него пропастью, перед мужчиной мост цел и узок — только для одного пешехода. За спиной мужчины три следа, два из них детские, один закончился на правом разломе моста…
Рисунок свой Рейзер назвал так:
«Мост утраченных детей».
И всё же, слова словами, а дела делами — зимой кутала она меня сверх всякой меры, стоило мне лишь чихнуть, и отца тут отправляли за врачом. Она возила меня на консультации к специалистам в Руан, платила стоматологам даже по их разумению неприличные гонорары. Покупала исключительно мне и для меня телячью печенку и молодое, розовое мясо. Но при этом обронённое: «ты влетаешь нам в копеечку» укором звенело в ушах, а упрёк в ломкости, в телесной непрочности хлестал по душе. Я совестилась невзначай кашлянуть, меня не оставляло чувство вины за то, что «вечно со мной что-нибудь, да не так», что дорого им стоило моё выживание, моё не прекращавшееся бытиё.
Разумеется, я её обожала. Говорили, что была она красивой женщиной, и что я «в неё». Я гордилась тем, что была схожа с ней, порой за то же и ненавидела, и тогда, стоя перед зеркалом дверцы шкафа, грозила ей кулаком и желала ей смерти.
Писать тебе, значит без конца рассказывать о ней: она правообладательница излагаемому, за ней право на суждения, оспариваемые мною вплоть до той самой поры, пока не стала она жалкой и немощной в своём безрассудстве, а мне не хотелось уже, чтобы она умирала.
Нас с нею разделяет невысказанное…
С самого начала этого послания не получается у меня написать ни наша мама, ни наши родители. Не могу я поместить тебя в это благозвучное трио моего детства. Нет тому подходящего местоимения. (Не есть ли несбыточность того своего рода устранением тебя, рикошетом перенаправляемое тебе упразднение меня, озвученное при мне в той, в воскресной беседе?)
По одному, из расплодившихся теперь мнений, родители у нас с тобой ни одни и те же. Когда родилась ты, а это тридцать второй год, были они молоды, со дня их замужества едва минуло четыре года. Парочка амбициозных трудоголиков, влезшая в долги на приобретение собственного дела, в Вале, в прядильном пригороде Лильбонна. Помимо лавчонки, у него была ещё одна работа, поначалу на стройке в Годэ, затем на нефтепереработке в Порт-Жероме. Вокруг них, да и в них самих бурлила надежда, порождённая Народным фронтом. Рассказы о тех сумасшедших годах, как и воспоминания о вечеринках в их кафе, «часов до трёх утра», заканчивались непременным: «ну да, в ту пору все мы были молоды…».
На одной из довоенных фотографий без даты он держит тебя, улыбающуюся, на плече. На ней платье в крупный горошек с воротом из светлого кружева. На глаза ниспадает густая прядь. Она точь-в-точь такая же, какой была и в год своей свадьбы, в двадцать восьмом, лощённая насмешница. Никогда не видела её ни в том платье, ни с такой причёской. С той женщиной, что там с тобой, в твоём времени я не знакома.
В самом начале моего времени, на фото со мной сделанных, конечно же, весной сорок пятого, они пусть и улыбаются, но нет уже в них и следов той юношеской беззаботности, всё аморфно, всё сглажено. Их лица избороздили черты, и те черты их отяготили. Платье на ней в полоску, я видела его на ней очень долго. Волосы коротко подстрижены и завиты.
Они пережили бегство, пережили оккупацию, бомбардировки… они пережили твою кончину, они стали родителями, утратившими ребёнка.
И там с ними — ты, невидимая, но явная их боль.
Они должны были тебе говорить: «когда ты станешь большой», перечислять всё то, что ты сможешь когда-то сделать — научиться читать, кататься на велосипеде, ходить без чьей-либо помощи в школу. Они, должно быть, говорили тебе: «а вот в следующем году…», «этим летом…», «скоро…», пока, однажды, на место будущего не заступила пустота.
Те же самые слова, потом, они говорили и мне. Было мне тогда шесть, потом семь, десять лет; я тебя переросла, они уже больше не могли нас сравнивать.
Я смутно догадывалась о неприязни, что зрела в ней ко мне, превратившейся вдруг, в одночасье из ребёнка в «девицу», как она, сунув положенные по такому случаю принадлежности, обозвала меня в день первых в жизни месячных и беспредельного стеснения, сравнимого разве что с охватившим потрясением.
Тот рассказ, о тебе, заставший меня врасплох, стал первым и последним, никогда они со мной о тебе больше не обмолвились и словом, ни он, ни она.
Не знаю, когда твои фотографии были упрятаны в шкафу, а брачное их свидетельство с составом семьи в ржавую, железную коробку на чердаке; попалась та мне на глаза незапертой, когда было мне уже никак не меньше восемнадцати.
Каждую неделю, поочерёдно, ездили они на велосипеде на кладбище, отвозили на твою могилку садовые цветы, изредка можно было услышать, как один другого спрашивал, был ли там тот или нет. Не могли они, погребая тебя в Ивето, а не в Лильбонне, догадываться, что предстоит им вернуться туда спустя семь лет, в сорок пятом, из оккупации, просто там жили едва ли не все родственники, с обеих сторон, а значит, проще было собраться всем сразу у твоей могилы.
Мне не доводилось слышать твоего имени. Я его узнала от кузины С., показалось оно мне древним, девочке никак не подходящим, в школе имени такого никто не носил. Даже и теперь испытываю некоторую неловкость, едва ли не гадливость, когда слышу его.
Сама произношу его редко, как нечто для меня запретное: Жинетт…
Они никогда не говорили мне о вещах, которые когда-то были твоими, хотя и сохранили их.
Они укладывали меня едва не до семи лет в кроватку розового дерева, кроватка была твоей. Потом уже для меня купили угловой диван с этажеркой, и кроватка была разобрана, четыре её боковых панели и металлическая сетка отправились на чердак, доставали их оттуда лишь по случаю приезда к нам какого-нибудь ребёнка.
Когда моя мать перебралась к нам, в Анесси, она привезла с собой, среди прочей мебели, и эту кроватку. Я спустила её в полуподвал, откуда та случайно была выдворена в Шарант, к моим бабушке с дедушкой, и те в свою очередь, меня не предупредив, быстрёхонько и непринуждённо от неё и избавились, о чём, хихикая и поведали уже в семьдесят первом году.
Вплоть до шестого класса я ходила в школу с твоим сафьяновым, коричневого цвета министерским портфелем. Такого неудобного в использовании не было больше ни у кого; чтобы из него что-то достать, приходилось одним махом развернуть сложенную вдвое, служившую и крышкой и рабочим отделением секцию, а иначе всё её содержимое вываливалось и разлеталось по сторонам. Потому как видела я его в доме всегда, мне казалось, что и куплен он был для меня, но не в преддверии первого школьного звонка, а заблаговременно.
Мне потребовалось дожить до двадцати лет с хвостиком, прежде чем сообразить, что портфель тот, всё ещё используемый мною для каких-то бумаг, был на самом деле твоим.
Мне попадается на глаза запись, оставленная мною в дневнике в августе девяносто второго года: «Не является ли ребёнок лишь его описанием? сама я всегда знала, что являюсь двойником кого-то, обитающего в иных краях, что «по-настоящему» я и не живу, что жизнь моя описание кого-то, некий домысел о ком-то, настоящем.
Свихнуться можно на этом бульоне из самости человека и его надуманности, фиктивности его».
Должно быть, это и есть суть того, что пытаюсь я теперь здесь не вполне внятно изложить для тебя, и что правильнее было бы адресовать живым.
Лишь нынче задаюсь этим, вроде бы и простым, однако не приходившим ранее мне вопросом: почему я не расспрашивала их о тебе сама, став уже взрослой и даже матерью. Почему мне, в свою очередь, не сказать бы им, что я всё знала.
Запоздавшее любопытство — единоличное, общее ли — оно лишь выявляет (как проявитель фотографию) невозможность вопроса в то, в самое нужное время.
В пятидесятые годы по некому неписаному правилу запрещалось лезть к родителям, да и вообще к взрослым, с расспросами о том, чего, по их мнению, нам было знать не положено, хотя всё мы про то уже и знали. В то летнее воскресенье, на десятом году своей жизни, я стала вдруг соучастницей и услышанного, и негласного уговора о неразглашении. Раз им хотелось, чтобы я не знала о твоём существовании, значит, я ни о чём и не должна интересоваться; меня принудили к соглашательству о моём неведении. Преступить тот уговор было для меня столь же неприемлемо, как и произносить при них сквернословия. За этим, как мне тогда казалось, неминуемым образом следует нечто вроде стихийного бедствия, какая-нибудь немыслимая кара, вроде той, что пряталась в словах, брошенных Кафкой отцом своему сыну, а им, в свою очередь, приведённых в Послании отцу, и начертанных мною тот час же, при первом прочтении, в возрасте двадцати двух лет, в изголовье кровати в университетском общежитии: я разорву тебя, как сявку.
Припоминается мне охвативший меня ужас, когда в шестнадцатилетнем возрасте, будучи в гостях у тётушки Марии-Луизы, позабывшей в обычном для неё воскресном подпитии про обет молчания, услыхала я от неё, тыкавшей пальцем в какое-то фото, которое я не стала даже рассматривать, а постаралась побыстрее перевернуть страницу альбома из боязни, что он и она, сидевшие тут же, услышат её слова и поймут, что мне ведом их секрет: «это твоя сестра».
Мы сами громоздим мнимое над правдой.
В июне шестьдесят седьмого гроб моего отца опустился в разверзнувшуюся рядом с твоей могилой яму. И мы обе — и я, и она — притворились, будто ничего о ней не знаем. На следующий год, наведывая её в свой летний отпуск, отнесла я на могилу отца сорванные в саду цветы. На твою я не положила ничего… потому что она меня ни о чём не просила.
И потом, место, где ты покоишься, никогда не было даже поименовано.
В какой-то момент, что тому стало причиной, узнать мне не суждено, они, должно быть, догадались, что я о тебе знаю. Только, видимо, стало безнадёжно поздно прерывать молчание, тайна стала слишком старой, им не по силам было уже от неё избавляться. Мне же казалось, что я с ней вполне ужилась.
Детям проще, если их никто не расспрашивает о секретах, которыми им ни с кем не хочется делиться.
Мне думается, что это замалчивание примиряло нас, их и меня. Меня оно оберегало. Оно сняло с меня тяготы почитания, в которые укутана память о детях, с непознаваемой для оставшихся в живых жестокостью навсегда покинувших семью, возмутившей меня, когда стала я тому свидетельницей.
Моей кузине С. мать не переставала превозносить умершую в три года сестрёнку, со слов её бывшую «ну, просто прелестью».
Они же запретили самим себе потрясать тобой, как идолом для поклонений, бросать мне в лицо нечто вроде: «она-то была милее тебя».
У меня не возникало желания, чтобы они что-то о тебе рассказывали, должно быть, надеялась, что благодаря такому молчанию они просто забудут тебя. Оправдание той гипотезе вижу в воспоминании о глубоком, никак иначе необъяснимом душевном своём потрясении всякий раз, когда уже повзрослевшая вынуждена была смиряться с очевидным — ты в них, и ты несокрушима.
В восемьдесят третьем году, на приёме у врача, при мне тестировавшего разрушавшуюся её память, в ворохе неправильных ответов мелькнул один верный: «у меня было две дочери». При этом она не вспомнила года своего рождения, вместо него назвала год твоей смерти, тридцать восьмой.
В шестьдесят пятом приехали мы из Бордо их навестить. С мужем и нашим первенцем шести месяцев от роду, которого они ещё не видели. Встретил нас при выходе из машины он. Сиял от счастья, что наконец-то видит своего внука, а ей, не удержавшись, крикнул: «малышка приехала!». Тот ляпсус — звучит он, во всей его прелести во мне и теперь — хотелось бы не слышать вовсе.
Обескуражил он меня, опечалил и ужаснул; не хотела я, чтобы ты возрождалась через моёго ребёнка, воскрешалась посредством частицы меня самой.
Поиски уз, связующих нас с тобой во плоти и по крови, заполонившие моё письмо, не являются ли и они своего рода воскрешением тебя?
Они прикрывались тем молчанием сами, им же оберегали и тебя. Благодаря этому замалчиванию ты становилась недосягаемой моему, терзавшему им душу любопытству. Для себя самих и в себе самих, словно в дароносительнице, свободный доступ к которой мне был заказан, бережно хранили они тебя. Ты была их личной, никогда не афишируемой священномученицей. Тем, что крепче всего связывало их, что, не смотря на непрестанные распри и нескончаемые семейные сцены, удерживало их друг подле друга.
В июне пятьдесят второго года он запер её в подвале, убить хотел, тогда между ними встала я; не знаю, была тому причиной ты или я, но кому-то из нас отцом он не был. Помню, что мне тогда подумалось: «он же сойдёт с ума, если она умрёт», а он, рыдая, допрашивал её: «так ли всё было на самом деле», надеясь услышать в ответ «да».
Она не ответила на тот вопрос… и мне.
Я ни в чём их не виню; утратившим своё дитя родителям не ведомо, чем их душевная боль аукается для дитя живущего.
Они унесли с собой в могилу, один за другим, живую память о тебе, обо всём, что было утрачено ими в апреле тридцать восьмого — первые твои шаги, твои глаза, твои детские страхи и нелюбовь к другим детям, твой первый школьный день, всю ту предысторию, в одночасье со смертью твоей обернувшуюся ужасом. И, напротив, всё, то же самое, повторившееся со мной, но только уже в полном благополучии, вдосталь и даже больше — сверх меры, до пресыщения.
В сравнении с твоим у моего детства полного, по рассказам, всякой всячины вместе схожести пустота.
Будучи твоего возраста, мне ни разу не довелось заставить тебя понести незаслуженную кару за тобой несовершенную шалость или какую-нибудь «выходку», обыкновенно для меня оборачивавшихся всяческими «исправлениями», как случилось после того, как я «злодейски» отрезала завиток волос у своей кузины С., отрешенной от мира сего каким-то чтением.
Ты являешься невозможностью любой ошибки и всякого наказания, в тебе нет ничего от реального ребёнка. Как у святых, у тебя не было детства.
Я так и не смогла представить тебя настоящей.
Почему, когда это было ещё возможно, я о тебе не расспросила дядюшек и тётушек? Хотя бы и ту же Дениз, нашу с тобой двоюродную сестру, что четырьмя или пятью годами старше тебя, соседствовавшую с тобой на фотографиях; мы не водились с ней по причине какой-то, ещё с довоенной поры тянувшейся ссоры между нашими матерями. В прошлом году она тоже умерла, я так и не нашла времени встретиться с ней. Наверное, просто ничего не хотела знать, хранила тебя такой, какой ты мне, в мои десять лет и досталась — мёртвая и безупречная… миф.
Припоминаю одну твою фотографию, она долго стояла в комнате родителей, на неиспользуемом по назначению камине, рядом с двумя статуэтками святых Дев; одна, привезённая из Лурда после моего чудесного выздоровления, вся в жёлтом, светившемся по ночам одеянии, вторая — алебастровая, белоснежная, очень старая, почему-то с хлебными колосьями в руке.
Фото ретушировано и забрано под стекло в металлическую рамку на подставке, на нём только проступающая на снежном, голубоватом фоне голова: гладкие волосы с бантом а ля Луиза Бруке, тёмные, будто подкрашенные губы, белая, слегка розоватая на щеках кожа.
Хотелось бы мне, чтобы предстала ты на этих страницах такой же, с той самой фотографии — святой, как я себе её и представляю.
До написания этого письма я была в полном согласии с собой, теперь всё внутри вдребезги и пыль клубом. И чем дальше углубляюсь в его написание, тем явственнее ощущение, будто я удаляюсь в необжитость и безлюдье болота. Мысли мои в хаосе, перепрыгивают с одного на другое, изложенное не более чем набор отдельных и одиноких слов, погруженных в нечто, с трудом поддающееся осмыслению и беспомощно в том барахтающихся.
Кажется, мне не хватает того языка, только на котором и можно и должно говорить о тебе, ему нужно суметь выразить отрицание тебя, непрекращающееся твоё небытие. Потому, что ты вне языка чувств, языка эмоций… ты анти язык.
Рассказ о тебе не получается потому, что нет у меня о тебе воспоминаний. Кроме разве что той воображаемой сценки, из того лета моего десятилетия, в которой объединились воедино умершая и живая. У меня нет ничего, что обратило бы тебя явью, вывело бы тебя наружу из закостеневшей недвижимости твоих фото, поскольку техника, уберегающая от времени движение и звучание, в ту пору обыденным явлением ещё не стала. Когда-то умирали, не оставив после себя и фото, ты уже из числа тех, после которых не осталось аудио и видео записей.
Нет от тебя ничего, кроме сравнения со мной.
Говорить о тебе, значит ходить вокруг да около твоего отсутствия, твоего не существования, небытия, значит описывать доставшееся в наследство ничто. Ты иллюзорная, невидимая форма, недоступная к тому же наполнению письменами.
Я или не могла, или не хотела (что, впрочем, по прошествии времени одно и тоже) разделять с ними их боль. Та боль предшествовала мне, была чужой, она меня устраняла, изымала меня.
Я не любила той их боли: её в молитвах к святой Деве, звеневших во время богослужений с нарочитым надрывом, доводившим всех до отчаяния — «однажды я увижусь с ней», и далее, уже на пределе голосовых возможностей, речитативом, словно вела она чему-то подсчёт — «на небесах, на небесах, на небесах», и его во внезапных провалах в молчание, в неожиданной его задумчивости о чём-то другом. А чего стоили вечные их страхи при малейшем моём запаздывании, будь то из школы, после кино ли, или с велосипедной прогулки: «а если что случится…», на что я всякий раз ершисто отвечала: «и что же нужно, чтобы со мной случилось?»
Однако, отзвуки той боли, не признавая, осознавала и, не узнавая, слышала я
то в сиплом стоне кошки, у которой отнимают её котят, чтобы, как водится это у крестьян, предать их, живых, земле. (Однажды, решилась я тех котят тут же откопать, впутав в это предприятие одну из кузин, она о том тоже до сих пор помнит, и получила от того, кто их закопал, единственную в своей жизни затрещину — отец пальцем меня ни разу не тронул);
то в Евангелие от Матфея, в словах пророка Иеремии: «голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер. 31:15–17)»;
то в безумстве дю Перье, кому на смерть дочери адресовал Малерб педантски глупое своё утешение, а нас, в шестом, принуждали заучивать его наизусть:
или же, единственно застрявшее в памяти, из Шенье, окончившим жизнь под ножом гильотины:
«жилы была Мирто, младая тарентинка морской волной, в канун свадьбы, унесённая с корабля».
Меня не было в той боли, я всё время была в твоём небытии.
Лишь получив, а случилось это более десяти лет тому назад, письмо от одного из бывших соседских мальчишек по Лильбонну, твоего ровесника, Франсиса Ж., я в первый раз приблизилась к ней.
Он писал: «Многие из живущих в Вале, и не только они, добром поминают ваших родителей, вашу сестрёнку Жинетт, в шесть лет умершую от дифтерии. Иветта и Жаклин, мои сёстры, рассказывали мне, как неделю, а то и дольше никто не отваживался посещать кладбище, так больно было созерцать горе ваших родителей, а, может быть, и из страха перед ужасным недугом».
Словно нужно было объявиться словам живого свидетеля происшедшему, чтобы достучалась до меня реальность их страдания.
Если бы мне вздумалось перелистать всю партитуру чувственно пережитого, я не обнаружила бы в ней ничего, что относилось бы к тебе: ты умерла, и не стало объекта ни ненависти, ни нежности, ничего, чем обычно проникаются к живому существу, близкому ли, далёкому ли — другому.
Вместо чувств — слепящая белизна. Безразличие, порой, когда в их размышлениях о «могилке» чудилось твоё присутствие, переходящее в лёгкое недовольство. Хотя может быть, то был и страх… перед смутным ощущением угрозы твоего отмщения.
Не помню, чтобы я когда-нибудь думала о тебе. Непреходящая, безудержная тяга к познанию всего нового, ранее неизведанного и непознанного, будь то латынь, алгебра или же ажурные нагромождения, подпитываемые неуёмной гордыней и возводимые на предмет любви и секса, владели мной полностью и без остатка. Чего стоил, да и стоил ли чего-нибудь вообще чей-то бестелесный образ, накануне войны уступивший своё место живой девчушке, и малейшего желания не имевшей помнить о ребёнке, пусть когда-то и бывшем там, в том когда-то, о чём-то тоже мечтавшем…
Рядом со всем, чему предстояло быть у неё, что составило и счастье — первые месячные, влюбленность, знакомство с «Цветами зла», и несчастье — воскресный день пятьдесят второго, и то, чему не суждено было случиться в отупляющей скуке летних каникул в Ивето, но случилось потом, и утренний «холодок по спине» перед школой, и песни о любви, и томительная тяга к высыпавшим по субботам на перрон студентам из Руана, твоя смерть вряд ли могла дорого стоить.
Ты так и осталась шести лет от роду, я же всё дальше и дальше прорастала в мир, подстёгиваемая — по достижении двадцати лишь лет нашла я, у Элюара, нужное это определение — «скупым желанием быть».
Мне хотелось жить. Я боялась недугов, боялась рака. Летом, на тринадцатом году жизни, я никому и ничего не рассказывала о появившейся у меня лёгкой хромоте, лишь подкладывала себе в обувь, под правую пятку, бумагу — из страха, что мне наложат гипс, а не то и в клинику, в Берк-Пляж, отправят. И выкарабкалась-то я тогда, видимо, только благодаря силе, почерпнутой в тебе, ну или же в твоей смерти, страстно желая чуда выздоровления. Это от тебя получила я некий сгусток энергии, лихорадочную жажду жизни, подобную той, что в шестидесятые охватила студентов высокогорного курорта Сент-Илер-дю-Туве, насмерть перепугавшихся эпидемии туберкулёза, несмотря на открытые к тому времени антибиотики. И я — вот уж и вправду причуды судьбы — одного из них, озаглавившего свой личный дневник «Агонией», выберу себе, позже, в мужья.
Я осознанно пользовалась преимущественными правами единственного ребёнка, явившегося на смену умершему, объекта поклонения, сюсюканий и беспокойств. Ему хотелось, чтобы я, прежде всего, была счастлива, ей — чтобы мне «встретился кто-нибудь из приличных»; то и другое вкупе создавали вокруг меня и из меня, в семье и во всём нашем рабочем квартале, ореол привилегированности, мне завидовали, потому что я была той, кого никогда «не отправят за хлебом», кто имеет право заявить «я вам не служанка» любому клиенту нашего заведения, зная, что никто меня за это не осудит, поскольку «она же учится…»
Ты была их печалью, я же — и я это знала! — была их надеждой, я была их ростом над самими собой, их движением вперёд, достижением конечной инстанции.
Я была их будущим…
Время от времени я подсчитывала твой возраст, приблизительно, с учётом твоих, то ли восьми, то ли десяти лет превосходства, поскольку на протяжении многих лет мне не был известен год твоего рождения. Результат всякий раз оказывался чудовищным, ты представлялась мне одной из тех оформившихся девиц, что забегали к нам в лавчонку и смотрели на меня, как на ноль без палочки. Никогда я не сожалела, что у меня нет такой старшей сестры, господствовавшей бы надо мной лишь из-за превосходства в возрасте, размера груди, наличия «личного опыта» и неких своих прав. Не было ничего, чем я могла бы поделиться с тобой, чего я могла с тобой разделить. Мысль о тебе, как о младшей, почти ребёнке, похожей на живую куклу, мною одобрялась в наибольшей степени. Но и тебе, и мне, обеим нам суждено оставаться такими, какие мы есть.
Их желание иметь только одного ребёнка, явствующее из их же высказывания, «двоим нельзя дать того, что достаётся одному», подразумевало либо тебя, либо меня, но никак ни нас обеих.
Мне понадобилось почти тридцать лет жизни и написание книги «Своё место», чтобы я сблизила одно с другим, живущие в моём сознании одно от другого порознь — твоя смерть и их материальные возможности, позволявшие им иметь лишь одного ребёнка. Вот тогда-то и полыхнула передо мной реальность: на свет я явилась, потому что умерла ты, я вместо тебя…
Не должна я избегать и такого вопроса: а что если бы я не решилась тогда описать, в книге «Своё место», действительность такой, какова она есть, ты что же так и не выбралась бы из темноты той ночи, где я держала тебя все эти годы? Получается, что твоё «заново» рождение обязано моему ремеслу, моему падению в эту пугающую неизведанность, о чём всякий раз, вначале очередной книги, я даже не догадываюсь? И теперь не отпускает меня чувство, что выпутываюсь я из каких-то занавесей, непрестанно множащихся по мере того, как я углубляюсь в бесконечную анфиладу коридоров.
А основы психоанализа или то, что за этим стоит, они тоже не вывели меня к моему неведению, т. е. к тебе, подталкивая лишь к подчинению той мути, что поднимается из неведомых глубин писательства, вытесняя оттуда на свет божий некий фантом, похоже, постоянно там прячущийся, и у которого пишущий не более, чем марионетка? И если это так, не должна ли я расценивать тебя в этом послании, как некую креатуру психоанализа, неистовой его неуступчивости всему, что составляет первобытную сущность человека и что не отпускает нас от наших мертвецов?
Это твоё «ты» — ловушка.
Есть в нём что-то удушливое, оно учреждает между мною и тобой иллюзорные, умозрительно интимные, по-родственному сближающие отношения с затхлым запашком претензий и упрёков. Оно сближает, чтобы укорить, попрекнуть. Хитро и ловко старается оно сотворить из тебя источник, причину моего бытия, отринуть всю полноту моего сущего в бездну твоего ухода.
Потому-то и столь велико искушение вознести тебя до некоторых моих умопостроений, основанных на сравнительном взвешивании счастья и страданий. Таковыми, к примеру, являются и мои страхи того, что всякий миг удовольствия неразрывен с печалью, и что успех идёт рука об руку с неопознанной карой.
Или же, пользуясь всё тем же принципом равновесия чего бы то ни было, практикуемые мною с отрочества подсчеты всего и ко всему, исключая лишь сексуальную практику, получаю в итоге, что любому проблеску счастья или успеха всегда предшествует страдание. Принцип, который однажды привёл меня на экзамен по защите степени бакалавра ряженой в какую-то старомодную, плиссированную юбку ради того лишь, чтобы быть замеченной, а ещё, потом, заставил терпеть истязания в кабинете дантиста в надежде, что они помогут вернуть утерянного мной возлюбленного. Хотя подобная, приносящая плоды жертвенность, конечно же, есть не что иное, а эгоистичное стремление к некой цели вместо свершения христианского долга одаривать своими страданиями всяких греховодников и пройдох.
А может та «ты», что во мне, есть лишь фикция христианства? Я и теперь помню реальность ощущения облатки во рту по случаю первого в моей жизни причастия, ломко поддавшуюся прикосновению моего языка, снимавшего её, прилипшую к нёбу, и осознание совершенного при этом смертного греха, как я его себе тогда представляла, и от месяца к месяцу нараставшее мрачное настроение из-за боязни признания этой ошибки на очередной исповеди, откладываемого мною с одного причастия на другое, и всякий раз из страха возможного наложения на меня проклятия.
Всё, что я делаю теперь, лишь погоня за тенью.
Может, следовало искать тебя не во мне самой, а вовне себя? Может, в тех старшеклассницах, Франсуаз Рено и Жаннин Вельвиль, на кого хотелось походить в бытность шестиклашки в белой блузке, на входе во внутренний школьный дворик во время переменок подстерегавшей загадочных полубогинь, не ожидая от них не то чтобы слова, но даже мимолётного взгляда — лишь бы увидеть.
Или в строках прочитанных романов, в сценках с киноэкранов, на полотнах художников, заставлявших меня трепетать, не осознавая отчего. Безусловно там, да там, стоило тебя поискать. В том лично свёрстанном умозрительном, недоступном постороннему взгляду реестре персоналий и следовало тебя разыскивать и разыскать, свершив тот самый труд, с которым никому из посторонних неподвластно справиться вместо нас самих, чтобы о том ни говорили отдельные хвастуны. И теперь я знаю, что ты из «Джейн Эйр», в тебе есть что-то от старшей по возрасту подружки Джейн из того рокового пансионата Брокльхерст, благонравной и послушной Элен Бернс, угасавшей от чахотки, которую Джейн, чудом избежавшая разразившейся эпидемии тифа, косившего учениц приюта направо и налево, пригласила к себе в постель. Так и звучит во мне тот кусочек текста:
— Ты пришла попрощаться со мной? Думаю, что очень вовремя…
— Ты куда-то уезжаешь, Элен? Возвращаешься к себе?
— Да, я отправляюсь в мир иной, где и желаю обрести последнее пристанище…
— Куда же всё-таки ты направляешься, Элен? Ты что-нибудь о том знаешь?
— Да, знаю… со мной моя вера, направляюсь я к Богу.
— И где же он, Бог? И что такое Бог?
Наутро мисс Темпль нашла меня в кроватке Элен. Моя голова покоилась на её плече, мои руки обнимали её шею; я спала… Элен же была мертва.
В течение пятнадцати лет над её могилкой был только зелёный холмик. Но теперь там лежит серая мраморная плита, на которой высечено её имя и одно лишь слово: «Resurgam» («Воскресну» — лат.)
Передо мною фото, прислала мне его, лет этак с двадцать тому назад, моя кузина С. Там, на фото, вы втроём на перекрёстке двух улиц. Стоите на тротуаре. Отец рослый, улыбчивый, в тёмном, очень нарядном костюме, в ёлочку, в руке шляпа (я помню лишь его береты). Рядом с ним племянница, Дениз, в длинном белом платье, но в глаза бросается одно лишь её лицо, счастливое, обрамленное в фату. Перед нею девочка, её тёмная головка доходит Дениз только до груди.
Это ты.
На тебе тоже всё белое — короткое белое платье, белые сандалии, белые носочки. Волосы, остриженные каре, заканчиваются на уровне мочек ушей, с пробором посередине и бантом слева они образуют над высоким упрямым лбом до странности правильной формы арку. Ты, не улыбаясь, серьёзно смотришь прямо в объектив. Рот кажется тёмно-красным и выглядит поразительной деталью, впрочем, как и жест — пальцы рук, они соприкасаются кончиками. Из-за белизны платьев ты смотришься словно бы вылепленной заедино со своей соседкой, вуаль которой спускается к твоим рукам. За вами, на стене, виднеется плакат с хорошо различимой надписью: «Требуем достойной жизни — социальной справедливости, роста оплаты труда, 40-часовой рабочей недели, оплачиваемых отпусков». Поодаль строение с аляповатой вывеской «Средиземноморье», к нему направляются какие-то смутные силуэты. Ваши церемониальные наряды ярко контрастируют с унылым антуражем заводской окраины. Фото сделано в Гавре и датировано тридцать седьмым годом. Тебе на нём пять лет. Жить тебе осталось один год…
Разглядываю твоё серьёзное лицо, твои игриво слепленные пальцы, по-детски ломкие ножки. Здесь, на этом фото ты перестаёшь быть зловредной тенью моего детства, никакая ты не святая, а всего лишь маленькая девочка, внезапно шагнувшая из эпохи разросшейся в эпидемию дифтерии, сорванная с поверхности того самого мира, в такую-то минуту праздничного для вас дня. День имел форму — широкого тротуара, с высоким бордюром, одного из кварталов Гавра…
Меня переполняет ширь моей жизни, восторжествовавшей над тобой. Всего, с чем я столкнулась в ней, и не сочтешь. Увиденное, услышанное, обретённое и позабытое, мужчины и женщины, улицы, сумерки вечеров, утренние рассветы… Я едва не физически ощущаю, как скопившиеся во мне образы плещут через край.
И, как бы поодаль, но вместе с тем отчётливо, один из самых первых, связанных с Лильбонном:
широкий вестибюль кафе, в центре его бильярд, ряды столиков с мраморными столешницами, нечёткие, словно размытые силуэты постоянных клиентов, среди них, отчётливо, одна пара, чета Фольдренов, у жены во рту не больше трёх зубов;
кухня, отделённая от вестибюля застеклённой дверью, служебный выход через внутренний дворик на улицу;
вверх по лестнице столовая с перемешанными в беспорядке, чёрными и оранжевыми, целлулоидными цветами в какой-то вазе на столе;
собачонка Пупетта, почти начисто облинявшая, и потому постоянно дрожащая, с успехом охотившаяся на приходивших с реки крыс;
коричневые нагромождения прядильни Деженте с её подъездными путями на высокой насыпи;
зеленоватые лопасти мельничного колеса.
Все эти образы я помещаю в свои книги. И при этом приходит странная мысль, что всё оно и твоё тоже. Ещё одно подтверждение тому, что ты и я, в памяти других, живём вместе. О том же говорит и этот вот пассаж, из письма ко мне Франсиса Ж. от семьдесят седьмого года: «моя кузина, Иветта, рассказывала мне, как в погожие дни гуляла с вашей сестрёнкой Жинетт, бродя с ней по улице, ведущей к Тринитэ-дю-Мон, а Жаклин вспоминает, как брала вас, ещё крошкой, на руки. Ножки у вас в то время были совсем маленькие и в гипсе, и мадам Дюшесн просила быть с вами осмотрительнее».
Перебирая в памяти полузабытые образы тех, кто когда-то жил в Лильбонне и знал тебя, слышу я рядом с твоим именем и нестройный хор их имён, — это и Мёргет, и Бордо, и Винсент Оде, и Траншан, это отец Леклерк, это и Боши, владевшие в ту пору мельницей; на всех на них отметина, как на скотине одного стада. Я слышу при этом названия улиц и закоулков, которые довелось слышать и мне и тебе, и куда я ни разу так и не возвратилась, после сорок пятого: рю Сезарин, рю Губер-Мулен, ля Френей, лё Беке…
Вспоминаю всех дедушек и бабушек, тётушек и дядюшек, братьев и сестёр, со стороны отца и со стороны матери, всех кто помнил тебя; я не забыла о них, я о них написала.
И ты, и я, мы обе обрели себя в одном и том же кругу. О холоде и голоде, жажде и зное, обо всём, что происходило вокруг, сообщали нам одни и те же голоса, одним и тем же языком, французским, о котором в школе мне сказали, что он «плох».
Мы засыпали под одни и те же песни; он пел: «когда ты будешь без гроша, то вспомни обо мне…», и пела она: «парит любовь над нашими главами, и утешает в скорби бедный этот мир…»
Мы с тобой единоутробные, но по-настоящему об этом я никогда не задумывалась.
Вижу себя на кухне, в Лильбонне; вечер, только что отужинали, лавчонка закрыта. Я прикорнула у неё на руках, она напевает своё «на северном мосту…», он сидит напротив;
или, серое хмурое утро в Ивето, мы на прогулке, они держат меня с двух сторон за руки, я поглядываю то на их огромные, ступающие по мостовой обувки, то на свои, совсем махонькие;
и ни там, ни там, нигде нет места для тебя, я не представляю тебя на своём месте. Я не желаю видеть тебя там, где вижу рядом с ними себя.
Я не могу поместить тебя туда, где была когда-то сама, заменить себя тобой. Есть жизнь и есть смерть, я и ты. И, чтобы была я, не должно быть тебя.
В две тысячи третьем году, в моём дневнике появилась следующая запись: «я не милая, как она и не славная, я исключительная. Потому-то и удел мой не любовь, а осознание всего и… одиночество».
Не так давно побывала я в Лильбонне, в том его квартале, что зовётся Валле, увидела, как выглядит теперь улица Таннери и лавчонка с кафе, где обе мы и родились. Всё это, как мне рассказывали, стало теперь обычным частным жильём. С полностью изменённого фасада, на удивление агрессивного в своей белизне на фоне грязно-серых соседних с ним домов, изъяты все следы прежде процветавшей за ним коммерции, а на месте проёма входной двери красуется теперь окно.
У меня не возникло желания туда заглянуть, я осознавала — реальность не консервируется, понимала — всё требует врачевания, ни что не может обойтись без ремонта, и преднамеренно страшилась душевной боли, которая полагается в наказание памяти, споткнувшейся о новое на месте старого.
Прошлым же летом, ещё и не помышляя об этом письме, не устояла перед искушением, желание попасть в тот дом пересилило меня. Оно нарастало во мне вместе с трудностями, поначалу связанными с поиском его обитателей, потом с битвой за крохи их доверия, что объяснимо вполне, но переносимо не без труда. Как если бы я добивалась от них откровения, нет — некого с их стороны разглашения чего-то, чему я сама, впрочем, не находила пользы. Разве что, написать обо всём… потом, но это заступало на второй план.
После обмена письмами и «мылом», владельцы, взрослая, возраста далеко за пятьдесят пара, позволили мне проникнуть в дом. Случилось это в апреле месяце, впервые после тысяча девятьсот сорок пятого года.
На первом этаже изменённым оказалось всё: убраны все внутренние перегородки и устроена одна, очень большая комната. Память признала здесь лишь низкий потолок, я почти касалась его вытянутой вверх рукой, да маленький дворик, выходящий к реке, откуда, правда, исчезли и прачечная, и туалет, и клетки для кроликов. На верхнем этаже, напротив, появилась ещё одна стенка, принявшая участие в лепке узенького коридора, которого в памяти моей места не нашлось. Две комнаты выходили окнами на улицу, две другие окнами во внутренний дворик. Первая из тех, что по правую руку, служила пожилой паре спальней, как и некогда родителям. Кровать внутри стояла ровно там же, вдоль окна. Всё, до мельчайших подробностей, в точности укладывалось в слепок, покоившийся у меня в памяти. Конечно, если бы меня привели в комнату с завязанными глазами, не уведомив заранее о том, я не смогла бы рассказать, где нахожусь, но при тех обстоятельствах у меня не было и тени сомнения в том, что это та самая комната; гарантией тому служило окно, из которого просматривалась река, открывшийся вид был точь-в-точь таким, каким я запомнила его в том, в сорок пятом году…
Я разглядывала эту кровать, пыталась заменить её родительской, представить стоявшую когда-то рядом маленькую кроватку розового дерева, и не смогла с уверенностью сказать себе самой: «вот тут».
Удивление и удовольствие, одно в другом, переполняли меня: от того, что нахожусь в той, в самой важной точке земли, под той самой крышей, среди тех стен, возле этого окна, и оттого, что своими глазами вижу комнату, в которой всё началось, для одной и для другой. Для одной после другой.
Комната, где мы когда-то обе резвились.
Комната жизни и смерти, купавшаяся в лучах заходящего солнца.
Место обитания судьбы, вечной её тайны.
Я вижу то ту, освещённую поздним апрельским солнцем комнату, чувствую совсем рядом неуютное, душное присутствие её нынешней хозяйки, то, вдруг, оказываюсь в иной, сумрачной и невнятной тенью втиснувшейся между стенок моей детской кроватки.
Облик первой, в ней от прежде пережитого нет ничего, рано или поздно, но улетучился бесследно, не помню я ни цвета покрывала, лежавшего на кровати, ни мебели.
Вторая же так меня и не отпускает…
Незабвенный Питер Пен при виде родителей, склонившихся над его колыбелью, тут же ускользнул через приоткрытое окошко. Однажды он возвратился, но окно оказалось запертым, а в его кроватке лежало другое дитя. И тогда он сбежал снова и никогда не стал большим. Говорят, что теперь он ходит по домам в поисках умерших детей. Эта история тебе незнакома, как, впрочем, незнакома была и мне вплоть до шестого класса, до начала изучения английского.
Никогда она мне не нравилась.
Седьмого ноября сорок пятого года, через три недели после возвращения в Ивето, купили они клочок земли на кладбище, рядом с твоей могилкой. Он лёг в него первым, в шестьдесят седьмом, она восемнадцать лет спустя. Я в Нормандии, рядом с вами, похоронена не буду. Мне этого не хочется; не могу себе этого даже представить, никогда не могла.
Другая, это я.
Та, кого всё время не было с ними…
Та, кто от них ускользнула давным давно…
Через несколько дней я опять пойду на могилки, как это обычно бывает по приезду в Туссен. Не знаю, будет ли мне что тебе сказать, стоит ли…
Как и не знаю, стыдно ли мне или же горжусь я, что закончила всё-таки это письмо, перед желанием написать которое так долго приходила в смятение.
Наверное, мне хотелось расплатиться по мною же и воображаемым долгам, даря тебе жизнь, как твоя смерть когда-то даровала её мне. Или же, вызвав тебя в жизнь, вновь умертвить, чтобы уже навсегда расстаться не только с тобой, но даже с твоей тенью. Вырваться из тебя.
И из борьбы со столь долгой жизнью усопших.
Как видишь, письмо это адресовано не тебе, и не тебе его читать. Оно к другим, к читателям, столь же, правда, как и ты, призрачным, но именно они и станут его получателями.
Впрочем, в глубине своего сознания улавливаю я странное желание, чтобы оно стало и твоим.
Как однажды, летним воскресным днём, должно быть тем, когда в неком гостиничном номере Турина покончил с собою Павезе[2], пришла ко мне весть… о твоём существовании.
Октябрь 2010 г.