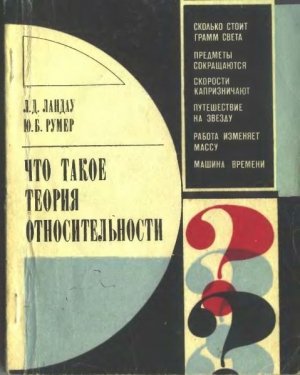
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Это предисловие я по воле обстоятельств подписываю один. Сейчас, когда третье издание выходит в свет, Л. Д. Ландау уже нет среди нас.
Я не счел возможным что-либо менять в тексте, написанном нами совместно.
Однако мне подумалось, что было бы хорошо помочь сегодняшнему молодому читателю представить себе живой образ Ландау — этого замечательного ученого и человека. Я надеюсь, что три статьи, помещенные в конце книги, хотя бы отчасти послужат этой цели.
Ю. Б. РУМЕР
С момента создания теории относительности Альбертом Эйнштейном минуло семьдесят лет. За прошедшее время эта теория, казавшаяся когда-то многим парадоксальной игрой ума, превратилась в один из краеугольных камней физики. Современная физика без теории относительности почти так же невозможна, как без представления об атомах и молекулах. Трудно даже перечислить все те разнообразные физические явления, которые нельзя было бы объяснить без теории относительности. На ее основании создаются такие сложные приборы, как ускорители «элементарных» частиц, рассчитываются ядерные реакции и т. д.
К сожалению, однако, теория относительности очень мало известна вне узкого круга специалистов. Конечно, эта теория принадлежит к числу «трудных». И нельзя требовать от нефизика свободного обращения с ее довольно сложным математическим аппаратом.
Тем не менее мы полагаем, что основные представления и идеи теории относительности могут быть изложены в форме, доступной для понимания достаточно широкого круга читателей.
Мы надеемся, что читателю, который прочтет нашу книгу, уже не сможет прийти в голову мысль, что теория относительности сводится к утверждению, якобы «все в мире относительно». Наоборот, он увидит, что теория относительности, как и всякая правильная физическая теория, есть учение об объективной истине, не зависящей от желаний и вкусов кого бы то ни было. Отказавшись от старых представлений о пространстве, времени и массе, мы только глубже проникли в то, как мир устроен на самом деле.
Авторы
Глава первая
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ МЫ ПРИВЫКЛИ
Всякое ли утверждение имеет смысл?
Очевидно, нет. Даже если взять вполне осмысленные слова и соединить их в полном согласии с правилами грамматики, то и тогда может получиться полнейшая бессмыслица. Например, утверждению «эта вода треугольная» трудно приписать какой бы то ни было смысл.
К сожалению, однако, не все бессмыслицы столь очевидны, и очень часто утверждение, на первый взгляд вполне разумное, при строгом анализе оказывается все же совершенно нелепым.
Правое и левое
На какой стороне дороги — на правой или на левой — расположен дом? На этот вопрос сразу ответить невозможно.
Если идти от моста к лесу, дом будет по левую сторону, а если, наоборот, идти от леса к мосту, то дом окажется справа. Очевидно, говоря о правой или левой стороне дороги, нельзя не учитывать направления, относительно которого мы указываем справа и слева.
Говорить о правом береге реки имеет смысл лишь потому, что течение воды определяет направление реки. Аналогично этому утверждать, что автомобили движутся по правой стороне, мы можем только потому, что движение автомобиля выделяет одно из направлений дороги.
Таким образом, понятия «справа» и «слева» относительны: они получают смысл лишь после того, как указано направление, относительно которого дается определение.
Что сейчас — день или ночь?
Ответ зависит от того, где вопрос задается. Когда в Москве день, во Владивостоке — ночь. Никакого противоречия здесь нет. Просто день и ночь — понятия относительные, и нельзя ответить на поставленный вопрос, не указав, относительно какой точки земного шара идет речь.
Кто больше?
На верхнем рисунке пастух явно больше коровы, на нижнем — корова больше пастуха. И здесь нет никакого противоречия. Дело в том, что эти рисунки сделаны наблюдателями с различных точек: один стоял ближе к корове, другой — к пастуху. Для картины существенны не подлинные размеры предметов, а тот угол, под которым мы их видим. Эти угловые размеры предметов, очевидно, относительны. Говорить об угловых размерах предметов бессмысленно, если не указать точку пространства, из которой ведется наблюдение. Например, сказать: эта башня видна под углом в 45° — значит не сказать ничего. Напротив, утверждение, что башня из точки, отстоящей от нее на 15 метров, видна под углом в 45°, имеет смысл, и из этого утверждения следует, что ее высота равна 15 метрам.
Относительное кажется абсолютным
Если передвинуть точку наблюдения на небольшое расстояние, угловые размеры также изменятся на небольшую величину. Поэтому угловой мерой часто пользуются в астрономии. Указывают на звездной карте угловое расстояние между звездами, то есть тот угол, под которым видно расстояние между звездами с поверхности Земли.
Известно, что как бы мы ни двигались по Земле, из каких точек земного шара ни наблюдали бы звездное небо, мы всегда будем видеть звезды на одном и том же расстоянии друг от друга. Это обусловлено тем, что звезды удалены от нас на такие невообразимо огромные расстояния, что наши перемещения по Земле по сравнению с этим расстоянием ничтожны и ими можно спокойно пренебречь. Поэтому в данном случае угловое расстояние можно принять за абсолютную меру.
Если воспользоваться обращением Земли вокруг Солнца, то изменение угловой меры станет заметным, хотя и незначительным. Если же перенести точку наблюдения на какую-нибудь звезду, например на Сириус, то все угловые меры так изменятся, что далекие друг от друга на нашем небе звезды могут оказаться близкими, и наоборот.
Абсолютное оказалось относительным
Мы часто говорим: наверху, внизу. Являются эти понятия абсолютными или относительными?
На этот вопрос в различные времена люди отвечали по-разному. Когда люди еще ничего не знали о шарообразности Земли, представляли ее плоской, как блин, вертикальное направление считалось абсолютным понятием. При этом предполагалось, что во всех точках земной поверхности направление вертикали одинаково и что вполне естественно говорить об абсолютном «верхе» и абсолютном «низе».
Когда же обнаружилось, что Земля шарообразна, вертикаль в сознании людей… пошатнулась.
В самом деле, при шарообразной форме Земли направление вертикали существенно зависит от положения той точки земной поверхности, через которую проходит вертикаль.
В различных точках земной поверхности направления вертикалей будут различны. Поскольку понятие верха и низа потеряло свой смысл без указания точки земной поверхности, к которой относится, то это понятие из абсолютного превратилось в относительное. Во Вселенной нет какого-то единого вертикального направления. Поэтому для любого направления в пространстве мы можем указать точку земной поверхности, в которой это направление окажется вертикальным.
«Здравый смысл» пытается протестовать
Все это кажется нам теперь очевидным, не вызывающим никаких сомнений. А между тем история свидетельствует, что понять относительность верха и низа человечеству было не так легко. Люди склонны приписывать понятиям абсолютное значение, если их относительность не очевидна из повседневного опыта (как в случае «справа» и «слева»).
Вспомним смехотворное возражение против шарообразности Земли, пришедшее к нам из средневековья: а как-де люди будут ходить вниз головой?!
Ошибка этого довода в том, что не признается относительность вертикали, вытекающая из шарообразности Земли.
А если принцип относительности вертикали не признавать и считать, например, направление вертикали в Москве абсолютным, то, безусловно, жители Новой Зеландии ходят вниз головой. Но при этом следует помнить, что для новозеландцев мы, в свою очередь, тоже ходим вниз головой. Противоречия здесь никакого нет, так как вертикальное направление в действительности является не абсолютным, а относительным понятием.
Заметим, что мы начинаем чувствовать реальное значение относительности вертикали лишь тогда, когда рассматриваем два достаточно отдаленных участка земной поверхности, например Москву и Новую Зеландию. Если же рассматривать два близких участка, например два дома в Москве, то практически можно полагать все вертикальные направления параллельными, то есть считать вертикальное направление абсолютным.
И лишь когда нам приходится иметь дело с участками, сравнимыми по величине с поверхностью Земли, попытка пользоваться абсолютной вертикалью приводит к нелепостям и к противоречиям.
Рассмотренные нами примеры показывают, что многие из понятий, которыми мы пользуемся, являются относительными, то есть получают смысл лишь тогда, когда указываются условия, в которых ведутся наблюдения.
Глава вторая
ПРОСТРАНСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО
Одно и то же место или нет?
Нередко мы говорим, что, дескать, такие-то два события произошли в одном и том же месте, и так привыкли к этому, что склонны приписывать своему утверждению абсолютный смысл. А на самом деле оно ровно ничего не значит! Это все равно что сказать: сейчас пять часов, не указав, где, собственно, пять часов — в Москве или в Чикаго.
Чтобы уяснить себе это, представим, что две путешественницы сговорились встречаться каждый день в одном и том же месте вагона экспресса Москва — Владивосток и писать своим мужьям письма. Мужья, однако, вряд ли согласятся с тем, что их жены встречаются в одном и том же месте пространства. Напротив, они имеют все основания утверждать, что места эти отдалены друг от друга на сотни километров. Они получали письма из Ярославля и Перми, Свердловска и Тюмени, Омска и Хабаровска.
Таким образом, эти два события — писание писем в первый и второй день путешествия — с точки зрения путешественниц, происходили в одном и том же месте, а с точки зрения их мужей, были разделены сотнями километров.
Кто же прав — путешественницы или мужья? У нас нет причин отдать предпочтение кому-либо из них. Мы ясно видим, что понятие «в одном и том же месте пространства» имеет лишь относительный смысл.
Подобно этому утверждение, что две звезды на небесном своде совпадают, имеет смысл лишь постольку, поскольку указывается, что наблюдение производится с Земли. Говорить, что два события совпадают в пространстве, можно лишь тогда, когда указываются тела, по отношению к которым определяется местоположение этих событий.
Таким образом, понятие положения в пространстве также относительно. Когда мы говорим о положении тела в пространстве, мы всегда подразумеваем его положение относительно тел других. Если же потребовать, чтобы на вопрос о том, где находится данное тело, мы в ответ не упоминали о других телах, то такой вопрос мы должны признать лишенным смысла.
Как движется тело в действительности?
Из сказанного следует, что относительным является также понятие «перемещение тела в пространстве». Если мы говорим, что тело переместилось, то это означает лишь, что оно изменило свое положение относительно других тел.
Если наблюдать за движением тела из разных перемещающихся друг относительно друга лабораторий, то движение это выглядит совершенно различно.
Летит самолет. С него сбрасывается камень. Относительно самолета камень падает по прямой, относительно Земли он опишет кривую, называемую параболой.
А все же как движется камень в действительности?
Этот вопрос имеет столь же мало смысла, как вопрос: под каким углом видна Луна в действительности? Под которым она наблюдалась бы с Солнца или под которым мы видим ее с Земли?
Геометрическая форма кривой, по которой перемещается тело, имеет такой же относительный характер, как фотоснимок здания. Подобно тому как, фотографируя дом спереди и сзади, мы получим неодинаковые снимки, так и наблюдая за движением тела из разных лабораторий, мы получим различные кривые его движения.
Все ли точки зрения равноценны?
Если бы наш интерес при наблюдении за движением тела в пространстве ограничивался изучением формы траектории (так называется кривая, по которой движется тело), то вопрос о выборе места наблюдения решался бы соображениями об удобстве и простоте получаемой картины.
Хороший фотограф, выбирая положение для съемки, заботится, кроме того, о красоте будущего снимка, о композиции.
Но при изучении перемещения тел в пространстве нас интересует нечто большее. Мы хотим не только знать траекторию, но и уметь предсказывать, по какой траектории будет двигаться тело в данных условиях. Другими словами, мы хотим знать законы, управляющие движением, заставляющие тело двигаться так, а не иначе.
Рассмотрим с этой точки зрения вопрос об относительности движения — и выяснится, что не все положения в пространстве равноценны.
Если мы идем к фотографу и просим сделать снимок для служебного удостоверения, то, естественно, хотим быть заснятыми с лица, а не с затылка. Этим желанием определяется и точка пространства, из которой фотограф должен нас фотографировать. Всякое другое положение мы признали бы не отвечающим поставленному условию.
Покой найден!
На движение тел оказывают влияние внешние воздействия. Мы называем их силами. Изучение влияния этих воздействий может позволить нам совершенно по-новому подойти к вопросу о движении.
Предположим, что в нашем распоряжении имеется тело, на которое не действуют никакие силы. В зависимости от того, откуда мы за ним наблюдаем, это тело будет двигаться различным, более или менее причудливым образом. Однако нельзя не признать, что наиболее естественным будет положение наблюдателя, при котором тело окажется просто покоящимся.
Таким образом, мы можем дать теперь совершенно новое определение покоя, не зависящее от перемещения данного тела относительно других тел. Итак: тело, на которое не действует никакая внешняя сила, находится в состоянии покоя.
Покоящаяся лаборатория
Как же осуществить состояние покоя? Когда можно быть уверенным, что на тело не действуют никакие силы?
Для этого, очевидно, необходимо увести наше тело подальше от всех других тел, которые могли бы оказать на него воздействие.
Из таких покоящихся тел мы можем, хотя бы мысленно, построить целую лабораторию и говорить теперь уже о свойствах движения, наблюдаемых из этой лаборатории, которую мы и назовем покоящейся.
Если свойства движения, наблюдаемого в какой-то другой лаборатории, отличаются от свойств движения в покоящейся лаборатории, то мы имеем полное право утверждать, что первая лаборатория движется.
Движется ли поезд?
После того как мы установили, что в движущихся лабораториях движение протекает по другим законам, нежели в покоящейся, понятие движения, казалось бы, потеряло свой относительный характер: в дальнейшем, говоря о движении, мы должны лишь подразумевать движение относительного покоя и называть такое движение абсолютным.
Но при всяком ли перемещении лаборатории мы будем наблюдать в ней отклонения от законов движения тел, имеющих место в покоящейся?
Сядем в поезд, идущий с постоянной скоростью по прямому пути. Начнем наблюдать за движением тел в вагоне и сравнивать это с тем, что происходит в неподвижном поезде.
Повседневный опыт подсказывает, что в таком поезде, движущемся прямолинейно и равномерно, мы не заметим никаких отклонений, никаких отличий от движения в неподвижном поезде. Каждый знает, что в движущемся вагоне брошенный вертикально вверх мячик упадет обратно нам в руки, а не опишет кривую, подобную изображенной на стр. 21.
Если отвлечься от неизбежной в силу технических условий тряски, в равномерно движущемся вагоне все происходит как в неподвижном.
Иное дело, если вагон замедлит или ускорит свое движение. В первом случае мы испытаем толчок вперед, во втором — назад и ясно ощутим отличие от покоя.
Если вагон, двигаясь равномерно, будет менять направление движения, мы также почувствуем это: на крутых поворотах вправо нас будет откидывать к левой стороне вагона, а при поворотах влево нас будет откидывать вправо.
Обобщая эти наблюдения, мы приходим к выводу: пока какая-то лаборатория движется прямолинейно и равномерно относительно лаборатории покоящейся, в ней невозможно обнаружить отклонения от поведения тел в покоящейся лаборатории. Но как только скорость движущейся лаборатории изменяется по величине (ускорение или замедление) или по направлению (поворот), это тотчас же отражается на поведении находящихся в ней тел.
Покой окончательно потерян
Удивительное свойство прямолинейного и равномерного движения лаборатории не влиять на поведение находящихся в ней тел заставляет нас пересмотреть понятие покоя. Оказывается, что состояние покоя и состояние прямолинейного и равномерного движения ничем не отличаются друг от друга. Лаборатория, которая движется прямолинейно и равномерно относительно покоящейся лаборатории, сама может считаться покоящейся. Это значит, что существует не один — абсолютный — покой, а бесчисленное множество различных «покоев». Существует не одна «покоящаяся» лаборатория, а бесчисленное множество «покоящихся» лабораторий, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно с различными скоростями.
Поскольку покой оказывается не абсолютным, а относительным, приходится всегда указывать, относительно какой из бесчисленных движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга лабораторий мы наблюдаем движение.
Таким образом, нам все-таки не удалось сделать понятие движения абсолютным.
Всегда остается открытым вопрос: относительно какого «покоя» мы наблюдаем движение?
Мы пришли, таким образом, к важнейшему закону природы, обычно называемому принципом относительности движения.
Он гласит: во всех лабораториях, которые движутся друг относительно друга прямолинейно и равномерно, движение тел происходит по одинаковым законам.
Закон инерции
Из принципа относительности движения вытекает, что тело, на которое не действует никакая внешняя сила, может находиться не только в состоянии покоя, но и в состоянии прямолинейного равномерного движения. Это положение в физике называется законом инерции.
Однако в повседневной жизни он как бы завуалирован и непосредственно не проявляется. Ведь по закону инерции тело, находящееся в состоянии прямолинейного равномерного движения, должно — и без воздействия внешних сил — продолжать свое движение без конца. Однако из наблюдений нам известно, что тела, к которым мы силы не прилагаем, останавливаются.
Разгадка заключается в том, что на все тела, наблюдаемые нами, действуют некоторые внешние силы — силы трения. Поэтому условие, необходимое для наблюдения закона инерции — отсутствие внешних сил, действующих на тело, — не выполняется. Но, улучшая условия опыта, уменьшая силы трения, можно приблизиться к идеальным условиям, необходимым для наблюдения закона инерции, доказав, таким образом, правильность этого закона и для движений, наблюдаемых в повседневной жизни.
Открытие принципа относительности движения является одним из величайших открытий. Без него развитие физики было бы невозможно. Этим открытием мы обязаны гению Галилео Галилея, смело выступившего против господствовавшего в те времена и поддерживаемого авторитетом католической церкви учения Аристотеля, согласно которому движение возможно только при наличии силы и без нее должно неминуемо прекратиться. Рядом блестящих опытов Галилей показал, что причиной остановки движущихся тел, наоборот, является сила трения и в отсутствие этой силы приведенное раз в движение тело двигалось бы вечно.
И скорость относительна!
Из принципа относительности движения следует, что говорить о прямолинейном и равномерном движении тела с некоторой скоростью, не указывая, относительно какой из покоящихся лабораторий измерена скорость, имеет столь же мало смысла, как говорить о географической долготе, не условившись заранее, от какого меридиана ее отсчитывать.
Скорость оказывается тоже относительным понятием. Определяя скорость одного и того же тела относительно разных покоящихся лабораторий, мы будем получать разные результаты. Но вместе с тем всякое изменение скорости, будь то ускорение, замедление или изменение ее направления, имеет абсолютный смысл и не зависит от того, в какой покоящейся лаборатории мы наблюдаем движение.
Глава третья
ТРАГЕДИЯ СВЕТА
Свет распространяется не мгновенно
Мы убедились в наличии принципа относительности движения, в существовании бесчисленного множества «покоящихся» лабораторий. В последних законы движения тел не отличаются друг от друга. Однако существует вид движения, на первый взгляд противоречащий установленному выше принципу. Это — распространение света.
Свет распространяется не мгновенно, хотя и с огромной скоростью — 300 000 километров в секунду!
Такую колоссальную скорость трудно постигнуть, поскольку в повседневной жизни нам приходится встречаться со скоростями, неизмеримо меньшими. Например, даже скорость советской космической ракеты достигает лишь 12 километров в секунду. Из всех тел, с которыми мы имеем дело, наиболее быстро перемещается Земля при своем обращении вокруг Солнца. Но и скорость Земли всего лишь 30 километров в секунду.
Можно ли изменить скорость света?
Сама по себе огромная скорость распространения света не является чем-то особенно удивительным. Поразительно то, что эта скорость отличается строгим постоянством.
Движение любого тела всегда можно искусственно замедлить или ускорить. Даже пули. Поставим на пути мчащейся пули ящик с песком. Пробив ящик, пуля потеряет часть скорости и полетит медленнее.
Совсем иначе обстоит дело со светом. В то время как скорость пули зависит от конструкции ружья и свойств пороха, скорость света одинакова при всех источниках света.
Поставим на пути луча стеклянную пластинку. Во время прохождения пластинки скорость света уменьшится, поскольку в стекле она меньше, чем в пустоте. Однако, выйдя из пластинки, свет вновь пойдет со скоростью 300 000 километров в секунду!
Распространение света в пустоте, в отличие от всех других движений, обладает тем важнейшим свойством, что его нельзя замедлить или ускорить. Какие бы изменения ни претерпевал луч света в веществе, по выходе в пустоту он распространяется с прежней скоростью.
Свет и звук
В этом отношении распространение света похоже не на движение обычных тел, а на явление распространения звука. Звук есть колебательное движение той среды, в которой он распространяется. Поэтому его скорость определяется свойствами среды, а не свойствами звучащего тела: скорость звука, подобно скорости света, не может быть ни уменьшена, ни увеличена даже посредством пропускания звука через какие-нибудь тела.
Если, например, на пути его распространения поставить перегородку из металла, то, изменив свою скорость внутри этой перегородки, звук обретет первоначальную скорость, как только вновь вернется в первоначальную среду.
Поместим под колпак воздушного насоса электрическую лампочку и электрический звонок, а затем начнем выкачивать воздух. Звук звонка будет ослабляться, пока совсем не перестанет быть слышимым, лампочка же продолжает светить по-прежнему.
Этот опыт прямо показывает, что звук распространяется только в вещественной среде, свет же может распространяться и в пустоте.
В этом существенное между ними различие.
Принцип относительности движения кажется поколебленным
Колоссальная, но все же не бесконечная скорость света в пустоте и привела к конфликту с принципом относительности движения.
Представим себе поезд, движущийся с огромной скоростью — 240 000 километров в секунду. Пусть мы находимся в голове поезда, а в его хвосте зажигается лампочка. Поразмыслим над тем, каковы могут быть результаты измерения времени, необходимого свету, чтобы пройти от одного конца поезда до другого.
Это время, казалось бы, будет отличаться от того, которое мы получим в покоящемся поезде. В самом деле, относительно поезда, движущегося со скоростью 240 000 километров в секунду, свет должен бы иметь скорость (вперед по ходу поезда) всего лишь в 300 000–240 000 = 60 000 километров в секунду. Свет как бы догоняет убегающую от него переднюю стенку головного вагона. Если поместить лампочку в голове поезда и измерять время, необходимое свету, чтобы дойти до последнего вагона, то, казалось бы, скорость света в направлении, противоположном движению поезда, должна составить 240 000 + 300 000 = 540 000 километров в секунду. (Свет и хвостовой вагон идут навстречу друг другу.)
Итак, выходит, что в движущемся поезде свет должен был бы распространяться в разные стороны с различными скоростями, в то время как в поезде неподвижном скорость эта одинакова в обоих направлениях.
Совершенно иначе обстоит дело с пулей. Будем ли мы стрелять по направлению движения поезда или навстречу ему, скорость пули относительно стенок вагона будет всегда одной и той же — равной скорости полета пули в неподвижном поезде.
Дело в том, что скорость пули зависит от скорости, с которой движется ружье. Скорость же света, как мы уже сказали, не изменяется от изменений скорости перемещения лампочки.
Наше рассуждение, казалось бы, ясно показывает, что распространение света находится в резком противоречии с принципом относительности движения. В то время как пуля и в покоящемся и в движущемся поезде летит относительно стенок вагона с одинаковой скоростью, свет в поезде, движущемся со скоростью 240 000 километров в секунду, по-видимому, в одну сторону распространялся бы в пять раз медленнее, а в другую — в 1,8 раза быстрее, чем в поезде покоящемся.
Изучение распространения света должно, казалось бы, дать возможность установить абсолютную скорость движения поезда.
Возникает надежда: а нельзя ли, используя явление распространения света, установить понятие абсолютного покоя?
Лабораторию, в которой свет распространяется во все стороны с одинаковой скоростью 300 000 километров в секунду, мы сможем называть абсолютно покоящейся. Во всякой другой лаборатории, движущейся относительно нее прямолинейно и равномерно, скорость света должна была бы быть различной в различных направлениях. В таком случае не существует ни относительности движения, ни относительности скорости, ни относительности покоя, установленных нами выше.
Мировой эфир»
Как же понять такое положение вещей? В свое время, пользуясь аналогией между явлением распространения звука и света, физики ввели специальную среду, так называемый эфир, в котором свет распространялся таким же образом, как звук в воздухе. При этом предполагалось, что все тела при движении через эфир не увлекают его за собой, подобно тому, как перемещающаяся в воде клетка, сделанная из тонких прутьев, не увлекает воду.
Если наш поезд неподвижен относительно эфира, то свет будет распространяться по всем направлениям с одинаковой скоростью. Движение поезда относительно эфира сейчас же проявится в том, что скорость распространения света окажется различной для разных направлений.
Однако введение эфира — среды, колебания которой проявляются в виде света, — вызывает ряд недоуменных вопросов. В первую очередь сама гипотеза имеет явно искусственный характер. В самом деле, свойства воздуха мы можем изучать, не только наблюдая распространение в нем звука, но и привлекая самые разнообразные физические и химические методы исследования. Между тем эфир в большинстве явлений загадочным образом не участвовал. Плотность и давление воздуха доступны самым грубым измерениям. Все попытки узнать что-нибудь о плотности и давлении эфира ровно ни к чему не привели.
Создалось довольно нелепое положение.
Конечно, всякое явление природы можно «объяснить» введением специальной жидкости, обладающей необходимыми свойствами. Но истинная теория явления отличается от простого пересказывания известных фактов учеными словами именно тем, что из нее следует гораздо больше, нежели дают сами факты, на которых она основывается. Например, понятие атома широко вошло в науку в связи с вопросами химии, однако представление об атомах дало возможность объяснить и предсказать огромное число явлений, никакого отношения к химии не имеющих.
Представление же об эфире мы вправе уподобить объяснению, которое дал бы дикарь действию граммофона, предполагая, что в этом загадочном ящике заключен особый «граммофонный дух».
Подобные «объяснения», разумеется, ровно ничего не объясняют.
У физиков и до эфира уже был печальный опыт в этом же роде: они в свое время и явление горения «объясняли» свойствами особой жидкости — флогистона, а тепловые явления — свойствами другой жидкости — теплорода. Кстати говоря, обе эти жидкости, как и эфир, отличались абсолютной неуловимостью.
Создается трудное положение
Но самое главное заключается в том, что нарушение принципа относительности движения светом неминуемо должно было бы привести к нарушению принципа относительности движения и всеми другими телами.
Действительно, ведь любая среда оказывает сопротивление движению тел. Поэтому перемещение тел в эфире тоже должно было бы быть связано с трением. Движение тела должно было бы замедляться, сменяясь в конце концов состоянием покоя. Между тем Земля вот уже много миллиардов лет (по геологическим данным) вращается вокруг Солнца и не замечено никаких признаков ее торможения от трения.
Таким образом, попытавшись объяснить странное поведение света в движущемся поезде наличием эфира, мы зашли в тупик. Представление об эфире не снимает противоречия между нарушением принципа относительности светом и соблюдением его всеми другими движениями.
Опыт должен решить
Что делать с этим противоречием? Прежде чем высказывать те или иные соображения по этому поводу, обратим внимание на следующее обстоятельство.
Противоречие между распространением света и принципом относительности движения мы получили исключительно из рассуждений.
Правда, повторяем, это были весьма убедительные рассуждения. Но, ограничиваясь одними рассуждениями, мы уподобились бы некоторым древним философам, пытавшимся добывать законы природы из собственной головы. При этом неизбежно возникает опасность, что построенный таким образом мир при всех своих достоинствах окажется весьма мало похожим на действительный.
Верховным судьей всякой физической теории является опыт. А потому, не ограничиваясь рассуждениями о том, как должен распространяться свет в движущемся поезде, следует обратиться к опытам, которые покажут, как он распространяется в этих условиях на самом деле.
Постановка такого опыта облегчается тем, что мы сами проживаем на заведомо движущемся теле. Земля, вращаясь вокруг Солнца, совершает отнюдь не прямолинейное движение и поэтому не может постоянно покоиться с точки зрения какой бы то ни было покоящейся лаборатории.
Если даже взять за исходную такую лабораторию, по отношению к которой Земля покоится в январе, то поскольку направление движения Земли вокруг Солнца меняется, она в июле будет наверняка находиться в движении. Поэтому, изучая распространение света на Земле, мы фактически изучаем распространение света именно в движущейся лаборатории, притом с весьма солидной для наших условий скоростью — 30 километров в секунду. (Вращением Земли вокруг оси, приводящим к скоростям до полукилометра в секунду, можно пренебречь.)
Вправе ли мы, однако, уподобить земной шар движущемуся поезду, о котором речь шла выше и который завел нас в тупик? Ведь поезд перемещается прямолинейно и равномерно, а Земля — по окружности? Вправе. Вполне допустимо считать, что за ничтожную долю секунды, необходимую свету, чтобы пройти через лабораторные приборы, Земля движется прямолинейно и равномерно. Ошибка, допускаемая при этом, столь мизерна, что не может быть обнаружена.
Но раз мы сравнили поезд и Землю, естественно было бы ожидать, что и на Земле, как и в нашем поезде, свет будет вести себя столь же странно: в разные стороны распространяться с неодинаковой скоростью.
Принцип относительности торжествует
Такой опыт и был произведен в 1881 году одним из величайших экспериментаторов прошлого столетия Майкельсоном, который с весьма высокой точностью измерил скорость света в различных направлениях относительно Земли. Чтобы уловить ожидавшуюся небольшую разницу в скоростях, Майкельсону пришлось воспользоваться очень тонкой экспериментальной техникой и проявить в этом отношении огромную изобретательность. Точность опыта была столь велика, что можно было бы обнаружить и гораздо меньшую разницу в скоростях, чем предполагавшаяся.
Опыт Майкельсона, неоднократно с тех пор повторявшийся в самых различных условиях, привел к совершенно неожиданному результату. Распространение света в движущейся лаборатории в действительности оказалось протекающим совсем иначе, чем это следовало из наших рассуждений. А именно: Майкельсон обнаружил, что на движущейся Земле свет распространяется по всем направлениям с совершенно одинаковой скоростью. В этом отношении распространение света происходит так же, как и полет пули, — независимо от движения лаборатории, с одинаковой скоростью относительно ее стен по всем направлениям.
Таким образом, опыт Майкельсона показал, что явление распространения света, в противоположность нашим рассуждениям, нисколько не противоречит принципу относительности движения, а, напротив, находится в полном с ним согласии. Другими словами, наши рассуждения на стр. 27–29 оказались ошибочными.
Из огня да в полымя!
Итак, опыт освободил нас от тяжелого противоречия между законами распространения света и принципом относительности движения. Противоречие оказалось только кажущимся, обязанным, очевидно, ошибочности наших рассуждений. В чем же, однако, заключается эта ошибка?
Почти четверть века, с 1881 по 1905 год, физики всего мира ломали головы над этим вопросом, но все предлагавшиеся объяснения неизбежно приводили все к новым и новым противоречиям между теорией и опытом.
Если источник звука и наблюдатель перемещаются в движущейся клетке, сделанной из тонких прутьев, то этот наблюдатель чувствует сильный ветер. Если измерять скорость звука по отношению к клетке, то в сторону движения она будет меньше, чем в обратном направлении. Однако, помещая источник звука и производя измерения скорости звука в вагоне с закрытыми дверьми и окнами, мы найдем, что поскольку воздух увлекается вместе с вагоном, скорость звука в нем окажется одинаковой по всем направлениям.
Переходя от звука к свету, можно было бы для объяснения результата опыта Майкельсона сделать следующее предположение. При своем движении в пространстве Земля не оставляет эфир неподвижным, проходя через него подобно клетке из тонких прутьев. Наоборот, допустим, что она увлекает эфир, составляя с ним в своем движении одно целое. Тогда результат опыта Майкельсона стал бы совершенно понятен.
Но это предположение находится в резком противоречии с большим количеством других опытов, например с распространением света в трубе, по которой движется вода. Если бы предположение об увлечении эфира было верным, то, измеряя скорость света в направлении движения воды, мы получили бы скорость, равную скорости света в неподвижной воде плюс скорость движения воды. Между тем непосредственное измерение дает скорость меньшую, чем следует из этого рассуждения.
Мы уже говорили о крайне странном положении, когда тела, проходя через эфир, не испытывают заметного трения. Но если они не только проходят через эфир, но и увлекают его за собой, то трение во всяком случае должно бы стать значительным!
Таким образом, все попытки обойти противоречие, создавшееся после неожиданного результата опыта Майкельсона, оказались безуспешными.
Подведем итоги.
Опыт Майкельсона подтверждает принципы относительности движения не только для движения обычных тел, но и для явления распространения света, то есть для всех явлений природы.
Как мы видели раньше, из принципа относительности движения непосредственно вытекает относительность скоростей: значения скорости должны быть различными для различных движущихся друг относительно друга лабораторий. Но, с другой стороны, скорость света — 300 000 километров в секунду — оказывается в различных лабораториях одинаковой. Следовательно, она не относительна, а абсолютна!
Глава четвертая
ВРЕМЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ
А есть ли на самом деле противоречие?
На первый взгляд может показаться, что мы имеем дело с чисто логическим противоречием. Постоянство скорости света в разных направлениях подтверждает принцип относительности, в то же время сама скорость света — абсолютна.
Вспомним, однако, отношение средневекового человека к факту шарообразности Земли: для него шарообразная форма Земли стояла в резком противоречии с наличием силы тяжести, поскольку все тела должны были бы скатиться с Земли «вниз». Между тем мы достоверно знаем, что никакого логического противоречия здесь нет. Просто-напросто понятия верха и низа являются не абсолютными, а относительными.
То же положение имеет место и в вопросе о распространении света.
Было бы напрасным искать логическое противоречие между принципом относительности движения и абсолютностью скорости света. Противоречие появляется здесь лишь потому, что мы при этом незаметно для самих себя ввели еще и другие предположения, подобно тому как, опровергая шарообразность Земли, средневековые люди считали абсолютными понятия верха и низа. Эта смешная для нас вера в абсолютность верха и низа создавалась вследствие ограниченности их опыта: в то время люди мало путешествовали и были знакомы лишь с небольшими участками земной поверхности. Очевидно, нечто подобное произошло и с нами — по-видимому, из-за ограниченности нашего опыта мы что-то относительное приняли за абсолютное. Что же именно?
Чтобы обнаружить нашу ошибку, впредь будем основываться только на положениях, установленных опытом.
Садимся в поезд
Представьте поезд длиной в 5 400 000 километров, который движется прямолинейно и равномерно со скоростью в 240 000 километров в секунду.
Пусть в некоторый момент времени в середине поезда зажглась лампочка. В переднем и заднем вагонах устроены автоматические двери, которые открываются в тот момент, когда на них падает свет. Что увидят люди в поезде и что увидят люди на платформе?
Отвечая на этот вопрос, будем, как условлено, придерживаться только опытных фактов.
Люди, сидящие в середине поезда, увидят следующее. Так как, согласно опыту Майкельсона, свет распространяется относительно поезда с одинаковой по всем направлениям скоростью — 300 000 километров в секунду, то через 9 секунд (2 700 000: 300 000) он дойдет одновременно до заднего и по переднего вагонов и обе двери откроются одновременно.
Что же увидят люди на платформе? Относительно станции свет также распространяется со скоростью 300 000 километров в секунду. Но задний вагон идет навстречу лучу света. Поэтому свет встретится с задним вагоном через 2 700 000 / (300 000 + 240 000) = 5 секунд. Передний же вагон луч света должен догонять, и поэтому достигнет его лишь спустя 2 700 000 / (300 000–240 000) = 45 секунд.
Итак, людям на платформе покажется, что двери в поезде откроются не одновременно. Сначала откроются задние двери и лишь спустя 45 — 5 = 40 секунд откроются передние[1].
Таким образом, два совершенно сходных события — открытие передних и задних дверей поезда — окажутся для людей в поезде одновременными, а для людей на платформе — разделенными промежутком времени в 40 секунд.
«Здравый смысл» посрамлен
Есть ли в этом противоречие? Не является ли обнаруженный факт полнейшим абсурдом, вроде такого: «Длина крокодила от хвоста до головы два метра, а от головы до хвоста один метр»?
Попытаемся вдуматься, почему полученный результат кажется нам столь нелепым, несмотря на то, что он находится в полном согласии с опытными фактами.
Но сколько бы мы ни думали, нам не удастся найти логическое противоречие в том, что два явления, происшедшие для людей в поезде одновременно, для людей на платформе оказались разделенными промежутком времени в 40 секунд.
Единственное, что мы сможем сказать себе в утешение, — это то, что наши выводы противоречат «здравому смыслу».
Но вспомним, как «здравый смысл» человека средних веков сопротивлялся факту вращения Земли вокруг Солнца! Ведь в самом деле, весь повседневный опыт говорил средневековому человеку с непреложной достоверностью, что Земля покоится, а Солнце движется вокруг нее. И разве не «здравому смыслу» обязаны люди упоминавшемуся смехотворному доказательству невозможности шарообразной формы Земли?!
Столкновение «здравого смысла» с реальным фактом высмеяно в известном анекдоте о фермере, который, увидя в зоологическом саду жирафа, воскликнул: «Этого не может быть!»
Так называемый здравый смысл являет собой не что иное, как простое обобщение наших представлений и привычек, сложившихся в повседневной жизни.
Это определенный уровень понимания, отражающий уровень опыта.
Вся трудность понять и осмыслить то, что нам на платформе будут представляться неодновременными два события, происходящие в поезде одновременно, подобна затруднению фермера, которого озадачил вид жирафа. Подобно фермеру, никогда не видевшему этого животного, мы никогда не двигались со скоростью, даже отдаленно приближающейся к баснословной скорости 240 000 километров в секунду. Нет ничего удивительного в том, что, когда физики сталкиваются со столь баснословными скоростями, они наблюдают факты, весьма отличные от тех, к которым мы привыкли в повседневной жизни.
Неожиданный результат опыта Майкельсона, поставивший физиков перед этими новыми фактами, заставил их пересмотреть, даже вопреки «здравому смыслу», такие, казалось бы, очевидные и привычные представления, как одновременность двух событий.
Конечно, можно было бы, оставаясь на почве «здравого смысла», отрицать наличие новых явлений, но, поступая так, уподобляешься фермеру из анекдота.
Время постигает судьба пространства
Наука не боится столкновений с так называемым здравым смыслом. Ее страшит лишь несогласие существующих представлений с новыми данными опыта, и, если это имеет место, наука безжалостно ломает сложившиеся представления, поднимая наши знания на более высокую ступень.
Мы считали, что два одновременных события являются одновременными в любой лаборатории. Опыт привел нас к иному выводу. Выяснилось, что это верно лишь в том случае, когда лаборатории покоятся друг относительно друга. Если же две лаборатории движутся друг относительно друга, то события, одновременные в одной из них, должны быть признаны разновременными в другой. Понятие одновременности становится относительным, оно имеет смысл лишь при указании, как движется лаборатория, где эти события наблюдаются.
Вспомним пример с относительностью угловых величин, о котором мы говорили на стр. 9. Как обстоит дело там? Пусть угловое расстояние между двумя звездами при наблюдении с Земли оказалось равным нулю, так как обе звезды попали на общую прямую. В повседневной жизни мы никогда не придем к противоречию, считая это утверждение абсолютным. Иное дело, если покинуть пределы Солнечной системы и наблюдать те же звезды с какой-либо другой точки пространства. Угловое расстояние в этом случае окажется уже отличным от нуля.
Тот очевидный для современного человека факт, что две звезды, которые совпадают при наблюдении с Земли, могут не совпадать при наблюдении из других точек пространства, показался бы нелепым человеку средних веков, представлявшему небо в виде купола, усыпанного звездами.
Допустим, что задан вопрос: а как на самом деле, — отвлекаясь от всяких лабораторий, — являются ли два события одновременными или же нет? К сожалению, этот вопрос имеет не больше смысла, чем вопрос: а как на самом деле, — отвлекаясь от точек, из которых ведется наблюдение, — находятся две звезды на одной прямой или же нет? В том-то и дело, что как нахождение на одной прямой связано не только с положениями двух звезд, но и с точкой, из которой они наблюдаются, так и одновременность связана не только с обоими событиями, но и с лабораторией, в которой производится наблюдение за этими событиями.
Пока мы имели дело со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света, мы не могли обнаружить относительность понятия одновременности. И лишь изучая движения, обладающие скоростями, сравнимыми со скоростью света, мы вынуждены были пересмотреть понятие одновременности.
Совершенно аналогично этому люди вынуждены были пересмотреть понятия верха и низа, когда стали путешествовать на расстояния, сравнимые с размерами Земли. До этого представление о плоской Земле, конечно, не могло привести ни к какому противоречию с опытом.
Правда, мы не имеем возможности перемещаться со скоростями, близкими к скорости света, и на своем личном опыте наблюдать те парадоксальные, с точки зрения старых представлений, факты, о которых мы только что говорили. Но благодаря современной технике эксперимента мы можем с полной достоверностью обнаружить эти факты в ряде физических явлений.
Итак, время постигла та же судьба, что и пространство! Слова «в одно и то же время» оказались столь же малозначащими, как и слова «в одном и том же месте».
Промежуток времени между двумя событиями, так же как и пространственное расстояние между ними, требует указания той лаборатории, по отношению к которой это утверждение делается.
Наука торжествует
Открытие факта относительности времени представляет собой глубокий переворот в воззрениях человека на природу. Оно является одной из величайших побед человеческого разума над косностью веками сложившихся представлений. Его можно сравнить лишь с переворотом в человеческих представлениях, связанным с открытием шарообразности Земли.
Открытие относительности времени было сделано в 1905 году величайшим физиком XX века Альбертом Эйнштейном (1880–1955). Это открытие выдвинуло 25-летнего Эйнштейна в ряды титанов человеческой мысли. В нашей памяти он стал наряду с Коперником и Ньютоном пролагателем новых путей в науке.
В. И. Ленин назвал Альберта Эйнштейна одним из «великих преобразователей естествознания».
Учение об относительности времени и вытекающие из него следствия именуются обычно теорией относительности. Ее не следует путать с принципом относительности движения.
Скорость имеет предел
До второй мировой войны самолеты летали со скоростью, меньшей скорости звука, а теперь построены и «сверхзвуковые» самолеты. Радиоволны распространяются со скоростью света. Но нельзя ли поставить перед собой задачу — создать «сверхсветовую» телеграфию, чтобы передавать сигналы со скоростью еще большей, чем скорость света? Это оказывается невозможным.
В самом деле, если бы можно было осуществить передачу сигналов с бесконечной скоростью, то мы получили бы возможность устанавливать однозначным образом одновременность двух событий. Мы говорили бы, что эти события произошли одновременно, если бы бесконечно быстрый сигнал о первом событии приходил одновременно с сигналом о втором событии. Таким образом, одновременность получила бы абсолютный характер, не зависящий от движения той лаборатории, к которой относится это утверждение.
Но поскольку абсолютность времени опровергается опытом, мы заключаем, что передача сигналов не может быть мгновенной. Скорость передачи действия из одной точки пространства в другую не может быть бесконечной, другими словами — не может превышать некоторой конечной величины, называемой предельной скоростью.
Эта предельная скорость совпадает со скоростью света.
В самом деле, согласно принципу относительности движения, во всех движущихся друг относительно друга (прямолинейно и равномерно) лабораториях законы природы должны быть одинаковы. Утверждение, что никакая скорость не может превышать данного предела, есть также закон природы, и поэтому значение предельной скорости должно быть совершенно одинаково в различных лабораториях. Этими же свойствами, как мы знаем, отличается и скорость света.
Таким образом, скорость света — это не просто скорость распространения некоего явления природы. Она играет важнейшую роль предельной скорости.
Открытие существования в мире предельной скорости является одним из величайших триумфов человеческой мысли и экспериментальных возможностей человечества.
Физик прошлого столетия не мог додуматься до того, что в мире существует предельная скорость, что факт ее существования можно доказать. Более того, если бы даже он в своих опытах наткнулся на наличие в природе предельной скорости, он не мог быть уверен, что это закон природы, а не следствие ограниченности экспериментальных возможностей, которые могут быть устранены в процессе дальнейшего развития техники.
Принцип относительности показывает, что существование предельной скорости лежит в самой природе вещей. Рассчитывать, что прогресс техники даст возможность достичь скоростей, превышающих скорость света, столь же смешно, как полагать, что отсутствие на земной поверхности точек, разделенных расстоянием свыше 20 тысяч километров, есть не географический закон, а ограниченность наших знаний, и надеяться, что по мере развития географии удастся отыскать на Земле точки, еще более удаленные друг от друга.
Скорость света потому и играет такую исключительную роль в природе, что она является предельной скоростью для распространения чего бы то ни было. Свет либо опережает всякое другое явление, либо, в крайнем случае, доходит с ним одновременно.
Если бы Солнце раскололось на две части и образовало бы двойную звезду, то, конечно, изменилось бы и движение Земли.
Физик прошлого столетия, не знавший о существовании в природе предельной скорости, безусловно предположил бы, что изменение движения Земли произошло бы мгновенно вслед за раскалыванием Солнца. Между тем свету понадобилось бы восемь минут, чтобы дойти от расколовшегося Солнца до Земли.
В действительности, однако, изменение в движении Земли тоже начнется лишь спустя восемь минут после того, как расколется Солнце, и до этого момента Земля будет двигаться так, как если бы Солнце не раскололось. Да и вообще ни одно событие, происшедшее с Солнцем или на Солнце, не окажет никакого влияния ни на Землю, ни на ее движение до истечения этих восьми минут.
Конечная скорость распространения сигнала, разумеется, не лишает нас возможности устанавливать одновременность двух событий. Для этого надо только учесть время запаздывания сигнала, как это обычно и делается.
Однако такой способ установления одновременности уже вполне совместим с относительностью этого понятия. В самом деле, чтобы вычесть время запаздывания, мы должны будем разделить расстояние между местами, в которых произошли события, на скорость распространения сигнала. С другой стороны, еще обсуждая вопрос о посылке писем из экспресса Москва — Владивосток, мы видели, что само место в пространстве — понятие тоже весьма относительное!
Раньше и позже
Предположим, что в нашем поезде с зажигающейся лампочкой, который мы будем называть поездом Эйнштейна, испортился механизм автоматических дверей, и люди в поезде заметили, что передняя дверь открылась на 15 секунд раньше, чем задняя. Люди на станционной платформе увидят, что, наоборот, задняя дверь открылась на 40–15 = 25 секунд раньше. Таким образом, то, что для одной лаборатории произошло раньше, для другой может произойти позже.
Однако сразу возникает мысль, что такая относительность понятий «раньше» и «позже» все же должна иметь свои пределы. Так, вряд ли можно допустить (с точки зрения какой бы то ни было лаборатории), что ребенок родился раньше своей матери.
На Солнце образовалось пятно. Через восемь минут это пятно увидел астроном, наблюдающий за Солнцем в телескоп. Все, что сделает астроном после этого, будет абсолютно позже, чем появилось пятно, — позже с точки зрения любой лаборатории, где наблюдают солнечное пятно, и астронома. Напротив, все, что произошло с астрономом раньше, чем за восемь минут до возникновения пятна (так, чтобы световой сигнал об этом событии пришел бы на Солнце до появления пятна), произошло абсолютно раньше.
Если же астроном, например, надел очки в момент, лежащий между этими двумя границами, то временное соотношение между появлением пятна и надеванием очков астронома не будет уже абсолютным.
Мы можем двигаться относительно астронома и пятна так, чтобы в зависимости от скорости и направления своего движения видеть астронома, надевающего очки раньше, позже или одновременно с появлением пятна.
Таким образом, принцип относительности показывает, что временные соотношения между событиями бывают трех типов: абсолютно раньше, абсолютно позже и «не раньше и не позже», точнее, раньше или позже, смотря по тому, из какой лаборатории наблюдаются эти события.
Глава пятая
ЧАСЫ И ЛИНЕЙКИ КАПРИЗНИЧАЮТ
Снова садимся в поезд
Перед нами очень длинная железная дорога, по которой движется поезд Эйнштейна. На расстоянии 864 000 000 километров друг от друга находятся две станции. При скорости 240 000 километров в секунду поезду Эйнштейна понадобится час, чтобы пройти это расстояние.
На обеих станциях имеются часы. На первой станции в вагон садится путешественник и перед отходом поезда проверяет свои часы по станционным. По приезде на другую станцию он с удивлением замечает, что его часы отстали. В мастерской путешественника заверили, что его часы в полном порядке.
В чем же дело?
Чтобы разобраться в этом, представим, что пассажир направляет к потолку луч света из фонарика, поставленного на пол вагона. На потолке расположено зеркало, от которого луч света отражается обратно к лампочке фонарика. Путь луча, каким его видит пассажир в вагоне, изображен в верхней части рисунка на стр. 51. Совсем иначе выглядит этот путь для наблюдателя, находящегося на платформе. За то время, что луч света пройдет от лампочки до зеркала, само зеркало вследствие движения поезда переместится. Пока луч будет возвращаться, лампочка переместится еще на такое же расстояние.
Мы видим, что для наблюдателей на платформе свет прошел явно большее расстояние, чем для наблюдателей в поезде. С другой стороны, мы знаем, что скорость света есть абсолютная скорость, она одинакова и для едущих в поезде, и для тех, кто стоит на платформе. Это заставляет нас сделать вывод: на станции между отправлением и возвращением луча света прошло больше времени, чем в поезде!
Нетрудно вычислить отношение времен.
Предположим, наблюдатель на платформе установил, что между отправлением и возвращением луча света прошло 10 секунд. За эти 10 секунд свет пробежал 300 000 X 10 = 3 000 000 километров. Отсюда следует, что стороны АВ и ВС равнобедренного треугольника ABC составляют каждая 1 500 000 километров. Сторона АС равна, очевидно, пути, пройденному поездом за 10 секунд, то есть 240 000 X 10 = 2 400 000 километров.
Теперь легко определить высоту вагона, которая будет высотой BD треугольника ABC.
В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (АВ) равен сумме квадратов катетов (AD и BD). Из равенства: AB2 = AD2 + BD2 получаем, что высота вагона
Путь, пройденный лучом от пола до потолка вагона и обратно, с точки зрения пассажира, равен, очевидно, удвоенной высоте, то есть 2 X 900 000 = 1 800 000 километров. Для прохождения этого пути свету понадобится 1 800 000 / 300 000 = 6 секунд.
Часы систематически отстают
Итак, в то время как на станции прошло 10 секунд, в поезде — всего лишь 6 секунд. Значит, если по станционному времени поезд пришел через час после своего отправления, то по часам пассажира пройдет всего 60 X (6 / 10) = 36 минут. Другими словами, часы путешественника отстали от станционных за час на 24 минуты.
Нетрудно догадаться, что отставание часов будет тем значительнее, чем больше скорость поезда.
Действительно, чем ближе скорость поезда к скорости света, тем ближе катет AD, изображающий путь, пройденный поездом, к гипотенузе АВ, изображающей путь, пройденный за то же время светом. Соответственно этому уменьшается отношение катета BD к гипотенузе. Но это отношение и представляет собой отношение времени в поезде и на станции. Приближая скорость поезда к скорости света, мы сможем добиться, чтобы за час станционного времени в поезде прошел сколь угодно малый промежуток времени. Так, при скорости поезда, равной 0,9999 скорости света, за час станционного времени в поезде пройдет лишь одна минута!
Таким образом, всякие движущиеся часы отстают от покоящихся. Не противоречит ли этот результат принципу относительности движения, из которого мы исходили?
Не означает ли это, что те часы, которые идут быстрее всех других, находятся в абсолютном покое?
Нет, потому что сравнение часов в поезде с часами на станциях происходило в совершенно неравноценных условиях. Ведь было не двое, а трое часов! Свои часы путешественник сравнивал с двумя разными часами на разных станциях. И наоборот, если бы в переднем и заднем вагонах поезда были вывешены часы, то наблюдатель на одной из станций, сравнивая показания станционных часов с показаниями часов в окнах проносящегося мимо него поезда, обнаружил бы, что систематически отстают станционные часы.
Ведь в данном случае — при равномерном и прямолинейном перемещении поезда относительно станции — мы вправе считать поезд неподвижным, а станцию передвигающейся. Законы природы в них должны быть одинаковы.
Каждый наблюдатель, неподвижный относительно своих часов, увидит, что спешат другие часы, перемещающиеся относительно него, и забегают вперед тем больше, чем с большей скоростью они движутся.
Это положение совершенно аналогично тому, что каждый из двух наблюдателей, стоящих у телеграфных столбов, стал бы утверждать, что его столб виден под большим углом, чем столб другого.
Машина времени
Представим себе теперь, что поезд Эйнштейна движется не по магистрали, а по окружной железной дороге, возвращаясь через определенное время снова к станции отправления. Как мы уже установили, пассажир при этом обнаружит, что его часы отстают и отстают тем больше, чем быстрее движется поезд. Увеличивая скорость поезда Эйнштейна на окружной железной дороге, можно достигнуть такого положения, что за то время, как для пассажира пройдет всего-навсего один день, для начальника станции пройдет много лет. Вернувшись (по своим часам!) через день домой на станцию отправления окружной дороги, наш пассажир узнает, что все его родные и знакомые давно уже умерли.
В отличие от путешествия между двумя станциями, когда пассажир проверяет свои часы по разным часам, здесь, при круговом маршруте, сравниваются показания уже не трех часов, а всего лишь двух: часов в поезде и часов на станции отправления.
Нет ли здесь противоречия с принципом относительности? Можно ли считать, что пассажир находится в покое, а станция отправления движется по окружности со скоростью поезда Эйнштейна? Ведь тогда мы пришли бы к выводу, что для людей на станции пройдет один день, в то время как для пассажиров пройдет много лет. Такое рассуждение, однако, было бы неверным, и вот почему.
В свое время мы выяснили, что можно считать покоящимся лишь такое тело, на которое не действуют никакие силы. Правда, существует не один, а бесчисленное множество «покоев», и два покоящихся тела могут, как мы знаем, двигаться относительно друг друга прямолинейно и равномерно. Но на часы в поезде Эйнштейна, мчащегося по окружной дороге, заведомо действует центробежная сила, и мы поэтому ни в коем случае не можем их считать покоящимися. В этом случае разница между показаниями покоящихся станционных часов и часов в поезде Эйнштейна является абсолютной.
Если два человека с часами, показывавшими одно и то же время, разошлись и через некоторое время встретились вновь, то большее время покажут часы того из них, который покоился или двигался равномерно и прямолинейно, то есть те часы, на которые не действовали никакие силы.
Поездка по окружной железной дороге со скоростью, близкой к скорости света, дает нам принципиальную возможность хотя бы в ограниченной степени осуществить «машину времени» Уэллса: выйдя снова на станции отправления, мы обнаружим, что попали в будущее. Правда, на этой машине времени мы можем отправиться в будущее, но лишены возможности вернуться в прошлое. И в этом; ее большое отличие от машины времени Уэллса.
Напрасно даже надеяться на то, что дальнейшее развитие науки позволит нам путешествовать в прошлое. Иначе пришлось бы признать принципиально возможными нелепейшие ситуации. В самом деле, отправившись в прошлое, можно было бы очутиться в абсурдном положении человека, родители которого еще не появились на свет. Путешествия же в будущее таят в себе лишь кажущиеся противоречия.
Путешествие на звезду
На небе есть звезды, расположенные от нас, например, на расстоянии, которое луч света проходит за 40 лет. Поскольку мы уже знаем, что движение со скоростью, большей скорости света, невозможно, то позволительно было бы прийти к выводу, что достигнуть этой звезды за промежуток времени-, меньший 40 лет, нельзя. Такое умозаключение, однако, ошибочно, так как оно не учитывает изменения времени, связанного с движением.
Предположим, что мы летим на звезду в ракете Эйнштейна со скоростью в 240000 километров в секунду. Для жителей Земли мы достигнем звезды через (300 000 X 40) / 240 000 = 50 лет.
Для нас же, летящих в ракете Эйнштейна, это время сократится при упомянутой скорости полета в отношении 10:6. Следовательно, мы достигнем звезды не через 50 лет, а через (6 / 10) X 50 = 30 лет.
Увеличивая скорость ракеты Эйнштейна, приближая ее к скорости света, можно сколько угодно сокращать время, которое понадобится путешественникам, чтобы добраться до столь отдаленной звезды. Теоретически при достаточно быстром полете можно было бы достичь звезды и вернуться обратно на Землю хоть за одну минуту! На Земле, однако, при этом все равно пройдет 80 лет.
Может показаться, что этим открываются возможности для продления человеческой жизни. Правда, лишь с точки зрения других людей, потому что человек стареет в соответствии со «своим» временем. Однако, к сожалению, эти перспективы при ближайшем рассмотрении оказываются более чем мизерными.
Начать с того, что человеческий организм не приспособлен к пребыванию в условиях длительного ускорения, заметно превышающего земное ускорение силы тяжести. Поэтому, чтобы разогнаться до скорости, приближающейся к световой, требуется весьма длительное время. Расчеты показывают, что при полугодовом путешествии и ускорении, равном земному ускорению силы тяжести, можно выиграть всего полтора месяца. Если такое путешествие продлить, выигрыш во времени будет быстро возрастать. Летя в ракете год, можно дополнительно выиграть еще полтора года, двухлетнее путешествие даст нам 28 лет, а за три года нашего пребывания в ракете на Земле пройдет более 360 лет!
Цифры, казалось бы, довольно утешительные.
Хуже обстоит с затратами энергии. Энергия движущейся ракеты, вес которой предельно скромен — 1 тонна, при полете со скоростью 260 000 километров в секунду (такая скорость необходима для «удвоения» времени, то есть для того, чтобы за каждый год путешествия в ракете на Земле проходило два года) равна 250 000 000 000 000 киловатт-часов. Столько энергии вырабатывается на всем земном шаре за много лет.
Однако мы вычислили лишь энергию ракеты в полете. Нами не учтено, что предварительно требуется еще разогнать наш летательный аппарат до скорости 260 000 километров в секунду! А по окончании путешествия ракету придется затормозить, чтобы можно было безопасно приземлиться. Сколько на это пойдет энергии?
Даже если бы в нашем распоряжении было топливо, дающее струю, которая вытекает из реактивного двигателя с самой большой из возможных скоростей — со скоростью света, то и тогда эта энергия должна была бы в 200 раз превышать количество, подсчитанное выше. То есть нам пришлось бы израсходовать столько энергии, сколько производит человечество за несколько десятилетий. Действительная же скорость выброса струи из двигателей ракеты в десятки тысяч раз меньше скорости света. И это делает потребные затраты энергии на предпринятый нами мысленно полет невероятно большими.
Предметы сокращаются
Итак, время, как мы только что убедились, сброшено со своего пьедестала абсолютного понятия, оно имеет относительный смысл, требующий точного указания тех лабораторий, в которых ведется измерение.
Обратимся теперь к пространству. Еще до описания опыта Майкельсона нами было выяснено, что пространство относительно. Несмотря на эту относительность пространства, мы все же приписывали размерам тел абсолютный характер, то есть считали, что они являются свойствами этого тела и не зависят от того, в какой лаборатории мы ведем наблюдение. Однако теория относительности заставляет нас распрощаться и с этим убеждением. Оно, как и представление об абсолютном времени, лишь предрассудок, возникший вследствие того, что мы всегда имеем дело со скоростями, ничтожно малыми по сравнению со скоростью света.
Представим себе, что поезд Эйнштейна проносится мимо станционной платформы, имеющей длину 2 400 000 километров.
Согласятся ли с этим утверждением пассажиры в поезде Эйнштейна? От одного конца платформы до другого поезд пройдет, по показаниям станционных часов, за 2 400 000 / 240 000 = 10 секунд. Но у пассажиров есть свои часы, и по ним движение поезда от одного конца платформы до другого займет меньше времени. Как мы уже знаем, оно будет равно всего б секундам. Из этого пассажиры с полным правом заключат, что длина платформы вовсе не 2 400 000 километров, а 240 000 X 6 = 1 440 000 километров.
Мы видим, что длина платформы, с точки зрения покоящейся относительно нее лаборатории, больше, чем с точки зрения лаборатории, относительно которой эта платформа движется. Всякое движущееся тело сокращается в направлении своего движения.
Однако это сокращение отнюдь не является признаком абсолютности движения: стоит нам поместиться в лаборатории, покоящейся относительно тела, как оно вновь удлинится. Совершенно так же пассажиры найдут, что платформа сократилась, а стоящим на ней людям покажется, что сократился поезд Эйнштейна (в отношении 6:10).
И это будет не обман зрения. То же самое покажут любые приборы, которыми можно воспользоваться, чтобы измерить длину тел.
В связи с обнаруженным сокращением предметов мы должны теперь ввести поправку в наши рассуждения на стр. 39 о времени открывания дверей в поезде Эйнштейна. Именно когда мы вычисляли момент открывания дверей, с точки зрения наблюдателей на станционной платформе, мы считали, что длина движущегося поезда будет такой же, как и покоящегося. Между тем для людей на платформе длина поезда сократилась. Соответственно этому промежуток времени между открыванием дверей, с точки зрения станционных часов, будет в действительности равен не 40 секундам, а всего (6 / 10) X 40 = 24 секундам.
Рисунки, которые помещены на стр. 61, изображают поезд Эйнштейна и станционную платформу, как они представляются наблюдателям на станции и в поезде. Мы видим, что на правом рисунке платформа длиннее поезда, а на левом — поезд длиннее платформы.
Какая из этих картин соответствует действительности?
Вопрос так же лишен смысла, как и вопрос о пастухе и корове на стр. 7.
И то и другое — картины одной и той же объективной действительности, «сфотографированные» с различных точек зрения.
Скорости капризничают
Какую скорость имеет пассажир относительно полотна железной дороги, если он идет к голове поезда со скоростью 5 километров в час, а поезд движется со скоростью 50 километров в час? Ясно, что скорость человека относительно полотна дороги равна 50 + 5 = 55 километрам в час. Рассуждение, которым мы при этом пользуемся, основывается на законе сложения скоростей, и в правильности этого закона у нас не возникает сомнений. В самом деле, за час поезд пройдет 50 километров, а человек в поезде — еще 5 километров. Итого 55 километров, о которых мы говорили.
Вполне понятно, что существование в мире предельной скорости лишает закон сложения скоростей его универсальной применимости к большим и малым скоростям. Ведь если пассажир движется в поезде Эйнштейна со скоростью, скажем, 100 000 километров в секунду, то скорость его относительно полотна железной дороги не может быть равной 240 000 + 100 000 = 340 000 километров в секунду, потому что эта скорость превосходит предельную скорость света и, следовательно, не может существовать в природе.
Таким образом, закон сложения скоростей, которым мы пользуемся в повседневной жизни, оказывается неточным. Он справедлив лишь для скоростей, достаточно малых по сравнению со скоростью света.
Читатель, привыкший уже ко всяким парадоксам теории относительности, легко поймет причины неприменимости, казалось бы очевидного, рассуждения, при помощи которого мы только что вывели закон сложения скоростей. Ведь для этого мы сложили расстояние, пройденное в один час поездом по полотну и пассажиром в поезде. Но теория относительности показывает нам, что эти расстояния складывать нельзя. Это было бы так же нелепо, как если бы для того, чтобы определить площадь поля, изображенного на этой странице, мы перемножили бы длины отрезков АВ и ВС, забыв, что последний, вследствие перспективы, на рисунке искажен. Кроме того, для определения скорости пассажира по отношению к станции мы должны определить путь, пройденный им за час по станционному времени, в то время как для установления скорости пассажира в поезде мы пользовались поездным временем, что, как нам уже известно, совсем не одно и то же.
Все это приводит к тому, что скорости, из которых по крайней мере одна сравнима со скоростью света, складываются совсем иначе, чем мы привыкли. Это парадоксальное сложение скоростей можно видеть на опыте, когда мы наблюдаем, например, за распространением света в движущейся воде (о чем говорилось выше). То обстоятельство, что скорость распространения света в движущейся воде не равна сумме скорости света в покоящейся воде и скорости движения воды, а меньше этой суммы, является прямым следствием теории относительности.
Особенно своеобразно складываются скорости в том случае, когда одна из них точно равна 300 000 километров в секунду. Эта скорость, как мы знаем, обладает свойством оставаться неизменной, как бы ни двигались лаборатории, в которых мы ее наблюдаем. Другими словами, какую бы скорость ни прибавить к 300 000 километров в секунду, мы получим опять ту же скорость — 300 000 километров в секунду.
С неприменимостью обычного правила сложения скоростей можно сопоставить простую аналогию.
Как известно, в плоском треугольнике (см. левый рисунок на стр. 65) сумма углов равняется двум прямым. Представим себе, однако, треугольник, начерченный на поверхности Земли (правый рисунок на стр. 65). Вследствие шарообразности Земли сумма углов такого треугольника уже будет больше двух прямых. Эта разница становится заметной лишь тогда, когда размеры треугольника сравнимы с размерами Земли.
Подобно тому как для измерения площадей небольших участков Земли можно пользоваться правилами планиметрии, так и при сложении небольших скоростей можно пользоваться обычным правилом их сложения.
Глава шестая
РАБОТА ИЗМЕНЯЕТ МАССУ
Масса
Допустим, что мы хотим заставить двигаться с определенной скоростью какое-нибудь покоящееся тело. Для этого мы должны приложить к нему силу. Тогда, если движению не препятствуют посторонние силы, вроде силы трения, тело придет в движение и будет перемещаться со все возрастающей скоростью. По истечении достаточного промежутка времени мы сможем довести скорость тела до нужного нам значения. При этом мы найдем, что для сообщения разным телам с помощью данной силы желаемой скорости понадобятся различные промежутки времени.
Чтобы отвлечься от трения, представим себе, что в мировом пространстве имеются два одинаковых по величине шара — свинцовый и деревянный. Будем тянуть каждый из этих шаров с одинаковой силой до тех пор, пока они не получат скорость, равную, например, десяти километрам в час.
Очевидно, чтобы добиться этого результата, к свинцовому шару придется прилагать силу в течение большего промежутка времени, чем к шару деревянному. Характеризуя это обстоятельство, говорят, что свинцовый шар обладает большей массой, чем деревянный. Поскольку скорость при действии постоянной силы растет пропорционально времени, за меру массы берется отношение времени, необходимого для достижения данной скорости из состояния покоя, к самой этой скорости. Масса пропорциональна этому отношению, причем коэффициент пропорциональности зависит от силы, вызывающей движение.
Масса возрастает
Масса является одним из наиболее важных свойств всякого тела. Мы привыкли к тому, что масса тел всегда остается неизменной. В частности, она не зависит от скорости. Это следует из нашего первоначального утверждения, что скорость при действии постоянной силы растет прямо пропорционально времени её действия.
Это утверждение основано на обычном правиле сложения скоростей. Однако мы только что доказали, что это правило применимо не во всех случаях.
Что мы делаем для того, чтобы получить значение скорости в конце второй секунды действия силы? Мы складываем скорость, которую тело имело в конце первой секунды, со скоростью, которую оно приобрело за вторую секунду, по обычному правилу сложения скоростей.
Но так можно поступать лишь до тех пор, пока приобретенные скорости не станут сравнимыми со скоростью света. В этом случае уже нельзя пользоваться старым правилом. Складывая скорости с учетом теории относительности, мы получим результат всегда несколько меньший, чем получили бы, пользуясь старым, непригодным уже правилом сложения. А это значит, что при больших значениях достигнутой скорости она уже будет расти не пропорционально времени действия силы, а медленнее. Это и понятно, поскольку существует предельная скорость.
По мере того как скорость тела приближается к скорости света, она возрастает при неизменной силе все медленнее и медленнее, так что предельная скорость никогда не будет превзойдена.
До тех пор пока представлялась возможность утверждать, что скорость тела растет пропорционально времени действия силы, массу можно было считать не зависящей от скорости тела. Но когда скорость тела становится сравнимой со скоростью света, пропорциональность между временем и скоростью тела исчезает и масса начинает зависеть от скорости. Поскольку время ускорения растет беспредельно, а скорость не может превзойти предельного значения, мы видим, что масса растет вместе со скоростью, достигая бесконечного значения, когда скорость тела становится равной скорости света.
Расчет показывает, что при движении масса тела возрастает во столько раз, во сколько уменьшается при движении его длина. Таким образом, масса поезда Эйнштейна, движущегося со скоростью 240 000 километров в секунду, в 10/6 раза больше, чем масса поезда покоящегося.
Вполне естественно, что, когда мы имеем дело с обычными скоростями, малыми по сравнению со скоростью света, можно пренебречь изменением массы совершенно так же, как мы пренебрегаем зависимостью размеров тела от его скорости или зависимостью промежутка времени между двумя событиями от скоростей, с которыми движутся наблюдатели этих событий.
Вытекающую из теории относительности зависимость массы от скорости можно проверить непосредственно на опыте, наблюдая за движением быстрых электронов.
В современных экспериментальных условиях электрон, движущийся со скоростью, близкой к скорости света, не редкость, а обыденная вещь. В специальных ускорителях электроны разгоняются до скоростей, отличающихся от скорости света меньше чем на 30 километров в секунду.
Таким образом, современная физика оказывается в состоянии сравнивать массу движущихся с огромной скоростью электронов с массой электронов покоящихся. Результаты опытов полностью подтвердили вытекающую из принципа относительности зависимость массы от скорости.
Сколько стоит грамм света?
Приращение массы тела тесно связано с произведенной над ним работой: оно пропорционально работе, которая нужна для того, чтобы привести тело в движение. При этом нет необходимости тратить работу только на приведение тела в движение. Любая работа, произведенная над телом, всякое увеличение энергии тела увеличивает его массу. Поэтому, например, нагретое тело имеет большую массу, чем холодное, сжатая пружина— большую массу, чем свободная. Правда, коэффициент пропорциональности между изменением массы и изменением энергии ничтожен: чтобы увеличить массу тела на один грамм, надо сообщить ему энергию в 25 миллионов киловатт-часов.
Вот почему изменение массы тел в обычных условиях крайне незначительно и ускользает от самых точных измерений. Так, нагревание тонны воды от нуля до кипения повлечет за собой увеличение ее массы примерно на пять миллионных долей грамма.
Если сжечь в закрытой топке тонну угля, то после охлаждения продукты горения будут иметь массу, лишь на одну трехтысячную долю грамма меньшую, чем уголь и кислород, из которых они образовались. Эту недостающую массу унесло выделившееся при горении угля тепло.
Однако современная физика знает и такие явления, в которых изменение массы тел играет заметную роль. Это явления, происходящие при столкновении атомных ядер, когда из одних ядер образуются другие. Так, например, при столкновении ядра атома лития с ядром атома водорода, в результате чего образуются два атома гелия, масса изменяется уже на 1/400 своей величины.
Мы уже говорили, что для увеличения массы тела на один грамм ему следует сообщить энергию в 25 миллионов киловатт-часов. Отсюда вытекает, что при превращении одного грамма смеси лития и водорода в гелий энергии выделяется в 400 раз меньше: 25 000 000 / 400 = 60 000 киловатт-часов!
Ответим теперь на такой вопрос: какое вещество из встречающихся в природе самое дорогое (если считать на вес)?
Принято считать, что это радий, один грамм которого, как указывается в иностранной литературе, еще недавно стоил примерно 25 000 рублей.
Определим, однако, стоимость… света.
В электрических лампочках всего лишь 1/20 часть энергии получается в форме видимого света. Поэтому грамм света соответствует количеству работы, в 20 раз большему, чем 25 миллионов киловатт-часов, то есть 500 миллионам киловатт-часов. Это составит, считая даже всего по десятой части копейки за киловатт-час, 500 000 рублей. Таким образом, грамм света в двадцать раз дороже грамма радия.
ИТОГИ
Итак, строгие и убедительные опыты заставляют нас признать правильность теории относительности, раскрывающей удивительные свойства окружающего мира, — свойства, которые ускользают от нас при первоначальном, точнее — при поверхностном изучении.
Мы увидели, какие глубокие, коренные изменения вносит теория относительности в основные понятия и представления, созданные человечеством в течение веков на основе опыта повседневной жизни.
Не означает ли это полного краха привычных представлений?
Не означает ли это, что вся физика, созданная до появления принципа относительности, зачеркивается и выбрасывается, как старая галоша, сослужившая в свое время службу, но теперь уже никому больше не нужная?
Если бы дело обстояло так, то заниматься научным исследованием было бы бесполезно. Никогда нельзя было бы быть уверенным, что в будущем не появится новое учение, целиком опрокидывающее старое.
Представим себе, однако, пассажира, который при поездке не в поезде Эйнштейна, а в обычном, хотя бы курьерском, вздумал бы ввести поправку на теорию относительности, опасаясь, что иначе его часы отстанут от станционных. Такого пассажира мы бы подняли на смех. В самом деле, ведь уже не говоря о том, что поправка составляет микроскопически малую долю секунды, влияние на самые лучшие часы хотя бы одной только тряски поезда во много раз больше.
Инженер-химик, сомневающийся в том, остается ли постоянной масса воды при нагревании, явно находится не в своем уме. Но зато физик, наблюдающий столкновение атомных ядер и не учитывающий изменения массы при ядерных превращениях, должен быть изгнан из лаборатории за невежество.
Конструкторы проектируют и будут проектировать свои двигатели, пользуясь законами старой физики, потому что поправки на теорию относительности имеют гораздо меньше влияния на их машины, чем микроб, севший, скажем, на маховик. Физик же, наблюдающий за быстрыми электронами, обязан учесть изменение массы электронов со скоростью.
Таким образом, теория относительности не опровергает, а лишь углубляет созданные старой наукой понятия и представления и определяет границы, в пределах которых эти старые понятия могут применяться без того, чтобы приводить к неверным результатам. Все законы природы, открытые физиками до рождения теории относительности, не отменяются, а лишь ясно очерчиваются границы их применимости.
Соотношение между физикой, учитывающей теорию относительности, именуемой иначе релятивистской, и старой физикой, которую называют классической, примерно такое же, как между высшей геодезией, учитывающей шарообразность Земли, и низшей геодезией, пренебрегающей этой шарообразностью. Высшая геодезия должна исходить из относительности понятия вертикали, релятивистская физика должна учитывать относительность размеров тела и промежутков времени между двумя событиями — в противоположность классической физике, для которой этой относительности не существует.
Подобно тому как высшая геодезия является развитием низшей, релятивистская физика явилась развитием и расширением физики классической.
Мы можем совершить переход от формул сферической геометрии — геометрии на поверхности шара к формулам планиметрии — геометрии на плоскости, если будем считать, что радиус Земли бесконечно велик. Земля окажется тогда уже не шаром, а бесконечной плоскостью, вертикаль получит абсолютное значение, сумма углов в треугольнике окажется в точности равной двум прямым.
Аналогичный переход мы можем осуществить и в релятивистской физике, если будем считать, что скорость света бесконечно велика, то есть что свет распространяется мгновенно.
В самом деле, если свет распространяется мгновенно, то, как мы видели, понятие одновременности становится абсолютным. Промежутки времени между событиями и размеры тел получают абсолютный смысл без отношения к тем лабораториям, из которых они наблюдаются. Следовательно, все классические представления можно сохранить, если только скорость света считать бесконечной.
Однако всякая попытка сочетать конечную скорость света с сохранением старых представлений о пространстве и времени ставит нас в глупое положение человека, который знает, что Земля шарообразна, но уверен, что вертикаль того города, где он живет, есть абсолютная вертикаль, и опасается уходить далеко от места своего жительства, дабы не скатиться кубарем в мировое пространство.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Странички воспоминаний о Л. Д. Ландау
В этих заметках я не хочу касаться научных трудов Л. Д. Ландау. Современная теоретическая физика не доступна неспециалистам. Умение популяризировать эту науку — особый талант, которым обладают не все. Я не считаю и себя обладателем такого таланта, несмотря на то, что в соавторстве с Львом Давидовичем написал книжку «Что такое теория относительности».
Мне вспоминается шутливый отзыв, который давал этой книжке сам Ландау: «Два жулика уговаривают третьего, что за гривенник он может понять, что такое теория относительности».
Попытка дать представление нефизику о научном творчестве Ландау в коротких заметках — это попытка с негодными средствами. Она должна быть отвергнута с самого начала.
Я не хотел бы также отдавать и малой дани той популярной легенде, в которой Ландау фигурирует «в сандалиях и ковбойке». Потому что (воспользуюсь подходящим термином) центр тяжести образа Ландау не здесь — не в его парадоксальных высказываниях, которые превращают его в героя анекдотов, а в том, что это был крупнейший ученый-физик мирового масштаба и создатель выдающейся школы советских физиков.
В читальном зале библиотеки Ленинградского университета стоит восемнадцатилетний мальчик с прядью черных волос, спускающейся на высокий, красивый лоб. Он только что получил последний выпуск «Annalen der Phisik». Здесь он обнаруживает первую статью Шредингера по квантовой механике «Квантование как проблема собственных значений». Мальчик не отдает себе отчета в том, что наступает звездная минута его жизни и что этот момент предопределит все его будущее.
Он не все понимает в прочитанной статье. (Как он рассказывал впоследствии, тогда он еще не вполне ясно представлял себе, что такое вариационное исчисление, хотя и перерешал все примеры в задачнике Веры Шифф по дифференциальному и интегральному исчислению.)
Но он все же «продирается» через эту статью, которая, по его признанию, произвела на него столь же ошеломляющее впечатление, как и первое знакомство с теорией относительности.
За первой статьей Шредингера следует вторая. Вскоре мальчик узнает о том, что наряду с волновой механикой Шредингера в Геттингене развивается матричная механика, исходящая из совершенно других идей, казалось бы, в корне противоположных идеям Шредингера.
Окончательно вопрос проясняется, когда в руки этого мальчика попадает статья Шредингера об эквивалентности обеих механик — волновой и матричной. И мальчик понимает, что нашел свой путь в жизни.
Обычно будущий ученый узнает о своей науке из уст другого ученого — более опытного и старшего — своего учителя. Ландау не мог ни у кого учиться квантовой механике. Не потому, что не было хороших учителей, а потому, что самой квантовой механики тогда еще не существовало. Он до всего должен был доходить сам. Память об этом времени сказалась в его нелюбви к традиционному изображению ученого, стоящего на стремянке у верхней полки своей библиотеки. Ландау говорил: «Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги — это кладбища, где погребены идеи прошлого».
В период своего своеобразного обучения Ландау выработал метод, сохранившийся у него на всю жизнь. Он проглатывал огромное количество научных журналов. Но в каждой статье определял только постановку задачи и затем смотрел в конец статьи, чтобы узнать результат. Промежуток не читал, утверждая: «Мне нужно узнать от автора, что он делает; как делать, я сам знаю лучше».
В Харькове около 1936 года стала возникать школа Ландау.
Появились первые ученики. Своеобразие возникавшей школы заключалось в том, что учениками Ландау были его однолетки или люди моложе его лишь на несколько лет. Все ученики были «на ты» друг с другом и с учителем. Когда они собирались вместе, то эти собрания напоминали по духу собрания способных студентов, готовящих свои дипломные работы, а не семинары у знаменитого на весь мир ученого.
Очень часто ученики вступали в спор с учителем. Иногда Ландау терпеливо опровергал мнение какого- нибудь из своих ретивых оппонентов, а иногда заканчивал спор вопросом: «Кто кого обучает: ты меня или я тебя? Не мое дело искать ошибки в твоих рассуждениях. Укажи мне лучше ошибки в моих».
Будущая школа физиков уверенно развивалась, становилась на ноги. К Ландау устремилось много молодых людей различных способностей и различных вкусов. Неизбежно возникла необходимость научиться сортировать желающих и отбирать тех из них, которые смогли бы стать теоретиками-профессионалами.
Ландау считал, что заниматься теоретической физикой без предварительных глубоких и прочных знаний бессмысленно. Но изучать физику, по мысли Ландау, значило прежде всего уметь выбирать, что стоит и чего не стоит изучать.
«Жизнь человека, — говорил Ландау, — слишком коротка, чтобы браться за безнадежные проблемы; память ограниченна, и чем больше научного сора будет в твоей голове, тем меньше останется места для великих мыслей» (он говорил это с улыбкой).
В тесном кругу учеников происходил отбор материала по механике, электродинамике, теории относительности, статистической физике и квантовой механике, который необходимо знать человеку, пытающемуся плодотворно работать в области теоретической физики.
Так возник теорминимум. Ландау принял зачет по теорминимуму от своих первых учеников. А затем уже они сами принимали зачеты от людей, желающих вступить в школу Ландау.
Многие из выдающихся ныне ученых на всю жизнь запомнили, как они сдавали эти экзамены.
Что же представлял собой теорминимум?
Очень продуманную и скупо составленную программу по теоретической физике с подробным указанием литературы — книг, параграфов из них и журнальных статей.
Когда Ландау почувствовал в себе дар выдающегося педагога (здесь, по-моему, ему не было равных), когда его школа стала завоевывать авторитет в научном мире, и притом далеко за пределами нашей страны, возникла мысль изложить теоретическую физику в виде единого курса, чтобы по нему можно было изучать не только теорминимум, но и более глубоко — современную теоретическую физику.
Говоря о курсе теоретической физики, задуманном Ландау, нельзя не подчеркнуть важности вклада, который внес в осуществление этого замысла Е. М. Лифшиц — один из первых учеников Ландау. Безусловно, все согласятся с тем, что без Евгения Михайловича такой курс не появился бы. Он привнес в создаваемый курс много новых научных идей, он затратил на него много самоотверженного труда, добиваясь ясности и точности изложения.
К сожалению, это замечательное творение не было закончено при жизни Льва Давидовича. Но его ученики во главе с Е. М. Лифшицем достойно продолжают дело своего учителя. Чувствуются вкусы, идеи и почерк Ландау. Нет сомнения, что курс будет успешно завершен.
Огромную роль в научной жизни и педагогической практике школы Ландау играл ландауский семинар.
В четверг к 11 часам дня в Институт физических проблем собирались видные физики из всех институтов Москвы. Вход на семинар был совершенно свободный и никем не контролировался.
В первом ряду усаживался Ландау и его ближайшие сотрудники, которые главным образом и участвовали в дискуссии. Остальные ряды прислушивались.
Докладчики и предполагаемые темы докладов (как правило, они посвящались статьям в последних выпусках научных журналов) утверждались самим Ландау. Каждый докладчик должен был сформулировать постановку задачи, данную автором обсуждаемой работы, и привести решение, полученное автором. Особенно Ландау ценил, когда докладчик предлагал новый, отличный от излагаемого метод решения.
Очень часто вслед за тем, как формулировалась постановка задачи и излагался окончательный результат, Ландау после короткого размышления объявлял: «Эта статья — сплошная патология. Не стоит терять на нее время». И доклад безжалостно снимался.
Семинар преследовал двойную цель. Во-первых, учебную: он приучал молодых, начинающих физиков формулировать свои мысли в той логически безупречной форме, которая удовлетворяла Ландау (что само по себе было нелегко). Во-вторых, научную: семинар позволял Ландау и его ближайшим сотрудникам узнавать об идеях, содержащихся в последних выпусках научных журналов, получая их в достаточно обработанном для понимания виде.
Наибольшую пользу от этой системы получал сам Ландау.
Время своей первой заграничной командировки Ландау провел в Копенгагене у Бора, в Цюрихе у Паули и в Кембридже у Резерфорда.
Меня познакомил с ним в Берлине в самом конце 1929 года на коллоквиуме по теоретической физике Павел Сигизмундович Эренфест.
Ландау с сожалением сказал мне: «Как все хорошие девушки уже разобраны и замужем, так и все хорошие задачи решены. И вряд ли я найду что-нибудь достойное среди оставшихся».
Но он нашел.
В январе 1930 года, будучи у Паули в Цюрихе, он обнаружил последнюю, по его словам, из хороших задач: квантование движения электронов в постоянном магнитном поле. Решил он эту задачу весной — в Кембридже, у Резерфорда. Так в истории физики наряду с парамагнетизмом Паули появился диамагнетизм Ландау.
Это была удачная находка, потому что в знаменитой диссертации Бора было строго показано, что классическое рассмотрение не дает вклада электронов в диамагнетизм металлов. Этой работой Ландау закрепился в ряду могучих физиков эпохи бури и натиска и присвоил себе в своей классификации ученых второй класс. Первый класс в ней занимали Бор, Шредингер, Гейзенберг, Дирак и (впоследствии) Ферми. Эйнштейну он отводил высший — половинный — класс.
Встреча с Паули произвела на Ландау огромное впечатление. Я вспоминаю, что как-то в Москве Ландау пытался вступить с Паули в спор. Но Паули ему сказал: «Ах, нет, Ландау, подумайте сами».
Зрелище было весьма непривычное.
Говорят, что характер Ландау в его молодые годы проявлялся в задиристости, категоричности суждений (речь идет не о физике), граничащей с нарочитой эксцентричностью.
Эти черты напоминали мне молодого Маяковского, когда он еще ходил в желтой кофте и потрясал своих случайных слушателей высказываниями о себе и своей значимости.
Сходство неизбежно заставляет искать общее объяснение. Я думаю, дело здесь в том, что подобные проявления своего «я» свойственны гению, который выходит на подобающее ему место.
Когда Маяковский добился общего признания, он стал мягче, снисходительнее и добрее.
Тот же путь прошел и Ландау. Когда к нему пришло всеобщее признание — как на родине, так и за рубежом, — он перестал быть задиристым. Я счастлив тем, что в годы невзгод в полной мере испытал на себе его доброе отношение к людям, его привязанность к старым товарищам и друзьям.
В области теоретической физики, по моему мнению, ученых можно разделить, как это делается в музыке, на исполнителей и композиторов. Редко эти два направления творчества представлены в одном музыканте.
Физик-композитор, создатель новой теории, должен до некоторой степени идти на риск отказа от стройной системы в рамках традиционно привычной логики.
Привычной логике на первый взгляд противоречит утверждение Эйнштейна, что скорость света одинакова во всех системах отсчета, или утверждение Бора, что электрон излучает в момент перехода с одной орбиты на другую и не излучает, пребывая на одной орбите.
Следует, однако, заметить, что «на высшем уровне» научного творчества грань между ученым-композитором и ученым-исполнителем в значительной мере стирается и становится подчас неуловимой.
Судьба наделила Ландау потрясающей по силе логической машиной, позволявшей ему немедленно усматривать противоречия и недоделки в работах своих коллег и отбрасывать их как «патологические». Но это же свойство его ума иногда обращалось против него, поскольку он не позволял себе выходить за рамки своей железной логики.
Поэтому он являлся одним из лучших в мире исполнителей и мог решить любую задачу, если она вообще была разрешима. И тут, по логике творчества, он порою превращался в композитора — без «своей музыки» решение не далось бы в руки.
За что же Ландау пользовался такой любовью и таким уважением во всем научном мире?
Мне кажется, что дело здесь прежде всего в том, что для людей науки в высшей степени характерно испытывать непреодолимое, свободное от всякой зависти восхищение перед подлинным талантом.
Поражала научная честность Ландау. Он никогда не делал вида, что понимает вопрос, чтобы отделаться фразой, брошенной с высоты своего величия.
Огромное впечатление производила универсальность знаний Ландау. В то время как в теоретической физике все более обнаруживался опасный уклон к специализации (дело дошло до того, что сегодня специалисты по элементарным частицам перестают понимать специалистов по квантовой теории поля!), Ландау чувствовал себя уверенно в самых различных и отстоящих далеко друг от друга разделах теоретической физики.
Он не старел; вместе с расширением объема физических знаний рос и совершенствовался его талант.
Правда, близкие товарищи замечали, что иногда он отмежевывался от вопроса замечанием: «Ну, это меня не интересует». Но вскоре оказывалось, что он не забывает заданных ему вопросов: подобно шахматисту, играющему на нескольких досках сразу, он использовал свойство своего ума обдумывать одновременно несколько различных проблем. Если вопрос был стоящий, Ландау некоторое время спустя как бы невзначай выдавал ответ: «Между прочим, ты спрашивал меня о том-то… Так вот..!» Далее следовало подробное объяснение.
Я думаю, что должно быть написано несколько биографий Ландау.
Прежде всего — научная биография. Роль ее в значительной степени выполняет статья Е. М. Лифшица, приложенная к двухтомному собранию трудов Ландау. Хотелось бы, чтобы у Евгения Михайловича нашлось время значительно расширить ее.
Собрание трудов Ландау должно быть снабжено большими и подробными примечаниями, облегчающими их чтение, чтобы любой студент мог учиться по этим статьям, а не смотреть на них как на реликвии прошлой эпохи.
Профессор Ю. Б. РУМЕР
Живая речь Ландау
Тринадцать лет отделяют нас от трагического случая, прервавшего блестящую деятельность Льва Давидовича Ландау. Уже никто из тех, кто избирает теперь теоретическую физику делом своей жизни, не имеет возможности получить напутствие от человека, дверь к которому была открыта всякому, ищущему его совета в науке. Отходит в прошлое, обрастая легендами, и облик этого необыкновенного человека. Даже самые яркие воспоминания тех, кто имел счастье находиться среди его близких учеников и друзей, не могут передать в полной мере своеобразие, блеск и обаяние его личности.
Всякие воспоминания неизбежно несут в себе что-то и от личности вспоминающего, и лишь прямая, не искаженная никем другим речь человека раскрывает свойства его души.
Живую речь человека доносят после смерти его письма. Но письма Лев Давидович писал с большим трудом и писал нечасто. Ему вообще было трудно излагать свои мысли на бумаге (так, на одно из предложений написать популярную статью он отвечает: «Вы, возможно, слышали, что я совершенно не способен к какой-либо писательской деятельности, и все, написанное мной, всегда связано с соавторами»). Ему было нелегко написать даже статью с изложением собственной (без соавторов!) научной работы, и все такие статьи в течение многих лет писались для него другими. Непреодолимое стремление к лаконичности и четкости выражений заставляло его так долго подбирать каждую фразу, что в результате труд написания чего угодно — будь то научная статья или личное письмо — становился мучительным.
Тем более замечательно и характерно для его высокого чувства долга, что Лев Давидович всегда (хотя иногда и не сразу) отвечал на письма тех, кто обращался к нему за советом или помощью. («Отвечаю с задержкой, отнюдь не принципиальной, а связанной только с тем, что я с трудом пишу письма и поэтому очень долго собираюсь»; и снова: «Извините за задержку, связанную с моей крайней антипатией к эпистолярному искусству»).
В течение многих лет он диктовал эти письма прямо на машинку в секретариате Института физических проб- дем, расхаживая по комнате и тщательно обдумывая каждую фразу. Нине Дмитриевне Лошкаревой, многолетнему референту института, мы обязаны тем, что копии этих писем — хотя они были «личные», а не «служебные» — сохранились.
Много писалось о том, что Ландау был не только гениальным физиком, но и учителем по призванию. Объединение в одном лице этих двух качеств в таком масштабе встречается нечасто в истории науки; в этом отношении позволительно сравнить Ландау с его собственным учителем — великим Нильсом Бором. Хотя в их эмоциональном облике и свойствах характера было мало общего — доведенная до предела мягкость Бора не была похожа на экспансивность и резкость Ландау, — общим у них было нечто гораздо более глубокое: абсолютная бескомпромиссность в науке сочеталась с доброжелательностью к людям, готовностью помочь тому, кто искал свой путь в науке, умением радоваться чужому таланту и чужим научным успехам.
Естественно поэтому, что в переписке Льва Давидовича значительное место занимали ответы молодежи, обращавшейся к нему с вопросами, как и чему учиться. Эти ответы не только демонстрируют качества души Льва Давидовича, в них он многократно высказывал свои взгляды на обучение будущих физиков; эти взгляды будут интересны и новому поколению научной молодежи.
Студент одного из пензенских втузов пишет Льву Давидовичу о том, что много труда тратит на работу в лаборатории кафедры физики, на самостоятельное изучение математики и теоретической физики, но теряется перед множеством того, что надо знать. «Я еще в самом начале своего пути, мне плохо видны дороги, ведущие в науку, и я очень прошу помочь мне организоваться, взять правильное направление. А помочь Вы могли бы мне просто и очень многим: если бы Вы могли написать мне план, своего рода программу, что мне нужно изучить и в какой последовательности». Лев Давидович отвечает:
Дорогой тов. Б.!
Вы, по-видимому, всерьез интересуетесь физикой, и мне бы очень хотелось помочь Вам. Очень хорошо, что Вы понимаете, что для научной работы Вам нужно многому научиться.
Что касается того, чему Вам надо обучаться, то это очень существенно зависит от Ваших будущих планов. Дело в том, что современные физики бывают двух сортов — теоретики и экспериментаторы. Теоретики пишут пером формулы на бумаге, а экспериментаторы работают с приборами в лабораториях. Естественно, что этим двум категориям необходимо не вполне одинаковое образование. Ясно, что теоретическое образование теоретиков должно быть гораздо более полным и глубоким, хотя, конечно, и экспериментаторам нужно знать довольно много.
Поэтому обдумайте этот вопрос и напишите мне, каковы Ваши намерения. Тогда я охотно пришлю Вам соответствующие программы, после изучения которых Вы, как мне кажется, будете достаточно подготовлены для начала.
С наилучшими пожеланиями Ваш
Л. Ландау.
Рабочий Л. пишет Льву Давидовичу: «Через неделю я уезжаю из Москвы и буду бесконечно благодарен Вам, если Вы найдете время дать мне несколько советов о том, что и как я должен изучить для того, чтобы стать физиком-теоретиком, и о том — стоит ли мне к этому стремиться… Знания мои соответствуют примерно трем курсам мехмата МГУ, но мне уже 25 лет, и я рабочий». Пишет о проблемах, которые он пытался решить, о трудностях в понимании основ физических теорий, о том, как он пытался обойти эти трудности; упоминает также, что плохо усваивает иностранные языки. «Очень прошу Вас, Лев Давидович, напишите мне, пожалуйста, есть ли у меня надежда стать физиком. А если есть, то, кроме Вашей знаменитой программы и тех советов, которые Вы пожелаете мне дать, я прошу Вас сообщить мне, в какие сроки Ваша программа обычно выполняется, чтобы я мог еще раз оценить свои возможности. Лев Давидович! Я знаю, как дорого стоит Ваше время, и буду считать высокой честью для себя, если Вы мне ответите».
Лев Давидович пишет:
Уважаемый тов. Л.!
Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
Конечно, трудно сказать заранее, сколь велики Ваши способности в области теоретической физики. Однако не боги горшки обжигают. Я думаю, что Вы сможете успешно работать в области теоретической физики, если по-настоящему хотите этого. Очень важно, чтобы эта работа представляла для Вас непосредственный интерес. Соображения тщеславия никак не могут заменить реального интереса.
Ясно, что прежде всего Вы должны овладеть как следует техникой теоретической физики. Само по себе это не слишком трудно, тем более, что у Вас есть часть математического образования, а математическая техника есть основа нашей науки. 25 лет не слишком много (мне вдвое больше, а я не собираюсь бросать), а труд рабочего, во всяком случае, не мог Вас испортить.
Только не старайтесь решать никаких проблем. Надо просто работать, а решение проблемы приходит само. Трудное экономическое положение может, конечно, мешать, поскольку работать на голодный желудок или очень усталым нелегко. Иностранные языки, увы, необходимы. Не забывайте, что для усвоения их, несомненно, не нужно особых способностей, поскольку английским языком неплохо владеют и очень тупые англичане. Вы правильно пришли к выводу, что надо меньше думать об основах. Главное, чем надо овладеть, — это техникой работы, а понимание тонкостей само придет потом.
Суммируя, могу сказать, что теоретиком Вы станете, если у Вас настоящий интерес и умение работать. Программу вкладываю в это письмо. Что касается сроков, то они будут очень зависеть от того, в какой степени Вы будете загружены другими вещами, и от того, что Вы в данный момент реально знаете. На практике они варьировали от двух с половиной месяцев у Померанчука, который почти все знал раньше, до нескольких лет в других, тоже хороших случаях.
С наилучшими пожеланиями
Ваш Ландау.
Студент одного из втузов тоже говорит о своем увлечении теоретической физикой, о том, как он мечется среди множества книг и статей, которые он пока плохо понимает. Рассказывает, что однажды приходил на семинар Ландау в Институте физических проблем (доступ на который был всегда открыт всем желающим), но ничего не понял, а подойти к Ландау не решился. Вот ответ Льва Давидовича:
Дорогой тов. Р.!
Если Вы всерьез интересуетесь теоретической физикой, то я охотно помогу Вам заняться этой, как мне тоже кажется, увлекательной наукой.
Естественно, что Вы теряетесь перед огромной массой материала и не знаете, с чего начать. Ясно, что теоретический семинар для Вас сейчас совершенно непонятен и Вам еще рано его посещать. Посылаю Вам программу «теоретического минимума», которую Вы можете (если хотите) сдавать мне и моим сотрудникам раздел за разделом.
Начинать надо с математики, которая, как Вы знаете, является основой нашей науки. Содержание указано в программе. Имейте в виду, что под знанием математики мы понимаем не всяческие теоремы, а умение реально на практике интегрировать, решать в квадратурах обыкновенные дифференциальные уравнения и т. д.
Мои телефоны тоже указаны в программе. Бояться меня не стоит — я вовсе не кусаюсь.
С пожеланием успеха Ваш
Л. Ландау.
Еще одно обращение к Льву Давидовичу: «Когда-то Эйнштейн не отказал в помощи студенту Инфельду, и поэтому я решился написать именно Вам в надежде, что Вы не откажете мне в моей маленькой просьбе. Я тоже студент, но пока лишь II курса радиотехнического факультета, но я очень люблю теоретическую физику. Вы, вероятно, очень заняты, но если у Вас найдется несколько свободных минут и для меня, то я Вам буду очень благодарен. Мне совершенно необходимо иметь глубокие и разносторонние знания по большинству областей теоретической физики и, значит, по необходимой для этого высшей математике… Простите, что я Вас беспокою, но для меня это очень важно, и хотя, может быть, это и не совсем прилично, но ведь в жизни, если идти трудным путем, не всегда бывает место для приличия». Лев Давидович отвечает в канун Нового года:
Дорогой тов. К.!
Охотно отвечаю на Ваше письмо. Вы совершенно правы, считая, что для занятий теоретической физикой Вам прежде всего необходимо приобрести познания в этой области. Я охотно помогу Вам в этом.
Как Вы поняли сами, теоретику в первую голову необходимо знание математики. При этом нужны не всякие теоремы существования, на которые так щедры математики, а математическая техника, то есть умение решать конкретные математические задачи.
Я бы рекомендовал Вам следующую программу обучения. Прежде всего научиться правильно (и по возможности быстро) дифференцировать, интегрировать, решать обыкновенные дифференциальные уравнения в квадратурах; изучите векторный анализ и тензорную алгебру (то есть умение оперировать с тензорными индексами). Главную роль при этом изучении должен играть не учебник, а задачник — какой, не очень существенно, лишь бы в нем было достаточно много задач.
После этого позвоните мне по телефону (лучше всего от 9.30 до 10.30 утра, когда я почти всегда дома, но можно и в любое другое время) и приходите ко мне. Я проэкзаменую Вас и дам Вам программу для дальнейшего обучения. Если Вы сдадите мне всю эту программу (на что в зависимости от Ваших знаний и усердия Вам понадобится один-два-три года), то я буду считать, что Вы вполне подготовлены для научной работы, и постараюсь помочь Вам, если Вы захотите, устроиться в этом направлении.
Вот и все. С пожеланиями счастливого Нового года
Ваш Ландау.
Поскольку москвичи всегда могли обратиться к Льву Давидовичу непосредственно, то естественно, что письма к нему шли главным образом из других городов. Многие спрашивали: можно ли стать физиком-теоретиком, обучаясь не в специальном физическом институте, не в университете? Они чувствовали себя стоящими перед дилеммой: продолжать ли учиться в своем вузе или пытаться уйти из него, чтобы продолжать образование самостоятельно?
Одному из таких сомневающихся, студенту пединститута, Лев Давидович отвечал:
Мне кажется, что Вы напрасно ставите себя перед дилеммой. То, что Вы кончите пединститут, во всяком случае Вам пригодится, и вряд ли учение в институте будет очень мешать Вам работать. Если у Вас хватит желания, Вы сможете изучить теоретическую физику самостоятельно — ведь она ничего, кроме книг и бумаги, не требует.
Студенту другого пединститута по аналогичному поводу Лев Давидович писал:
То, что Вы страстно хотите заниматься физикой, очень хорошо, поскольку страстная любовь к науке есть первый залог успеха.
К счастью, теоретическая физика — такая наука, для изучения которой пребывание в университете совсем не обязательно. Я посылаю Вам в этом письме программу, изучение которой даст Вам в области теоретической физики знания, достаточные для дальнейшей самостоятельной работы. Учтите, что особенно важно владение математикой. Основные разделы математики упомянуты в вводной части программы.
Если Вы сможете и захотите, то приезжайте в Москву, где Вы сможете сдавать мне и моим сотрудникам разделы программы (их с математикой всего девять). Если Вы успешно справитесь с этой задачей, то я надеюсь, что смогу помочь Вам в Вашем устройстве на работу по теоретической физике и в том случае, если Вы окончите не МГУ, а всего только Тульский педагогический институт.
Вот, собственно, и все. Искренне желаю Вам всяческих успехов. Помните, что в науке самое главное — это работа, а все остальное приложится.
Страстную увлеченность наукой, энтузиазм, за которым не стоит никаких посторонних побуждений, Лев Давидович ценил больше всего, и они неизменно возбуждали в нем симпатию и желание помочь. Тон его ответов, однако, становился менее сочувственным, если из обращения к нему он не обнаруживал сразу такой увлеченности. Так, выпускникам иногороднего университета, выразившим желание поступить на работу в теоретический отдел Института физических проблем, но сообщавшим в связи с этим лишь о своей возможности получить московскую прописку, Лев Давидович писал:
К сожалению, не могу очень обнадежить Вас. Мы боимся брать котов в мешке и берем себе аспирантов лишь после сдачи ими теоретической физики в виде так называемого теорминимума. Программу при сем прилагаю. Сдавать можно в любые сроки. Если Вы успешно пролезете через потенциальный барьер, то, вероятно, можно было бы взять Вас даже без московской прописки, поскольку Академия наук предоставляет иногородним аспирантам общежитие.
Программа «теоретического минимума», о которой идет речь во всех этих письмах, была впервые разработана Ландау еще в тридцатые годы, во время его работы в Украинском физико-техническом институте в Харькове, где вокруг него начали собираться ученики и начала создаваться его школа теоретической физики. В дальнейшем эта программа непрерывно обновлялась, но лежащие в ее основе педагогические принципы оставались неизменными.
Лев Давидович был врагом всякой поверхностности и дилетантизма: приступать к самостоятельной научной работе можно лишь после достаточно всестороннего изучения основ науки. В соответствии с его глубоким убеждением в целостности теоретической физики как единой науки с едиными методами он требовал от желающих стать его учениками предварительного овладения основами всех разделов теоретической физики. Эти основы были распределены по семи последовательным разделам «теоретического минимума» (механика, теория поля, квантовая механика, статистическая физика, механика сплошных сред, макроскопическая электродинамика, релятивистская квантовая теория).
Характернейшей чертой научного творчества самого Ландау являлась его широта, почти беспрецедентная по своему масштабу; оно охватывало собой всю теоретическую физику — от гидродинамики до квантовой теории поля. В наш век все усиливающейся узкой специализации такая разносторонность становится исключительным явлением; в лице Ландау из физики ушел, возможно, один из последних великих универсалов. Разумеется, он не требовал ни от кого быть универсальным в той же степени, в которой он был сам. Но знание всех разделов теоретической физики — по крайней мере в объеме теорминимума — он считал обязательным для всех теоретиков, вне зависимости от их узкой специализации. Снова и снова он повторяет:
На Ваши вопросы по поводу изучения теоретической физики могу сказать только, что изучить надо ВСЕ ее основные разделы, причем порядок их изучения дается их взаимной связью. В качестве метода изучения могу только подчеркнуть, что необходимо самому производить все вычисления, а не предоставлять их авторам читаемых Вами книг.
Интересно, что в то же время Лев Давидович считал практически невозможным совмещение в одном лице полноценной теоретической и экспериментальной работы в физике. Группе студентов, которые высказывают мнение о том, что настоящий физик-теоретик должен совмещать в себе также и экспериментатора, Лев Давидович писал:
Те, которые считают, что физик-теоретик соединяет в себе также и экспериментатора, по-видимому, представляют себе теоретиков в виде сверхлюдей. Теоретическая и экспериментальная физика сейчас настолько сильно отличаются, что соединить их в одном лице практически невозможно. Единственное исключение за последние десятилетия представлял Ферми, но, учитывая его гениальность, это исключение только подтверждает правило. Занимаясь разными сторонами физики, теоретики и экспериментаторы дополняют друг друга и взаимно связаны, но одни из них не руководят другими.
Экзамен по теорминимуму всегда был, если можно так выразиться, действенным: требовались не выводы тех или иных теоретических формул, а умение применить свои знания для решения предлагавшихся конкретных задач. Первое время Лев Давидович сам принимал все экзамены. В дальнейшем, когда число желающих стало слишком большим, эти обязанности были распределены также и между его ближайшими сотрудниками. Но первый экзамен, первое знакомство с каждым новым молодым человеком Лев Давидович всегда оставлял за собой. Встретиться с ним для этого мог всякий — достаточно было позвонить по телефону и выразить свое желание.
Конечно, не у всех, кто приступал к изучению теорминимума, хватало способностей и настойчивости для того, чтобы закончить его; многие отставали по пути. Всего сорок три фамилии значится в списке тех, кто за время с 1934 по 1961 год до конца прошел через это испытание (Лев Давидович сам вел этот список). Об эффективности отбора можно судить хотя бы по следующим формальным данным: десять из числа сдавших уже стали членами Академии наук, а еще шестнадцать — докторами наук.
Из приведенных писем видно, какое большое значение Лев Давидович придавал владению математической техникой. Степень этого владения должна быть такой, чтобы математические затруднения по возможности не отвлекали внимания теоретика от физических трудностей задачи — по крайней мере там, где речь идет о стандартных математических приемах. Это может быть достигнуто лишь достаточной тренировкой. Между тем опыт показывает, что существующий стиль программы университетского образования физиков часто не обеспечивает такой тренировки. Опыт показывает также, что изучение математики после того, как физик начинает самостоятельную исследовательскую деятельность, оказывается для него слишком «скучным». Поэтому первое, чему Лев Давидович подвергал всякого экзаменующегося, было испытание по математике в ее «практических», вычислительных аспектах. Требовалось: умение взять любой неопределенный интеграл (выражающийся через элементарные функции) и решить любое обыкновенное дифференциальное уравнение стандартного типа, знание векторного анализа и тензорной алгебры; во второй экзамен по математике входили основы теории функций комплексного переменного (теория вычетов, метод Лапласа). Предполагалось при этом, что такие разделы, как тензорный анализ, теория групп и т. д., будут изучены вместе с теми разделами теоретической физики, где они находят себе применение.
Взгляды Льва Давидовича на математическое образование физиков с большой ясностью высказаны им в ответ на просьбу сообщить свое мнение о программах по математике в одном из физических вузов. С присущей ему прямотой он проводит мысль о том, что эти программы должны составляться с полным учетом требований физических кафедр — тех, кто по своему повседневному опыту научной работы в физике знает, что для этой работы требуется. Он пишет:
К сожалению, Ваши программы страдают теми же недостатками, какими обычно страдают программы по математике, превращающие изучение математики физиками наполовину в утомительную трату времени. При всей важности математики для физиков физики, как известно, нуждаются в считающей аналитической математике; математики же, по непонятной мне причине, подсовывают нам в качестве принудительного ассортимента логические упражнения. В данной программе это прямо подчеркнуто в виде особого примечания в начале программы. Мне кажется, что давно пора обучать физиков тому, что они сами считают нужным для себя, а не спасать их души вопреки их собственному желанию. Мне не хочется дискутировать с достойной средневековой схоластики мыслью, что путем изучения ненужных им вещей люди будто бы научаются логически мыслить.
Я категорически считаю, что из математики, изучаемой физиками, должны быть полностью изгнаны всякие теоремы существования, слишком строгие доказательства и т. п. Поэтому я не буду отдельно останавливаться на многочисленных пунктах Вашей программы, резко противоречащих этой точке зрения. Сделаю только некоторые дополнительные замечания.
Векторный анализ расположен в программе между кратными интегралами. Я не имею чего-либо против такого сочетания, однако надеюсь, что оно не идет в ущерб крайне необходимому формальному знанию формул векторного анализа.
Программа по рядам особенно перегружена ненужными вещами, в которых тонут те немногие полезные сведения, которые совершенно необходимо знать о ряде и интеграле Фурье.
Курс так называемой математической физики я считал бы правильным сделать факультативным. Нельзя требовать от физиков-экспериментаторов умения владеть этими вещами.
Необходимость в курсе теории вероятностей довольно сомнительна. Физики и без того излагают то, что им нужно, в курсах квантовой механики и статистической физики.
Таким образом, я считаю, что преподавание математики нуждается в серьезнейшей реформе. Те, кто возьмется за это важное и трудное дело, заслужат искреннюю благодарность как уже готовых физиков, так и в особенности многочисленных будущих поколений.
Глубоко интересуясь в течение всей своей жизни вопросами преподавания, Лев Давидович мечтал написать книги по физике на всех уровнях — от школьных учебников до курса теоретической физики для специалистов. Фактически при его жизни были закончены почти все тома «Теоретической физики»[2] и первые тома «Курса общей физики» и «Физики для всех»; уже после его смерти началось издание составленного по его идее «Краткого курса теоретической физики». Он строил также планы составления учебников по математике для физиков, которые должны были быть в соответствии с его взглядами «руководством к действию», обучать практическому применению математики в физике.
Приступить к осуществлению этой программы он не успел.
Не успел он приступить и к созданию школьных учебников, хотя всегда живо интересовался школой, охотно выступал перед школьниками и откликался на их письма.
Вот пионеры одной из школ г. Тулы пишут Льву Давидовичу: «Мы знаем, как мало у Вас свободного времени, но все-таки надеемся, что Вы найдете несколько минут и ответите нам. Мы хочем провести сбор на тему «Образование — клад, труд — ключ к нему», так как не все пионеры нашего класса понимают, зачем им нужно образование. И многие из них учат уроки не систематически, а только чтобы получить тройку. Нам очень хочется получить от Вас письмо, так как Ваши слова будут очень убедительны для наших пионеров». Лев Давидович отвечает:
Дорогие ребята!
Очень трудно писать об очевидных вещах. Вы ведь все сами прекрасно знаете, что образование необходимо в настоящее время для всякой профессии. Необразованный человек всегда будет чем-то второго сорта.
В этом смысле меня очень огорчило, что вы написали в своем письме «хочем» вместо «хотим». Это показывает, что вы, ребята, очень мало читаете, так что не привыкли по-настоящему даже к своему родному языку. Поэтому читайте побольше — ведь это так интересно — и помните, что образование вам нужно не для школы, а для самих себя и что быть образованным совсем не скучно, а наоборот — интересно.
С наилучшими пожеланиями
Л. Ландау.
Лев Давидович отвечал и тем, к сожалению, все еще многочисленным людям, которые считают возможным совершать перевороты в науке (в том числе опровергать теорию относительности), не имея для этого никаких данных. В таких случаях, однако, Лев Давидович не считал нужным проявлять какое-либо сочувствие и не очень стеснялся в выборе выражений своего неодобрения. Вот несколько таких его ответов:
Должен сказать, что Ваша рукопись лишена всякого интереса. Современная физика — это огромная наука, основывающаяся прежде всего на большом количестве экспериментальных фактов. Вы явно с этой наукой почти вовсе не знакомы и пытаетесь объяснить плохо известные Вам физические явления бессодержательными фразами. Ясно, что это ни к чему привести не может. Если Вы серьезно интересуетесь физикой, то Вам следует не заниматься открытиями, а прежде всего хоть немного обучиться предмету.
Современная физика — сложная и трудная наука, и для того, чтобы сделать в ней что- нибудь, нужно знать очень многое. Тем более знания необходимы для того, чтобы выдвинуть какие-либо новые идеи. Из Вашего письма очевидно, что Ваши сведения по физике крайне ограниченны. То, что Вы называете новыми идеями, есть просто лепет малограмотного человека, наподобие того, как если бы пришел к Вам человек, никогда не видевший электрических машин, и стал бы выдвигать новые идеи в этой области. Если Вы всерьез интересуетесь физикой, то прежде всего займитесь изучением этой науки. Через некоторое время Вам самому станет смешно читать ту чепуху, которую Вы напечатали на машинке.
Высказываемые Вами соображения, к сожалению, в высшей степени нелепы. Было бы даже трудно объяснить, в чем заключаются ошибки в Вашем письме. Ради бога, прежде чем рассуждать о Вселенной, приобретите хоть самую элементарную физическую грамотность, а то Вы только ставите себя в смешное положение.
Ваши заметки состоят из наивностей, не представляющих какого-либо интереса. Ясно, что если Вы хотите работать в этом направлении, то Вам для этого надо предварительно проделать немалую работу — познакомиться с предметом. Ведь вряд ли Вы сядете за руль автомобиля, не умея управлять. А физика ничем не легче.
Эту краткую подборку из писем Льва Давидовича уместно закончить еще одним его высказыванием о стимулах работы настоящего ученого. Признание результатов его работы в той или иной степени важно для всякого ученого; оно было существенно, конечно, и для Льва Давидовича. Но все же несомненно, что для него самого внутренним стимулом к работе было не стремление к славе, а неистощимое любопытство, неистощимая страсть к познанию природы. Такую страсть он в первую очередь ценил и в других. По этой же причине он всегда осуждал стремление работать только над «важными» проблемами:
Вы спрашиваете, чем заниматься в смысле того, какие разделы теоретической физики наиболее важны. Должен сказать, что я считаю такую постановку вопроса нелепой. Надо обладать довольно анекдотической нескромностью для того, чтобы считать достойными для себя только «самые важные» вопросы науки. По- моему, всякий физик должен заниматься тем, что его больше всего интересует, а не исходить в своей научной работе из соображений тщеславия. Заведомо не следует заниматься только вопросами, неразумно поставленными и поэтому лишенными научного интереса.
Никогда не следует работать ради посторонних целей, ради славы, ради того, чтобы сделать великое открытие, — так все равно ничего не получится. Эту простую истину Лев Давидович никогда не упускал случая повторять.
Член-корреспондент АН СССР Е. М. ЛИФШИЦ
«Если ученые всего мира…»
Этот маленький очерк был написан и опубликован в июле 1962 года. Я знал Льва Давидовича Ландау с моих студенческих лет, многократно встречался с ним после войны, и, может быть, поэтому мне как литератору выпала на долю невеселая удача — быть непосредственным свидетелем удивительных событий, описанных ниже. Этот очерк строго документален и носит все черты газетной корреспонденции «с поля боя». Потому-то мне не хотелось вносить ничего нового в его текст, сохранив атмосферу тревоги и надежды, которая была характерна для тех трагических дней.
…Случилось это в самом начале 1962 года. В воскресенье, 7 января, в 11.30 утра произошло несчастье. Оно произошло на дороге, ведущей в город ядерной физики — в знаменитую Дубну. Никто не был виноват… Сквернейшая погода. Гололедица. Девочка перебегала дорогу, торопясь к автобусной остановке. Легковой машине пришлось резко затормозить, и ее занесло. Она оказалась на пути встречного грузовика. Уже ничто не могло предотвратить удар. Он пришелся сбоку. И всю его силу испытал тот, кто сидел на заднем сиденье справа.
Это был академик Ландау. Лев Давидович Ландау, или просто — Дау, как на протяжении тридцати с лишним лет называют его в своей среде физики. Катастрофы бессмысленны и жестоки, но нечасто они бывают так подчеркнуто трагичны. Жертвой слепого случая стал человек, всю жизнь широко открытыми глазами смотревший на мир природы. Без сознания лежал человек, вся жизнедеятельность которого была воплощенное сознание. «Ландау без сознания!» — это сочетание слов звучало противоестественно.
Карета «скорой помощи» доставила его в ближайшую больницу — 50-ю больницу Тимирязевского района Москвы. Лифт поднял носилки на шестой этаж — в клинику травматологии Центрального института усовершенствования врачей. Над телом, казавшимся безнадежно безжизненным, склонилась дежурный врач Лидия Ивановна Панченко. И с этой минуты началась удивительная, без преувеличений героическая борьба наших медиков за воскрешение Ландау.
Да простится мне невеселая игра слов, но воскресенье — не лучший день для начала борьбы за воскрешение человека. Отдыхают институты, отдыхают те, чья немедленная помощь только и может спасти. К счастью, в тот воскресный день 7 января руководитель клиники травматологии профессор Валентин Александрович Поляков навещал больную, которую оперировал накануне. Он тотчас прибыл по вызову дежурного врача. И начались первые необходимые действия на поле этого неравного боя со смертью: противошоковые мероприятия и введение всех профилактических сывороток.
Тем временем телефонный звонок из больницы уже поднял на ноги коллег и друзей Ландау по Институту физических проблем Академии наук СССР. С Николиной горы мчался в Москву на машине академик Петр Леонидович Капица. Шли розыски профессора Евгения Михайловича Лифшица — ближайшего друга и соавтора Ландау по многотомному курсу «Теоретической физики». Так был открыт в борьбе со смертью второй фронт.
Действительный член Академии медицинских наук, известный невропатолог Николай Иванович Гращенков был поставлен во главе тех, кому предстояло спасти Ландау. В четыре часа дня состоялся первый консилиум триумвирата специалистов, ставшего с этой минуты бессменным: к Гращенкову и Полякову присоединился опытнейший нейрохирург профессор Григорий Павлович Корнянский.
Консилиум поставил жесточайший в своей беспощадности диагноз. Это были 12 пунктов. Каждый мог служить достаточным основанием для худшего из прогнозов. Довольно сказать, что в шести пунктах перечислялось 11 переломов, и среди них — перелом основания черепа и семи ребер. Недаром один терапевт дал заключение: «Травмы несовместимы с жизнью». А затем — день за днем — стали набрасываться осложнения: расстройство дыхания, нарушение сердечно-сосудистой деятельности, почечная недостаточность, травматическое воспаление легких, перешедшее в двустороннюю бронхопневмонию, парез кишечника… «Я многое видел за двадцать лет моей практики, но такого осложненного случая травм еще не встречал. То, что Дау живет три недели, — уже само по себе чудо!»— сказал Николай Иванович Гращенков 1 февраля.
Я спросил: вселяет ли это чудо надежды? И Гращенков, и Корнянский, и Поляков, и терапевт профессор А. М. Дамир уклонились от прямого утвердительного ответа. Но это был не пессимизм, а осторожность. Может быть, немножко суеверная осторожность победителей, знающих, что враг еще не окончательно сломлен. Но было видно — они жили надеждой на благополучный исход, они верили в него. И знали: у них были для этого серьезнейшие основания. Положение оставалось чрезвычайно тяжелым, но в ежедневных больничных коммюнике возникли слова, которых не было в январе: «нормализовалось», «улучшилось», «восстанавливается». Постепенно стали исправны пульс и кровяное давление, начали сходить на нет самые страшные осложнения, иногда вдруг появлялись проблески сознания…
Уже в марте жизнь оказалась сильнее травм. И стало известно, что мозг Ландау не получил локальных повреждений!
А чудо? Чудо в самом деле произошло. Произошло и происходило каждодневно, еженощно, поминутно на протяжении полугода. Это чудо беспримерной самоотверженности врачей, медсестер и техников.
— Вы не должны забыть нейрохирурга из Института имени Бурденко Сергея Николаевича Федорова. Это он неотлучно выхаживает Дау. И не забудьте рассказать о врачах 50-й больницы, которые тоже позабыли, что такое отдых и сон. И отдайте должное врачам, заведующим сейчас искусственным дыханием Дау. — Так говорили мне физики и в январе, и в феврале, и в марте. И спешили добавить:
— А многочисленные консультанты-специалисты! Было бы несправедливостью, если бы вы не сказали ни слова о нейрохирурге И. М. Иргере, который вместе с Корнянским делал в один из самых тяжких дней операцию Дау, и о чешском профессоре Зденеке Кунце, прилетевшем тогда из Праги. Вспомните о консультациях нейрохирурга Б. Г. Егорова и невропатолога М. Ю. Раппопорта. А глава респираторного центра Института неврологии Л. М. Попова! А знаток антибиотиков 3. В. Ермольева! А кардиолог В. Г. Попов!
Но точно такие же слова говорили врачи о физиках. И тоже перечисляли звания, фамилии, инициалы.
С первого дня начался их подвиг товарищества. Превосходные ученые, однако ничего не смыслящие в медицине, академики, члены-корреспонденты, доктора, кандидаты, люди одного поколения с пятидесятичетырехлетним Ландау, и его ученики, и совсем молодые ученики его учеников, все они взяли на себя добровольно роли курьеров, водителей машин, посредников, снабженцев, секретарей, дежурных, наконец носильщиков и чернорабочих. Их стихийно возникший штаб обосновался в кабинете главного врача 50-й больницы и стал круглосуточным организационным центром по безусловному и сверхсрочному исполнению всех велений лечащих врачей.
87 теоретиков и экспериментаторов стали участниками этого добровольного спасательного содружества. Появилась алфавитная книга с телефонами и адресами всех и вся — лиц и учреждений, связь с которыми могла потребоваться в любую минуту. Там записано 223 телефонных номера! Другие больницы, автобазы, аэродромы, таможни, аптеки, министерства, места возможного пребывания врачей-консультантов…
В самые трагические дни, когда казалось, что «Дау умирает», — а таких дней было по меньшей мере четыре, — у входа в семиэтажный корпус больницы дежурило 8—10 машин. В дневнике дежурств записи:
«Алеша! Ночью поддерживать связь с Рябовым».
«При любой тревоге в первую очередь вызывать Федорова!!!»
«В 4.30 — свежие яйца!!!»
«Взять Попову, где бы она ни была!»
Когда от машины искусственного дыхания зависело все, один теоретик предложил немедленно изготовить ее в мастерских Института физических проблем. Это было не нужно и наивно, но как удивительно по движению души! Физики доставили машину из Института по изучению полиомиелита и принесли ее на руках в палату, где задыхался Ландау.
Всего не рассказать. Как не перечислить имен всех героев этого второго фронта. Среди них были едва ли не все ученики Ландау — от академиков до аспирантов.
Это было настоящее братство физиков. «Если с Дау все будет в порядке, тут половина заслуг ваша», — говорил Гращенков физикам после первого оптимистического консилиума. Позже он сказал: «За всю свою долгую практику такого товарищества я тоже никогда не видел!»
Академик Капица как-то заметил:
— Все это напоминает благородный фильм, который нужно было бы назвать «Если ученые всего мира…»
Он имел в виду то, о чем здесь еще не было сказано, но о чем нельзя умолчать. Это снова возвращает нас к началу истории.
День несчастья. Первый консилиум. Угроза отека мозга. Применяются все обычные меры. Но возникает идея — испробовать специальный препарат, который можно достать в Чехословакии и Англии.
Капица немедленно посылает три телеграммы старым друзьям-ученым: известному физику Блеккету — в Лондон; ассистенту знаменитого Ланжевена, французу Бикару — в Париж; семье Нильса Бора — в Копенгаген. Капица не адресовался к самому Бору, чтобы не огорчить печальным известием семидесятисемилетнего старика — учителя Ландау. Но на следующий день пришла от него короткая телеграмма с сообщением о высылке лекарства. Однако никто не знал точно, как оно называется, и Бор прислал не совсем то, что нужно. А Бикар позвонил в Прагу своему знакомому по международному союзу научных работников Немецу. Немец связался с академиком Шормом, и Шорм послал необходимый препарат.
Но еще раньше помощь пришла из Англии. Правда, телеграмма Капицы не застала Блеккета в Лондоне. Однако ее тотчас переслали Джону Кокрофту, выдающемуся атомнику Англии, и тот без промедлений стал предпринимать все, что нужно. А тем временем Евгений Лифшиц позвонил оксфордскому научному издателю Максвеллу — нашему другу, издавшему в Англии всю многотомную «Теоретическую физику» Ландау и Лифшица. Усилия Кокрофта и Максвелла соединились, и на следующий день ТУ-104 был задержан на час в аэропорту Лондона, дабы успеть захватить посылки для Москвы с коротким адресом — «мистеру Ландау».
Максвелл сам был в беде: его сын уже несколько дней лежал без сознания тоже после автомобильной катастрофы. Он на горьком опыте знал, что потом Ландау понадобятся еще и особые антибиотики. И в последующие дни на Шереметьевский аэродром стали приходить посылки с лекарствами из Бельгии, из Соединенных Штатов, из других стран… Профессор Яков Смородинский стал курьером между 50-й больницей и Шереметьевом: пилоты наших самолетов проявляли истинную человечность, о которой с восхищением говорил мне академик Капица.
Однако в действительности спасла Ландау от смертельно опасного отека в первый день ампула препарата, которую разыскал академик Владимир Александрович Энгельгардт. Он и академик Николай Николаевич Семенов решили еще в воскресенье 7 января предпринять попытки немедленно синтезировать препарат и стерилизовать его, но, к счастью, выход был найден более простой: ученики Энгельгардта нашли готовую ампулу в Ленинграде. Она попала в руки врачей раньше максвелловской.
То, что рассказано выше, относится к первому, самому трудному этапу этой трагической и прекрасной эпопеи. Потом был международный консилиум во главе со старейшим нейрохирургом Пенфилдом. Была бессонная вахта врачей и сестер другого лечебного учреждения — Института нейрохирургии имени Бурденко. Был и продолжается период выздоровления воскресшего…
Сегодня уже трудно установить, в какой счастливый день в словаре врачей и физиков прочно поселилось великое слово — Надежда. Важно и замечательно одно — она сбылась.
На этом кончалась моя корреспонденция. Сейчас нужно прибавить к ней несколько слов.
Да, надежда сбылась. Ландау был возвращен к жизни. Он прожил еще шесть лет. Однако пережитая им катастрофа не прошла бесследно: к творческой работе физика-теоретика и главы своей школы он уже вернуться не смог. В те трудные годы его выдающиеся достижения предшествовавшей поры были отмечены присуждением ему Ленинской и Нобелевской премий.
Память о нем жива. И непреходяща.
Д. С. ДАНИН