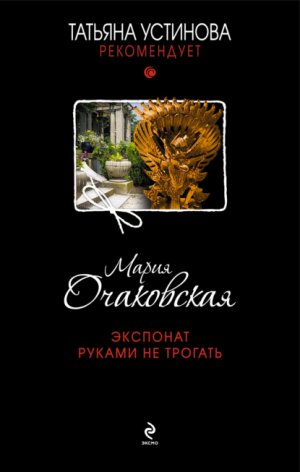
1. Cуета сует
Москва, 20… г.
«Бетонный пол был холодным, как лед, но Мэй больше не чувствовала холода. Обхватив колени руками, она сидела на голом полу и шептала слова молитвы:
– Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
Какая-то строчка вылетела из памяти, поэтому она все время сбивалась и никак не могла дойти до конца. Она мучительно пыталась вспомнить недостающие слова, и лицо ее то и дело искажала гримаса страдания. Мэй казалось, что, как только забытая строка всплывет в памяти, весь этот кошмар, который происходит с ней, закончится. Исчезнет подвал, тусклая мигающая лампочка под потолком, зарешеченное грязное окно, черные вонючие деревянные ящики… ничего этого больше не будет, а она снова окажется у себя дома.
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь и, и… не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, – хрипло шептала Мэй. Из-за того, что долго кричала, плакала, звала на помощь, она совсем потеряла голос, из горла вырывались лишь сиплые всхлипы.
– …ежи еси на небесех! Да святится имя Твое… – девушка замолчала, прислонилась спиной к стене. Больше ничто не нарушало тишины. Исчезли звуки, шорохи… как будто ничего и не было, кроме этого сырого темного подвала со спертым воздухом; мир перестал существовать. Мэй устала – слабость, беспомощность, захватив ее сознание, мешали думать, она прикрыла глаза и провалилась в тяжелый тревожный сон, в котором почти сразу увидела отца… Он сидел у себя в кабинете, откинувшись на спинку кресла, и говорил по телефону. Рядом с ним была тетя Грэйс и, как всегда, что-то быстро строчила в записную книжку. Сквозь оконные жалюзи в комнату уютно пробивалось солнце, в лучах его кружились золотистые пылинки, оседавшие на книжных полках, креслах, отцовском письменном столе. Под потолком работал вентилятор. Сквозь толщу сна Мэй никак не удавалось услышать голос отца, и ее он тоже не слышал.
– Папа, разве ты не знаешь, что меня уже давно нет в гостинице, мой телефон молчит. Почему же ты меня не ищешь? Почему ничего не предпринимаешь? Посмотри, как мне плохо. Неужели ты про меня забыл? Или тебе все равно? Если бы ты только знал, как мне страшно… – кричала она отцу.
Но он, не прерывая телефонный разговор, продолжал спокойно сидеть в своем кресле. Скрипнула и распахнулась дверь – в комнату, виляя хвостом, вбежала Дана. Солнечные лучи заиграли на ее белоснежной шерсти. Собака подошла к хозяину и положила лапы ему на колени…
Но дверь почему-то продолжала скрипеть, звук не прекратился, наоборот, стал громче, отчетливей, пока не раздался звонкий металлический щелчок. Мэй открыла глаза, и в тот же момент тяжелая дверь подвала с шумом распахнулась. В светлом четырехугольнике дверного проема четким силуэтом вырисовывалась фигура ее мучителя. Нагнув лысую голову, он шагнул в помещение. Дверной замок снова щелкнул. Движения мужчины были уверенны и неторопливы. Мэй заметалась в своем углу. Лысый молча наблюдал за ней. Он по-прежнему ничего не говорил, не спрашивал и не отвечал на ее вопросы. Лицо его оставалось совершенно безучастным.
– Отпустите меня, пожалуйста. Мой отец богатый человек, он заплатит вам много денег, очень много. Пожалуйста. Все, что вы хотите, – хрипло шептала она, напрягая связки. – Прошу вас, умоляю. Ну, позвоните ему. Вы станете богатым, у вас будет сколько угодно женщин. Вы интересный мужчина, вас все будут любить. Зачем вам я? Зачем? Какой смысл держать меня здесь? Отпустите меня, я ничего никому не расскажу ни про вас, ни про этот подвал…
Мэй продолжала говорить и говорить, тем временем рука ее нащупала наконец острый обломок доски, который еще вчера ей удалось отломить от ящика. На какое-то мгновение ее внимание переключилось на предмет, крепко зажатый в руке. Поэтому она не заметила, как лысый что-то проворно достал из кармана куртки, и тут же, со свистом разрезая воздух, над ее головой взметнулась петля из струны и опустилась на шею. Пытаясь увернуться, Мэй дернулась и тотчас выронила палку, а удавка лишь плотнее обхватила ее горло. Руки девушки отчаянно схватились за петлю, стараясь ее разомкнуть…
Последнее, что запечатлелось в ее ускользающем сознании, – это чудовищное в своей бесстрастности лицо незнакомца с блестящими каплями пота над верхней губой.
Борьба длилась недолго. Секунд через сорок все было кончено, и тело Мэй безжизненно опустилось на пол. Тонкая струйка крови скользнула изо рта по щеке, шее и, прочертив алую дорожку на белой кофточке, расползлась в кляксу у блестящей, в мелких стразах, надписи «Don’t worry»[1].
Мужчина присел на корточки, по-птичьи наклонил лысую, без единого намека на растительность голову и принялся внимательно осматривать свою жертву. Большие красные руки медленно двигались вдоль лежащего на полу тела, прикасаясь и трогая то щиколотку, то колено, то запястье, пока наконец не добрались до застежки на джинсах… Только теперь лицо его утратило свою зловещую безучастность, и тонкие губы растянулись в некоем подобии улыбки».
Заглянув в последний раз в текст, Катя устало опустилась на стул, налила себе минералки и, порывшись в сумке, достала упаковку глицина.
На мониторе продолжали мелькать цифры тайм-кода, отмеряя финальные минуты экранного времени. В наушниках зазвучала музыка. Пошел эпизод в саду.
Пожилой мужчина не торопясь бредет по дорожке, усыпанной желто-красными листьями. Камера наезжает на пушистую белую собаку, бегущую впереди него. Через мгновение собака исчезает в зарослях кустарника.
Хозяин нетерпеливо окликает ее, подходит к зарослям. Крупный план – собачья морда обнюхивает что-то на земле. Камера отъезжает. Лапы проворно разгребают сухую листву, в кадре появляется хозяин, он наклоняется и, схватив за ошейник, пытается увести собаку, но та упрямится. И вот она уже тащит из кучи листьев какую-то грязную белую тряпку. Неожиданно перед глазами мелькают блестящие, в мелких стразах, буквы «Don’t worry». Камера замирает.
«Интересно, почему титры пишут только мужики, – вдруг подумалось Кате, перед ее глазами на экране медленно поползли колонки фамилий и имен, – а женщины никогда? «Paramaunt Pictures представляет…» Это какая-то дискриминация. В самом деле, почему? Откуда это взялось, что должен быть мужской голос? Хотя какая, в сущности, мне разница, ну и пусть себе пишут. Главное, дадут сегодня деньги или нет? Хорошо бы дали…»
– Ну, ты чего там заснула, – прорезался в наушниках бодрый голос звукорежиссера, – я тебя уже давно закрыла, а ты все сидишь.
– Прости, Любочка, я что-то торможу, – спохватилась Катерина, сняла наушники и начала собираться. «Так-такушки, главное, ничего не забыть – мобильник, часы, термос, пиджак, сумка…» – двигалась она при этом абсолютно бесшумно. Это было что-то вроде профессионального навыка не только у Катерины, все работающие за кадром артисты умеют есть, пить, одеваться, не издавая ни единого звука. Закон тон-студии – полный штиль, мертвая тишина. Никому из них даже в голову не придет надеть на работу шуршащую одежду, звонкие браслеты или взять целлофановый пакет. Хотя в последнее время, с переходом на цифру, к посторонним шумам на записи стали относиться проще. И вообще, с тех пор как умер пленочный БЕТАКАМ, все стало быстрее и легче. Да здравствует всемогущая цифра! Взять хотя бы озвучку, дубляжа это, конечно, не касается, раньше полуторачасовой фильм писали часа два с половиной, а то и все три. Теперь же – в режиме реального времени плюс минут пятнадцать-двадцать на всякоразное. И не было никаких прокруток, никаких «дайте я вперед пропишусь, у меня в финале всего пять реплик…». Все сидели и ждали, как миленькие, сколько положено. Эх, что тут говорить, с цифрой работать стало много легче.
Выйдя из студии, Катька направилась в курилку. Там уже дымила своей вонючей «Примой» Любочка, их звукорежиссер. Рядом с ней стоял долговязый Стас, он писал маньяка во вторую смену. Была еще новенькая ассистентка с аспидным цветом волос, но как ее зовут, Катя не запомнила, и напрасно, потому что именно она выдавала ей в прошлый раз деньги.
– Кофе хочу, подыхаю, а в буфет лень, – произнесла Катерина, экономя на словах, и прикурила сигарету.
– Там дальше по коридору автомат поставили, неплохой кофе наливает, эспрессо, капучино, латте… всего двадцать рублей, – откликнулась новенькая и стала рассказывать, какие виды кофе ей особенно понравились.
Катька слушала ее и молча кивала. Вступать в разговор не то чтобы не хотелось, просто не было сил открывать рот после нескольких часов говорильни. Недаром среди них ходила шутка, как одна актриса после записи приходит домой, готовит ужин, накрывает на стол, ест и – все молча, молча, не произнося ни слова. Муж не выдерживает:
– Я так больше не могу, ты что, в рот воды набрала? Все молчишь, молчишь. Хоть бы слово сказала.
А актриса ему хмуро так:
– Дай текст – скажу.
– Красавица моя, мы с тобой, как всегда, с опережением идем, – перебила ассистентку Любочка и подошла к Кате.
– Не хрипанула я там в конце, когда он меня душил?
– Ни боже мой. А если бы даже да, неужели ты думаешь, что я бы промолчала?
– Нет, не промолчала бы, – послушно согласилась Катька, а про себя подумала: «Чего я в самом деле? Любочка есть Любочка, никаких ляпов не пропустит… патриарх тон-студии».
– Ну и не бери в голову. Пока, красавица, отдыхай, а я возвращаюсь к своей гравицапе. Тебя, Стас, жду минут через двадцать. Всем салют, – улыбнулась она на прощание и вышла.
Катя уселась на банкетку, порылась в сумке и достала мобильный. На дисплее высветились семь пропущенных вызовов. Мама, Сева, опять мама и последние четыре от подруги Маши.
– Кать, так ты хочешь кофе или как? А то я могу принести, – раздался над ухом басовитый голос.
– Стас, ты ангел, конечно, хочу, – не отрываясь от мобильного, ответила Катя.
Через минуту он вернулся, держа в руках два небольших бумажных стаканчика. По курилке распространился чудесный запах арабики.
– Спасибо, ангел. За это я тебе выдам один секретный номер телефона. На днях мне звонила девушка Света, то ли редактор, то ли ассистент, им нужен мужской голос, побрутальней, – с наслаждением сделав глоток, произнесла Катя.
– И чего у этой Светы?
– Ты когда-нибудь игрушки писал?
– Не-а. А что это?
– Ну вот позвонишь и узнаешь. Там все просто: ты, звукорежиссер и текст с какой-нибудь ахинеей, типа «я тебе отомщу», «умоешься кровавыми слезами». Но платят сносно.
– А-а-а, понял, компьютерные игры, что ли? Слушай, расскажи поподробней.
– Нет, дорогой. Поподробней тебе расскажет девушка Света, пиши телефон, – Катерина продиктовала номер, – а мне надо идти.
– Спасибо тебе, Кать, большое, ты не представляешь, как это кстати, – улыбаясь во все лицо, сказал Стас.
В ту же минуту из Катиной сумки раздался звонок мобильного.
– Насонова, ты что, эсэмэски мои не читаешь? Я уже пятнадцать минут, как дура, стою у вашей проходной, тебя жду. Давай, не тяни резину, а то очень есть хочется, – быстро заговорила в трубку Машка, – и пить, кстати, тоже.
2. Подруги. Москва
Москва, сентябрь 20… г.
Пусть будет новым всё, что есть вокруг,
но будет исключеньем старый друг.
Персидская пословица
У проходной, как всегда, была толкотня. Надрывно скрипя, вертелся турникет. Уставшие к концу дня охранники что-то терпеливо объясняли докучливой молодой девице, видимо пришедшей на «Мосфильм» впервые.
«Боже мой, какое счастье, что не надо тащиться на метро! Как вовремя Ефремова позвонила, а я и думать о ней забыла, тоже мне, голова-сито», – рассуждала про себя Катя. Вот уже третий день она была без руля и, тоскуя по своей любимой тарантайке, как по близкому родственнику, с отвращением рассекала по Москве на муниципальном транспорте.
«Что же я сегодня так устала? Вроде бы день как день… записали быстро, материал хороший, не какая-то мексиканская жвачка. А вот почему у меня горло саднит? Или все-таки не саднит… хотя поорать за эту Мэй пришлось будьте-нате… – Катерина для верности откашлялась. – А Любочка – все-таки молодец, с ней всегда быстро работается. Легко и быстро».
Любочка, а если официально, то Любовь Ивановна Куприянова, работалана «Мосфильме» режиссером звукозаписи очень давно и слыла настоящим асом. Начинала она еще в те благословенные времена, когда к дубляжу в тон-студиях относились как к священнодейству. И кого она только не писала: и Караченцова – Бельмондо, и Белявского – Жана Маре, и Демьяненко – Мастроянни, и даже Кенигсона, голос которого буквально сроднился с образом Луи де Фюнеса.
Познакомились они в начале 90-х. К тому времени Катя уже окончила ВГИК, получила статус профессиональной и, как выяснилось, абсолютно никому не нужной актрисы. Послужной список тогда у Катерины был не слишком велик: одна главная роль пионервожатой в подростковом телефильме, несколько работ второго плана и с десяток коротеньких эпизодов. Что тут скажешь, внешность определяет амплуа, а амплуа – роли. Когда на лбу написано «инженю», Анну Каренину тебе никто не предложит. Невысокая, голубоглазая, худенькая, миловидная – пухлые губки, светлые кудряшки – Катька всегда выглядела моложе своих лет, «маленькая собачка до старости щенок». И сидеть бы ей до пенсии на ролях подружек-простушек на Киностудии Горького, как пророчили институтские мэтрессы, если бы не случай… А случай в судьбе Екатерины Насоновой, актрисы, женщины и матери, всегда играл самую первостепенную роль.
Случилось, например, так, что лет в двенадцать-тринадцать вместо высокого, писклявого и по большому счету неприятного девичьего голоска у Катьки каким-то чудесным образом проклюнулся глубокий, проникновенный, исключительный по тембру голос. И было уже не важно, подходит он к ее золотистым кудряшкам или нет. Голос просто звучал, его хотелось слушать и слушать. С тех пор ни одно школьное мероприятие не проходило без Катькиного участия – утренники, капустники, концерты, поздравления ветеранов, стихи о партии, «Ленин и печник». Стоит такая маленькая, плюгавенькая на сцене, а как начнет читать, так прямо мурашки по коже. Когда завуч Анна Михайловна входила к ним в класс посреди урока – всем было ясно: пришли за Насоновой, отпрашивать ее на очередной конкурс чтецов.
Однажды, вот вам тоже случай, вместе с Анной Михайловной в класс пришла незнакомая женщина. Она оглядела сидящих учеников и нескольких девочек попросила подняться. Кате тоже предложили встать, представиться, а потом пригласили на киностудию. Там были пробы. Под светом юпитеров ее сфотографировали, предложили пройтись, улыбнуться, произнести несколько простых фраз и… сразу утвердили на роль.
С тех пор Катькина судьба была решена. К концу школы она уже точно знала, что будет поступать на актерский и, несмотря на чудовищный конкурс, прошла во ВГИК с первого раза. Четыре года студенческой жизни были насыщенными и интересными. Кате нравилось учиться. Ее хвалили, всегда особо выделяя голосовые данные. Зловещего вида старуха, Эра Михайловна Краузе, преподавательница техники речи, студентку Насонову заметила сразу и больше всех мучила.
– Деточка, лишь пять процентов людей имеют от природы красивый голос, – говорила ей Эра Михайловна, – вы – одна из них. Но такой богатый природный материал требует шлифовки.
И когда вся группа после пары дружно шла в ближайший пивняк, студентка Насонова сидела в аудитории и подвергалась жесточайшей шлифовке.
– ТКР, КТР, ДРТ, РДТ – тренируем язык и губы.
– К-Г, К-Г, К-Г – тренируем мышцы неба.
– У-у-у-у, теплый выдох, теплый вдох – преодолеваем мышечные зажимы… а еще ловим резонанс, развиваем диапазон.
Фонетические упражнения, скороговорки, дыхательная гимнастика Стрельниковой – одно время Катьке казалось, что она проделывает все это даже во сне.
– У вас, деточка, хорошие верхний и средний регистры, но этим никого не удивишь. Писклявых актрис всегда было пруд пруди. Поэтому мы должны поработать над низами. Низкий, богато окрашенный женский голос – о-о-очень большая редкость. Поверьте, деточка, я знаю, о чем говорю.
На студии Катерину тоже не забывали. За годы учебы во ВГИКе она снялась в нескольких фильмах, удалось поработать даже с мэтрами отечественного кино. А одна из ее картин была даже отмечена на Московском кинофестивале. Главных ролей Кате, правда, не предлагали. То подружка невесты, то наивная до тошноты жертва какого-то пошлейшего бабника, то бессловесная медсестра из районной больницы. Своих героинь Катька не особенно жаловала. Может, потому, что в жизни чувствовала себя полной их противоположностью.
Меж тем голос ее, казалось, жил какой-то своей, отдельной жизнью. Он развился, сформировался, созрел и зазвучал. Все более и более уверенно, поражая не только своей красотой, но и удивительной пластичностью, универсальностью. Хорошо развитый верхний фальцетный регистр позволял Кате совершенно естественно говорить голосами молоденьких школьниц, низкий грудной, богатый обертонами, делал доступными роли поживших героинь, а после усиленного курса с Эрой Михайловной Катин голос, добравшись до самых верхов и перейдя в так называемый флейтовый регистр, мог с легкостью имитировать лепет, визг и плач маленьких детей.
Тогда, пожалуй, впервые в Катькиной жизни прозвучали слова «озвучание и дубляж», но она, увы, их не услышала. У нее были съемки, на курсе репетировали шекспировский «Сон в летнюю ночь», ну и плюс ко всему она влюбилась. Основательно, всерьез и, как ей казалось, на всю жизнь. Избранником ее оказался однокурсник Сашка Железняк – талантливый парень с внешностью Жана Маре и характером балбеса. Про характер, правда, Катька поняла не сразу, а маму, папу, рассудительных подруг слушать отказалась, поэтому сгоряча взяла да и вышла замуж. Было это на последнем, четвертом курсе. А летом после дипломных спектаклей с ней случилось… Впрочем, вспоминать весь тот ужас Катька не любила. Пережили и забыли.
Потом родился Севка, началась новая жизнь. Катя сидела с ребенком и не работала, а Железняк работал и бухал. Бухал крепко, как говорится, не по ролям и не по статусу. Семейная жизнь, превратившись в кошмар, продлилась недолго. Они развелись.
В отечественном кинематографе в тот период тоже все пошло вкривь и вкось. Монополия Госкино трещала по всем швам. Фильмов снималось все меньше, а если что-то и выходило, то… лучше бы вовсе не выходило. Прокат держался на последнем издыхании. Кинотеатры закрывались. Настал звездный час телевидения. По ЦТ победоносно промаршировала «Рабыня Изаура». Страна узнала и горячо полюбила «мыльную оперу». К выходу в эфир готовились новые сериалы.
Одним словом, в тот памятный предновогодний день в тон-студию Катю снова привел случай. Там было организовано что-то вроде кастинга голосов, хотя таких слов тогда еще никто не знал. Тем более Катя, которая изрядно насиделась дома с погремушками и пеленками и изо всех сил рвалась на работу, куда угодно, все равно, хоть в кондукторы, учитывая ее непростую историю. Только бы взяли. А тут, нежданно-негаданно, позвонил бывший однокурсник (у него то ли брат, то ли сват был не последним человеком на ЦТ) и сказал, что в «Останкино» на озвучке сериала срочно нужен женский голос. В общем, Катька записала адрес и на негнущихся ногах приехала в назначенное время в студию. От ассистентки удалось узнать, что дамочек приходило и пробовалось много, даже самые что ни на есть королевы «дубляжа». Ну она и струхнула. Опыта у нее было маловато – всего пару месяцев с одной актрисой с радио занималась. А тут все важные, незнакомые, микрофон, пульт, аппаратная… Да статус молодой матери, домохозяйки уверенности в себе не прибавляет. Катя взяла наушники, пробежала глазами текст, он был слезливый, жалостный, вероятно, поэтому сразу вспомнились и маленький болезненный Севка, и похмельный Железняк, и загубленная артистическая карьера. Словом, когда зазвучал ее голос, лица у присутствующих посерьезнели, даже у охранника, как потом ей рассказали. Впрочем, про последнего наверняка наврали, да это и не важно. Важно то, что Катерину услышала Любочка Куприянова, с которой при выборе голосов никто не спорил. А сама Катя в тот день получила настоящую путевку в жизнь. Даже когда кинопроизводство окончательно встало и в театрах артистам платили зарплату, на которую и десяток чупа-чупсов не купишь, даже в те страшные безнадежные времена Катька чувствовала себя более или менее уверенно. Сериал шел за сериалом. Озвучку сменял дубляж, потом закадр. А тридцать секунд рекламного ролика (несколько гладких фраз про перхоть, мигрень или прокладки – для артистов вообще Клондайк) гарантировали целый месяц безбедного существования.
…Протиснувшись наконец сквозь толпу, Катя вышла на Мосфильмовскую и сразу направилась к сияющему Машкиному «Фольксвагену Поло», ювелирно припаркованному между двух внедорожных гигантов. Рука ее уже почти коснулась двери, когда за спиной раздался глубокий бархатный баритон:
– Давно тебя не видно, Катерина. Ты все цветешь! Как дела?
– Привет, Борь, спасибо, все нормально, – обернувшись, с вымученной улыбкой ответила Катя – продолжать разговор не хотелось. Но у баритона, видимо, были другие намерения. Он заглянул в машину, церемонно кивнул сидящей за рулем Маше и, приложившись к Катиной ручке, продолжил:
– Ну и как, что сегодня работали? – Внешность у баритона была прекомичная и находилась, так сказать, в полном несоответствии с голосом. Катьке он всегда напоминал карлика Квилпа из «Лавки древностей»: торчащие уши, многозубая улыбка, крупная голова, насаженная на широкие плечи, короткие ноги, обутые в маленькие ботиночки на каблуке.
– Дубляж, Борь. Новая страшилка голливудская.
– И что? Как всегда, скуловорот?
– Нет, не сказала бы…
– Поня-я-тненько, – зубастый рот Бори раскрылся и захлопнулся, как сундук. Губы растянулись в улыбке, он продолжал буравить взглядом Катю и, казалось, не хотел замечать, что она торопится, пока из машины не донесся недовольный Машкин голос:
– Слушай, Насонова, ну мы едем или как?
– Прости, Борь, нужно ехать. За мной подруга… удачи тебе, до скорого, – поспешила откланяться Катя, про себя горячо поблагодарив Машку.
Компактный «Фольксваген» вырулил с парковки и ловко юркнул в поток проходящих машин.
– Наконец-то, ну привет, дорогая, – бросив короткий взгляд на подругу, произнесла Машка. – А это что еще за чудище?
– Боря Барсов, легендарная личность. Он уже лет тридцать пишется.
– Ничего себе.
– О! Его голосом добрая половина импортных мачо в любви признается.
– Офигеть… голос-то ведь действительно знакомый… А сам такого вида, что не поймешь, то ли мужик, то ли гном. Вот, блин! И тут стоячка! Представляешь! Я до тебя полтора часа ехала. Набережная стоит, Третье кольцо – подавно. В меня сегодня там один солдатик с черными номерами чуть не въехал. Ой, Катька, Катька… ездить стало невозможно. Чего дальше будет? А как тебе моя новая машинка?
– Супер, – ответила Катя, с удовольствием разглядывая аккуратный новенький салон. – Кожа?
– Да прям. Кожзам, за кожу еще штуки полторы надо доплачивать.
Светофор помигал желтым глазом и дал наконец зеленый свет, поток машин медленно двинулся вперед.
– А ты, стало быть, сейчас безлошадная?
– Угу.
– На метро?
– Угу.
– Клёво?
– Угу.
– Слушай, Насонова, чего ты такая смурная?
– Погоди, Маш, дай хоть отдышаться. Можно я помолчу немного, а то сегодня столько всего наговорила, что язык еле ворочается.
– Ок, молчи. Я буду говорить, а ты слушай. Стильный пиджак, кстати сказать, хорошо сидит. Из Испании?
Катя, улыбнувшись, кивнула и, достав из сумки зеркальце, придирчиво изучила свое отражение. Лицо выглядело уставшим и осунувшимся. Тени на веках чуть смазались, а из-под слоя тональной пудры на правой щеке проступила тонкая бледно-розовая линия шрама. Обычно он становился заметнее, когда она уставала. А может, ей только так казалось, потому что о нем она не забывала никогда… ну или почти никогда.
…Пробка рассосалась, Машка облегченно вздохнула и стала в деталях живописать историю покупки нового авто. Рассказ этот Катя уже слышала, сначала по телефону из уст самой Марии, потом в переложении ее сестры Регины, уже с комментариями, но перебивать подругу не стала. Та всегда отличалась превосходным даром рассказчика, речь ее была живой, ироничной, любо-дорого послушать.
Они дружили со второго класса школы, с тех самых пор, когда училка Анна Михайловна посадила двух новеньких девочек за одну парту. Потом, понятное дело, рассадила, потому что девочки болтали, а болтали они, так как сразу друг другу понравились и подружились. С тех пор шли по жизни бок о бок, почти никогда не расставаясь.
Громкий звонок из недр Катиной сумки прервал Машкино повествование.
– Катерина, целый день не могу до тебя дозвониться. Что с твоим телефоном? – по маленькому салону «Фольксвагена» разнесся громкий, под стать звонку, голос Катиной мамы, Таисии Федоровны.
– Мам. У меня с телефоном все в порядке. Просто выключала, я же на записи была, только освободилась. Еду домой с Машей…
– Погоди, Кать, тут у нас на даче опять лихо, – не дослушав, перебила ее мама.
– Что случилось?
– У Быковых Джека убили.
– Какого Джека?
– Собаку их. Неужели не помнишь? Мне Анна Петровна позвонила… В общем, вчера обнесли дачу Быковых.
– Ой!
– Вынесли все, что было: новую микроволновку, телевизор, детский велосипед, одежду, и так по-варварски дом изгадили. Все один в один, как на двух предыдущих дачах. Полиция приезжала. Говорят, орудует одна и та же шайка.
– Кошмар! Бедная тетя Нина! – отозвалась Катя.
– Это уже третий случай, ты понимаешь, третий! А самое главное, Джека убили. Он у них такой сторож был. Участковый сказал, что обычных бомжей собака бы отпугнула. А эти сволочи ничего не боятся. Одним словом, гастролеры они, потому что больно лихие, и за домом наверняка следили.
– Господи, ну и дела!
– Я тебе, Катерина, между прочим, давно говорила, собственность бросать нельзя. Это большая ответственность. А то приезжаем раз в неделю… имей в виду, мы можем стать следующими. Надо что-то решать. Видно, придется нанимать кого-нибудь… сиделку, сторожа с колотушкой…
– Да уж. Только колотушка эта стоит как чугунный мост.
– Вот ты и узнай, дорогая моя, сколько это стоит. Подумай. Я пока с Анной договорилась, она среди недели приходить будет, дом проверять. А ты узнавай!
Катя нажала отбой и сунула мобильный в сумку.
– Ну и дела, Машка. Только этого мне не хватало! Представляешь?
– Да я слышала все, – кивнула подруга. – Тася Федоровна права, собственность – дело ответственное. Я поэтому дачу не покупаю, свяжет по рукам и ногам, света белого не увидишь. А потом всегда ведь можно к тебе приехать. Ух ты, вот и местечко для нас освободилось! – Аккуратно маневрируя, она припарковала машину на стоянке супермаркета.
– Ну, чего брать-то будем? Овощи, нарезку, салат? – спросила Маша после паузы. – Ой, у меня даже в животе бурчит от голода.
– Ты сиди, давай я схожу, – предложила Катя, ковыряясь в сумке в поисках кошелька. – А пить-то чего будем?
– С одной стороны, завтра мне на работу, – хитро улыбнулась подруга, – а с другой – давно не виделись.
Последовали многозначительные взгляды, подмигивания.
– Может, все-таки винца или шампанского? – робко предложила Катька.
– Нет, дорогая моя, я твои компотики пить не могу. С вином у меня своя, отдельная история… А Севка придет?
– А кто ж его знает.
– Ну, тогда…
– …тогда покупаю бутылку водки, – уже выходя из машины, уверенно подытожила Катя.
– Не обманывайте себя – берите две! – хохотнув, бросила ей в спину Маша и тут же, хлопнув дверцей со своей стороны, последовала за подругой. – Да не смотри ты так, шутка. И вообще я с тобой пойду. Для верности.
Был уже девятый час, так, во всяком случае, показывали большие фарфоровые часы-тарелка на кухонной стене, когда подруги, наконец, устроились за накрытым столом. Готовить было некогда и лень, пришлось ограничиться экспресс-вариантом – горка кулинарийного оливье с веточкой укропа, копченая колбаска, нежно-розовая со слезой семга, домашние соленья от Таисии Федоровны – гастрономический, на скорую руку праздник был готов.
– Севку ждать бессмысленно, – бросив взгляд на часы, сказала Катя, – он после института наверняка где-нибудь с друзьями завис.
– Ну и не будем, – Машка сняла пиджак и, повесив его на спинку стула, решительно придвинула к себе тарелку, – опять же ребенка спаивать нехорошо.
– Боже мой, Машка. Что у тебя с руками?
– Что? А, это? Это дорогостоящее импортное средство для загара, полторы тысячи рублей за тюбик, между прочим, – погладив руку, гордо ответила подруга.
– А почему же ты такая пятнистая?
– Пятнистой я стала уже после первого втирания. Примерно так рублей через двести пятьдесят моя кожа приобрела устойчивый леопардовый цвет. Что? Тебе не нравится? А я уже привыкла. Хорошо, что хоть ноги в колготках.
– А я, когда загар сойдет, все-таки куплю абонемент в солярий. Говорят, вредно, ну и пусть.
– Жить вообще вредно, от этого умирают, – назидательно подытожила Маша и, подцепив вилкой кусок семги, с удовольствием отправила его в рот, – хотя чего тебе беспокоиться, ты еще вполне загорелая. Постой, так мы что? С Майорки твоей не виделись?
– Похоже, что так. Получается, больше месяца.
– Вот жизнь! Любимую подругу повидать некогда. Ну и как тебе в этот раз?
Хрустальные запотевшие рюмки, весело звякнув, соединились, подружки с аппетитом закусывали, не прерывая разговор.
– Да все то же самое – солнце, небо, море, песок. Как в том анекдоте: «Папа, что это было?» Я же там почти абориген… Passeo Maritimo, Catedrale, pescado a la plancha e mycho mas… – Катя никогда не учила испанского, но всегда на удивление правильно произносила иностранные слова. «Хорошая способность к звукоподражанию», – такобъясняла это Маша, которая в отличие от подруги как раз имела языковое образование.
– Во шпарит, во шпарит!
– …ходила, гуляла, плавала. На пляже не протолкнуться, туристов толпы. В августе больше никогда не поеду. Если бы не яхта… Эх, Машка, как же здорово! Вышли в открытое море, потом в какой-то бухточке на якорь встали, рядом ни-ко-го, ни тебе немцев с голыми жопами, ни детей с матрасами.
– Супер. А что у Андрея новенького?
– У него все старенькое, не жизнь, а сплошная фиеста. С очередной невестой своей разругался.
– Ты меня прости, конечно. Ну и бабник же он! – перебила подругу Маша.
– Не надо «прости», Маш! Все уже забыто. Это переходящее красное знамя давно не в моих руках, – спокойно ответила Катя. – Но что бы там ни было, отношения у нас вполне дружеские. Предлагаю тост «За бывших мужей!».
Подруги чокнулись и снова заработали вилками.
– Слушай, совсем забыла, мне же Танька Клочкова на днях звонила. Предлагает собраться, обзвонить всех из класса, кого найдем, ресторанчик заказать. Давно ведь наших не видели, – сказала Машка.
– Некоторых я бы, например, еще столько же не видела.
– Да ну тебя, Насонова. Этим некоторым мы даже звонить не будем. Ежу понятно, что Диму Шлеп-Ногу беспокоить не стоит… А помнишь, как ты вместо Танькиной мамы с директрисой беседовала. «К сожалению, быть у вас никак не смогу, уезжаю в командировку, но обещаю вам, в отношении Татьяны будут приняты самые строгие меры», – продекламировала Маша.
Она напомнила о нашумевшей в 10-м классе истории, когда Катя, используя полученные в театральном кружке навыки, мастерски имитировала голоса, в том числе голоса мам школьных подруг, а иногда даже беседовала с учителями от их имени.
– Танька, между прочим, была в восторге.
– Еще бы, – подтвердила Маша, сильно запунцовевшая носом и щеками, и подняла глаза на часы: – Что же Всеволод не идет?
– Маш, он уже совсем взрослый субъект и не терпит посягательств на свою личную жизнь. Кроме того, еще только половина одиннадцатого.
В голове у Кати зашумело, по телу разлилось приятное тепло.
– Щас, погоди… – многозначительно подняв палец, она встала и удалилась в комнату, откуда через минуту вернулась, держа в руках сильно запыленный школьный альбом. Подруги склонились над пожелтевшими снимками, хохоча и перебивая друг друга, принялись обсуждать фотографии.
– А это кто еще такие? – спросила Маша, не без труда наклонившись и подобрав с пола упавший снимок. – Хотя погоди… в центре вроде ты стоишь?
– Да, «у рояля то же самое».
– Где это вы, в Индии, что ли?
– Почему в Индии? А действительно, где это мы? – качая головой и вглядываясь в черно-белое фото, повторила за подругой Катя.
Снимок был сделан давно. Солнечный летний день, пышные гроздья сирени, небольшая группа детей, в центре которой маленькая, лет семи-восьми Катя в коротком платьице, белых гольфах вовсю улыбается беззубым ртом. Приятели ее тоже имеют вполне счастливый вид. Обычный любительский снимок времен 70-х. Необычным выглядит только постройка, в очертаниях которой угадывается садовая беседка. На ее фоне детей, собственно, и сфотографировали. Диковинная конструкция навевает какие-то музейные ассоциации, что-то про Древний мир, как в учебниках истории. Искусно вырезанные из дерева фантастические существа с крыльями и пышными бородами поддерживают тяжелую квадратную крышу с мудреным орнаментом.
– А-а-а… это же Рыжий Билл, а вот Пашка, а это Славик… ой, какие мы все мелкие… он потом на машине разбился, – продолжая разглядывать фото, протянула Катя.
– Кто разбился? – попыталась внедриться в поток ее воспоминаний подруга.
– Славик. Он меня на год моложе был… кажется, нас у кого-то на даче фотографировали… – Катя машинально придвинула к себе рюмку, но, посмотрев на нее, поморщилась, – памяти совсем не стало, не голова, а…
– Все жалуются на память, и никто не жалуется на свой разум!
– Да ну тебя… Слушай, Машуля, ты знаешь… я ведь недавно где-то видела точно такую же беседку. Ну точно такую… с крыльями, то есть не крыльями… А вот где я ее видела?
– Погоди, Кать. Ты мне лучше скажи, ничего, что я машину во дворе поставила? Переставлять не надо? А то вдруг кто из соседей возмутится?
– Да боже сохрани. Ты поставила ее на моем месте, – ответила Катерина и широко зевнула: – Давай я пойду тебе постелю.
3. Поездка на дачу
Подмосковье, сентябрь 20… г.
Несмотря на свои шестьдесят восемь и заслуженную пенсию, Таисия Федоровна отказывалась причислять себя к пенсионерам, да и вообще к пожилым людям. Она была энергична, легка на подъем и привыкла к активному образу жизни. Постоянные разъезды Москва – дача, внук, дочь, друзья, театры, выставки – все почти как в молодости, когда, будучи студенткой, она успевала и премьерный спектакль посмотреть, и на первомайскую демонстрацию сходить, и нормы ГТО сдать.
Сегодня, прикидывая план на день, Таисия Федоровна решила, не дожидаясь возвращения дочери с работы, махнуть на дачу своим ходом.
– Чего мне эта машина? Полдня зря просижу, – размышляла она, ловко скручивая волосы в высокий пучок. С этим пучком у Таисии была связана одна история, ставшая в семье Насоновых настоящей притчей во языцех. Случилось это давно, еще в период знакомства с будущим мужем. Как раз тогда Таисия Федоровна впервые, поддавшись моде, решилась остричь волосы, но, почувствовав себя неуютно, поняла, что ошиблась, и тотчас приобрела в собственность роскошный импортный шиньон. В момент романтического свидания, состоявшегося в парке, шиньон позорно зацепился за куст сирени, и пунцовая от смущения Таисия Федоровна так и не осмелилась его снять. К счастью, потеря шиньона не повлияла на чувства ухажера…
С минуту постояв в раздумье, Таисия Федоровна накинула плащ:
– Нет, Катю ждать не буду. Еще по пробкам неизвестно сколько тащиться…
Вообще-то после смерти мужа Таисия разлюбила ездить на автомобиле. На электричке-то оно верней и ждать никого не надо. Сорок пять минут – и на месте. А там немного пешком по свежему воздуху. Сумка нетяжелая – Катя накануне продукты привезла. Зато в электричке и газет купить можно, и для хозяйства всякого разного. Чего там только эти коробейники не таскают! Сегодня Таисия Федоровна опять не смогла отказать себе в покупке. Пленило ее многофункциональное устройство «Полификс», хитро сочетающее функции карманного ножичка, фонарика и свистка одновременно. На загородной платформе она оказалась около шести вечера. Погода резко испортилась. Небо нахмурилось, свинцовые тучи угрожающе нависли над дачным поселком.
– Надо бы до дождя успеть. Зонт, как назло, дома оставила, – заторопилась Таисия Федоровна.
Пыльную станционную площадь сменила улица Свердлова. Говорят, теперь ее хотят переименовать. Таисия помнила ее еще не заасфальтированной, тридцать лет назад… Ох, какие же здесь были ямы да лужи. А сколько раз у них с Колей тут машина застревала! Коля, весь в грязи, на нее кричит, сзади толкает, а она на педаль ногой жмет, путая газ со сцеплением. «Волгу» ту они еще на чеки купили после Колиной командировки… Боже мой, как быстро время пролетело, а кажется, совсем недавно молодыми были, и Катюша такая маленькая, смешная, все с отцом бегала, в прятки играла, «ищи меня, я в шкапу».
Таисия Федоровна шла быстро, легко обгоняя других пешеходов, идущих со станции, походка у нее до сих пор была молодой, стремительной. Мелькнули почта, магазинчик, поворот на Спартаковскую улицу, людской поток двинулся туда.
«Вот же кому-то не повезло», – горько подумалось Таисии Федоровне.
Два года назад на красивой зеленой улице у станции выстроили большущее шестнадцатиэтажное здание, прямо посреди старых дачек. Дом заселили. Город безжалостно наступал.
– Народ, машины, мусор, шум, гам… какой кошмар… бедные люди, как же они тут живут, – вздохнула она про себя.
Появились первые дачки, покосившаяся изгородь детского санатория, вдоль дороги потянулись кусты жимолости, боярышника, старые липы, тополя с желтыми осенними кронами. Первые капли дождя тронули пыльный асфальт.
– Не успела, теперь вымокну вся. Надо было все-таки с Катериной поехать. – Таисия критически оглядела тяжелую черную тучу, нависшую над дорогой и, подняв воротник плаща, прибавила шагу.
На улице стало безлюдно. Быстро темнело. Ветер подхватывал опавшие листья, разгонял их, кружил и бросал на мокрую дорогу. Дождь усилился. Холодные капли его от ветра сделались острыми, как иголочки. Таисия Федоровна не сбавляла шага.
Она уже свернула за угол зеленого забора в маленький переулок, ведущий к их даче, когда сквозь плотную стену дождя увидела на дороге очертания человеческой фигуры. Сделав еще несколько шагов, она узнала соседа, Семена Васильевича. Сгибаясь под порывами ветра, старик медленно брел к дому. В это время от стены забора отделился какой-то человек. Сделав несколько быстрых шагов, незнакомец догнал соседа, грубо схватил за плечо, развернул к себе и что-то прокричал ему прямо в лицо. Семен Васильевич отпрянул, попятился и, оступившись, чуть не упал в канаву. Незнакомец продолжал наседать.
– Это кто еще такой? – пробормотала Таисия Федоровна. Она была женщиной не робкого десятка, а самое главное, неравнодушной.
– Надо что-то делать… пока он меня не видит… эффект неожиданности, – мелькнуло у нее в голове, и решение явилось само собой. Быстро порывшись в сумке, она достала свежекупленный в электричке «Полификс» и изо всей силы дунула в свисток. Звук его был настолько пронзительным, что оглушил и соседа, и хулигана, и саму Таисию Федоровну.
– На Свердлова стоит патрульная машина! – выкрикнула она как можно громче. – Семен Васильевич, мне их позвать?
Незнакомец отдернул руку и, отступив на шаг назад, застыл в нерешительности.
– Не надо, Таисия… не надо, разберемся как-нибудь сами, – услышала она надтреснутый, дребезжащий голос соседа.
Обидчик, резко обернувшись к нему, что-то со злостью процедил сквозь зубы и зашагал прочь. Слов Таисия не услышала.
– А там и правда полицейская машина стоит? – спросил ее Семен Васильевич, когда Таисия с ним поравнялась. Вид у старика был несчастный и какой-то смущенный.
– Да нет, конечно. Откуда бы ей там взяться. Это я так, для форсу. Но что же это такое, Семен Васильевич, среди бела дня на людей нападают! Дожили! Я и сама немного струсила. Надо в полицию позвонить.
– Спасибо вам, Таисия Федоровна, большое спасибо, но тут не совсем то, что вы думаете…
– А что тут думать! Да он, наверное, ограбить вас хотел. Что он вам сказал? Угрожал? Нет, это настоящий кошмар, на пожилого человека набрасываться. Еще такой верзила, ручищи здоровенные, сразу видно, уголовник. Давайте-ка теперь уж вместе дойдем, так оно надежнее.
– Тут другое, понимаешь, Таисия, не то… – вяло возражал старик, но собеседница, вдохновленная быстрой победой, его не слушала, а все продолжала гнуть свое, и про полицию, которая не хочет работать, и про дачные кражи, и про уголовников, спокойно разгуливающих среди бела дня, и про то, что раньше такого не было…
– Это оставлять так нельзя, Семен. Надо к участковому пойти, заявление написать. Иначе нас всех тут со свету сживут. Слышали, что в поселке делается, уже три дачи ограбили. Может, этот из их шайки? Если хотите, я с вами схожу, я же свидетель. Конечно, толку от этого мало, но если не писать, наши стражи порядка палец о палец не ударят.
– Не надо, Таисия, не надо. Только не к участковому, – старик затряс головой, капли дождя стекали по его худому морщинистому лицу, – тут другое… это, это Клим был.
– Что, прости, не поняла?
– Эх, Тася, Тася, это же брат мой, – едва слышно произнес старик, отвернулся и, помедлив, добавил: – Клим это был.
– Ой, – запнулась Таисия, не зная, что сказать. Повисла неловкая пауза. Только теперь она обратила внимание, что на правой щеке Семена Васильевича наливается фиолетовый синяк.
– Не надо сюда посторонних приплетать.
– А я не знала, что… то есть не узнала его. Он очень изменился…
– Да уж, изменился.
– Так что он от вас хотел? – не удержавшись, спросила Таисия.
– Семейные дела, будь они неладны, дележ имущества, – через силу ответил старик, – даже стыдно, ей-богу…
– Ну, прости, если я что-то не то сделала, – она то и дело путалась между «ты» и «вы».
– Да чего уж тут. Только вы… словом, не надо никуда писать, – сказал старик и свернул к своей калитке. Прислонившись спиной к забору, он стал рыться в карманах в поисках ключа, ветхая калитка тем временем, заскрипев, открылась сама.
«Охо-хо-хо-хо, подходи, бери, и никакой очереди, – подумала Таисия, провожая старика взглядом, – тут и ключи подбирать не надо, хотя… на такой забор посмотрят и залезать не станут, все равно брать нечего».
– Будет что-то нужно, заходите без всякого стеснения, – крикнула она вслед соседу и пошла дальше.
Собственно, пройти оставалось два шага. Дача Насоновых примыкала вплотную к участку Семена Васильевича. Во дворе Таисию Федоровну встретила счастливая Булька. Она неистово молотила хвостом, улыбалась во всю свою пасть, даже норовила прыгнуть передними лапами на грудь, хотя знала, что это ей строго запрещено.
– Соскучилась, дорогая моя, заждалась, Булечка, – хозяйка погладила собаку, – ну пошли, пошли домой, нечего под дождем мокнуть.
На самом деле Булька просидела в одиночестве недолго. Сева уехал в институт прямо с дачи, было это часов в одиннадцать. Потом к Бульке заходила соседка Анна Петровна, приглядывавшая за домом. Теперь на даче приходилось нести буквально круглосуточную вахту. Но общительная дворняга всегда тяжело переносила одиночество.
Вместе они направились к дому. Там, начиная с прихожей, все сияло чистотой. «Ну вот, Петровна все убрала, помыла. Понятно, а тут и записка. Ты у меня, Булька, стало быть, накормленная. Ой, надо Кате позвонить, доложиться», – вспомнила Таисия Федоровна, а из головы никак не выходила сцена, увиденная на дороге.
«Боже мой, что же у них такое случилось? Если чуть не до драки дело дошло? Клим-то, оказывается, жив-здоров… лет десять, наверное, не появлялся, а у Семена такой синячище на щеке… неужели действительно брат приложил? Вот несчастный старик! Старик, хотя он, должно быть, ненамного ее старше. Ему, наверное, семьдесят два, три… да, постарел Семен, сдал. Хотя, конечно, такое горе пережить, не дай бог…»
Их соседа, Семена Васильевича Кошелева, Таисия помнила еще молодым, они с мужем тогда только купили дачу. Генерал Кошелев, отец Семена, к тому времени уже умер. Это ему вроде когда-то дом с участком выделили. Судя по всему, своим семейством Семен Васильевич обзавелся не рано, уже за тридцать. Супруга намного моложе его была. Звали ее Алла, и сынишка у них был маленький, чуть младше Катюши. Семен души в них не чаял. Особенно в сыне, в Славике, тот болезненный, слабенький рос. Зайдет, например, Славик с Катей поиграть, а Семен раза два-три прибежит, проверит, тепло ли тот одет, не замерз ли, не вспотел. Очень заботливый был отец. А жену как баловал! Алла в магазины только на машине ездила, а чтобы на станции с сумкой ее увидеть – нет, Семен все сам таскал. Вот и дотаскался… В мае, кажется, дело было, только не вспомнить, в каком году, в 79-м или позже. Подкатывает тогда к участку их желтая «Лада», а из машины не трое, а двое выходят, Семен и Славик. Соседки, понятное дело, пошли судачить. Петровна Тасе нашептала, что, мол, Алка ушла к другому, просила Славика ей отдать, но Семен не согласился. Так они и остались вдвоем. В то время как раз и Клим на дачу приезжать стал. Таисия даже сразу не сообразила, кем он Семену доводится. Не похожи, совсем не похожи, хоть и родные братья, и внешне, и характером. Клим Тасе не нравился, пьяница, матерщинник, руки в наколках – словом, темная лошадка. Семен – совсем другое дело, за него она переживала. Положительный был мужчина, внешне привлекательный, высокий, стройный и, как говорится, за душой кое-что имел. Но во второй раз так и не женился. Из-за Славика, наверное. Вообще после развода Кошелев изменился. Впрочем, он и раньше не слишком общительным был, в гости просто так, по-соседски, ходить не любил, только если по большим праздникам, и к себе не звал, но отношения у них всегда были хорошими. После ухода Аллы он соседей как будто сторониться начал. А уж когда настоящая беда пришла… тут и говорить нечего. Не приведи Господь такое горе пережить! Славику ведь и двадцати не было, когда он разбился. Нет ничего страшнее в жизни, чем хоронить собственных детей.
От воспоминаний у Таисии закололо сердце, и, сунув под язык валидол, она тяжело опустилась в кресло. Учуяв запах лекарства, к ней подошла Булька и участливо ткнулась мокрым носом в руку. Она всегда чувствовала настроение своих хозяев, понимала, когда нужна.
– Ничего, Булечка, сейчас все пройдет. А мы с тобой давай Кате позвоним, чтобы она не волновалась. Где тут у меня телефон…
Булька приподняла уши, заглянула в глаза хозяйке и тихонько присела рядом.
4. Лекция П. И. Мельгунова
Петроград, декабрь 1916 г.
…Если замысел удастся, то клянусь тебе:
Ожидает нас великий поворот в судьбе.
Низами Гянджеви, персидский поэт, XII–XIII вв.
У ярко освещенного подъезда Русского географического общества в Демидовом переулке царило оживление, толпились люди, подъезжали и отъезжали экипажи, пролетки, авто. Даже погода, не морозная, но по-петербургски сырая и ветреная, не испугала столичную публику, которая все прибывала и прибывала. У высоких дубовых дверей, кутаясь в воротник, вымученной улыбкой встречал гостей замерзший швейцар.
В просторном фойе бельэтажа у окна, наблюдая за суетой на улице, стояли двое. Первый, лет пятидесяти – пятидесяти пяти, с вьющимися седыми волосами, в строгом черном, несколько вне моды, костюме, второй много моложе, шатен, в очках и ладно сидящей серой визитке.
– Кто бы мог предположить… – в который раз произнес седой господин и улыбнулся. Смуглая кожа его резко контрастировала с белой бородкой и густыми бровями, из-под которых смотрели внимательные голубые глаза. Седого загорелого господина звали Петр Иванович Мельгунов, именно на его лекцию о культах Древнего Востока спешила разноликая столичная публика. Собеседником Мельгунова был его давний друг, коллега и горячий почитатель Олимпий Иванович Шерышев.
– Липа, голубчик, кто бы мог предположить, что тема эта вызовет такой колоссальный интерес. Смотрите-ка, что делается, сколько молодежи явилось, даже барышни пожаловали… А я-то, признаться, по-другому себе это представлял – одни седые бороды да лысины…
– Будут вам седые бороды, Петр Иванович, когда ученым мужам и попечителям станете докладывать. Сейчас же иное дело… сами изъявили желание.
– Да-да, Липа, разумеется. Публичная лекция – совсем другое, свободный вход для всех… – закивал Мельгунов. – Однако поглядите, что там внизу делается – просто аншлаг.
– Меня это ничуть не удивляет, публика теперь сверхактивна, иные молодые люди, и барышни в их числе, сделались настоящими завсегдатаями в лекториях.
– Кто в таком случае уверял меня, что нынче на уме у всех одна война.
– Да, это правда. Только правда и то, что от войны теперь все очень устали, – ответил Олимпий Иванович, скосив глаза на окно, и как будто по-заученному продолжил: – Устали от собственного бессилия, от неопределенности, от газетной трескотни, от обещаний. Это нечто вроде коллективной усталости, когда людям хочется забыться, отвлечься. Представьте, все столичные театры полны, залы синематографа битком. С хлебом туго, так подавайте зрелищ.
– Помилуйте, какого же зрелища они ждут от лекции о Древнем Востоке? – искренне удивился Петр Иванович.
– Это как посмотреть. Нынче вошло в моду все мистическое, загадочное, все будто с ума посходили. Спиритов, мистификаторов разных мастей в Петрограде развелось, как мух у варенья. Впрочем, эта публика уже успела всем надоесть. А вы, Петр Иванович, предлагаете им нечто новое… уж чего-чего, а мистического у ваших возлюбленных персиян было предостаточно. Один Заратуштра чего стоит. Нет, Петр Иванович, вы там в своих пустынях от столичной жизни совсем отстали, не улавливаете духа времени.
– Ох, Липа, тревожно мне, боюсь не оправдать их надежд. Обидно, знаете ли, на старости лет срезаться, – понизив голос, с хитрой улыбкой произнес Мельгунов и достал из кармана золотой брегет, – однако мне, пожалуй… пора. Ох и волнительно что-то.
Волнения Петра Ивановича были хоть и напрасны, но в известной степени объяснимы. На родине Мельгунов, незаурядный разносторонний человек, востоковед, полиглот, археолог, коллекционер, автор книг, научных статей, не был долгих три года. Уехав в экспедицию еще в мае 1913 года, он никак не предполагал, что путешествие его настолько затянется – начавшаяся война, а затем тяжелая болезнь, надолго приковавшая его к постели и едва не закончившаяся фатально, нарушили планы ученого. Но в то же время результаты экспедиции превзошли все ожидания. Помимо редчайших образцов древнеперсидской скульптуры, посуды, ювелирного искусства, письменности – тех самых глиняных клинописных табличек, расшифровке которых Петр Иванович также уделял немало времени, – экспедиция Мельгунова привезла на родину подробный отчет об археологических раскопках кургана N., сотни фотографий и зарисовок, заметок по этнографии. Кроме того, картографы экспедиции доставили в Петербург уникальные карты прикаспийской части Иранского нагорья.
Когда же ценнейший груз, а это без малого 40 ящиков, прибыл наконец в Демидов переулок и был размещен на временное хранение, Петр Иванович чуть не расплакался от радости. Одному богу известно, сколько сил и здоровья положил он на то, чтобы груз, проделав более трех тысяч верст по морю и суше, достиг Петербурга.
– Петрограда, дорогой Петр Иванович, уже два года как Петрограда, привыкайте, – поправлял Мельгунова Шерышев, разделивший с ним бремя хлопот по возвращению на родину.
– Да, голубчик, понимаю, война… все так переменилось, город просто не узнать. Ну что поделаешь – сразу не переучишься. Однако Ende gut alles gut[2]. Мы в России, и это главное. У меня, Липа, такая ноша с плеч упала.
– Петр Иванович, дорогой, вы настоящий титан и сами не представляете, что сделали для науки. Да вам все востоковеды в ножки должны поклониться, – не пытаясь скрыть своего восхищения, говорил Шерышев. Он, пожалуй, как никто другой понимал, что ноша у Мельгунова, его друга, учителя и уже очень немолодого человека, в самом деле была нелегкая. Чего стоил один переезд по железной дороге, которая в последние месяцы работала из рук вон плохо.
– Полно вам, Липа, одна рука в ладоши не хлопает. Я ведь не один был… Ну, с богом, – тихо произнес Петр Иванович и направился в зал.
Шерышев намеренно отстал от него, а войдя, сразу приметил в первом ряду Федора, сына Мельгунова, улыбнулся и занял место рядом с ним. Народу скопилось действительно много. Зал был полон. В партере мелькали знакомые лица – коллеги из университета, из археологической комиссии, попечительского совета. Публика еще рассаживалась, гремела стульями. Тем временем Мельгунов уже поднялся на кафедру и неторопливо принялся раскладывать перед собой записи. Председательствующий, обведя взглядом зал, тронул серебряный колокольчик, призывая собравшихся к тишине, и наконец представил оратора.
В первые мгновения Шерышеву показалось, что Мельгунов волнуется, он и сам, почувствовав внутри легкий трепет, заерзал на стуле и переглянулся с Федором, но голос Петра Ивановича, набрав силу, зазвучал спокойней, уверенней, тверже. Говорил он просто, ясно, по существу, без лишних деталей, не изнуряя слушателя специальной терминологией, и в то же время увлеченно, эмоционально, с азартом, умело сочетая сухие факты с шуткой. Публика притихла и, буквально затаив дыхание, принялась внимать. И Шерышев тоже, несмотря на то, что предмет разговора ему был прекрасно знаком, поддавшись общему настроению зала, ощутил на себе магию настоящего ораторского искусства. Мельгунов обладал каким-то поистине гипнотическим даром заинтриговать, увлечь, захватить аудиторию.
Начал он с того, что вкратце рассказал об основных задачах персидской экспедиции, ее составе и маршруте, который был весьма впечатляющим: Северная и Южная Персия, Туркменистан, Афганистан, Сирия. Затем рассказал о достигнутых результатах, скромно умолчав о своем личном вкладе в общий итог путешествия.
Тут оратора прервал неожиданный и довольно дерзкий вопрос одного из зрителей, в котором Шерышев сразу узнал давнего и непримиримого оппонента Петра Ивановича, и насторожился. Старый, как мир, спор заключался в том, что Мельгунов-ученый, по мнению его оппонентов, намечал для своих научных изысканий слишком широкий круг вопросов. Они обвиняли его в разбросанности и даже в дилетантизме. Однако Мельгунов не стал отвечать на дерзость, а его миролюбивый и даже немного шутливый тон не позволил разгореться спору:
– Давным-давно, когда я, будучи еще совсем молодым человеком, отправлялся в свою первую персидскую экспедицию, меня действительно интересовали лишь проблемы языкознания. Это было связано с изучением мертвого среднеперсидского языка пехлеви и так называемым зендским переводом Авесты. Но когда я приехал в те заветные края, ощутил жизнь людей, их традиции, культуру, оказался лицом к лицу с седой персидской древностью, круг моих интересов непомерно расширился. В этом и есть причина упреков в мой адрес. Я готов их принять, предъявив один-единственный аргумент, одно извиняющее обстоятельство: я очень любопытен, а жизнь настолько многообразна, что мне все в ней интересно. Взять хотя бы расшифровку клинописных табличек, которой я увлекся некоторое время назад. Переводы я делал главным образом для себя из чисто научного любопытства. И отнюдь не торопился сообщать о своих скромных изысканиях уважаемому ученому сообществу, которое, быть может, и не узнало бы о моем увлечении никогда… если бы не чудовищная несправедливость, вынудившая меня опубликовать ту статью. В ней шла речь о незаслуженно, с моей точки зрения, совершенно незаслуженно забытом Георге Гротефенде. Меня удивило, что имя Шампольона, дешифровщика египетских иероглифов, известно чуть ли не каждому гимназисту, имя же Гротефенда не известно почти никому. А ведь именно ему, скромному молодому учителю из Геттингена, принадлежит приоритет в открытии этой древней письменности. В то время как его современники утверждали, что клинопись есть не более чем узоры на камнях, Гротефенд с помощью поистине гениального метода нашел ключ к тайнам клинописных текстов, хотя в отличие от Шампольона в его распоряжении не было трехъязычного камня с готовым переводом на греческий, а лишь кое-какие копии персепольских табличек! – гремел с кафедры голос Петра Ивановича. Глаза его блестели, щеки разрумянились, выпив воды и переведя дыхание, он продолжил:
– Забавно, господа… прошу простить великодушно мою оплошность… Дамы и господа, что действовал Гротефенд отнюдь не из научных побуждений. Да-да. Он сделал это на пари! Подумать только, поспорил и выиграл спор! Сначала он доказал, что клинописные знаки представляют собой именно письменность, а не орнамент, затем пришел к выводу, что читать эти тексты следует сверху вниз и слева направо. Если позволите, я не буду входить в детали. И наконец, Гротефенд предположил, что традиционные тексты на могильных плитах – образцы древней письменности, оказавшиеся в его распоряжении, были копиями с надгробных надписей – в течение веков практически не изменяются. Так же как на его родине каноническое «спи спокойно» гравируют на могилах из года в год на протяжении веков. Так почему же в таком случае, рассудил Гротефенд, новоперсидским эпитафиям не повторять те, что были составлены на древнеперсидском? Здесь покоится царь такой-то, сын царя такого-то, внук такого-то… Не имея возможности воспроизвести все умозаключения молодого исследователя, я лишь скажу, что его смелые предположения, начавшиеся с расшифровки царского титула, открыли миру первые 12 букв древнеперсидского языка эпохи Ахеменидов.
Поверьте, найти, откопать, вынести из раскопа на свет божий и предъявить изумленному человечеству прекраснейшие памятники древних цивилизаций – это только половина дела. Без кропотливого труда дешифровщика уникальные памятники Ниневии, Вавилона, Нимруда, Персеполя, а также Луксора, Гизы и т. д. навсегда остались бы немыми, и любые попытки объяснить, систематизировать их были бы обречены.
Оратор вновь ненадолго прервался, чтобы выпить глоток воды. Оппонент, любитель научных споров, успокоился. Вздохнув с облегчением, Шерышев одобрительно подмигнул Федору.
– Однако я немного отвлекся от темы нашей сегодняшней беседы. Итак, религиозные культы древней Персии – маздеизм и, конечно, зороастризм, о котором в последние годы много говорят с легкой руки господина Ницше… чей философский труд с прилавков наших книготорговцев проникнул едва ли не в каждую гостиную, не миновав при этом и детские.
И если искушенный читатель, уже знакомый с некоторыми переводами Авесты[3], взялся за опус популярного философа в надежде узнать, допустим, новое толкование этической триады зороастризма, то неискушенный купил книгу, поддавшись общему ажиотажу. И был обманут ложными обещаниями. Потому что мистицизм, который приписывают работе Фридриха Ницше, по большей части вымысел. Я не отрицаю, что в самой религиозно-мировоззренческой системе зороастризма есть много загадочного, непонятного, быть может, даже мистического, однако это отнюдь не главное. А если уж мы заговорили о мистицизме, то искать его следует скорее в более старых верованиях, о которых греки говорили как о «религии магов». Мало кому известно, что слово «маг» пришло к нам из Персии. Магами назывались мидийские жрецы, жившие на северо-западе Ирана. К сожалению, достоверных письменных источников сохранилось немного, поэтому наши суждения о них базируются на более поздних хрониках, в первую очередь греческих… Согласно им, религия магов, или маздеизм, распространенная среди персов до прихода пророка Заратуштры, предлагала дуалистическую систему мироустройства, в которой существовали два противоборствующих начала. Благое, созидающее начало, возглавляемое богом Ахура-Маздой, и злое, сеющее хаос и смерть, под предводительством бога Ангра-Майнью[4]. Древние иранцы почитали и то, и другое. Добрых духов, ахуров, они просили даровать мир, покой, здоровье, злых – молили не причинять им зла. Или причинять зло другим – их врагам, соперникам!
В полнейшей тишине публика внимала оратору.
– Рискну предположить, что причина происхождения разнообразных легенд о вредоносной «черной магии», о содомском грехе, о страшных зверствах древних персов заключается в их поклонении темным силам. Отсюда и мрачные пророчества, которые мы находим в более поздних источниках, о чаше гнева, которая изольется на их земли, о картинах всеобщего разрушения, о шакалах, воющих в чертогах… Многое в их жизни, древних традициях показалось бы нам сегодня пугающим, странным и даже кощунственным. Например, то, что они не предавали земле и не сжигали своих умерших, а выставляли их тела на палящее солнце, на съедение птицам. Или то, что у них практиковались близкородственные браки. Существовали также особые молитвы, магические слова, специальные ритуалы, придававшие им силу, защищавшие от врагов. Жрецы, достигшие наивысшего просветления, могли общаться с невидимыми существами «олли» и получать от них помощь. Однако Геродот в своих описаниях не обходил молчанием и положительные стороны их жизни – древние иранцы, или персы («парс» в переводе окраинная земля), были весьма искусны в астрономии, астрологии, толковании сновидений, а также прекрасно владели искусством врачевания.
Но вот явился пророк Заратуштра (в греческом языке – Зороастр), произошло это предположительно между XII и VII веками до н. э., впрочем, в этом вопросе существуют другие точки зрения, и предложил реформировать старую систему верований. Попробую рассказать о ней как можно проще. Прежде всего Заратуштра предложил отказаться от поклонения из страха темному властителю Ангра-Майнью и признать верховным владыкой творца добра и света – Ахура-Мазду. Человек, по его словам, должен участвовать в битве вселенского Добра и Зла. Для этого ему достаточно всего трех орудий – в чем, собственно, и заключается этическая триада зороастризма – благие помыслы, благие слова, благие дела… Пророк обратился к Человеку с призывом помочь светлым небесным силам в борьбе со Злом, и Человек для этой цели должен стремиться стать лучше, честнее, чище. И вместе одолеть мир тьмы и покончить с нечистью.
Сказанное произвело эффект, аудитория разразилась аплодисментами. Оратор ждал, пока они стихнут.
– Господин Мельгунов, как вы можете объяснить, что некоторые историки называют Зороастра «легендарной личностью» и не верят, что он существовал в реальной жизни? Ведь есть же письменные источники, в конце концов Авеста? – разнесся по залу бойкий и звонкий голос молоденькой барышни.
– Спасибо вам, сударыня, за этот серьезный вопрос, – с улыбкой ответил Мельгунов. – Такая точка зрения действительно существует. Дело в том, что дошедшие до нас письменные тексты Авесты, священной книги зороастризма, увы, достаточно позднего происхождения. Ее наиболее древняя часть, Гаты, которую приписывают самому пророку, датируется примерно XII–X вв. до н. э. Вы только представьте, какая древность. Сложность заключается в том, чтобы определить, что именно написал Заратуштра, а что существовало ранее. Это зависит от того, каким временем датировать годы жизни пророка, а они сильно варьируются. О нем нет практически никаких достоверных сведений ни в ранних персидских текстах, ни в ахеменидских надписях, они появляются много позже. Поэтому специалисты в затруднении…
Вслед за первым вопросом последовали другие, на каждый из них Мельгунов давал обстоятельные ответы. Олимпий Иванович посмотрел на часы, лекция близилась к концу, увлекшись рассказом, он прежде не обратил внимания и только сейчас понял, что Мельгунов почему-то ни слова не сказал о своих личных контактах с зороастрийцами. Еще в прошлую экспедицию Петру Ивановичу посчастливилось отыскать их селение. В связи с гонениями со стороны официального ислама они вынуждены были скрываться и уходили в горы. Шерышев припомнил, что Мельгунов ему даже на карте показывал, где он их встретил. Там он смог провести интересные наблюдения за их жизнью, обычаями, ритуалами. Из писем Мельгунова Липа знал, что и в этот раз члены экспедиции намеревались туда отправиться. Он припомнил, что контакт с зороастрийцами стоял в экспедиционном плане. Но со дня приезда Петр Иванович ни словом об этом не обмолвился. Почему же богатейший, редкий материал не вошел в сегодняшнюю лекцию?
– Быть может, в скором будущем наука изобретет какие-то новые технические средства и способы, которые позволят дать ответ на неразрешимые, как нам кажется сегодня, вопросы. Человечество движется вперед семимильными шагами. С каждым мигом все более отдаляется от нас седая персидская древность. Пески времени заметают следы, оставленные царскими колесницами, сандалиями пророка Заратуштры… А настоящее приносит нам преимущественно все новые и новые загадки, касающиеся древних персов, их верований, перипетий их исторической судьбы. На очень многие вопросы просто не существует точных ответов, а те, которыми мы довольствовались прежде, приходится переосмыслять и зачастую отвергать. Засим позвольте от всей души поблагодарить уважаемую публику за внимание, – с легким поклоном произнес оратор, – ваш покорный слуга, Петр Иванов Мельгунов.
Вечер был холодный и ветреный, как нередко бывает петербургской зимой. На улице совсем стемнело и подморозило. Публика разошлась. Федор, сославшись на какие-то дела, ушел вместе с университетскими приятелями, пообещав, что будет к ужину.
– …уверяю вас, столичная публика весьма капризна, ей трудно угодить, а тут такой безоговорочный успех, chapeaux bas[5], – продолжил свою мысль Шерышев, выходя из парадного. Налетел порыв ветра, вихрем закружил и понес по переулку мелкие колкие снежинки. Липа предложил Петру Ивановичу взять извозчика, но тот отказался. Впрочем, идти было недалеко. Мельгуновы жили на Казанской.
– Вам сейчас, дорогой Петр Иванович, поберечься бы следовало, дома в тепле посидеть. Доктора говорят, что контрастные температуры вредны для здоровья.
– Господь с вами, Липа, голубчик, разве я дома-то усижу. Соскучился я… и по нашему холоду, и по ветру со снегом, и по рюмочке пшеничной, эдакой запотевшей, со льда, да с огурчиком, крепким, хрустким. Ох, какой я теперь голодный, как бы Семеновна с ужином не затянула, – с мечтательной улыбкой произнес Мельгунов и тотчас вспомнил: – Да и нельзя мне сейчас на печке-то сидеть, я еще отчет свой не докончил. Затянул без стыда и без цензуры.
– Петр Иванович, я как раз в связи с отчетом собирался вас спросить о… – начал было Шерышев, но Мельгунов не дал ему договорить:
– Полно, Липа, полно. Об отчете еще успеем наговориться. – Он был весел, воодушевлен и нисколько не выглядел усталым. – Лучше вспомните, кого нам Федя обещал привезти к ужину. Нынче он все от отца в секрете держит.
– Ах это… так нет ничего секретного, племянница моя, Капитолина, должна быть. Она уже совсем взрослая барышня, ей семнадцать, неглупая, серьезная, Востоком увлечена и прехорошенькая. Хвалю, не потому что родня ей, она в самом деле славная.
– Любопытно, любопытно. Дети-то как грибы подрастают.
– Лекцию вашу мечтала послушать, но не смогла – сестра захворала, пришлось дома остаться. Вот была трагедия! Потому Федор и решил отпросить ее у родных и препроводить на ужин лично. Он, должно быть, сейчас у них…
– Весьма любопытно… выходит, Федор-то мой… хотя что ж, он давно не мальчик… а я старый слепой крот, – усмехаясь, пробормотал Мельгунов в усы и тотчас переключился на другое: – Ах, боже мой, Липа, как же сладко говорить на родном языке! Говорить и слушать… русская речь, музыка, да и только!
Они уже подходили к дому, когда Шерышев, не утерпев, задал-таки Петру Ивановичу свой вопрос. Уж больно хотелось ему узнать, посчастливилось ли в этот раз Мельгунову посетить зороастрийцев, и если да, то чем дело закончилось.
– Ах, вот вы о чем! Словно нарочно! – нервно вскричал вдруг Мельгунов, меняясь в лице, глаза его гневно блеснули.
Шерышев, никак не ожидавший такой реакции, остановился в нерешительности. Помолчав с минуту и успокоившись, Мельгунов тронул по-дружески его руку.
– Простите, Липа, мою горячность… – Он как-то сразу помрачнел и погрузился в свои мысли.
В молчании они продолжили путь, молча вошли в парадное и поднялись на второй этаж. Перед самой дверью Мельгунов неожиданно обернулся к Шерышеву и быстро проговорил:
– Обещаю, Липа! В свое время обо всем вам расскажу, обещаю… обо всем, что там произошло… Только дайте срок.
5. Семен Васильевич Кошелев
Загорянка, сентябрь 20.. г.
…у пальмы нет больше тени, ее опали плоды,
Плоды и листья той пальмы сломила буря беды.
Низами
В ту ночь Семену Васильевичу Кошелеву приснился отец, молодой, в парадном мундире с орденскими колодками. Он сидел на террасе, на самодельной табуретке, улыбался и играл на гитаре. Мелодия была знакомая, из детства, и у Семена Васильевича во сне потекли слезы. Кругом стояли какие-то люди, слушали, просили сыграть еще, спеть. Но Кошелев заметил, что у отца перевязано горло и он не сможет петь. Мелодия стихла, отец жестом подозвал к себе Семена и решительно протянул ему инструмент.
– Папа, но я не умею, – смущенно пробормотал Семен. Почему-то ему стало ужасно стыдно. Стыдно, потому что так и не научился играть на гитаре, не прошел по здоровью в летное училище, вовремя не женился на Людмиле, дочери фронтового отцовского друга… и вообще потому, что не оправдал его надежд.
Присутствующие на террасе стали перешептываться, раздался чей-то смех. А Семен все стоял, разводил руками и отчаянно боялся, что папа станет его ругать. Вдруг в дверях появился Клим и, подойдя к отцу, потянулся за гитарой, но тот резко развернулся и с силой ударил Клима по лицу. В глазах отца сверкнула ярость, лицо побагровело, вены на шее напряглись. Семен понял, что сейчас может произойти что-то ужасное, и, пытаясь остановить его, подбежал к нему и что-то закричал. Он кричал так громко, что, казалось, оглушил самого себя, и… в тот же момент проснулся.
– Приснится же такое, – обводя глазами спальню, пробормотал Семен Васильевич, – теперь больше не засну.
Вокруг было тихо, темно, лишь в окно пробивался слабый свет уличного фонаря. Рядом в своем любимом кресле спокойно спала кошка Муся.
– А ты знай себе сопишь во все носовые завертки. Ничего тебя не касается. Эх-хе-хе-хе. Надо бы пойти чайник поставить, почти семь, чего уж тут спать, – вздохнул старик, посмотрев на будильник.
Он привык разговаривать сам с собой, кроме Муси, собеседников у него не было. Кряхтя, Семен Васильевич включил ночник и сел на край кровати, металлическая пружина которой сразу отозвалась и повторила кряхтение хозяина. Нащупав тапочки, старик поплелся на кухню.
Из головы никак не выходил странный сон. Это все из-за Клима. И что он снова заявился! Ведь говорено-переговорено, сколько можно… И гараж, и машину ему отдал, и денег в свое время собрал немало. Все впустую. Что же он, паразит, никак не успокоится. Да если бы он не пил, не куролесил, совсем другой разговор пошел бы. А так все, дурень, по ветру пустит.
Последнюю оставшуюся свою недвижимость после раздела имущества с женой и младшим братом, дачный дом и участок в двадцать соток Семен Васильевич решил завещать… кошачьему приюту. О решении своем он никому не говорил, тем более что и говорить-то было некому. Кроме Клима, которого Кошелев не видел несколько лет, родных у него больше не осталось.
На кухню пришла сонная кошка и стала тереться о полосатую пижамную штанину.
– Ты, Мусенька, уже тут как тут, – ласково поглядывая на нее, произнес Семен.
Как только открылась дверца холодильника и в руках у хозяина появилась заветная красная банка кошачьего корма, Муся заурчала. Корма осталось немного, только на донышке. Аккуратно собрав ложкой все содержимое, старик бережно переложил нежные мясные кусочки в блюдце. Не переставая урчать, Муся приступила к трапезе.
– С твоим аппетитом никакой пенсии не хватит, – вздохнул старик и бросил банку в мусорное ведро.
Семену Васильевичу жилось небогато, скромной пенсии едва хватало на коммунальные платежи, лекарства и еду. Но на Мусином меню это ничуть не отражалось. Как всякая избалованная кошечка, она была привередлива в еде и привыкла получать свои любимые кушанья точно по расписанию, а иногда и сверх того. Сам же Семен Васильевич был совсем неприхотлив в еде. Гречка, макароны, картошка… Да и много ли старику надо, когда зубов почти не осталось, и те не жуют. Зубов своих старик очень стеснялся и на людях старался поменьше открывать рот. «Вот она, бедность проклятая! А так бы заказал протезы и улыбался в свое удовольствие». Впрочем, тут он немного лукавил. На самом деле проблемы с зубами начались у него сразу после смерти Славика. Но тогда было не до протезов. Странно, что вообще выжил. Удивительно. А главное – зачем? Для чего? Ради кого?
Взгляд Семена рассеянно блуждал по кухне, перемещаясь с одного предмета на другой, пока не уперся в пушистый черно-бело-рыжий триколор. Перекусив, Муся с комфортом устроилась на своем стуле с подушечкой и теперь с удовольствием облизывалась, сдержанно, по-кошачьи благодарила хозяина, подняв на него зеленые немигающие глаза-плошки.
– Эх-хе-хе. Получается, что теперь в тебе, Мусенька, и есть вся моя жизнь.
На плите, обдавая паром посудные полки, закипел чайник. Старик достал из буфета картонную коробку с заваркой, потом стеклянную банку с чабрецом. Муся внимательно наблюдала за движениями хозяина, а тот принялся колдовать над чаем. Из прежней жизни у Семена Васильевича осталось одно пристрастие – чаепитие. Для него оно было единственным настоящим удовольствием.
Через полчаса, напившись чаю, старик решил выйти проветриться, а заодно выпустить погулять Мусю. На улице светало, было ветрено и зябко.
– Надо бы сегодня лук и петрушку с грядки собрать, в морозилку сложить. – Старик спустился с крыльца и, шаркая тапками, свернул за угол дома.
Там, на единственном солнечном пятачке участка, располагался его нехитрый огород – полторы небольшие грядочки с зеленью и кабачками.
В прежние времена у Семена Васильевича участок был аккуратный, ухоженный, глаз радовался. И цветы, и парник, и плодовые деревья, смородина, крыжовник стояли кустик к кустику, как солдаты на параде. Славик любил смородиновое желе, вот Семен и сажал. Сколько сил в эту землю вложил, а теперь здесь будто лес густой. Разросшиеся липы, клены почти не пропускали солнечного света, буйный, самосевом проклюнувшийся подлесок, сныть, крапива забили и плодовый кустарник, и цветы. После смерти сына Семену все сделалось безразлично, да и сил не осталось.
– Вот ведь, паразит, руки стал распускать, – опять вспомнилась старику недавняя встреча с братом, – запугать меня хочет, ишь чего придумал, но мы не из пугливых. Думаешь, я за жизнь свою боюсь? Дурак ты, Клим. Чего старику за жизнь-то цепляться. И в кого же ты такой уродился? Всю жизнь от тебя одни несчастья. То с дружками пил, то с какой-то прости-господи связался, а она с синяками к родителям жаловаться ходила. Ну а когда до милиции, до суда дело дошло, тут и говорить нечего! Отец за неделю тогда поседел. Еще бы, позор какой, сын генерала с дружками ларек ограбил. А мать… она почти сразу с инфарктом слегла. Врач в больнице сказал, «полный покой, никаких волнений». Какой тут! Вот через полгода ее и не стало. А тебе, Клим, все как с гуся вода. Так жизнь бобылем и прожил. Никого не любил, только себя, только для себя. Пил, гулял, не работал, из города в город мотался, точно перекати-поле. Я-то, дурак, до последнего надеялся, что ты образумишься. Э-э-эх. Нет уж, не будет тебе, Клим, ни отцовой дачи, ни участка, ни ломаного рубля. Не заслужил. Надежда Васильевна из приюта этим деньгам лучшее применение найдет. Ведь если она своего кровного на кошек и собак не жалеет, значит, женщина честная, сердобольная, животных любит. Все, вопрос решенный. Вот пенсию получу и к нотариусу, чтобы все по закону оформить, как полагается. Только в приюте, наверное, говорить пока не стоит или, может, все-таки намекнуть…
Ссора с братом еще долго не выходила у старика из головы, оттого, видно, и день не задался, все как-то не клеилось, валилось из рук. В прихожей перегорела лампочка, будь она неладна, и банка с кипяченым молоком, выскользнув, залила половик. В магазине не оказалось Мусиного корма, сберкасса была закрыта, а торговки на станции, ни стыда ни совести, на помидоры так задрали цены, ни рубля не уступили, что пришлось взять только кило.
Было уже часа три, когда в калитку неожиданно постучали. Решив, что это снова пришел брат, Семен Васильевич замялся, раздумывая, открывать или нет, поэтому как можно тише подошел к забору и прислушался. Ничего хорошего от очередной встречи с Климом он не ждал. Говорить им больше не о чем. Только бы калитку не высадил, с него станет.
– Эй, хозяева, – раздался незнакомый мужской голос, – есть кто живой? Поговорить надо.
А потом уже тише, как будто про себя:
– Так все заросло, даже и не сообразишь, тот дом или нет…
Незнакомец говорил без акцента. Значит, не из этих, которые ходят работу ищут, решил старик и, не открывая калитки, спросил:
– Чего тебе нужно?
– Не очень-то любезно, – весело отозвался мужчина за забором. – Простите великодушно за беспокойство, можно ли получить у вас маленькую справочку. Я ищу один дом в вашем поселке, довоенной постройки, и никак не могу найти.
Через щель в заборе Семен Васильевич разглядел незнакомца. Одет тот был прилично, и вид имел тоже вполне пристойный. Подумав еще секунду, старик потянулся и открыл засов.
– Еще раз извините, что беспокою, но тут такое дело, – улыбнувшись, продолжил незнакомец, – хотя, давайте, я сразу представлюсь. Меня зовут Иван Сергеевич, и в вашем поселке я оказался не из простого любопытства. Дело в том, что еще до войны на этой улице находился дом моих родственников, я, знаете ли, семейную историю пытаюсь восстановить… улица, кажется, название сохранила…
Семен Васильевич утвердительно кивнул.
– Так вот, по улице Чайковского стоял дом, если не ошибаюсь, номер семь или пять, впрочем, нумерация могла измениться…
– Отчего же, нумерация осталась прежней. Вы как раз стоите у дома номер семь, просто табличка с адресом на солнце выгорела, – успокоившись, что визитером оказался не брат, Кошелев охотно поддержал разговор, ему хотелось отвлечься от мрачных мыслей.
– Надо же, я таких древних указателей уже лет двадцать или больше не видел.
– Да у нас тут все древнее.
– Простите, как вас по имени-отчеству?
– Семен Васильевич. Так что вас конкретно интересует?
– Дело в том, что за несколько лет до войны на этой улице поселилась одна семья…
– За несколько лет до войны я только родился.
– Потом главу семьи арестовали как врага народа, сами понимаете, времена были непростые… Вы, кстати, как к телевидению относитесь, Семен Васильевич? Фильмов сейчас документальных много выходит о довоенных временах, не смотрите?
– Как же, как же, смотрю, с интересом, – все больше воодушевляясь перспективой хоть с кем-то поговорить, произнес Кошелев.
– Недавно по третьему каналу документальный фильм прошел, так там как раз о Загорянке шла речь, жил тут у вас один удивительный человек. Не видели? – Незнакомец поставил на землю портфель и расстегнул плащ. – Как, однако, сегодня припекает.
– Да у меня, знаете ли, третий плохо показывает… – взглянул на собеседника Семен Васильевич и после минутных колебаний предложил: – Может, присядем, простите, не запомнил, как вас по батюшке.
– С удовольствием, как говорится, в ногах правды нет. А зовут меня Иван Сергеевич.
Они сели на скамейку у калитки, и гость продолжил:
– Значит, фильм не видели? Жаль, жаль. Ну да ничего… А вы случайно не помните, кто раньше жил в вашем доме? В довоенную пору?
– Случайно помню, – хитро улыбнулся Кошелев.
Как любой пожилой человек, Семен Васильевич любил вспоминать старые времена, сколько стоил хлеб, масло, билет на электричку, где мама покупала петухов для бульона, какие песни пели, какие пластинки слушали. Детство у него было беззаботное, комфортное и, благодаря отцу-офицеру, в отличие от миллионов других мальчишек, сытое. Кошелев никогда не голодал, но все равно прекрасно помнил, как отменили продовольственные карточки и как в свободной продаже появился белый хлеб. И хотя родился он в 35-м, из рассказов отца кое-что знал и про довоенную Загорянку.
Иван Сергеевич слушал внимательно, с интересом, расспрашивал, даже кое-что записывал в блокнот, он оказался человеком уважительным, хорошим собеседником и так понравился Кошелеву, что, несмотря на свою обычную подозрительность, старик позволил ему зайти и осмотреть участок.
– Я, знаете, с первого раза и не надеялся кого-нибудь застать, думал, просто пройдусь, посмотрю, а уж потом… и вот беда, временем сегодня ограничен, возвращаться надо. Не мог же я знать, что мне с вами так повезет.
– Да что я вам такого особенного рассказал… – не без удовольствия начал было протестовать Семен Васильевич. – А если времени нет, так приезжайте хоть завтра. Я буду дома.
– Завтра вряд ли…
– Так на следующей неделе.
– Вас, стало быть, в любой день можно побеспокоить?
– Практически да, подъезжайте. Помогу, чем смогу. Только в среду не получится, я в Москву уеду, к врачу записался. В поликлиниках, сами знаете, очередь, то да се. Боюсь, это на целый день.
– Тогда в четверг?
– В четверг, пожалуйста. Буду рад.
6. Происшествие в доме Мельгуновых
Петроград, декабрь 1916 г.
О мир, как дивно круг ты совершаешь —
Ломаешь то, а это исправляешь.
А. Фирдоуси, персидско-таджикский поэт, XI в.
Горничная Шура не любила прибирать кабинет старого хозяина и, несмотря на три месяца, проведенных в доме Мельгуновых, до сих пор боялась этой комнаты. Все там, ей казалось, было какое-то чудное, странное и… страшное.
– А уж понаставлено, понасовано всего, столько комнатей в доме, а он все в одну стащил, – жаловалась она пожилой кухарке Семеновне. – Вот что это он ножи у всех на виду понавешал… никак для острастки? – спрашивала Шура, косясь на коллекцию холодного оружия, любовно размещенную поверх исфаханского шелкового ковра.
– Аноха[6] ты, девка. Уже скоко в городе живешь, а словно вчера из деревни. Это по-ученому коллекция называется, больших деньжищ стоит. Петрваныч по разным странам ездил, ксапанты подбирал, да все к себе свозил.
Впрочем, хозяйский кабинет, будучи сравнительно просторным, в восемьдесят квадратных аршин помещением, теперь и в самом деле выглядел тесноватым и заставленным. С недавнего времени прежняя коллекция Петра Ивановича пополнилась новыми, привезенными из последнего персидского путешествия экспонатами, а некоторые из них по-прежнему оставались лежать в ящиках, стоящих тут же. Однако самого хозяина создавшаяся теснота не только не смущала, но даже, напротив, радовала. Да и кто, с его точки зрения, не восхитится при виде отборных лурских чеканных подносов, хамаданских шелковых ковров, нежных, тончайшей работы, рисунков, миниатюр, старинных изделий из фаянса, керамики, кости… Кому не захочется, удобно усевшись на оттоманку, придвинуть поближе прибор для курения наргиле[7] и насладиться созерцанием прекрасных работ восточных каллиграфов… Но горничная Шурка хозяйских вкусов не разделяла и в кабинет без нужды не заходила, а если и заходила, то всякий раз истово крестилась.
Источником ее страхов были даже не турецкие ятаганы и арабские палаши, о которых она рассказывала Семеновне, а, выражаясь ее собственными словами, «черные басурманские рожи, точно из преисподней, которые так зенками стреляют, что оторопь берет» (на самом деле то были прекрасные образчики персидской портретной живописи периода Каджарской династии[8], приобретенные Петром Ивановичем в Тегеране).
– Ничего, девка, привыкнешь. Я сперва сама от этого хозяйского добра шарахалась, а потом свыклась… ты вот что, по сторонам не глазей, возьми веник и знай себе мети, – советовала ей умудренная опытом Семеновна.
В то утро Шура, по обыкновению перекрестясь, переступила порог хозяйского кабинета с твердым намерением не глазеть по сторонам и, макнув веник в ведро с водой, принялась старательно мести цветастый ковер. В проворных Шуриных руках веник заходил взад-вперед, сметая пыль с причудливого узора. Перед глазами мелькали райские птицы, перелетающие с дерева на дерево, зубастые хищники, прятавшиеся в зарослях кустарника… Но не успела Шура подумать, что Семеновна оказалась права и, может, со временем она и впрямь привыкнет к страшным басурманским рожам, как ее взгляд натолкнулся на полу на чей-то черный грязный сапог, да не просто сапог, а ногу в сапоге. Она даже закричала не сразу, а только когда увидела лицо лежащего на полу человека, которое было до того ужасно, что веник с тряпкой тут же вывалились у нее из рук. Истошный Шуркин вопль разбудил и поднял на ноги весь дом, началась невероятная суета, захлопали двери. По свидетельству Семеновны, явившейся на подмогу первой, «Шурка взгомонила все соседство на пяти этажах». Следом за кухаркой прибежал похмельный дворник Степан, занесший в кухню с утра связку дров, за ними, запахивая на ходу шлафрок, Петр Иванович и, наконец, молодой хозяин Федор Петрович. Картина, открывшаяся им, была жуткой. На полу кабинета между письменным столом и стеклянным стенным шкапом в самом деле обнаружился незнакомый и, по всей видимости, абсолютно мертвый человек. Он лежал на спине, нелепо раскинув ноги, правая рука его сжимала перевязанное грязным шарфом горло. Рядом валялись засаленный картуз и вещевой мешок. Но самое тягостное впечатление производило лицо незнакомца, искаженное ужасом и предсмертной агонией. Какой-то звериный страх застыл в его остекленевших глазах, а с губ, сведенных судорогой, казалось, все еще был готов сорваться отчаянный вопль. Не было ни следов крови, ни борьбы, не видно и орудия убийства…
– Свят, свят, свят… – прошептала Семеновна и с вопросом посмотрела на хозяина, – и откуда ж его к нам принесло?
– Оно понятно, откуда… вон, – мрачно отозвался Степан и мотнул головой в сторону приоткрытого окна. В углу горестно запричитала Шурка.
– Guck mal, Vater[9], тут под столом любопытные предметы имеются, насколько я понимаю, отмычки… – наклонившись, заметил Федор и хотел что-то подобрать с пола.
– Погоди, сын, – остановил его Мельгунов, который уже оправился от первого шока и стал деловито раздавать указания. – Вот что, надо немедленно послать за околоточным! Степан… давай-ка поспешай. А ты, Федор, поднимись к доктору Домнову. Скажи… словом, ты сам знаешь что… и не топчитесь здесь все. Шура, прекрати выть! Семеновна, накрой его чем-нибудь!
Через четверть часа явился доктор Домнов, как всегда, собранный, подтянутый, со своим неизменным чемоданчиком. Вслед за ним пожаловал околоточный и еще двое из сыскного, выглядевших, как иллюстрация к чеховскому рассказу «Толстый и тонкий». Тонкий попросил всех удалиться и тотчас приступил к осмотру кабинета, доктор занялся телом умершего, а толстый, потоптавшись в дверях, что-то буркнул напарнику про прислугу и пошел в кухню.
Петр Иванович, не находя себе места, бестолково бродил по коридору, то и дело косясь на закрытую дверь своего кабинета. Он не любил и не терпел там посторонних, тем более в его отсутствие, и ужасно злился: «Господи! И надо же такому случиться! Принесла нелегкая! Откуда он взялся! Ведь он, шельмец, не только квартиру высмотрел, но и окно определил, и не куда-нибудь, а безошибочно в кабинет проник, шкап нашел. Да еще немецкий замок с секретом так ловко отомкнул! Боже мой! Даже страшно представить, что могло случиться, если бы ему все удалось…» Не зная, чем себя занять, Петр Иванович снова принялся маршировать по длинному коридору. «Воистину говорят, бог шельму метит! Однако, что же с ним такое произошло, отчего ж он умер, право слово, залез и умер… какой странный нынче вор пошел…»
В прихожей появился Федор. Он был тщательно, щегольски одет, набриалинен и источал модный аромат «По д’Эспань», которым тотчас наполнилось все помещение, – весь вид сына говорил о том, что произошедшее в доме ничуть не переменило ни его настроения, ни планов. Петр Иванович, еще не сменивший шлафрока, в недоумении оглядел расфранченного Федора и даже не нашелся, что сказать.
– Неловко оставлять тебя, papa, в такой момент… но я еще вчера договорился об одном важном деле с Потаповым и непременно должен у него быть. После загляну на кафедру в университет. Думаю, что к ужину успею. – Деланая непринужденность застыла у него на лице, не попав с первого раза в рукав пальто, Федор хихикнул и, поцеловав отцовскую щеку, скрылся в дверях, насвистывая какую-то чушь.
– Вообразите себе этого сына, Липа. Хорошо хоть, что ему было «неловко оставлять меня», – по прошествии нескольких часов с возмущением пересказывал Мельгунов другу подробности утреннего происшествия. Коротая время перед ужином за рюмкой, они сидели в кабинете Петра Ивановича, где стараниями прислуги был восстановлен прежний порядок. – Ушел и до сих пор не появлялся. А вся эта история с незадавшимся ограблением, полицейские, доктор Домнов, труп в кабинете и отец во всем этом кошмаре – не его дело! Липа, в последнее время он ведет себя как жилец, нанимающий у меня комнату.
– Петр Иванович, на мой взгляд, Фединому faux pas есть простое объяснение. Эти дни я много наблюдал за ним. Он и в самом деле ведет себя немного странно. Рискну предположить, что он влюблен.
– Влюблен? Федор? Как… в кого? – всплеснул руками отец и вскочил со стула.
– Да, влюблен, а что тут удивительного? – невозмутимо продолжал Липа. – Он не монах, давно пора, ему уже двадцать шесть. Полагаю, что и предмет его… мне хорошо известен.
– Вот как?
– Он влюблен в Капитолину, мою племянницу.
– Позвольте, но она так юна… впрочем… как же я отстал, Липа, вернее, я отвык, отвык от сына… Три года – срок порядочный… для меня Федя еще как будто ребенок, хотя, оно конечно, в двадцать шесть я был уже женат. Вы, пожалуй, правы.
– Будет вам, Петр Иванович, – деликатно успокаивал его Шерышев, и тот как будто прислушался к словам друга. – Федор к вам очень, очень привязан, он вами гордится, уважает, а уж как нетерпеливо он ожидал вашего возвращения.
По лицу Мельгунова пробежала довольная улыбка.
– А сейчас просто… «пришла пора, она влюбилась…». На мой взгляд, тут нет причин для волнений. Зато на улице – их полно. Вы читали сегодняшние газеты?
– О чем вы, Липа! Разве мне до газет было!
– Однако вы так и не досказали, чем закончилась утренняя эпопея.
– Так ничем, Олимпий Иванович, и не закончилась. Расспросили кухарку, горничную, меня. У Федора, как вы знаете, нашлись дела поважнее, хотя и он ничего не знает. Нас всех, как нарочно, вчера допоздна не было дома. Осмотрели место происшествия, сняли на фотографическую пленку и увезли тело.
– А что они сказали?
– Сказали, слава богу, никто не пострадал и ничего не украдено.
– Как же-с? А этот, форточник?
– Да-а-а… – в задумчивости произнес Мельгунов, – с ним неясная картина. Отчего умер – загадка. Доктор Домнов о причине смерти выразился пространно. Сказал что-то о нервном шоке, о внутренних хронических заболеваниях, возможно, больном сердце. Умерший был немолод. Хотя при таком ремесле уже пора бы и на покой – по их мнению, это типичный форточник, щуплый, малого роста. Словом, прежде чем узнать причину его смерти, следует произвести вскрытие тела, а уж потом… – Петр Иванович остановился на полуслове и замолчал.
– Unglaublich[10], – сокрушенно качал головой Шерышев, осматривая кабинет, и тотчас, спохватившись, спросил: – Как же он столь ловко определил, где хранится ваш, так сказать, золотой запас? Сквозь такое толстое стекло разглядел. Да притом в темноте. Казалось бы, на виду стоят кувшины, чайные приборы и блестят, как настоящее золото.
– Оттого что на виду. Полагаю, у этой публики имеется особый нюх. Едва проникнув в дом, эти ловкачи уже знают, где у хозяина самое ценное припрятано, – с досадой бросил Мельгунов.
Шерышев допил рюмку, поднялся и, сделав несколько шагов по комнате, приблизился к шкапу, подле которого прислуга обнаружила тело жулика. И сам шкап, заказанный хозяином в Германии, и его содержимое Шерышеву были хорошо знакомы. Коллекция Мельгунова, каталог которой они составляли вместе, была довольно обширна, и наряду со всем прочим в ней, разумеется, имелся, по словам самого коллекционера, золотой запас, представленный довольно редкими ювелирными изделиями – подносы, чаши, ритоны[11], поясные пряжки, монеты…
Бросив взгляд сквозь стеклянную дверцу, которая все еще оставалась приоткрытой – замок похититель все-таки повредил, – Шерышев неожиданно приметил некий новый предмет, закрытый чехлом из толстого зеленого фриза, казалось, слишком объемный в сравнении с тем, что стояло рядом. Он в прямом смысле подпирал макушкой верхнюю полку. На секунду задержавшись у витрины, Липа тотчас услышал из-за спины раздраженный голос хозяина:
– Прислуга от рук совершенно отбилась! Возможно ли, так тянуть с ужином! Липа, что вы к стеклу приклеились! Пойдемте лучше в столовую, нас увидят и скорей ужин подадут, – вдруг ни с того ни с сего занервничал и засуетился Мельгунов. – Что там в вашем анекдоте прислуга анонсировала: «Барыня, лошади поданы»?
– Обед из конины. Кто-то давеча в гостях рассказывал, только это не анекдот, а правда, потому что с мясом в городе очень скверно, до конины дело дошло. – Шерышев посмотрел на часы, было без малого девять, именно в это время у Мельгуновых обычно подавали ужин. Отчего вдруг Петр Иванович так заторопился?..
– Да, скверно, скверно… и Семеновна жаловалась.
– Позвольте полюбопытствовать… – едва начал было Липа, вновь повернувшись к приоткрытой дверце, как Мельгунов с неожиданным проворством загородил всем телом шкапчик.
– Отойдите, Липа… – как-то тихо и грозно прошептал хозяин.
Шерышев недоуменно отпрянул.
– Ой… простите, Петр Иванович, мое любопытство, простите, я, конечно, не должен был… – смутившись, промямлил он, отходя в сторону и не понимая, чем была вызвана такая реакция.
Минуту Мельгунов стоял, не говоря ни слова, погруженный в свои мысли. Руки его нервно теребили седую бороду, взгляд блуждал по комнате, пока, наконец, не остановился на лице друга.
– Ах, боже мой, Липа, это вы меня должны простить, дорогой мой, Олимпий Иванович, вы должны простить. В последнее время что-то нервы расшатались…
Из коридора послышалась тяжелая поступь кухарки Семеновны, в дверь кабинета постучали, и донеслось робкое Шурино: «Барин, ужинать подано». Шерышев топтался в дверях, не зная, как сгладить неловкость:
– Пойдемте ужинать… Петр Иванович?
– Оставьте, это подождет. Присядьте, Липа, голубчик, и выслушайте меня. Я еще прежде думал показать вам его и непременно бы показал… но все какая-то суета была, сами знаете, то лекция, то отчет попечителям… вот и не случилось. А теперь… решено, да и скрывать-то, в сущности, нечего, так, новое приобретение, у меня и описание его еще не готово…
Мельгунов повернулся к заветному шкапу, достал и поставил на стол тот самый предмет, привлекший внимание Шерышева, потом одним молниеносным движением руки, подобно фокуснику, сдернул с него плотный чехол… То, что таилось под покровом и предстало перед глазами Шерышева, было поистине невероятным. Олимпий Иванович часто заморгал и замер в изумлении. И не потому, что его ослепил блеск золота или драгоценных камней, усыпавших статуэтку, хотя в ярком свете электрической лампы она в самом деле вспыхнула десятками разноцветных бликов и засияла. Нет, Шерышева поразило совсем другое… Извлеченная на свет божий фигурка как будто тотчас ожила и уставилась на него сердитыми изумрудными глазами.
– Что, удивил я вас? Проняло, запало? Вижу, что и вас мой истукан подверг гипнозу? – пристально наблюдая за реакцией друга, спросил Мельгунов.
– Просто… просто дара речи лишился, – завороженно произнес Олимпий Иванович, решившись наконец приблизиться к диковинному предмету и тронуть его рукой.
Истукан был довольно крупным, вершка три – три с половиной высотой, и, конечно, очень тяжелым, оно и понятно, литое золото чистейшей пробы. В мудреном орнаменте головного убора, богатом облачении угадывались характерные черты искусства Персии периода Ахеменидов (так, во всяком случае, определил для себя Шерышев). На этом сходство с человеком заканчивалось, так как из спины истукана росли раскидистые крылья, а лицо (если можно так выразиться) больше напоминало маску какого-то чудовища. Выдающаяся вперед звериная пасть была снабжена парой клыков, а надбровные дуги и щеки – богатой растительностью, вместо кистей рук из-под одежд выглядывали мохнатые лапы с когтями. Без всякого сомнения внешний вид истукана был лишен привлекательности, скорее он выглядел даже отталкивающе… но в то же время казался каким-то невероятно притягательным в своем уродстве, безобразности. Должно быть, секрет заключался в искусной работе древнего мастера, сумевшего придать статуэтке удивительную живость, пластичность и динамизм. Головной убор, одеяние и глаза истукана украшали крупные драгоценные камни редчайшей красоты.
Шерышев наклонился поближе:
– Какая огранка! Постойте, как же они огранили эти камни, ведь этому божку по меньшей мере…
– Это, друг мой, природная огранка! Вы абсолютно правильно подметили, предмет очень древний, в те времена обрабатывать камни не умели – обрабатывать в нашем понимании этого слова. Тогда лишь шлифовали, причем использовали материал, уже подвергнутый природной огранке. Им было из чего выбрать! Изумруд, сапфир, рубин – еще куда ни шло, а как быть с алмазом? Ведь крепче в природе ничего не существует! Так что…
– Конечно-конечно, – протянул Липа, не в силах оторвать взгляда от загадочной золотой статуэтки.
– Да, изумительная работа. – Разглядывая истукана, Шерышев охал и ахал на все лады. – Однако… что это, Петр Иванович? Вернее, кто? Я ничего подобного прежде не видывал, – возобновил свои расспросы Шерышев, забыв, что именно они так раздражили впечатлительного Мельгунова.
– Стало быть, не догадались? – хитро улыбаясь, тот тянул с ответом. – Впрочем, такие изображения в самом деле крайне редки. Признаться, я только однажды видел нечто подобное в одном англицком справочнике… все никак не могу вспомнить, в каком…
– Не томите, вы уже, наверное, все для себя прояснили.
– Ну как же так-с? Это же наш давнишний знакомый, а вы его не признали…
– Кто?
– Ангра-Майнью, разумеется. Давайте его чехольчиком прикроем, а то стоит и буравит нас глазом. С ним ведь шутки в сторону, как-никак владыка темных сил.
– Но, позвольте, как вы поняли, что это именно он? Если иконография практически отсутствует.
– Если, – ответили жители Спарты…[12]
– Но скажите хотя бы, как он к вам попал?
– Умоляю, Липа, не надо больше вопросов. Пойдемте ужинать. Все вам потом расскажу… если духу хватит.
7. Ссора за забором
Загорянка, сентябрь, 20… г.
Не решай ничего опрометчиво,
Не подумавши – действовать нечего.
А. Фирдоуси, персидский поэт, XI в.
С погодой Катерине повезло. Было тепло, сухо и солнечно. Вот и славно. Стало быть, ее садоводческим планам ничто не помешает. Заехав по дороге в питомник за саженцами, а потом в продовольственный, Катерина в приподнятом настроении подкатила к даче. Увидев родной пейзаж, Булька, топтавшаяся на заднем сиденье, нетерпеливо заскулила. Катя выпустила собаку и, открыв ворота, въехала на участок. Опавшие листья приятно зашуршали под ногами. Легкий ветерок тронул желтеющие кроны деревьев. Вспомнив наказ Таисии Федоровны, Катерина поспешно вышла за калитку и огляделась. На улице никого не было, ни машин, ни прохожих. Тишину нарушал лишь птичий щебет и шелест листвы. Вдали над деревьями кружил и таял дым от костра. «Листья жгут. Вот и мы сейчас этим займемся», – подумала Катя, оглядев улицу еще раз, прикрыла калитку и, помедлив, повернула в замке ключ.
– Бред! Чего закрываться! У меня же собака!
Но вчера бдительная Таисия Федоровна опять завела разговор о кражах и помимо инструкций снабдила дочь номером телефона местного участкового. Ей теперь всюду мерещились воры, любой прохожий вызывал подозрение.