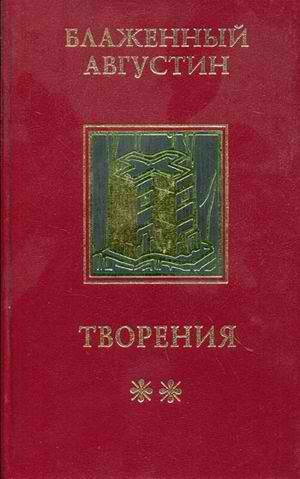
О Троице
ПИСЬМО (Аврелию, епископу Карфагенскому, 416 г.) [1]
Блаженнейшему господину, почитаемому с искреннейшей любовью, святому брату и сотоварищу по священству, папе Аврелию Августин желает здравствовать в Господе.
К написанию книг о Троице, каковая есть вышний и истинный Бог, я приступил будучи молодым человеком, издаю же их будучи стариком. Я, правда, оставил этот труд после того, как мне стало известно, что эти книги были у меня наперед похищены или выкрадены прежде, чем я их завершил и, пересмотрев, усовершил, каковым было мое намерение. Ибо я принял решение публиковать их сразу все вместе, а не по одной, на том основании, что по мере продвижения моего исследования последующие увязаны с предшествующими. Итак, поскольку из–за тех людей (которые смогли получить доступ к некоторым из книг прежде, чем я того желал) моему намерению не удалось исполниться, я прекратил их диктовать, полагая посетовать об этом в каком–либо другом своем сочинении, чтобы те, кто мог, узнали, что книги эти были изданы не мною, но что они были отняты у меня прежде того, как я счел их заслуживающими публикации. Однако понукаемый настойчивейшими просьбами многих братьев, и в особенности твоим предписанием, я постарался с Господней помощью закончить эту многотрудную работу. Исправив эти книги (впрочем не так, как хотел, а как смог, дабы они не отличались сильно от тех, что, будучи выкраденными, уже попали в руки людей), я послал их с нашим [любезным] сыном диаконом Кресимом твоему преподобию и позволил, чтобы всякий мог их слушать, переписывать, читать. Если бы мое [прежнее] намерение было исполнено, то, разумеется, эти книги (даже при условии, что в них содержатся те же самые мысли) были бы более доступными и ясными, насколько позволили бы нам наши собственные силы и сложность объяснения подобных предметов. Ведь есть те, кто имеет первые четыре или, пожалуй, даже пять книг без вступлений, а двенадцатую — без немалой заключительной части. Но если настоящее издание стало бы известным тем людям, то они, при условии наличия у них желания и способности, смогли бы все исправить. Поэтому я настоятельно прошу, чтобы ты приказал расположить это письмо отдельно, но, однако же, в начале самих книг. Будь здоров. Молись за меня.
КНИГА 1
(В ней показывается, что единство природы и равенство Лиц в Троице устанавливается самим авторитетом Писания. В этой же книге предлагается объяснение некоторых мест писания, каковые представляются противоречащими положению о единосущии Сына Отцу)
1. Тому, кто собирается прочесть наши размышления о Троице, сначала следует узнать, что это сочинение направлено против превратных толкований тех, кто, презирая начало веры, ошибается вследствие незрелой и извращенной любви к разуму. Иные из их числа пытаются перенести на бестелесное и духовное то, что они узнали о телесных вещах посредством телесных чувств, или то, что они усвоили посредством природной умственной способности и живости усердия либо же с помощью ученичества так, что они хотели бы судить и полагать, исходя из тех [телесных вещей]. Есть, впрочем, и другие, которые думают о Боге (если вообще думают) сообразно с природой или страстями человеческой души, и по причине этой ошибки они, высказываясь о Боге, устанавливают для своего рассуждения искаженные и лживые правила. Однако есть и еще один род людей, которые изо всех сил тужатся выйти за пределы тварной вселенной, каковая, несомненно, изменчива, чтобы устремить свой взор на неизменную сущность, которой является Бог. Но, отягощенные бременем смертности, они, хотя и желают показаться знающими то, чего не знают, все же не могут знать то, чего хотят. Дерзновенно утверждая свои предубеждения, они преграждают себе пути к пониманию и предпочитают не исправлять и не менять свое извращенное мнение. И действительно, таков недуг всех этих трех видов [людей], о котором я сказал: и тех, кто мудрствует о Боге сообразно с телом; и тех, кто делает это сообразно с духовным творением таким, как душа; и тех, кто судит о Боге, не сообразуясь ни с телом, ни с духовным творением, но все так же ложно. Последние тем более далеки от истины, поскольку то, что они надумывают, не обнаруживается ни в теле, ни в духе созданном и устроенном, ни в Самом Творце. Ибо тот, кто считает Бога, например, белым или красным, [несомненно], ошибается, хотя [такие признаки] обнаруживаются в телах. И, опять–таки, тот, кто считает Бога то забывающим, то припоминающим, или что–нибудь еще в таком же роде, тем не менее, ошибается, хотя [такие признаки] обнаруживаются в душе. И также тот, кто полагает, что во власти Бога породить Самого Себя, ошибается тем более, так как не только Бог не таков, но не таково ни духовное, ни телесное творение. Ибо вообще нет ни одной вещи, которая бы породила себя саму к существованию.
2. Чтобы человеческая душа очистилась от подобного рода лжи, Святое Писание, соизмеряясь с детьми, не избегало имен ни одного рода вещей, посредством которых Оно, как бы питая, постепенно поднимало наше понимание к высокому и Божественному. Ведь, говоря о Боге, Писание использовало слова, взятые из [области] телесных вещей, как то: «В тени крыл Твоих укрой меня» (Пс. 16:8). Многое же Святое Писание заимствовало из [области] духовного творения, посредством чего обозначалось то, чего не было, но о чем следовало бы сказать таким образом, например: «Я Бог ревнитель» (Исх. 20:5); «Каюсь, что создал человека» (Быт. 6:7). По поводу же того, чего вообще нет, Святое Писание не растрачивало слов, которыми бы Оно расцвечивало речь или сплетало загадки. Поэтому наиболее пагубно и суесловно тщатся те, кто отрезает себя от истины ошибкой третьего рода, [состоящей в том], что они усматривают в Боге то, что нельзя обнаружить ни в Нем Самом, ни в каком–либо виде творения. Ибо вещами, которые обнаруживаются в творении, Святое Писание имеет обыкновение воспитывать, словно забавляя детей, и соразмерно, как бы шаг за шагом, подвигая слабых к тому, чтобы они искали высшее и покидали низшее. То же, что свойственно [только] Богу, т. е. то, что не обнаруживается ни в каком виде творения, в Святом Писании излагается редко, как, например, то, что сказано Моисею: «Я есмь Сущий»; «Сущий послал меня к вам» (Исх 3:14). Поскольку некоторым образом глагол «быть» употребляется и в отношении тела, и в отношении души, то Он, конечно же, не сказал бы так, если бы не желал быть понятым каким–то отличным образом. Как раз об этом и говорит апостол: «Единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16). Но поскольку и душа некоторым образом считается бессмертной, то он не сказал бы «Единый имеющий», если бы истинное бессмертие не было неизменчивостью, каковой не может обладать ни одно творение, ибо она принадлежит лишь одному Творцу. Это и говорит Иаков: «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). А также и Давид: «Ты переменишь их — и изменятся, но Ты Тот же» (Пс. 101:27–28).
3. Поэтому трудно узреть и вполне познать сущность Бога, без какого–либо изменения созидающую изменяемое и без какого–либо движения во времени творящую временное. Следовательно, чтобы невыразимым образом увидеть невыразимое, необходимо очистить наш ум. Пока же мы этого еще не достигли, мы питаемся верою и ее посредством ведомы более смиренным путем, чтобы соделаться пригодными и способными к постижению сего. По этой причине апостол и говорит, что во Христе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3). Нам, однако, словно младенцам во Христе, которые, хотя и возрождены Его благодатью, все же еще пребывают плотскими и страстными, он возвестил о Нем не в его Божественной силе, в которой Он равен Отцу, но в человеческой слабости, в которой Он был распят. Ведь апостол говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И сразу же продолжает: «И был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2:2–3). А немного позднее он добавляет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею: ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах» (1 Кор. 3:1–2). Когда это говорится иным людям, они гневаются и считают это оскорбительным и большей частью полагают, что скорее тем, кто такое говорит, нечего было сказать, нежели то, что они сами не способны постичь сказанное. Иногда мы приводим им основание, впрочем, не того, чего они добиваются, когда стараются разузнать о Боге, ибо ни они не способны его получить, ни мы, возможно, его постичь или дать; но то основание, посредством которого им показывается, насколько они неспособны и несостоятельны воспринимать то, о чем спрашивают. Поскольку же они не слышат того, что хотят, то полагают, что мы ведем себя или так ловко, что скрываем свое невежество, или так коварно, что завидуем их знанию. Таким образом, возмущенные и смущенные, они отступают.
4. Поэтому давайте с помощью Господа Бога нашего попытаемся, насколько мы сможем, привести основание (которое столь настоятельно требуется) тому, что один, единый и истинный Бог есть Троица, а также что правильно называть, верить и полагать, что Отец, Сын и Святой Дух суть одной и той же субстанции или сущности (substantiae uel essetiae). [Мы собираемся это сделать] не так [чтобы они подумали], будто бы мы насмехаемся над ними своими оправданиями, но так, чтобы они испытали на деле, что высшее благо есть то, что различается лишь чистейшими умами, и то, что по этой причине оно не может быть ни различено, ни познано ими, поскольку слабое умозрение человека не может удержаться в этом превосходящем все свете, если только оно не усиливается питающим его благочестием веры. Но сначала следует показать, такова ли вера в соответствии с авторитетом Святого Писания. Затем, если Бог пожелает и окажет содействие, мы, возможно, этим мудрствующим болтунам, более гордящимся, нежели способным и поэтому страдающим тем более опасным недугом, уделим столько внимания, [сколько необходимо для того], чтобы они обнаружили нечто, в чем не могли бы сомневаться, и чтобы по поводу того, что они не были способны обнаружить, они жаловались на свой ум, а не на саму истину или на наши рассуждения. И если у них [еще] есть любовь к Богу и страх Божий, то пускай они возвратятся к началу и порядку веры, постигая, что врачевание, оказываемое святой Церковью, спасительно для правоверных настолько, что сохраненное благочестие исцеляет немощный ум, [направляя его] к восприятию неизменной истины так, чтобы случайное безрассудство не низвергло его в рассуждательство вредоносной лжи. Также и я не постесняюсь спросить, если где сомневаюсь; и не устыжусь поучиться, если где ошибаюсь.
5. Таким образом, пусть всякий читатель, столь же уверенный, идет со мной дальше; сомневающийся — спрашивает вместе со мной; всякий же, кто обнаруживает свою ошибку, возвращается ко мне; а если мою — то отзывает меня. Итак, пойдемте же вместе, держась дороги любви, к Тому, о Ком сказано: «Ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4). И пред Господом Богом нашим я бы принял это благочестивое и благоразумное предписание со всеми, кто читает то, что я пишу, и для всех сочинений моих, в особенности же для тех, в которых исследуется единство Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, ибо ни в каком другом предмете не ошибаются столь опасно, не исследуют со стольким трудом и не пожинают столь больших плодов. Если же кто–нибудь, читая, говорит: «Это сказано нехорошо, потому что я не понимаю»; то он порицает меня за мою речь, а не за мою веру. Пожалуй, и вправду, то же можно было сказать яснее, однако еще ни один человек не говорил так, чтобы быть понятым всеми и во всем. Поэтому пусть тот, кому что–то не нравится в моем сочинении, обратит внимание на то, понимает ли он других толкователей подобных предметов, когда он меня не понимает; и если это так, то пусть он отложит мою книгу или даже, если ему угодно, отбросит ее, и пусть уж лучше посвящает свой труд и время тем, кого понимает. Однако пусть он не думает, что я должен был молчать по той причине, что я не смог высказаться столь же плавно и ясно, сколь те, кого он понимает. Ибо не все, что пишется, попадает в руки всех, и может так статься, что те, кто может понять эти наши [сочинения], не нашли бы других более ясных книг, а на эти бы наткнулись. И также полезно, чтобы многие писали сочинения, различающиеся по стилю, но не по вере, когорте бы касались тех же самых вопросов так, чтобы этот самый предмет дошел до большинства: к одним так, к другим иначе. Если же тот, кто жалуется, что что–то у нас не понял, никогда не мог понять чего–либо из таких предметов, рассматривавшихся внимательно и проницательно, пусть сам по себе займется молитвою и учебою, дабы преуспеть, а не преследует меня воплями и руганью, чтобы я замолчал. Тот же, кто, читая это, говорит «Я понимаю сказанное, но оно неверно», пусть, если ему угодно, утверждает свою точку зрения, а мою, если сможет, опровергает. Если он сделает это, любя и желая достичь истины, и позаботится о том, чтобы я познакомился с этим, то я (если буду жив) извлеку для себя несомненную пользу от этого труда. Если он не сможет это сделать по отношению ко мне, я охотно соглашаюсь, чтобы он сделал это по отношению к другим. Я же буду размышлять о законе Божием, если и не день и ночь (Пс. 1:2), то, по крайней мере, в те короткие промежутки времени, когда смогу; и чтобы мои размышления не забылись, я их записываю, надеясь на милосердие Божие в том, что Он сделает меня непоколебимым в тех истинах, в которых я уверен. Если же я что–то мыслю иначе, Он Сам мне это откроет (Флп. 3:15) посредством или сокровенных внушений и наставлений, или откровенных изречений, или братских увещеваний. Об этом молю, и это мое желание я вверяю Тому, Кто вполне способен сохранить то, что дал, и воздать то, что обещал.
6. Я полагаю, что иные слабые умом решат по некоторым местам моих книг, что я думал то, чего и не думал, или что я не думал то, что я [на самом деле] думал. Но кто же не знает, что нельзя приписывать мне их ошибки, если, например, следуя за мной, но не понимая меня, они сбились с [истинного] пути, между тем как я сам вынужден свершать свой путь в потемках? Ибо кто же припишет столь многочисленные и разносторонние ошибки еретиков самому святому авторитету Божественных книг, хотя они пытаются защищать свои ложные и ошибочные мнения, исходя из Того же Святого Писания? Когда люди полагают, что я в своих книгах неправильно мыслю то, что я [на самом деле] мыслю верно, и то [что считается неправильным] нравится одному и не нравится другому, Закон Христов, который есть любовь, доходчиво увещевает меня и любезно предписывает мне, чтобы я предпочел быть порицаемым тем, кто порицает меня за эту воображаемую ошибку, нежели быть восхваляемым тем, кто хвалит меня за то же. Ведь первый хотя и несправедливо осуждает меня за ошибку, которую я не совершал, он все же справедливо осуждает саму ошибку; второй же ни меня справедливо не восхваляет, ибо полагает, что я придерживаюсь того, что осуждает истина, ни саму ошибку, которая также осуждается истиной.
7. Все кафолические толкователи Святого Писания, древние и новые, которых я смог прочесть, и которые прежде меня писали о Троице, Которая есть Бог, стремились в соответствии с Писанием учить, что Отец, Сын и Дух Святой, пребывающие по их единой сущности в нераздельном равенстве, утверждают мысль об их Божественном единстве, т. е. то, что Они не три Бога, но один единый Бог, хотя Отец родил Сына, и, значит, Сын не есть Тот, Кто есть Отец; Сын же рожден Отцом, и поэтому Отец не есть Тот, Кто есть Сын; а Дух Святой не есть ни Отец, ни Сын, но только Дух Отца и Сына, Сам равный Отцу и Сыну и исполняющий единство Троицы. Однако не Эта Троица была рождена от Марии Девы, распята и погребена при Пойти и Пилате, воскресла на третий день и вознеслась на небо, но только Сын. И не Эта Троица нисходила в образе голубя на принимающего крещение Иисуса или в день Пятидесятницы по вознесению Господа, когда «сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра» и [явились] «разделяющиеся языки, как бы огненные» (Деян. 2:2, 3), но только Дух Святой. И не Этой Троицы был глас с небес «Ты Сын Мой возлюбленный» (Мк. 1:11), или когда Христос был крещен Иоанном, или когда трое учеников были с Ним на горе (Мф. 17:5), или когда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю» (Ин. 12:28), ибо все это был глас только Отца, обращавшегося к Сыну; хотя и Отец, и Сын, и Дух Святой как нераздельны суть, так и действуют нераздельно. Такова моя вера, ибо это вера кафолическая.
8. Иные пребывают в замешательстве, когда слышат [следующее]: «Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, и эта Троица не три Бога, но один Бог». И они спрашивают, каким образом это понимать, особенно, когда говорится, что Троица действует нераздельно во всем, в чем действует Бог, но что [при этом] прозвучавший голос Отца не был голосом Сына; что никто, кроме Сына не родился во плоти, не пострадал, не воскрес и не вознесся; что также никто, кроме Духа Святого, не нисходил в образе голубя. Они желают понять, каким же образом Троица говорила голосом, который был голосом только Отца; каким же образом ту плоть, в которой от Девы родился только Сын, создала Троица; и каким же образом Та Самая Троица действовала в том образе голубя, в котором являлся только Святой Дух. Кроме того, Троица действует также и раздельно, и одно совершает Отец, другое Сын, третье Святой Дух; или если Они совершают что–то вместе, а что–то по очереди, то Троица уже не нераздельна. Их беспокоит также и то, каково бытие Святого Духа в Троице, Которого не родил ни Отец, ни Сын, ни Оба, хотя Он Дух и Отца, и Сына. Итак, поскольку люди спрашивают нас об этом и надоедают нам, давайте, как сможем (если в этом случае немощь нашего ума восполнится щедротами Божиими), изложим [все] для них в подробностях и не пойдем «вместе с истаевающим от зависти» (Прем. 6:25). Если мы скажем, что совсем не размышляем о таких вещах, то солжем. Если же мы признаемся, что постоянно размышляем о них, поскольку охвачены сильным желанием добиться истины, то они по праву любви требуют, чтобы мы сообщили им то, до чего мы додумались. «[Говорю так] не потому чтобы я уже достиг или усовершился» (ибо если и апостол Павел [признается в этом], насколько же более его я. пребывая гораздо ниже его стоп, не должен считать себя достигшим?); но если я сообразно со своей мерой, «забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания» (Флп. 3:12, 13–14), то они желают, чтобы я открыл им, какая часть пути мною пройдена, куда я пришел, и сколько оттуда остается идти до конца. Служить этим желающим меня заставляет любовь. Необходимо (и даст Бог), чтобы, предоставляя им [что–либо] читать, я сам также усовершался, и чтобы, желая ответить вопрошающим, я сам также нашел то, что ищу. Итак, по повелению и с помощью Господа Бога нашего я принялся за этот труд не затем, чтобы с авторитетом рассуждать о том, что мне известно, а для того, чтобы, благочестиво рассуждая, познавать.
9. Те, кто говорил, что Господь наш Иисус Христос не Бог или что Он не истинный Бог, или что Он с Отцом не есть единый и единственный Бог, или что Он не бессмертен, поскольку изменчив, опровергаются совершенно ясным и созвучным голосом Божественных свидетельств: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ибо очевидно, что мы считаем Слово Божие единственным Сыном Божиим, о Ком далее говорится: «И Слово стало плотью» вследствие Его воплощения через рождение от Девы, которое свершилось во времени. И там же провозглашается, что Он не только Бог, но также и то, что Он с Отцом одной и той же сущности: «И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1–3); ведь сказано же не [просто] «все», но только «что начало быть», т. е. все творение. Отсюда становится ясным, что Он Сам не был сотворен Тем, через Кого все начало быть. Но если Он не сотворен, Он не творение; если же Он не есть творение, Он одной и той же сущности, что и Отец. Всякая же сущность, которая не есть Бог, сотворена; то же, что не сотворено, есть Бог. Если же Сын не одной и той же сущности, что и Отец, Он есть тварная сущность; а если Он тварная сущность, то не все через Него начало быть; но если все «через Него начало быть», Он одной и той же сущности, что и Отец. А поэтому Он не только Бог, но истинный Бог. Об этом–то яснейшим образом и высказывается Иоанн в своем послании: «Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20).
10. Поэтому мы соответственно считаем, что апостол Павел сказал «Единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16) не только об Отце, но о едином и единственном Боге, Который есть Сама Троица. Ведь сама жизнь вечная не смертна, как смертно то, что подвержено перемене. И поэтому Сын Божий, поскольку Он — «Жизнь вечная», Сам мыслится вместе с Отцом, когда говорится: «Единый имеющий бессмертие». Ибо и мы соделываемся причастниками этой вечной жизни и в меру свою становимся бессмертными. Однако одно дело — вечная жизнь, причастниками которой мы соделываемся; другое же дело — мы сами, будущие жить в вечности посредством этого причастия. Если же апостол и сказал о явлении Христа: «которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:15–16), то не следует мыслить Сына отдельно [от Отца]. В самом деле, ведь даже Сын, говоря голосом Премудрости (ибо Он Сам есть Премудрость Божия) — «я одна обошла круг небесный» (Сир. 24:5) — не отделял Отца от Себя. Тем более нет необходимости в том, чтобы мыслить только об Отце, исключая Сына, то, когда говорится: «Единый имеющий бессмертие»; ибо сказано так: «Соблюди заповедь чисто и неукоризненно далее до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и слава во веки веков. Аминь» (1 Тим. 6:14–16). Здесь собственно не назван ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух; но «блаженный, единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих», Который есть единый, единственный и истинный Бог, Сама Троица.
11. Разве что следующее может смутить ум, ибо сказано: «Которого никто из человеков не видел и видеть не может»; хотя это может быть понято как относящееся также и ко Христу сообразно Его Божеству, не увиденному иудеями, которые все же увидели и распяли плоть. Увидеть же Божество человеческим зрением ни как невозможно; те, кто узревает Его тем зрением, суть не люди, но выше людей. Следовательно, Сам Бог Троица верно мыслится как «блаженный, единый сильный», Который в свое время откроет явление Господа нашего Иисуса Христа. Ибо сказано так: «Единый имеющий бессмертие», каким образом сказано [и другое]: «Един творящий чудеса». (Пс. 71:18). Хотел бы я знать, к кому они относят сказанное. Если только к Отцу, то каким же образом истинно то, что говорит Сам Сын: «Что творит Он, то и Сын творит также»? Среди всех [сотворенных] чудес есть ли что–либо более чудесное, нежели воскрешать и оживлять мертвых? Но Сын же и говорит: «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин. 5:19:21). Так, как же Отец есть «един творящий чудеса», когда эти слова позволяют так мыслить не только об Отце, и не .только о Сыне, но, конечно же, о едином, единственном и истинном Боге, т. е. об Отце, Сыне и Святом Духе?
12. Тот же апостол говорит: «У нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:6). Кто же стал бы сомневаться, что он говорит обо «всем, что сотворено» так же, как [говорит] Иоанн: «Все через Него начало быть»? Итак, я спрашиваю, о ком он говорит в другом месте: «Ибо всё из Него, Им и в Нем. Ему слава во веки веков. Аминь» (Рим. 11:36)? Если об Отце, Сыне и Святом Духе так, что каждому Лицу приписывается отдельное [выражение], как то: «из Него», т. е. из Отца; «Им», т. е. Сыном; «в Нем», т. е. в Святом Духе; то ясно, что Отец, Сын и Святой Дух суть один Бог, поскольку он заключает в единственном числе: «Ему слава во веки веков. Аминь». Ведь он начинает, говоря: «О, бездна богатства и премудрости и ведения» не Отца или Сына, или Святого Духа, но «премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо всё из Него, Им и в Нем. Ему слава во веки веков. Аминь» (Рим. 11:33–36). Если [иные] хотят мыслить это только об Отце, каким же образом тогда [получается, что] «все Отцом», как говорится здесь, и «все Сыном», как говорится коринфянам: «И один Господь Иисус Христос, Которым всё» (1 Кор. 8:6); и как [сказано] в Евангелии Иоанна: «Все через Него начало быть»? Ибо если одно было сотворено Отцом, другое — Сыном, то тогда все уже не было сотворено ни Отцом, ни Сыном. Если же все было сотворено и Отцом, и Сыном, то Отцом было сотворено то же, что и Сыном. Следовательно, Сын равен Отцу, и действие Отца и Сына нераздельно. Ибо если Отец сотворил Сына, Которого Сам Сын не сотворил, то тогда не все сотворено Сыном. Но все сотворено Сыном, значит, Он Сам не был сотворен, так что Он сотворил вместе с Отцом все, что сотворено. Впрочем и апостол не воздержался от высказывания и яснейшим образом сообщил: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6); называя здесь Богом собственно Отца, как и в другом месте: «Христу глава — Бог» (1 Кор. 11:3).
13. Подобным образом собраны были свидетельства и о Святом Духе, которыми премного пользовались те, кто прежде нас рассуждал об этих [предметах]. Ведь и Он [также ] есть Сам Бог и не есть творение. Если же Он не творение, то Он не просто бог (ибо и люди названы богами (Пс. 81:6)), но истинный Бог. Следовательно, Он совершенно равен и совечен Отцу и Сыну в единстве единосущной Троицы. То, что Святой Дух не тварь, вполне явствует из того, что нам велено служить не твари, а Творцу (Рим. 1:25); и не тем способом, которым нам велено служить друг другу любовью, что у греков называется δουλευειν, но таким способом, которым служат только Богу, что у греков называется λατζευειν. Поэтому и называются идолопоклонниками те, кто служит идолам так, как должен [служить] Богу. В отношении же этого служения сказано: «Господу, Богу твоему, поклоняйся, и Ему (одному) служи» (Втор. 6:13). Эта мысль более четко проявляется в греческом Писании, в котором используется слово λατζευειν. Итак, если нам воспрещается служить твари таким служением, поскольку сказано: «Господу, Богу твоему, поклоняйся, и Ему (одному) служи» (отчего и апостол с отвращением относится к тем, кто поклоняется и служит творению, а не Творцу); то Святой Дух, конечно же, не есть тварь, и все святые так и служили Ему, ведь апостол говорит: «Потому что обрезание — мы, служащие (по–гречески: λατζευοντεζ) Духу Божию» (Флп. 3:3). Ведь даже в большинстве латинских кодексов записано: «мы, служащие Духу Божию»; также и во всех или почти всех греческих. Впрочем, в некоторых латинских вариантах мы обнаруживаем не «служащие Духу Божию», но «служащие Богу духом». Те же, кто в этом ошибается и отказывается уступить авторитету, заслуживающему большего доверия, [пусть ответят], найдут ли они в кодексах [вариант] этому: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» (1 Кор. 6:19)? Что есть большее безумство и кощунство, нежели как осмелиться сказать, что члены Христовы суть храм твари, которая, по их же мнению, меньше, чем Христос? Ведь говорится же в другом месте: «Тела ваши суть члены Христовы» (1 Кор. 6:15) [Значит] если члены Христовы суть храм Святого Духа, Святой Дух не есть тварь, поскольку необходимо, чтобы мы так служили Тому, Кому тело наше храм, как должно служить только Богу. Это [служение] по–гречески называется λατζεια. В соответствии же с этим [апостол] и говорит: «Прославляйте Бога в телах ваших» (1 Кор. 6:20).
14. Как я сказал, широко используя эти и подобные свидетельства Божественного Писания, [наши] предшественники брали верх над превратными толкованиями и ошибками еретиков и внушали нашей вере мысль о единстве и равенстве Троицы. Правда, в Святом Писании касательно воплощения Слова Божия, которое совершилось для спасения нашего так, что посредником между Богом и человеками был человек Иисус Христос, многое сказано таким образом, что подразумевается или даже очевиднейшим образом указывается, что Отец больше Сына. Люди ошибались, исследуя и изучая Писание с меньшим вниманием, и пытались перенести то, что сказано о Христе как человеке, на Его сущность, которая была вечной прежде Его воплощения и вечной пребывает. Они к тому же говорят, что Сын меньше Отца, ибо Сам Господь говорит: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28). Истина же показывает, что сообразно той же мере Сын меньше Самого Себя. Каким же образом не содеялся меньше Себя Тот, Кто «истощил Себя Самого, приняв образ раба»? Но Он принял образ раба не так, чтобы утратить образ Божий, в котором Он был равен Отцу. Ведь если образ раба был принят так, что не утратился образ Божий, поскольку и в образе раба, и в образе Божием, Он был все тот же единородный Сын Бога Отца; в образе Божием равный Отцу, в образе раба — человек Иисус Христос, посредник между Богом и человеками. Кто же не поймет того, что в образе Божием Он больше Самого Себя, а в образе раба Он меньше Самого Себя? Не зря, следовательно, Писание говорит и об одном, и о другом: о Сыне, равном Отцу, и об Отце, большем Сына. Ибо, несомненно, одно мыслится в связи с образом Божием, другое — в связи с образом раба. И это правило для разрешения данного вопроса посредством Святого Писания предлагается нам в одной главе послания апостола Павла, в котором рекомендуется особенно четко помнить об этом различии. Он говорит: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:6–7). Таким образом, Сын Божий равен по природе Богу Отцу, по своему же «виду» — меньше. В образе раба, который Он принял, Сын меньше Отца; в образе же Божием, в котором Он пребывал и прежде принятия образа раба, Сын равен Отцу В образе Божием Он — Слово, через Которое все начало быть; в образе же раба Он «родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных» (Гал. 4:4–5). Точно так же в образе Божием Он сотворил человека; в образе же раба Он соделался человеком. Если бы Отец сотворил человека совсем без Сына, то не было бы сказано: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Итак, поскольку образ Божий принял образ раба, постольку Сын Божий — и Бог, и человек. Он — Бог по причине воспринимающего Божества, и Он — человек по причине воспринятого человечества. Однако ни одно из них вследствие такого принятия не меняется и не превращается в другое. Ни Божество, изменившись, не стало тварью так, что перестало быть Божеством; ни тварь не стала Божеством так, что перестала быть тварью.
15. Вот что говорит тот же апостол: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему» (1 Кор. 15:28). Это было сказано, чтобы кто–нибудь не подумал, будто [человеческий] вид Христа, который был воспринят от человеческой природы, должен был превратиться затем в Саму Божественность или, точнее выражаясь, в Божество, Которое не есть тварь, но Которое есть единство Троицы бестелесное и неизменное, природа единосущная и совечная себе самой. Если даже кто–нибудь станет утверждать, будто (как иные понимали слова «и Сам Сын покорится Покорившему все Ему») само покорение есть будущее изменение и превращение твари в саму субстанцию или сущность (in ipsam substantiam uel essentiam) Творца, т. е. будто то, что было сущностью (substantia) твари, станет сущностью Творца, то он, конечно же, согласится, что у него нет никаких сомнений, что этого еще не было, когда Господь говорил: «Отец Мой более Меня». Ибо Он сказал это не только перед тем, как вознесся на небе, но также и перед тем, как, пострадав, воскрес из мертвых. Те же, кто считает, что человеческая природа изменяется и превращается в субстанцию Божества, и что слова «тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему» были сказаны так, как если бы было сказано «тогда и Сам Сын Человеческий, и человеческая природа, воспринятая Словом Божиим, изменятся в природу Того, Кто покорил все Ему», считают также, что это будет после Судного дня, когда «Он предаст Царство Богу и Отцу» (1 Кор. 15:24). Однако поэтому даже в соответствии с таким мнением Отец все еще больше, нежели образ раба, который был воспринят от Девы. Но если иные утверждают также и то, что человек Иисус Христос уже был изменен в сущность Божию, все же они, конечно же, не могут отрицать то, что человеческая природа все еще оставалась [в Нем], когда Он еще до [принятия] страстей говорил: «Отец Мой более Меня». Поэтому нет никакого затруднения в том, чтобы истолковать эти слова так, что Отец больше образа раба, но когда Сын в образе Божием, то Он равен Ему. И да не сочтет кто–нибудь, услышав апостола, говорящего: «Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все» (1 Кор. 15:27), что об Отце следует думать, будто Он покорил Сыну все так, что [Сам] Отец не считает, что Сын Сам все Себе покорил. Апостол предупреждает подобное толкование, обращаясь к филиппийцам: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Флп. 3:20–21). Ибо нераздельна сила Отца и Сына. В противном случае, не Сам Отец покорил Себе все, но Сын покорил Ему, [т. е. Тому] Кто предал Ему Царство и [Кто] упраздняет всякую власть и силу. Ведь эти слова сказаны о Сыне: «Когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24). Ибо покоряет Тот, Кто упраздняет.
16. Да не помыслит кто из нас, будто Христос предаст Царство Богу и Отцу так, что у Него Самого отнимется (ибо иные суесловы так и думали). Ведь, когда говорится «предаст Царство Богу и Отцу», Сын не отделяется, поскольку вместе с Отцом Он есть единый Бог. Но нерадивых к Святому Писанию и склонных к спорам вводит в заблуждение употребленное [здесь] слово «доколе», ведь далее следует: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15:25); как будто когда Он их низложит, то уже не будет царствовать. И да не будут поняты те слова таким же образом, что и следующее: «Утверждено сердце его; он не убоится, доколе не узрит себя над врагами своими» (Пс. 111:8). Ибо [это вовсе не означает, что] он убоится, когда уже узрит. И что же, слова «Когда Он предаст Царство Богу и Отцу» значат, что Бог и Отец не имеет Царства? Но поскольку всех праведных, живущих верою, которыми ныне правит посредник между Богом и человеками человек Иисус Христос, Он приведет к такому видению, которое тот же апостол называет видением «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12), постольку когда говорится «Когда Он предаст Царство Богу и Отцу», [следует понимать] как если бы было сказано «Когда Он приведет верующих к созерцанию Бога и Отца». Поэтому–то Он и говорит: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). И тогда откроет Сын Отца, «когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу», т. е. когда [уже] не будет необходимым устроение уподоблений посредством ангельских начал, властей и сил. Вполне уместно полагать, что от их лица в Песне Песней говорится Невесте: «Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками, доколе царь за столом своим…» (Песн. 1:10–11), т. е. доколе Христос пребывает в Своем сокровенном, поскольку «жизнь наша сокрыта со Христом в Боге; когда же явится Христос, — как говорит апостол, — жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:3–4). [Однако] прежде, чем это произойдет, «мы видим как бы зеркалом, как загадке», т. е. в подобиях, «тогда же лицом к лицу» (1 Кор. 13:12).
17. Ведь это созерцание обещано нам как завершение всякой деятельности и вечное совершенство радости. «Мы теперь дети Божий; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). Ибо Он сказал слуге Своему Моисею: «Я семь Сущий. Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. 3:14). Это–то мы и будем созерцать, когда будем жить в вечности. Ведь вот что Он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Это произойдет, когда «придет Господь и осветит скрытое во мраке» (1 Кор. 4:5), когда прейдет мрак этой смертности и тленности. Тогда и будет утро наше, о котором говорится в псалме: «Рано предстану пред Тобою и буду созерцать» (Пс. 5:4). Я полагаю, что об этом созерцании сказано: «Когда предаст Царство Богу и Отцу», т. е. когда посредник между Богом и человеками — человек Иисус Христос всех праведных, живущих верою, которыми Он ныне правит, приведет к созерцанию Бога и Отца. Если здесь я говорю неразумно, пусть исправит меня тот, кто лучше разумеет, хотя [все] мне представляется именно так. Ибо что нам еще искать, если мы достигли созерцания Его? Пока же этого еще нет, наша радость — в надежде. «Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8:24–25), «доколе царь за столом своим». Тогда и будет то, что сказано: «Ты исполнишь меня радостью лицом Твоим» (Пс. 15:11). Полнее этой радости ничего не найти, поскольку не будет ничего, что нашлось бы полнее [этой радости]. Ибо нам явится Отец, и для нас это будет довольно. Филипп так хорошо понимал это, что сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Но он пока еще не понимал, что тем же образом он мог также сказать: «Господи, покажи нам Себя, и довольно для нас». И чтобы Филипп понял это, Господь ответил ему: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца». Однако, поскольку Он желал, чтобы Филипп жил верою, прежде чем сможет увидеть это, Он продолжил и сказал: «Разве Ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» (Ин. 14:8–10). Ибо пока мы водворены в теле, «мы устранены от Господа, ибо ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:6–7). Созерцание же есть награда за веру. Ради [этой] награды сердце очищается верою как сказано: «Верою очистив сердца их» (Деян. 15:9). То же, что ради этого созерцания очищаются сердца, прекрасно доказывается следующим высказыванием: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). То же, что это и есть жизнь вечная, Бог говорит в псалме: «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90:16). Поэтому, слышим ли мы: «Покажи нам Сына»; или же: «Покажи нам Отца»; и то, и другое значит одно и то же, ибо ни один из Них не может быть показан без другого. Следовательно, Они суть одно, что Христос и говорит: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30). Наконец, вследствие самой [Их] нераздельности довольно того, что иногда называется только Отец, иногда — только Сын, Который исполнит нас радостью лицом Своим.
18. Но не отделим от Них и Дух, т. е. Дух Отца и Сына, Который собственно и есть Дух Святой, «Дух истины, Которого мир не может принять» (Ин. 14:17). Ибо наслаждаться Богом Троицей, по образу Которого мы сотворены, есть полная радость наша, полнее каковой нет. Поэтому о Святом Духе иногда говорится так, будто Его одного довольно для нашего блаженства. И довольно Его одного потому, что Его невозможно отделить от Отца и Сына; довольно также и одного Отца, поскольку Его невозможно отделить от Сына и Святого Духа; довольно также и одного Сына, поскольку Его невозможно отделить от Отца и Святого Духа. Ибо что же Он имел в виду, говоря: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять» (Ин. 14:15–17), т. е. любящие мир? Ведь «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2:14). Но может все же показаться, будто слова «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя» сказаны потому, что одного Сына не довольно. В том же месте о Духе сказано так, будто вообще Его одного довольно: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин. 16:13). Неужели из этого следует, что здесь Сын отделен так, будто Он не наставлял на всякую Истину или будто Святой Дух должен был восполнить то, на что не смог наставить Сын? Пусть же они тогда, если им угодно, скажут, что Святой Дух, Которого они имеют обыкновение считать меньшим, больше, нежели Сын. Или потому, что в Писании не сказано «Он один» или «Никто, кроме Него, не наставит вас на всякую истину», они позволяют считать, что вместе с Ним наставлял также и Сын? Значит, апостол отделил Сына от знания Божественного, ибо сказано: «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:11); так что эти несуразные толкователи могли бы сказать, основываясь на том, что Святой Дух даже Сына наставляет Божьему, как больший меньшего? [Однако] Сын Сам предоставил это Духу так, что сказал: «Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел: ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам» (Ин. 16:6–7).
[Господь] сказал это не по причине неравенства Слова Божия и Святого Духа, но как если бы присутствие Сына Человеческого среди них было помехой приходу Того, Кто не был меньше, поскольку не уничижил Себя Самого как Сын, приняв образ раба (Флп. 2:1). Следовательно, было необходимо, чтобы от их глаз был удален образ раба, смотря на который, они полагали, что Христос есть лишь то, что они видели. Вот почему Он и говорит: «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28), т. е. «потому Мне необходимо было идти к Отцу, что пока вы Меня видите так, и потому, как вы Меня видите, считаете Меня меньшим Отца, и, будучи поглощенными творением и видом, которые Я воспринял, вы не осознаете того, что Я равен Отцу». Поэтому и следующее: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17). Ибо [чувственным] прикосновением как бы полагается конец пониманию. Поэтому Он не хотел, чтобы устремленное к Нему сердце ограничивалось в мысли исключительно тем, что видело. Восхождение же к Отцу означало явиться как равный Отцу так, чтобы в этом был предел видения, который достаточен для нас. Иногда же об одном Сыне говорится, что достаточно Его, и вся награда за любовь и стремление наши — в том, чтобы узреть Его. Ведь Он так и говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21). Неужели потому, что Он не сказал: «Явлю ему и Отца», Он отделил [Себя] от Отца? [Напротив] поскольку истинно: «Я и Отец — одно», постольку когда является Отец, является и Сын, Который в Нем; и когда является Сын, также является и Отец, Который в Нем. Следовательно, когда Он говорит: «Явлюсь ему Сам», это означает также, что Он явит и Отца. И точно также, когда говорится: «Когда предаст Царство Богу и Отцу», это означает, что [Царство] от Себя Он не отнимает. Поэтому когда Он приведет верующих к созерцанию Бога и Отца, Он, конечно, приведет их и к созерцанию Себя, [т. е. Того] Кто сказал: «Явлюсь ему Сам». И соответственно поэтому, когда Иуда спросил Его: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не этому миру?», Он ответил: «Кто любит Меня, соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:22, 23). Итак, тому, кто Его любит, Он являет не Себя одного, но вместе с Ним приходит к тому и Отец и сотворяет у него обитель.
19. Или, быть может, сочтут, что в обители, сотворенной Отцом и Сыном у возлюбившего Их, нет Святого Духа? Почему же тогда Христос говорит выше о Святом Духе: «Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет» (Ин. 14:17)? Итак, не отделен от обители Тот, о Ком сказано: «Он с вами пребывает, и в вас будет». Правда, быть может, найдется какой–нибудь безумец, который сочтет, что когда Отец и Сын придут, чтобы сотворить обитель у того, кто Их любит, Святой Дух удалится как бы для того, чтобы освободить место большим [Его]. Однако Писание предупреждает это плотское рассуждение, [ибо] немного выше сказано: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин. 14:16). Значит, когда придут Отец и Сын, Святой Дух не удалится, но пребудет в той же обители вместе с Ними вовек, поскольку ни Он без Них не приходит, ни Они без Него. Но для того, чтобы внушить мысль о Троице, некоторые [вещи] называются [раздельно], ведь Лица также именуются по–разному. Однако [эти вещи] не мыслятся по отношению к Лицам по разному вследствие единства Троицы, единой сущности и Божества Отца, Сына и Святого Духа.
20. Итак, Господь наш Иисус Христос предаст Царство Богу и Отцу, причем ни Он не будет отделен [от Отца], ни Святой Дух, поскольку Он приведет верующих к созерцанию Бога, в чем предел всех благодеяний и вечный покой и радость, которая не отнимется от нас. Ибо Он это и предвещает, когда говорит: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). Мария, сидевшая у ног Господа и вслушивавшаяся в Его слова, предзнаменовала подобие радости этой, отойдя от всяких дел и внемля истине сообразно с той мерой, с которой способна [внимать] ей эта жизнь, дабы, наконец, она предобразовала то, что будет вовек. Ведь Марфа, ее сестра, занимаясь делом большим и нужным по необходимости, но которое все же должно прейти, когда наступит этот покой, сама нашла успокоение в слове Господнем. Поэтому Марфе, жалующейся на то, что ее сестра не помогает ей, Господь ответил: «Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк. 10:42). Он не назвал дурной частью то, чем занималась Марфа, однако [сказал], что благая та, которая не отнимется. Ибо та часть, которая состоит в служении нужде, отнимется, когда прейдет сама нужда. И награда, благому делу, которое прейдет, — непреходящий покой. Следовательно, в этом созерцании Бог будет все во всем, поскольку ни в чем другом не будет нужды, кроме Него, ведь будет достаточным просвещаться и наслаждаться Им одним. И также тот, за кого Сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26), говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы жить в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню» (Пс. 26:4). Ибо тогда мы будем созерцать Бога Отца, Сына и Святого Духа, когда посредник между Богом и человеками человек Иисус Христос предаст Царство Богу и Отцу, дабы Он, посредник и первосвященник наш, Сын Божий и Сын Человеческий, уже не ходатайствовал за нас; но чтобы и Он, насколько Он первосвященник, приняв ради нас образ раба, покорился Тому, Кто покорил Ему все и Кому Он все покорил; так, что, насколько Он Бог, Он с Ним покорил бы нас; а насколько Он первосвященник, покорился бы с нами Ему (1 Кор. 15:24–28). Поскольку Сын Божий есть и Бог, и человек, человеческая субстанция в Сыне отличается от субстанции Божественной, которая у него в Отце. Точно так же плоть моей души по субстанции более отличается от моей души, хотя они суть в одном человеке, нежели душа другого человека от моей души.
21. Итак, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, т. е. когда Он приведет верующих и живущих верою, за которых ныне ходатайствует [как] посредник, к созерцанию, о достижении которого мы воздыхаем и стенаем, и когда прейдут труд и стенания, Он не будет уже ходатайствовать за нас, поскольку Царство будет предано Богу и Отцу. Это возвещая, Он говорит: «Доселе я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце» (Ин. 16:25); т. е. притчей уже не будет, когда будет видение лицом к лицу. Смысл слов, когда Он говорит «Прямо возвещу вам об Отце», был бы таков, как если бы Он сказал: «прямо явлю вам Отца». И потому Он говорит «Возвещу», что Он Его Слово. Итак, Он продолжает и говорит: «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин. 16:26–28). Так, что же означает: «Я исшел от Отца», как не то, что «Я явился не в том образе, в котором я равен Отцу, но в другом, т. е. в принятом на Себя творении, как меньший»? И что же означает «Я пришел в мир», как не то, что «Я показал глазам грешников, любящих этот мир, образ раба, который Я, истощившись, воспринял»? И что же означает «Опять оставляю мир», как не то, что «Я отнимаю от взора любящих мир то, что они видели»? И что же означает «Я иду к Отцу», как не то, что «Я наставляю Своих верных понимать Меня таким образом, каким Я равен Отцу»? Те, кто верит в это, будут сочтены достойными для того, чтобы их привели к видению, т. е. к самому созерцанию. В отношении этого привода к созерцанию как раз и говорится о Нем, что Он предаст Царство Богу и Отцу. Таким образом, Царством названы Его верные, которых Он искупил кровью и за которых ныне Он ходатайствует. Однако тогда, прилепив их к Себе в том, в чем Он равен Отцу, Он уже не будет просить Отца за них, «ибо, — говорит Он, — Отец Сам вас любит». Ведь как меньший Отца, Он просит; как равный же, Он вместе с Отцом внимает. И Он совсем не отделяет Себя от Него, когда говорит. «Отец Сам вас любит», но согласно тому, что я уже упоминал и достаточно внушал, Он дает понять, что в большинстве случаев каждое Лицо Троицы называется так, чтобы [вместе с одним] мыслились и другие. Поэтому слова «Отец Сам вас любит» сказаны так, что должны подразумеваться и Сын, и Святой Дух. И не то, что не любит нас Тот, Кто «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим. 8:32); но Бог любит нас таких, какими мы будем, а не такими, какие мы есть. Ведь каких любит, таких и хранит вовеки; что будет тогда, когда Тот, Кто сейчас ходатайствует за нас, «предаст Царство Богу и Отцу», так что уже не будет просить Отца, поскольку Отец Сам нас любит. За какую же заслугу, как не за веру, которой веруем прежде, чем увидеть то, что обещано? Ибо посредством нее мы достигаем видения того, что Он любит таких, какими Он хочет, чтобы мы были, а не таких, какими Он нас ненавидит, ибо мы таковы, и Он побуждает и способствует так, чтобы мы не желали оставаться такими всегда.
22. Поэтому, познакомившись с правилом того, как следует понимать Писание в отношении Сына Божия, дабы мы различали, когда в Нем говорится об образе Божием, в котором Он равен Отцу, и когда в Нем говорится об образе раба, который Он воспринял и в котором он меньше Отца, мы не придем в замешательство от как бы противоречивых и противоположных [по своему содержанию] высказываний, наличествующих в Святых Книгах В соответствии с образом Божиим Отцу равен и Сын, и Святой Дух, ибо ни один из Них не есть тварь, как мы уже показали. В образе же раба Сын меньше Отца, так как Он Сам сказал: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28). [Значит, в образе раба] Он меньше Самого Себя, ибо о Нем сказано: «Уничижил Себя Самого» (Флп. 2:7); и меньше Святого Духа, ибо Он Сам говорит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему» (Мф. 12:32). Это Им Он совершал чудеса, говоря: «Если Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие» (Лк. 11:20). И, ссылаясь на Исайю, [книгу] которого Он читал в синагоге, Он говорит безо всяких сомнений, подразумевая Себя: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение» (Ис. 61:1; Лк. 4:18). Он говорит о Себе как о посланном совершить это, ибо Дух Господен на Нем. В соответствии с образом Божиим все через Него начало быть (Ин. 1:3); в соответствии же с образом раба, Он Сам родился от жены, подчинился закону (Гал. 4:4). В соответствии с образом Божиим Он и Отец — одно (Ин. X, 30); в соответствии же с образом раба Он пришел не для того, чтобы творить Свою волю, но волю Того, Кто Его послал (Ин. 6:38). В соответствии с образом Божиим «как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26); в соответствии же с образом раба душа Его скорбит смертельно (Мф. 26:38), и Он говорит: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:39). В соответствии с образом Божиим Он «есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20); в соответствии же с образом раба Он был «послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8)
23. В соответствии с образом Божиим все, что имеет Отец, есть также и Его: «все Мое Твое, и Твое Мое» (Ин. 17:10); в соответствии же с образом раба Его учение не Его, но Пославшего Его (Ин. 7:16).
И «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). Ведь Он не знает этого, так как оставляет [своих учеников] незнающими, т. е. Он не знает этого так, чтобы тогда [уже] показать ученикам, как это сказано Аврааму: «Теперь Я знаю, что боишься ты Бога» (Быт. 22:12), т. е. «Я сделал так, чтобы ты узнал», ибо он сам себе стал известен, когда был проверен в этом испытании. Ибо Он, конечно же, собирался сказать это своим ученикам в подходящее время; при этом Он, высказываясь о будущем, как о прошедшем, говорит: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15) — чего Он пока еще не сделал, но сказал, будто уже сделал, так как Он наверняка собирался это сделать. Ибо Он говорит им: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12). К тому же относится и [сказанное] о дне и часе. Ведь и апостол говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2). Ведь Он говорил им [т. е. тем], кто не мог постигнуть более высоких предметов о Христе. Несколько позже он говорит им: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими» (1 Кор. 3:1). Следовательно, Он не знал в них того, что они не могли знать через Него. И Он говорил, что знает только то, что им следовало знать через Него. Наконец, Он знал в совершенных то, чего Он не знал во младенцах, ибо Он говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными» (1 Кор. 2:6). Говорится, что таким образом речи всякий скрывает то, чего не знает. Этим образом яма, что скрыта, называется непроницаемой. Ибо и в Писании не говорится таким образом, какой не обнаруживается в привычной речи человека, ибо Писание, разумеется, обращено к людям.
24. Соответственно с образом Божиим сказано: «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов» (Притч. 8:24), т. е. прежде всех высот сотворенного; а также: «Из чрева прежде денницы Я родил Тебя», т. е. «прежде времени и временного». Соответственно же образу раба сказано: «Господь имел меня началом пути Своего» (Притч. 8:22). Соответственно образу Божию Он сказал: «Я есмь Истина»; соответственно же образу раба: «Я есмь путь» (Ин. 14:6). Поскольку же Он Сам есть «первенец из мертвых» (Откр. 1:5), Он показал путь Своей Церкви к Царству Божиему, к вечной жизни, Которой Он глава и в бессмертии тел. Поэтому–то Господь и имел Его началом пути Своего в делах Своих. Соответственно образу Божиему Он есть «от начала Сущий», как и было сказано нам (Ин. 8:25), в каковом начале Бог сотворил небо и землю (Быт. 1:1). Соответственно же образу раба «Он выходит, как жених из брачного чертога своего» (Пс. 18:6). Соответственно образу Божиему Он есть «рожденный прежде всякой твари», и «Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:15, 17). Соответственно же образу раба «Он есть глава тела Церкви» (Кол. 1:18). В соответствии с образом Божиим Он есть Господь славы (1 Кор. 2:8). Отсюда ясно, что Он прославляет своих святых. Ведь «кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). О Нем же сказано, что Он Тот, Кто оправдывает нечестивого (Рим. 4:5); о Нем же сказано, что Он Тот, Кто явится праведным и оправдывающим (Рим. 3 26). Следовательно, если Он прославил тех, кого оправдал, то Тот, Кто оправдывает, Сам же и прославляет, т. е. Он, как я сказал, Господь славы. Однако в соответствии с образом раба Он ответил ученикам, вопросившим Его об их прославлении: «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим» (Мф. 20:23).
25. То же, что было уготовано Отцом, было уготовано и Сыном, так как Он и Отец одно (Ин. 10:30). Ибо мы уже показали посредством множества образов Божественных изречений, что в этой Троице то, что говорится об одном, говорится также обо всех, вследствие нераздельного действия одной и той же сущности. Так и о Святом Духе Он говорит: «Если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Он не сказал «пошлем», но так, как будто только Сын собирался Его послать, а не Отец. В другом же месте Он говорит: «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему» (Ин. 14:25–26). Здесь опять–таки сказано так, будто Сын не собирался Его посылать, а только Отец. Следовательно, как в тех [выражениях], так и в том, что Он говорит: «но кому уготовано Отцом Моим» (Мф. 20:23), Он хотел, чтобы считали, что Он вместе с Отцом уготовлял места славы тем, кому желал. Впрочем, кто–нибудь может сказать: «Там, где говорится о Святом Духе, Он говорит, что Сам собирается послать [Его], таким образом, что [при этом] не отрицает, что Отец [также] собирается [Его] послать; в другом же месте Он так [говорит, что собирается послать] Отец, что не отрицает, что и Он Сам [собирается послать]; ведь Он же ясно сообщает: «не от Меня зависит» и далее что места уготованы Отцом». Но это как раз то, что мы предуготовили как сказанное в соответствии с образом раба, чтобы мы понимали слова «не от Меня зависит» так, как если бы было сказано: «Не от человека это дается», т. е. так, чтобы посредством этого понимали, что это зависит от Него как Бога и как равного Отцу. Он говорит: «не от Меня зависит», т. е. [Он хотел сказать, что] «Не как человек я это даю, но уготовано это Отцом Моим; и пойми же ты, что если «все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин. 16:15), то это, разумеется, и Мое, и Я это с Отцом уготовил».
26. Итак, я спрашиваю вновь, каким же образом сказано: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его» (Ин. 12:47). Быть может, Он таким же образом сказал слова «Я не сужу его», каким [Он говорил] «не от Меня зависит». Но что же [далее] следует? Он говорит: «Я пришел не судить мир, но спасти мир»; и затем Он добавляет: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». Мы бы уже подумали [что Он говорит] об Отце, если бы Он далее не сказал; «Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Ин. 12:47–48). Так что же, ни Сын не судит, поскольку Он говорит: «Я не сужу его»; ни Отец; но слово, которое говорил Сын? Однако же, пока послушай, что говорит Он далее: «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (Ин. 12:49–50). Следовательно, если судит не Сын, а слово которое Он говорил, и потому судит слово, которое говорил Сын, что Сын говорил не от Себя, но Отец, Который Его послал, дал Ему заповедь, что сказать и что говорить. Значит, судит Отец, чье слово есть то, что говорил Сын, и Само Слово Отца и есть Сам Сын. Ибо заповедь Отца и Слово Отца не разнятся; и одно и то же Он назвал и Словом и заповедью. Давайте посмотрим: когда Он говорит: «Я говорю не от Себя»; не хочет ли Он, чтобы это было понято так: «Я не от Себя рожден». Итак, если говорит Слово Отца, то говорит Он Сам, поскольку Слово Отца и есть Он. Обычно Он говорит: «Отец дал Мне»; посредством чего Он хочет, чтобы думали, что Отец родил Его. То есть не то, чтобы Отец дал что–то Ему как уже существующему и не имеющему, но само [выражение] «дал Ему, чтобы имел» означает «родил Его, чтоб Он был» Ибо в отличие от творения, которое есть одно, а имеет другое, Сын Божий, Единорожденный, «через Кого все начало быть», прежде воплощения и прежде принятия на себя твари, — то, что Он есть, есть то, что Он имеет. Если кто готов к постижению этой мысли, то она более ясно высказывается там, где Он говорит: «Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин.5:26). Ибо не уже существующему, но не имеющему жизни [Отец] дал, чтобы Он имел жизнь в Себе Самом, так как тем самым, что Он есть, Он есть жизнь. Следовательно, слова «Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» означают «родил Сына, чтобы Он был неизменной жизнью, которая есть жизнь вечная». Итак, поскольку Слово Божие есть Сын Божий, постольку и Сын Божий есть истинный Бог и жизнь вечная, как в своем послании говорит Иоанн (I Ин. 5:20); и чего же мы еще не знаем, когда Господь говорит: «Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день»; и когда Он называет Само Слово Словом и заповедью Отца, а саму заповедь жизнью вечною? Поэтому Он и говорит: «Я знаю, что заповедь Его есть жизнь Вечная».
27. Итак, каким же образом нам следует понимать следующее: «Я не сужу, слово, которое я говорил, оно будет судить»? Ибо из того, что следует, представляется, что это сказано так, как если бы Он сказал: «Я не сужу, но Слово Отца будет судить». Слово же Отца есть Сам Сын Божий. Так не следует ли это понимать, как то: «Я не сужу, но Я сужу»? Как же еще это может быть истинным, как не так: «Я не сужу властью человеческой, ибо Я Сын Человеческий, но Я сужу властью Слова, поскольку Я Сын Божий»? Если же слова «Я не сужу» и «Я сужу» кажутся противоречивыми и противостоящими, что мы скажем по поводу того, где Он говорит: «Мое учение не Мое»? Как же Мое, и как не Мое? Ведь не говорит же Он: «Это учение не Мое», но «Мое учение не Мое», [т. е. то], которое Он назвал Своим и то же Он назвал не Своим. Каким же образом это может быть истинным? Если только оно называется Своим в соответствии с чем–то одним, а не Своим в соответствии с чем–то другим. То есть в соответствии с образом Божиим [оно называется] Своим, а в соответствии с образом раба — не Своим. Ведь когда Он говорит: «Не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7:16), — Он обращает нас к Самому Слову. Ибо учение Отца есть Слово Отца, Которое есть Единственный Сын. И что же само по себе значит: «Верующий в Меня, не в Меня верует» (Ин. 12:44)? Как же в Него и как не в Него? Каким же образом могут пониматься столь противоречивые слова «Верующий в Меня, не в Меня верует, но в Пославшего Меня», если не в том смысле, что «Верующий в Меня, верует не в то, что видит»? И да не будем надеяться на тварь, но на Того, кто воспринял тварь, чтобы явиться в ней человеческим глазам и посредством веры очистить сердца так, чтобы созерцали его как равного Отцу. Поэтому обращая внимание верующих к Отцу и говоря: «не в Меня верует, но в Пославшего Меня», Он, конечно же, хотел не того, чтобы Его отделяли от Отца, т. е. от Того, Кто Его послал, но того, чтобы в Него верили, как в Отца, Кому Он равен. Об этом Он ясно говорит в другом месте: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1), т. е. «как вы веруете в Бога, так веруйте и в Меня, ибо Я и Отец единый Бог». Следовательно, как Он здесь как бы отвлекает веру людей от Себя и переносит ее на Отца, говоря: «Не в Меня верует, но в Пославшего Меня», от Которого Он Себя, конечно же, не отделял, так Он также говорит: «не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим». Я полагаю, что это ясно, вследствие чего и то, и другое допустимо. Ведь то же самое говорится и в прежнем [высказывании]: «Я не сужу», хотя Он «будет судить живых и мертвых» (2 Тим. 4:1). Ибо не человеческой властью, но, обращаясь к Божеству, Он вздымает сердца человеческие горе, ради восхищения которых Он снизошел.
28. Если бы только Сын Человеческий в соответствии с образом раба, который Он принял, не был Тем же, Кто есть Сын Божий в соответствии с образом Божиим, в котором Он пребывает, не сказал бы апостол Павел о властях мира сего: «Если бы познали, то не распяли бы Господа Славы» (1 Кор. 2:8). Ведь Он был распят в образе раба, и, однако же, распят был Господь славы. Ибо таковым было это принятие, соделавшее Бога человеком и человека Богом. Однако, что в силу чего и что в соответствии с чем называется благоразумный, внимательный и благочестивый читатель понимает с помощью Господней. И вот мы сказали, что Он прославляет Своих, потому что Он Бог, потому что Он Господь славы; и, однако же, Господь славы был распят (ведь верно же говорить и «Бог распятый»), но Он был распят не в мощи Божественности, а в немощи плоти (2 Кор. 13:4). Так мы говорим, что в соответствии с тем, что Он Бог, Он судит, но властью Божией, а не человеческой; и, однако же, человек Сам будет судить, поскольку Господь славы был распят. Ибо Он ясно говорит, что когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все ангелы с Ним, тогда соберутся пред Ним все народы (Мф. 25:31–32) и т. д., что предсказывает будущий Суд (вплоть до последнего стиха в той главе). Иудеи же, упорствующие в своем грехе, на этом Суде будут наказаны, как и написано в другом месте: «И они воззрят на Него, Которого пронзили» (Зах. 12:10). Поскольку же и благие, и злые узрят Судью живых и мертвых, то, несомненно, злые не смогут увидеть Его, как только в соответствии с образом, в котором пребывает Сын Человеческий, и, однако же, в славе, в которой Он будет судить, а не в уничижении, на которое Он был осужден. Образ же Божий, в котором Он равен Отцу, нечестивые, несомненно, не увидят. Ибо они не чистые сердцем: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). И это видение — «лицом к лицу», что есть высшая награда, обещанная праведникам. Оно произойдет тогда, когда Он предаст Царство Богу и Отцу. Он желает, чтобы под «Царством» понималось и видение Его образа (ведь Богу подчинена вся тварь, включая ту, в которой Сын Божий был соделан Сыном Человеческим), ибо в соответствии с ним «тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28). Впрочем, если Сын Божий, будучи Судьей в том образе, в котором Он равен Отцу, явится даже нечестивым, что же тогда по поводу того, что Он обещает много Его возлюбившему: «И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам» (Ин. 14:21)? Вот почему Сын Человеческий будет судить, но не властью человеческой, а той, которою Он Сын Божий. И опять–таки Сын Божий будет судить, явившись, однако, не в том образе, в котором Он равен Отцу, а в том, в котором Он Сын Человеческий.
29. Итак, можно сказать двояким образом: и то, что «Сын Человеческий будет судить», и то, что «Сын Человеческий не будет судить». Сын Человеческий будет судить, поскольку истинно, что Он говорит: Когда придет Сын Человеческий, тогда соберутся пред Ним все народы (Мф. 25:31–32). И Сын же Человеческий не будет судить, поскольку, Он Сам говорит: «Я не сужу» (Ин. 12:47); и «Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий» (Ин. 8:50). В соответствии же с тем, что на Суде явится не образ Божий, а образ Сына Человеческого, судить будет не Отец. Ибо согласно этому сказано: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22). Какое же из двух значений выражается в такого рода высказывании, о котором мы упоминали выше: «Сыну дал жизнь иметь в Самом Себе» (Ин. 5:26)? Означает ли это, что Он родил Сына? Или же это означает то же о чем говорит апостол: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Флп. 2:9)? Ибо это сказано о Сыне Человеческом, в отношении Которого Сын Божий был воскрешен из мертвых. В образе Божием Он, конечно же, равен Отцу, но уничижил Себя, приняв образ раба. В этом образе раба Он действовал, страдал и получил то, по поводу чего продолжает апостол: «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог и превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:8–11). Итак, сказаны ли в соответствии с первым, или последним изречением слова: «весь суд отдал Сыну», становится вполне ясным из того, что если бы это говорилось в соответствии с тем, что сказано: «дал Сыну иметь жизнь в Себе Самом», то тогда бы, конечно же, не говорилось бы [другое]: «Отец не судит никого». Ибо согласно тому, что Отец родил Сына, равного Отцу, Отец судит вместе с Сыном. Следовательно, согласно этому и сказано, что на Суде явится не образ Божий, но образ Сына Человеческого. И не так, что не будет судить Тот, Кто отдал весь Суд Сыну, ибо о Нем Сын говорит: «Есть Ищущий и Судящий»; но слова «Отец не судит никого, но весь Суд отдал Сыну» сказаны так, как если бы говорилось: «Никто не увидит Отца на Суде живых и мертвых, но все — Сына». Ведь Он также есть и Сын Человеческий, так что Он может быть виден и нечестивыми, и они увидят, Кого пронзили.
30. Дабы не показалось, будто бы мы всего лишь высказываем догадки, а не четко доказываем, давайте приведем ясное и явное высказывание Самого же Господа, посредством которого мы покажем, что это и было причиной того, почему Он говорит «Отец не судит никого, но весь Суд отдал Сыну»; т. е. почему как Судья Он явится в образе Сына Человеческого, чей образ не есть образ Отца, но Сына. Это не тот образ, в котором Сын равен Отцу, но в котором Он меньше Отца так, чтобы на Суде Он был виден и благим, и злым. Ведь Он говорит затем: «Истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). Эта вечная жизнь есть то видение, которое не принадлежит грешникам. Далее поэтому следует: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут» (Ин. 5:25). Это присуще благочестивым, которые, слыша о Его воплощении, веруют, что Он есть Сын Божий, т. е. они постигают, что Он так содеял Себя в образе раба меньшим Отца, чтобы они уверовали, что Он в образе Божием равен Отцу. Поэтому Он продолжает и, добавляя, говорит: «Ибо как Отец имеет Жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26). Далее переходит Он к созерцанию Своей славы, в которой Ему судить, и видение каковой будет общим как для нечестивых, так и для праведников. Так Он продолжает и говорит: «И дал Ему власть производить Суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Ин. 5:27). Думаю, все здесь совершенно ясно. Поскольку же Он есть Сын Божий и равен Отцу, Он не получает эту власть вершения суда, но имеет ее с Отцом в сокровенном. Однако Он получает ее для того, чтобы благие и грешные видели Его судящим, ибо Он есть Сын Человеческий. Ведь видение Сына Человеческого дается и грешным, тогда как видение образа Божия — только лишь чистым сердцем, «ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8); т. е. только благочестивым, по любви которых Он обещает им то, что покажет Себя им. Послушай же, что Он говорит далее: «Не дивитесь сему» (Ин. 5:28). Почему же Он запрещает нам дивиться, как не потому, что на самом деле дивится всякий, кто не понимает, что Он говорит, что Отец дал Ему власть также и вершить суд, ибо Он — Сын Человеческий; хотя скорее можно было бы ожидать, что Он сказал бы «ибо Он Сын Божий»? Однако, поскольку грешники не могут видеть Сына Божия в соответствии с тем, что в образе Божием Он равен Отцу, постольку необходимо, чтобы и праведники, и грешники узрели Судью живых и мертвых, когда их будут судить пред Его лицом. Итак, Он говорит — «Не дивитесь сему; ибо наступит время, в которое все, находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5:28–29). Значит, было необходимо, чтобы Он получил эту власть, ибо Он есть Сын Человеческий, для того, чтобы всяческие, восставая, увидели Его в образе, в котором Он может быть виден всеми, одними — на осуждение, другими — к жизни вечной. Что же есть жизнь вечная, как не то видение, которое не доступно нечестивым? Он говорит: «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). И как же им [знать] Иисуса Христа, как не единого и истинного Бога, Который явит им Самого Себя, [т. е.] не так, как Он в образе Сына Человеческого явит Самого Себя подлежащим наказанию?
31. Он благ в соответствии с тем видением, в соответствии с которым Бог явится чистым сердцем, поскольку [говорится]: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем» (Пс. 72:1). Однако, когда грешники узрят Судью, Он не покажется им благим, ибо они не возрадуются Ему сердцем, но «возрыдают пред Ним все племена земные» (Откр. 1:7), как те, что в числе всех лукавых и неверующих. По этой причине Он даже ответил тому, кто назвал Его благим учителем, испрашивая у Него совет, как унаследовать жизнь вечную: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19:17). Хотя в другом месте Сам Господь даже человека называет благим: «Благой человек из благого сокровища сердца своего выносит благое, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое» (Мф. 12:35). Но ведь тот [человек] искал жизни вечной, а жизнь вечная [состоит] в том созерцании, в котором Бога видят не к наказанию, но к радости вечной, и не понимал, с Кем он разговаривал, ибо считал Его только лишь Сыном Человеческим. [Дело в том, что, слова] «Что ты называешь Меня благим?» означают «Зачем ты, видя этот образ, спрашиваешь Меня о благом и называешь Меня в соответствии с тем, что видишь, учителем благим? Это образ Сына Человеческого. Это воспринятый образ. Этот образ явится на Суде не только праведным, но и нечестивым; и видение этого образа не будет благим для тех, то грешит. [Итак], есть видение Моего образа, в котором Я хотя и был, но не почитал хищением быть равным Богу, и уничижил Себя Самого, дабы принять его». Следовательно, тот единый Бог Отец, Сын и Святой Дух, Который явится лишь только к радости, что не отнимется от праведных, к той будущей радости, о которой вздыхает тот, кто говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, чтобы созерцать красоту Господню» (Пс. 26:4). Итак, только Сам единый Бог благ, ибо никто Его не видит к скорби и стенанию, но к спасению и радости истинной. «Если ты мыслишь Меня в соответствии с этим образом, то Я благ; если же только в соответствии с другим, то зачем спрашиваешь Меня о благом, ведь ты будешь среди тех, кто увидит, Кого пронзили, и это видение будет для них злом, ибо оно будет для них наказанием?». Ведь посредством доказательств, которые я привел, очевидно, что так следует понимать эти слова Господа «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», ибо это видение Бога, которым мы будем созерцать неизменную и невидимую человеческим глазам сущность Бога, что обещано только святым. Это видение апостол Павел называет [видением] «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12); о нем говорит и апостол Иоанн: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2); о нем же сказано: «Одного просил я у Господа: созерцать красоту Господню»; о нем же говорит Сам Господь: «И Я возлюблю Его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21). Только ради него да очистим верою сердца, так что [о нас можно было бы сказать] «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). И что еще только не сказано об этом видении! Всякий, кто обращает взор любви к отысканию этого, обнаруживает, что оно изобильнейшим образом рассеяно по всему Святому Писанию. Единственно это [видение] есть наше высшее благо, ради достижения которого нам предписывается делать все, что мы делаем надлежащим образом. Но это предвозвещенное видение Сына Человеческого, когда соберутся пред Ним все племена и скажут Ему: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим» и т. д. (Мф. 25:37), не будет благим ни для нечестивых, которых пошлют в вечный огонь, ни высшим благом для праведных. Ибо Он все еще призывает их к Царству, уготованному им от создания мира. И как одним скажет: «Идите в огонь вечный»; так же другим: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам» (Мф. 25:34). И как те войдут в пламя вечное, так праведники — в жизнь вечную. Так в чем же жизнь вечная, как не в том, о чем Он говорит: «да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3); и [как не] в той славе, о которой Он говорит Отцу: «которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5)? Ведь тогда Он предаст Царство Богу и Отцу (1 Кор. 15:24), чтобы добрый раб вошел в радость Господина своего (Мф. 2523), и так, чтобы тех, кем владеет Бог, Он укрыл под покровом Своего лика от досадования людей, а именно тех, кто тогда будет раздосадован, услышав эти слова: «Добрый человек не убоится худой молвы» (Пс. 111:7), если он скрыт в куще, т. е. в истинной вере кафолической Церкви, от «мятежей людских» (Пс. 30:21), т. е. от клеветничества еретиков. Но если есть какой–нибудь другой смысл слов Господа, когда Он говорит: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», только бы не считалось, что благость [сущности] Отца больше, нежели [благость] сущности Сына, в соответствии с каковой Он есть Слово, через Которое все начало быть; и если в нем ничего не расходится с верным учением, мы, не опасаясь, воспользуемся не одним [доказательством], а столькими, сколько смогли бы обнаружить. Ибо тем значительнее опровергаются еретики, чем больше открывается выходов для избежания их уловок. Обратимся же к тому, что еще надлежит рассмотреть в новой книге.
КНИГА 2
(В ней продолжает защищаться положение о единосущии и равенстве Троицы. В рассуждениях о послании Сына и Святого Духа, а также о разнообразных явлениях Божества показывается, что Посланный по Своей природе — не меньше Пославшего, ибо Троица, будучи равной Себе во всем и единой в Своей неизменной природе, действует нераздельно во всяком послании и явлении)
1. Когда, сообразно со слабостью своих умственных способностей, люди исследуют Бога и устремляются к пониманию Троицы, испытав тяжкие трудности или от самого усилия ума, пытающегося созерцать недоступный свет, или же от столь многосторонних и различных образов речи, наличных в Священном Писании (где, как мне кажется, ум [сначала] истощается, чтобы [затем] просветиться благодатью Христовой), они, освободившись от всякой двусмысленности и достигнув чего–то определенного, должны с легкостью простить ошибающихся в исследовании столь сокровенного предмета. Однако есть две вещи, которые труднее всего стерпеть, когда люди ошибаются. Первая — это предполагать что–либо прежде выяснения истины; вторая — это защищать ложное предположение, когда истина уже выяснена. От этих двух прегрешений, одинаково вредных как для отыскания истины, так и для восприятия священных текстов, да защитит и оградит меня Бог (о чем молю и на что надеюсь) щитом своей благой воли и милостью снисхождения, дабы я не медлил в исследовании Его сущности или путем [изучения] Писания, или же путем [изучения] природы. Писание и природа даны нашему созерцанию для того, чтобы исследовать и любить Того, Кто вдохновил первое и сотворил вторую. И я, не колеблясь, выскажу свое мнение, по которому я скорее предпочел бы, чтобы за мной наблюдали праведные, нежели страшился бы придирок превратно мыслящих. Ибо прекраснейшая и скромнейшая любовь с благодарностью принимает на себя голубиный взгляд, но что касается зуба собаки, то его избегает остерегающееся смирение или отражает незыблемая истина. Впрочем, я скорее предпочел бы, чтобы меня кто–нибудь упрекал, нежели чтобы меня восхвалял заблуждающийся или льстец, поскольку не пристало любителю истины страшиться порицателя. Ведь тот, кто будет порицать, является или другом, или недругом. Если глумится недруг, то надлежит отвечать; если ошибается друг — поучать; если же друг поучает — слушать. Ибо если тот, кто ошибается, хвалит тебя, он утверждает тебя в ошибке; льстец же совращает тебя к ошибке. «Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня; «елей же грешника да не умастит головы моей» (Пс. 140:5).
2. Вот почему мы твердо придерживаемся касательно Господа нашего Иисуса Христа как бы канонического правила (известного посредством Святого Писания и доказанного кафолическими учеными толкователями) в отношении того, что Сын Божий должен мыслиться как равным Отцу согласно образу Божиему, так и подчиненным Отцу согласно образу раба, который Он на Себя принял, и в котором Он оказался меньше не только Отца, но и Святого Духа, и даже не равным, а меньшим по отношению к Самому Себе; не к такому, каким Он был, но к такому, какой Он есть, ибо принятый образ раба не устраняет образа Божиего, как учат о том свидетельства Святого Писания, о чем мы говорили в предыдущей книге. Однако там некоторые вещи излагаются так, что неясно, к какому именно правилу их следует относить: то ли к тому, в соответствии с которым мы рассматриваем Сына меньшим как воспринявшего на себя творение, то ли к тому, в соответствии с которым мы понимаем, что Сын не только не меньше, но и равен Отцу, хотя Он от Него, Бог от Бога, Свет от Света, ведь мы называем Сына Богом от Бога, Отца же только Богом, но не от Бога. Отсюда ясно, что у Сына должен быть Тот, от Кого Он и Чей Сын Он есть. Но Отцу не нужно иметь Сына, от которого Он был бы, и Он имеет лишь Того, Кому Он Отец. Также и всякий сын есть то, что он есть, от отца, но ни один отец не есть то, что он есть, от сына.
3. Некоторые вещи в Писании излагаются так, что указывают на единство и равенство сущности Отца и Сына, как то: «Я и Отец одно» (Ин. 10:30), «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6), и другие того же рода. Но также есть и те, которые показывают, что Сын есть меньший вследствие его образа раба, т. е. по причине принятия Им на Себя твари и изменчивой человеческой природы, о чем говорится: «Ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28), «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22), и чуть далее «и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Ин. 5:27). И, наконец, некоторые излагаются так, чтобы показать не то, что Сын меньше или же равен Отцу, но затем, чтобы сообщить, что Сын от Отца, как, например, следующее: «Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26); и «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (Ин. 5:19). Но если бы по причине сказанного мы допустили, что в образе, воспринятом от творения, Сын меньше, то следовало бы, что раньше Сына Отец ходил по воде или открывал слюною и грязью какого–то другого рожденного слепым, и делал все, что Сын совершил, явившись во плоти среди людей, иначе бы Христос не мог этого совершить, так как Он Сам говорит, что «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего». Но кто, даже если бы он был безумным, так бы подумал? Значит, остается считать, что сказано так потому, что жизнь Сына неизменна так же, как и Отца, хотя все же Сын от Отца; и действие Отца и Сына нераздельно, хотя действие это дано Сыну от Того, от Кого Он Сам есть, т. е. от Отца; и Сын так видит Отца, что тем самым видит, что Он Сын. Ибо Сыну быть от Отца, т. е. быть рожденным от Отца, означает не что иное, как видеть Отца; а видеть, как Он действует, означает не что иное, как действовать вместе с Ним. Но потому Сын [действует] не от Себя, что Он есть не от Себя, и потому [Сын ничего не может творить Сам от Себя], если не увидит Отца творящего, что Он есть от Отца. Но [такое соотношение] отличается от того, как художник рисует одни картины тем же способом, как он видит другие, нарисованные другим, и от того, как телесно выражается то же самое в буквах, что мыслится в душе. Ибо сказано: «что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5:19). Итак, сказано, что Он творит то же и так же, что и Отец, а поэтому действие Отца и Сына нераздельно и равно, хотя Сын действует от Отца. Поэтому Сын не может сотворить что–либо от Себя, если не увидит, как это делает Отец. Из этого правила, посредством которого Святое Писание хотело утвердить не то, что один меньше другого, но лишь показать, кто есть от кого, некоторые сделали вывод, будто бы Сын считается меньшим. Так, некоторые среди нас, кто менее всего научен и образован в таких вопросах, пытаясь воспринять их согласно образу раба и не достигая верного понимания, приходят в замешательство. Чтобы этого не происходило, надлежит держаться также и того правила, согласно которому сообщается, что Сын не меньше, хотя и от Отца. Этими словами обозначается не неравенство, а рожденность Сына.
4. Как я уже замечал, есть в Святом Писании некоторые вещи, которые изложены двусмысленно, так что неясно, к которому из определений они должны относится: то ли к тому, в соответствии с которым Сын меньше по причине принятия на Себя твари, то ли к тому, в соответствии с которым Он хотя и считается равным Отцу, но все же от Него происходящим. И, как мне кажется, если это выходит сомнительным настолько, что невозможно ни объяснить, ни различить, то такие вещи можно без опаски понимать в соответствии с любым правилом, как, например, слова: «Мое учение не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7:16), то это может пониматься как из образа раба, о чем мы говорили в предыдущей книге, так и из образа Божиего, в котором Сын равен Отцу, хотя Он и от Отца. Ведь поскольку в Божественной природе Сын не есть одно, а Его жизнь — другое, но Сын и есть сама жизнь, постольку же Сын не есть одно, а Его учение — другое, но Сын и есть само учение. А поэтому сказанное — «Сыну дал иметь жизнь» — нельзя понять иначе, как: «Он родил Сына, Который есть жизнь»; и точно так же, когда говорится, что Он дал Сыну учение, лучше понимать, что «Он родил Сына, который есть учение»; и так же, когда говорится, что «Мое учение не Мое, но Пославшего Меня», нужно понимать, как если бы сказано, что «Я не есть от Самого Себя, но от Пославшего Меня».
5. Ведь даже о Святом Духе, о котором не сказано, что «Он опустошил Себя, приняв образ раба», Сам Господь говорит: «Когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но говорить будет, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13–14). И если бы после этих слов Он бы сразу не сказал, продолжая, что «Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:15), можно было бы подумать, что Святой Дух рожден от Христа так же, как Он от Отца. Ибо о Себе Он сказал, что «Мое учение не Мое, но Пославшего Меня», но о Духе Святом — «не от Себя говорить будет, но говорить будет, что услышит» и «от Моего возьмет и возвестит вам». Но так как Он объясняет, почему Он сказал «от Моего возьмет» (ведь Он говорит, что «Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет»), нам остается понимать лишь так, что Дух Святой имеет от Отца, как и Сын. И как же это может быть, как не в соответствии с тем, что мы сказали выше: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26)? Итак, сказано, что Он, исходя от Отца, не говорит от Самого Себя. И поскольку из этого не следует, что Сын меньше, ибо сказано, что «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (ведь это сказано не в соответствии с образом раба, но в соответствии с образом Божиим, как мы это уже показали; эти слова означают не то, что Сын меньше, но то, что Он от Отца); постольку и Дух Святой не есть меньше, ибо о Нем сказано, что «не от Себя говорить будет, но говорить будет, что услышит», что означает, что Дух Святой исходит от Отца. Но раз и Сын есть от Отца, и Дух Святой от Отца исходит, почему они Оба не называются сыновьями, почему оба не называются рожденными, но первый — одним Сыном Единородным, а второй — Духом Святым, не Сыном, не рожденным (ведь если рожденный, то, значит, и сын)? Если Бог даст (и настолько, насколько даст), мы рассмотрим этот вопрос в другом месте.
6. Но да проснутся теперь те (если могут), кто считал, что подкрепляет свою позицию в доказательстве того, что Отец якобы больше Сына, основываясь на том, что Сын сказал: «Отче, прославь Сына». Но вот и Дух Святой прославляет Его, так что же и Он больше Сына? Более того, если по этой причине Дух Святой прославляет Сына, так как «Он возьмет от Сына» и «возьмет от Его, потому что все, что имеет Отец, есть Его», то является очевидным, что когда Дух Святой прославляет Сына, Его прославляет и Отец. Отсюда становится понятным, что все, что имеет Отец, относится не только к Сыну, но также и к Святому Духу, так как Святой Дух способен прославлять Сына, которого прославляет Отец. Пусть же те, кто считает, что тот, кто прославляет, больше того, кого прославляют, допустят, что равны те, кто взаимно прославляет друг друга. Ведь сказано, что и Сын прославляет Отца: «Я прославил, — говорит Христос, — Тебя на земле» (Ин. 17:4). Да будут они настороже [в своих размышлениях], чтобы не счесть, что Дух Святой больше Их Обоих на том лишь основании, что Он прославляет Сына, которого прославляет Отец, в то время как в Писании нигде не говорится, чтобы Он был прославляем Отцом или Сыном.
7. Обличенные таким образом, они меняют свои слова и говорят: «Пославший больше посланного». Поэтому Отец больше Сына, ибо Он постоянно напоминает о Себе как о посланном от Отца. Больше Отец и Духа Святого, ибо о Нем Иисус говорит гак: «Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин. 14:26); и Дух Святой меньше обоих, потому что, как это мы уже упоминали, и Отец посылает Его, и Сын, ведь говорит же Он: «Если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Сначала я хочу выяснить, откуда и куда посылается Сын. Сын о Себе говорит: «Я исшел от Отца и пришел в мир» (Ин. 16:28). Значит, быть посланным означает исходить от Отца и приходить в этот мир. Но что означают слова о Нем того же самого евангелиста: «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал», а также «Пришел ко своим» (Ин. 1:10–11)? Конечно же, Он послан туда, куда пришел. Но если, исходя от Отца, Он пришел в мир, где Он был, то тогда Он послан туда, где Он был. И у пророка сказано, что Бог говорит: «Не наполняю ли Я небо и землю?» (Иер. 23:24). Если это говорится о Сыне (ибо иные желают понимать Его так, что это Он говорил посредством пророков или в пророках), куда же Его послали, как не туда, где Он был? Ибо повсюду был Тот, кто говорит: «Не наполняю ли Я небо и землю?». Но если это говорится об Отце, то где же Он мог быть без Своего Слова и Своей Премудрости, которая «быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу» (Прем. 8:1). Но и без Своего Духа Он нигде не может быть. Итак, если Бог есть повсюду, то и Дух Его тоже повсюду. Следовательно, и Дух Святой послан туда, где Он уже был. Ведь и псалмопевец не находит места, куда можно было бы уйти от лица Бога и говорит: «Взойду ли на небо — там Ты; сойду ли в преисподнюю — и там Ты» (Пс. 138:8). Желая же представить Бога вездесущим, он выше вспоминает о Духе Его: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» (Пс. 138:7).
8. Поскольку и Сын, и Святой Дух посылаются туда, где Они уже пребывали, постольку надлежит выяснить, каким образом нужно понимать это послание в отношении Сына и Святого Духа. Ведь Отец нигде не называется посланным, о Сыне же вот что пишет апостол: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных» (Гал. 4:4–5). Он говорит, что Бог послал Сына, Который родился от жены. Какой христианин не знает, что этим выражением [«от жены» апостол] желал обозначить не лишение девственности, но лишь различие полов в соответствии с образом речи евреев. Поэтому когда он говорит, что «Бог послал Сына своего (Единородного), Который родился от жены», он достаточно показал, что Сын послан таким же образом, каким рожден от женщины. Следовательно, поскольку Он рожден Богом, Он уже был в мире; поскольку же Он был рожден Марией, Он был послан и пришел в этот мир. Потому быть посланным Отцом без Святого Духа невозможно не только потому, что Отец, когда Он Его посылает, т. е. когда Он рождается от женщины, не мыслится сделавшим это без Своего Духа, но и потому, что в Евангелии на вопрос Марии «Как будет это?» совершенно четко и ясно сказано [ангелом]: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1:34, 35). И то же у Матфея: «Она имеет во чреве от Духа Святого» (Мф. 1:18). Впрочем, и у пророка Исайи обнаруживаем то, что, как считается, Сам Христос говорит о Своем будущем пришествии: «ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48:16).
9. Возможно, кто–то решит, что мы говорим, что Сын послан Самим Собой, поскольку зачатие и рождение Марией ребенка является действием Троицы, которая, творя, творит все. Но как же тогда Отец послал Его, если Он Сам Себя послал? На это отвечу, сначала прося, чтобы мне сказали (если могут), каким образом Отец Его освятил, если Он освятил Самого Себя? Но ведь Господь именно это и говорит: «Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?» (Ин. 10:36); и в другом месте: «И за них Я посвящаю Себя» (Ин. 17:19). Я также спрашиваю, каким образом Отец предал Его, если Он Сам Себя предал. Ведь об этом говорит и апостол Павел: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим. 8:32); и также в другом месте — уже о Самом Спасителе: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). Думаю, что мне ответят, если имеют в том разумение, что у Отца и Сына единая воля и нераздельное действие. Значит, так следует понимать это воплощение и рождение от девы, в котором Сын понимается как посланный, и это было сделано единым и нераздельным действием Отца и Сына, и, конечно же, не без Святого Духа, о Котором прямо говорится: «Она имеет во чреве от Духа Святого». Быть может, мы будем более понятны, если спросим следующее: «Каким образом Бог послал Своего Сына?» Первый приказал, чтобы другой пришел [в мир], и второй, повинуясь приказавшему, сделал это? Просил ли Он Его? Или же Он Его понудил? Но что бы это ни было из перечисленного, так или иначе, это было сделано Словом, и Слово Божие есть Сам Сын Божий. Так что, поскольку Отец посредством Слова посылает Его [в мир], это послание является действием как Отца, так и Слова. Значит, Сын посылается как Отцом, так и Сыном же, ибо Слово Божие и есть Сам Сын. Но кто же станет придерживаться столь святотатственной точки зрения, чтобы считать, что временное Слово сотворено Отцом затем, чтобы был послан предвечный Сын и явился во плоти во времени? [Оно пребывало], конечно же, в Самом Слове Божием, Которое было в начале у Бога и Которое было Бог; а именно, Оно пребывало в Самой Премудрости Божией вне времени, Той, что должно было явиться во времени во плоти. Следовательно, поскольку вне какого–либо временного происхождения в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог; [временное Слово] пребывало в Самом Слове вне времени, в котором Оно стало плотью и обитало с нами (Ин. 1:1, 2, 14). Когда же пришла полнота времен, «Бог послал Сына своего (Единородного), Который родился от жены», т. е. был создан во времени, чтобы было явлено человекам воплощенное Слово, Которое пребывало в Самом Слове вне времени и Которое явилось во времени, ведь порядок времен вневременно заключен в предвечной Премудрости Божией. Значит, поскольку Оно было создано Отцом и Сыном, постольку соответственно посланным называется Тот, Кто явился во плоти, пославшим же — Тот, Кто не являлся; ибо то, что выносится вовне пред телесные очи, получает свое существование от внутреннего устройства и поэтому подходящим образом называется посланным. В свою очередь этот воспринятый человеческий образ есть Лицо только Сына, а не Отца также. Вот почему говорится, что невидимый Отец вместе с Сыном, Который с Отцом невидим, послали того же Самого Сына, сделав Его видимым. Но если бы Сын таким образом стал видимым, что перестал бы быть невидимым как Отец, т. е. если бы невидимая сущность Слова в видимом творении стала изменчивой и преходящей, то Сын мыслился бы посылаемым Отцом так, что обнаружилось бы, что Он только посылается Отцом, но не является вместе с Ним посылающим одновременно. Но поскольку образ раба был принят [Им] так, что остался неизменным образ Божий, постольку ясно, что то, что явилось в Сыне, было сотворено неявленными Отцом и Сыном. Иначе говоря, от невидимого Отца вместе с невидимым Сыном был послан Тот же, но видимый Сын. Так почему же тогда Он говорит: «Я не Сам от Себя пришел» (Ин. 8:42)? Потому что это сказано в соответствии с образом раба, согласно которому Он также говорит: «Я не сужу никого» (Ин. 8:15).
10. Если, таким образом, Он называется посланным, насколько Он проявляется вовне в телесном творении, и, будучи внутри природы духовной, всегда остается скрытым от глаз смертных, нетрудно понять, почему о Духе Святом также говорится как о посланном. Ведь во времени Святой Дух обнаруживается видимым образом в каком–либо виде тварного. Это — или когда Он в телесном виде как голубь нисшел на Самого Господа, или когда по прошествии десяти дней от Его вознесения в день Пятидесятницы «внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра» и «явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2:2, 3). Это действие, видимым образом проявленное и представленное пред глазами смертных, называется посланием Святого Духа. И оно не для того, чтобы Он тем самым сделал видимой Свою сущность, в соответствие с которой Он Сам невидим и неизменяем как Отец и Сын; но для того, чтобы взволнованные увиденным извне человеческие сердца обратились от временного проявления Его как пришедшего к скрытой вечности Его как всегда сущего.
11. И также нигде не сказано в Писании, что Бог Отец больше Святого Духа, или же что Святой Дух меньше Бога Отца, так как творение, в котором проявляется Святой Дух, принимается [Божеством] не так, как принимается Сын Человеческий, в образе Которого представлено Лицо Самого Слова Божиего. [И во Христе Оно представлено] не так, чтобы Он обладал Словом Божиим подобно другим святым мудрецам, но [так, чтобы Он был] свыше Своих причастников; и, конечно же, не так, чтобы Он имел Слово больше [нежели они] с тем, чтобы быть превосходящей других мудростью, но так, чтобы Он был Самим Словом. Ибо одно дело плотское слово, и другое — Слово, ставшее плотью. Иначе говоря, одно дело человеческое слово, и другое — Слово, ставшее человеком. Ведь [слово] «плоть» означает человека, когда говорится: «И Слово стало плотью» (Ин. 1:14); а также: «и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк. 3:6). Ибо [здесь слово «плоть»] не означает плоть без души или без ума, но [выражение] «всякая плоть» означает то же, что и [выражение] «всякий человек». Следовательно, творение в котором проявляется Святой Дух, принимается [Божеством] не так, как принимается плоть и образ человеческий от Девы Марии. Ведь Дух не сделал благими ни голубя, ни ветер, ни пламя. Он не связал их с Собой и со Своим Лицом в вечном единстве. [И неверным будет предположить, будто] природа Святого Духа изменчива и непостоянна так, что они [т. е. голубь, ветер, пламя] не возникли из твари, но Он Сам превращался из одного в другое, как вода в лед. Эти [явления] возникли так, как будто они должны были возникнуть в подходящее время; и природа, изменяясь и превращаясь по повелению Того, Кто неизменно пребывает в Себе Самом, служит Творцу, чтобы обозначить и проявить Его так, как Он должен был быть обозначен и проявлен по отношению к смертным. Поэтому хотя тот голубь и называется Духом, и хотя о том огне говорится, что «явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них», и что они «начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян. 2:2, 3), чтобы показать, что Дух был проявлен посредством этого огня, как и голубя; мы, однако, не можем одинаково называть Святого Духа Богом и голубем или же Богом и огнем, как мы одинаково называем Сына и Богом, и человеком, и как мы называем Сына агнцем Божиим, что говорит не только Иоанн Креститель: «Вот Агнец Божий» (Ин. 1:29), но также и Иоанн Евангелист, говорящий об убийстве Агнца в Апокалипсисе. Ведь это пророческое видение было представлено не телесным очам посредством телесных образов, но в духе посредством духовных образов телесных вещей. Всякий же, кто видел того голубя и огонь, видел его своими [телесными] очами. Хотя по поводу огня можно еще рассуждать, был ли он виден [телесными] очами или же в духе, учитывая то, как это было сказано. Но ведь [в Писании] говорится не о том, что «они увидели разделяющиеся языки как бы огненные», но о том, что «явились им». А сказать «мне явилось» и «я увидел» обычно не является для нас одним и тем же. Так, в случае тех духовных видений телесных образов могут обычно использоваться оба выражения: и «мне явилось», и «я увидел». В тех же случаях, когда очам представлено то, что выражено через телесный вид, обычно не говорят «мне явилось», но «я видел». Следовательно, в отношении того огня может быть поставлен вопрос: каким образом он был виден? Был ли он виден внутри духа, будучи как бы представленным внешне? Или же он действительно предстал внешним образом перед плотскими очами? Что же касается того голубя, о котором сказано, что он сошел в телесном виде, то никто никогда не сомневался, что он был виден [телесными] очами. И опять–таки, таким образом, как мы называем Сына камнем (ведь сказано же: «камень же был Христос» (1 Кор. 10:4)), мы не можем называть Духа голубем или огнем. Ибо тот камень уже был сотворен, и по образу действия был назван именем Христа, Которого он обозначал, подобно тому камню, который Иаков положил под голову и помазал, дабы он обозначал Господа; или как Исаак был Христом, когда он, идя на заклание, нес дрова. К этим уже существующим [предметам] присоединялось определенное значение. Они не так, как тог голубь и огонь, вдруг стали существовать исключительно для того, чтобы быть знаками. Как мне кажется, [голубь и огонь] более походят на тот пламень, который явился Моисею из [тернового] куста, или на тот столп, который вел народ в пустыне; или гром и молнии, когда был дан Закон на горе. И действительно, телесный вид таких вещей возникал для того, чтобы что–либо обозначить и [затем] прейти.
12. Следовательно, Святой Дух также называется посланным вследствие этих телесных образов, которые возникали во времени для того, чтобы обозначить и проявить Его, как он должен быть явлен человеческим чувствам. Однако не говорится, что Он меньше Отца, как и Сын в образе раба, ибо этот образ раба укоренился в единстве [Его] Лица. Эти же телесные виды возникали на время для того, чтобы явить то, что должно, и [затем] прекращали свое существование. Но почему же тогда Отец не называется посланным вследствие тех телесных видов — огня в кусте и столпа облака или огня и молнии на горе; и если другие подобные вещи возникали тогда, когда Он говорил пред отцами, как это мы узнали из Писания; и если Он Сам проявляется человеческому взору посредством этих образов и видов тварного, телесно выраженных? Но если Сын проявляется через них, почему же Он считается посланным после того, как рождается от женщины, как говорит апостол: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына своего (Единородного), Который родился от жены», ведь Он также был послан и до того, как Он явился отцам посредством этих изменчивых тварных образов? Или если нельзя правильно сказать о Сыне, что Он послан, если Он не стал плотью, почему же тогда говорится, то Дух Святой также посылаем, хотя Он никак не воплощался? И если посредством этих видимых [вещей], о которых упоминается в Законе и пророках, проявлял Себя не Отец или Сын, но Дух Святой, то почему же говорится, что Он посылается сейчас, когда Он посылался таким образом и прежде?
13. В трудности такого вопрошания, нам при помощи Господа, прежде всего, надлежит выяснить, являлся ли отцам посредством этих тварных образов Отец или Сын, или Святой Дух, или же иногда Отец, иногда Сын, а иногда Святой Дух, или же без какого–либо различия Лиц Бог единый и единственный, т. е. Сама Троица. Затем, какой бы ни был первый итог, [следовало бы выяснить], использовалось ли для этого только [телесное] творение, в котором Бог, насколько Он считал это нужным, открывался бы человеческому взору, или же ангелы, которые уже существовали, посылались так, чтобы говорить от Лица Божиего, принимая телесный вид от телесного творения для их служения, как это от каждого требовалось, или же в соответствии со способностью, дарованной им Творцом, изменяя и превращая свое тело (которому они не подвластны, но которое, будучи им подвластным, управляется ими) в такие сообразные и подходящие для их действий [телесные] виды, какие пожелают. Наконец, мы разберемся с тем, что постановили исследовать [а именно]: посылались ли Сын и Дух Святой и прежде и если посылались, то в чем разница между прежним посланием и тем, о котором мы читаем в Евангелии, или же ни один из них не посылался кроме того, когда Сын был рожден от Марии Девы, а Святой Дух был явлен в видимом образе голубя или огненных языков.
14. Давайте оставим в стороне тех, кто слишком телесным образом мысли полагал, что природа Слова Божиего и Премудрость, Которая, пребывая в Самой Себе, все обновляет, и Которую мы называем Сыном Божиим, не только изменчива, но и видима. Ибо, грубые сердцем, они больше с наглостью, нежели с религиозностью, подходили к исследованию Божественных предметов. Поскольку же душа является духовной субстанцией и поскольку она не сотворена ни кем иным, как Тем, Кем сотворено все и без Которого ничто не было сотворено, она невидима, хотя и изменчива. Именно так они и думали в отношении Самого Слова Божиего и Самой Премудрости Божией, посредством Которой сотворена душа. Но ведь Премудрость не только невидима, как и душа, но и неизменчива, каковой душа не является. Именно эта неизменчивость Ее и упоминается, когда говорится, что она «пребывая в Самой Себе, все обновляет» (Прем. 7:27). Эти [люди], однако, как бы пытаясь укрепить шаткость своего заблуждения, приводят слова апостола Павла и принимают то, что сказано о едином и единственном Боге, под Которым понимается Сама Троица, только в отношении Отца, но не Сына и Святого Духа также: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков» (1 Тим. 1:17) и «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:15–16). Я полагаю, что мы уже вполне рассудили, как должны пониматься эти слова.
15. Однако те, кто желает применять эти тексты только по отношению к Отцу, а не к Сыну и Святому Духу также, утверждают, что Сын стал видимым не через принятие плоти от Девы, но был таковым прежде того через Самого Себя. Ибо, говорят они, Он Сам являлся пред очами отцов. И если ты им скажешь: «Каким бы образом ни был Сын Божий видим Сам по Себе, таким же образом Он Сам по Себе смертен; так что если вы только к Отцу желаете относить слова: «Единый, имеющий бессмертие»; и если Сын смертен по причине принятой на Себя плоти, то допустите, что по той же причине Он и смертен», они ответят, что Он смертен не по той же причине [принятой на Себя плоти], но [по той, что] поскольку Он и раньше был видимым, постольку и раньше был смертным. Но если они считают Сына смертным по причине [воспринятой] плоти, то тогда Отец без Сына не есть единственный, кто имеет бессмертие, так как Слово Его, Которым все сотворено, также имеет бессмертие. Следовательно, не потому утратил Сын Божий бессмертие, что воспринял смертную плоть, ведь даже с душой человеческой не может произойти того, чтобы она умерла вместе с телом, о чем говорит Сам Господь: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Матф. 10:28). Или, быть может, и Святой Дух воспринял плоть? В отношении этого [вопроса] они, несомненно, придут в замешательство. Ведь даже если Сын смертен по причине [воспринятой] плоти, то как же они могут говорить, что только один Отец без Сына и Святого Духа имеет бессмертие, тогда как Дух Святой не воспринимал на Себя плоть? Значит, если Дух Святой не имеет бессмертия, то и Сын является смертным не по причине [воспринятой] плоти. Если же Дух Святой имеет бессмертие, то не только об Отце сказано: «Единый, имеющий бессмертие». Поэтому [чтобы выпутаться из своего замешательства] они считают, что могут доказать, что Сын был смертен еще до Своего воплощения, исходя из того, что сама изменчивость не напрасно называется смертностью, в соответствии с чем и душа считается смертной, но не потому что она изменяется или превращается в тело или какую–либо другую сущность, а потому что все, что ни есть сейчас в самой ее сущности иначе, чем это было, оказывается смертным, поскольку перестало быть тем, чем было. Так как, говорят они, прежде, чем Сын Божий был рожден от Девы Марии, Он Сам явился отцам нашим и не в одном и том же виде, но во многих, [сначала] так, [затем] иначе, то Он Сам по Себе видим, ибо, еще не восприняв плоть, Его сущность была видимой смертным очам, и Он Сам по Себе смертен, поскольку изменчив. Также и Дух Святой, Который являлся то как голубь, то как огонь. Поэтому, говорят они, не Троице, но единственно и исключительно Отцу подходит то, что сказано: «Невидимому, единому премудрому Богу честь и слава» (1 Тим. 1:17); и «Единый, имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:16).
16. Не обращая внимания на тех, кто не может познать даже невидимую сущность души, т. е. тех, кто тем более далек от познания того, что сущность единого и единственного Бога, т. е. Отца, Сына и Святого Духа, остается не только невидимой, но и неизменчивой, посредством чего она пребывает в истинном и подлинном бессмертии; да будем мы, никогда не считавшие, что Бог (Отец ли, Сын ли, Святой ли Дух) являлся телесным очам иначе, нежели посредством телесного творения, подвластного Его мощи; [да будем мы, пребывая] в правоверном спокойствии и с умиротворяющим усердием готовыми к тому, чтобы нас исправили, если нас по–братски и уместно упрекнут, а также готовыми к нападкам недруга, когда он говорит верное; [да будем мы] стараться разузнать, являлся ли Бог нашим отцам прежде явления Христа во плоти нераздельно или же в каком–либо Лице Троицы, или же раздельно как бы по очереди.
17. Прежде всего, в книге Бытия сказано, что Бог говорил с человеком, которого создал из праха земного. Но если мы будем трактовать эти слова, исключив образное значение и держась буквы, то получится, что Бог говорил с человеком в человеческом виде. Это, впрочем, не выражено в книге четко, однако в избранных местах это звучит именно так, в особенности там, где сказано, что Адам, услышав голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня, скрылся между деревьями рая, и когда Бог сказал ему: «Адам, где ты?» (Быт. 3:8–9), — он ответил: «Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:10). Ибо я не вижу, как буквально может пониматься прогулка и беседа Господа, как не в человеческом виде. Нельзя также сказать, что только голос был сотворенным, когда, как сказано, прохаживался Бог; и нельзя сказать, что Тот, Кто был ходящим в раю, не был видимым, ведь Адам также говорит, что он скрылся от Него. Но Кто же Он тогда был? Отец или Сын, или Дух Святой? Или же с человеком говорил Бог вообще как Сама нераздельная Троица в образе человека? Впрочем, взятое в целом Писание нигде не внушает мысль о переходе от одного Лица к другому. Однако похоже, что Он обращается к первому человеку, когда говорит: «Да будет свет» и «Да будет твердь» (Быт. 1:3, 6); и так далее по всем этим дням. Обычно мы воспринимаем Его как Бога Отца, говорящего, чтобы возникло все, что Он пожелал сотворить. Ибо все Он сотворил Словом Своим, Которое в соответствии с истинным правилом веры мы знаем как Его единственного Сына. Следовательно, если это Бог Отец говорил с первым человеком и если это Он Сам ходил в раю во время прохлады дня, и это от Него скрылся грешник между деревьями, то почему же нам также не считать, что это Он явился Аврааму и Моисею, и тем, кому Он желал и как Он желал посредством подвластного Ему изменчивого и видимого творения, в то время как Он Сам пребывал в Самом Себе и в Своей сущности, по которой Он неизменен и невидим? Но ведь могло быть и так, что Писание исподволь переходило от Лица к Лицу, и в то время как в Нем говорилось, что Отец сказал: «Да будет свет», а также обо всем остальном, что упоминается как сотворенное Им посредством Слова, Оно уже указывало на Сына как на говорившего с первым человеком, хотя не развертывало это открытым образом, но лишь внушало мысль об этом тем, кто способен понять это.
18. Тот, кто имеет силы, с помощью которых он может умственным взором проникнуть в эту тайну так, чтобы ему легко открылось, способен ли Сам Отец посредством видимого творения явиться человеческим очам, или же Он не способен сделать это без Сына и Святого Духа, да продвинется далее в рассмотрении этой [тайны], если сможет, а также в ее выражении и толковании в словах. Однако [рассматриваемый] предмет, насколько о нем свидетельствует Писание, в котором сказано, что Бог говорил с человеком, является, по–моему, сокровенным, ибо с очевидностью не ясно, имел ли обыкновение Адам лицезреть Бога телесными очами, в особенности потому, что остается нерешенным вопрос, что за глаза были те, что у них открылись, когда они вкусили запретный плод, ибо прежде, чем они вкусили, те глаза были закрыты. Если даже Писание и внушает мысль о том, что рай представлял собой нечто телесное, я все же не буду опрометчиво утверждать, что Бог никак не мог там прогуливаться иначе, нежели как в каком–то телесном образе. Ведь могут сказать, что сотворен был только голос, который слышал человек, образа же никакого он не видел. И хотя сказано, что Адам скрылся от лица Божиего, из этого еще не следует, что он обычно видел Его лицо. Ибо что если он сам не мог видеть, но боялся, что его самого увидит Тот, Чей голос он слышал и Чье присутствие он ощущал, когда Тот прогуливался? Так ведь и Каин сказал Богу: «И от лица Твоего я скроюсь» (Быт. 4:14), но из–за этого мы не вынуждены признавать, что он имел обыкновение лицезреть Бога в каком–либо видимом образе телесными очами, хотя он слышал голос Того, Кто спрашивал и беседовал с ним о его преступлении. Какого именно рода речь звучала в человеческих ушах, когда Бог обращался к первому человеку, установить трудно, да мы и не брались за это. Но если были созданы только голос и звуки для того, чтобы донести некоторое чувственное присутствие Бога тем первым людям, я не знаю, почему бы мне не мыслить в них Лицо Бога Отца, так как Его Лицо открывается и в том голосе, когда Иисус, сияя, явился пред тремя учениками на горе, и когда голубь снисшел на Него при Его крещении, и когда Он воззвал к Отцу о прославлении и получил ответ: «И прославил, и еще прославлю» (Ин. 12:28). [И так это] не потому, что голос мог быть создан без содействия Сына и Святого Духа (ибо Троица действует нераздельно), но потому, что этот голос был создан для того, чтобы проявить Лицо одного Отца так же, как [вся] Троица произвела человеческий образ от Марии Девы, но это Лицо лишь одного Сына, так как невидимая Троица произвела видимое Лицо одного Сына. И ничто не запрещает нам рассматривать тот голос, обращенный к Адаму, не только как голос Троицы, но также и как проявление Лица той Троицы. Ибо мы должны воспринимать как относящееся только к Отцу то, что сказано: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Мф. 3:7). Ибо нельзя полагать и понимать Иисуса ни как Сына Святого Духа, ни как Своего собственного Сына. И когда прозвучал голос: «И прославил, и еще прославлю», мы признаем, что он принадлежал только Лицу Отца, ибо он был ответом на тог призыв Господа, в котором Он сказал: «Отче, прославь имя Твое» (Ин. 12:28); и этот призыв [Господа] мог быть направлен только к Отцу, но не к Святому Духу также, которому Он Сыном не является. В отношении же того, где говорится: «И воззвал Господь Бог к Адаму», ничего нельзя сказать против того, чтобы мы здесь мыслили Саму Троицу.
19. Нечто подобное [имеет место быть], когда мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего» (Быт. 12:1). [Здесь также] не ясно, то ли только голос дошел до ушей Авраама, то ли нечто было явлено его глазам. Немного позднее сказано более ясно: «И явился Господь Аврааму и сказал ему: потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт. 12:7). Однако и здесь нельзя определить, в каком виде явился ему Господь: то ли это был Отец, то ли Сын, то ли Дух Святой. Разве что [остается иным] полагать, что к Аврааму явился Сын, ибо не сказано, что «явился Бог Аврааму», но что «явился Господь». Ведь похоже, что Сына как бы пристало звать Господом, как это делает, например, апостол: «Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:5–6). Но ведь во многих местах [Писания] обнаруживается, что и Бог Отец также называется Господом, как, например: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:7), а также: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня» (Пс. 109:1); и также обнаруживается, что даже Дух Святой называется Господом, когда, например, апостол говорит: «Господь есть Дух», и, дабы кто–нибудь не подумал, что этим обозначается Сын, и что Он называется Духом по причине Своей бестелесной сущности, сразу же добавляет: «а где Дух Господен, там свобода» (2 Кор. 3:17). Ведь никто не сомневался, что Дух Господен — это Дух Святой. Поэтому здесь с очевидностью не ясно, являлось ли Аврааму какое–либо Лицо Троицы или же являлся Сам Бог Троица, о Котором говорится как о едином Боге: «Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи» (Втор. 4:13). Также и под дубом Мамврийским он видел трех мужей, которых пригласил, оказал гостеприимство и прислуживал им, пока они вкушали. Однако Писание начинает повествование об этом, говоря не о том, что «явились ему три мужа», но о том, что «явился ему Господь» (Быт. 18:1). Далее же, надлежащим образом показав, как явился Бог, Писание присоединило повествование о трех мужах, которых Авраам пригласил, обратившись во множественном числе, чтобы оказать им свое гостеприимство, но с которыми после говорит в единственном числе как с одним; и сын ему от Сары обещается как от одного, которого Писание называет Господом как и в начале повествования: «И явился Господь Аврааму». Затем он приглашает их, омывает им ноги и провожает их, как будто они люди. Но говорит он как с Господом Богом и тогда, когда ему обещается Сын, и тогда, когда ему говорится о приближающейся гибели Содома.
20. Это место Святого Писания требует более внимательного рассмотрения. Ведь если бы явился лишь один муж, что бы еще воскликнули те, которые утверждают, что Сын по своей видимой сущности был и прежде своего рождения от Девы, как не то, что это был Он Сам? Ибо, скажут они, это об Отце говорится: «Невидимому, единому премудрому Богу». Правда, я мог бы продолжить интересоваться, каким же образом еще до своего воплощения Он открылся как человек, ведь ему омывали ноги, и Он вкушал человеческую пищу. И как же могло так стать, что Он, все еще «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6)? Неужели Он уже «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:7), хотя мы знаем, что это произошло тогда, когда Он родился от Девы? Но как же тогда Он явился Аврааму прежде, чем это произошло? Или тот образ [в явлении] не был настоящим? Я бы мог продолжать интересоваться этим, если бы Аврааму явился один муж, и если бы считалось, что этот же самый муж и есть Сын Божий. Но так как явилось трое, и не сказано, чтобы кто–нибудь из них был больше другого по образу ли по власти ли, по возрасту ли, почему бы нам в этом не видеть посредством зрительно воспринятых тварных образов одну и ту же сущность и равенство Троицы в трех Лицах?
21. Ибо, чтобы кто–нибудь не подумал, будто один из трех больший, и что Его–то и следует мыслить Господом Сыном Божиим, а двух других Его ангелами (ведь всего явилось трое, а Авраам говорил с одним как с Господом), Святое Писание, высказывая противоположное, предупредило подобные будущие рассуждения и мнения, когда немного позднее говорится, что к Лоту пришли двое ангелов, к одному из которых, этот праведный человек, заслуживший освобождения от содомского пожара, обратился как к Господу. Далее же Писание говорит: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место» (Быт. 18:33).
«И пришли те два ангела в Содом вечером» (Быт. 19:1). И здесь то, что я начал излагать, должно быть рассмотрено с еще большим вниманием. Несомненно, что Авраам, обращаясь к тем трем, говорил с ними как с одним, которого он назвал Господом. Быть может, скажет кто–нибудь, он признал в одном из них Господа, а в двух других Его ангелов. Но что же тогда будет означать то, о чем далее говорит Писание: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место» и «пришли те два ангела в Содом вечером»? Быть может, тот один, который был признан в трех как Господь, удалился для того, чтобы послать двух ангелов, которые были с ним, уничтожить Содом? Давайте же посмотрим, что из этого следует. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: государи мои, зайдите в дом раба вашею» (Быт. 19:1–2). Здесь вполне ясно и то, что было два ангела, и то, что по отношению к ним выказывалось гостеприимство во множественном числе, и то, что Лот с почтением назвал их господами, так как, возможно, он принял их за людей.
22. Но опять–таки [возникает новая неясность]. Ведь если бы Лот не признал в них двух ангелов Божиих, он бы им не поклонился лицом до земли. [С другой стороны], почему он тогда выказал гостеприимство и предложил угощение тем, кто как бы лишен человеческой природы? Однако что бы здесь ни скрывалось, да будем [с тщанием] исследовать то, за что мы взялись. Являются двое; оба называются ангелами; их приглашают во множественном числе; и Лот разговаривает с ними во множественном числе до ухода из Содома. И далее в Писании говорится: «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, Владыко! Вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими» и т. д. (Быт. 19:17–19). Но что же тогда значат слова: «Но Лот сказал им: нет, Владыко!», если Тот, Кто был Господом, уже удалился, чтобы послать двух ангелов? Почему же тогда сказано «нет, Владыко!», а не «нет, Владыки!». Или же если он желал обратиться к одному из них, почему тогда Писание говорит: «Но Лот сказал им: нет, Владыко! Вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими»? Или же мы должны понимать два лица во множественном числе, а когда к тем же двум обращаются как к одному, [мы должны понимать их] как единого Господа Бога одной сущности? Так как же нам понимать эти два Лица? Как Отца и Сына или как Отца и Святого Духа, или же как Сына и Святого Духа? Последнее, пожалуй, наиболее подходяще. Ибо они говорят о себе как о посланных, [т. е. так], как мы говорим о Сыне и Святом Духе. О том же, что Отец послан, в Писании нигде не говорится.
23. Когда Моисей был послан, чтобы вывести народ Израиля из Египта, Писание так говорит о явлении ему Бога: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему ангел Господен в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3:1–6). Итак, здесь тот, [кто явился], сначала назван ангелом Господним, а затем Богом. Так не был ли ангел Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова? Но тогда Его нужно считать Самим Спасителем, о котором апостол говорит: «Их и отцы, и от них Христос во плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки» (Рим. 9:5). Следовательно, вполне разумно считать, что Тот, кто есть «сущий над всем Бог, благословенный во веки», является Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Но почему он сначала назван ангелом Господним, когда явился «в пламени огня из среды тернового куста»? Не потому ли, что это был один из многих ангелов, который по [Божественному] устроению выражал собой Лицо Господа своего? Или же потому, что это было нечто тварное, что было воспринято Им, чтобы явиться для него в зримом образе, и чтобы произносимые слова были слышимы, чем бы, как требовалось; обозначилось [незримое] присутствие Господа для телесных человеческих чувств посредством подвластного Ему творения? Но если это был один из ангелов, кто бы мог с легкостью подтвердить, было ли на него возложено возвестить о Лице Сына или же Святого Духа, или же Бога Отца, или же о Самой единой Троице, Которая есть единый и единственный Бог, отчего Он и говорит: «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»? Ведь мы не можем сказать, что Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова является Сын Божий, а Бог Отец не является. Но ведь точно также никто не осмелится отрицать, что Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова является Дух Святой или Сама Троица, которую мы считаем единым Богом. Ибо тот, кто не есть Бог, не является Богом отцов. Далее, если не только Отец является Богом, как признают все, и даже еретики, но также и Сын, Которого, хотят они того или нет, вынуждены таковым признавать, поскольку [о Нем] апостолом сказано: «сущий над всем Бог, благословенный во веки»; также и Святой Дух, ибо [о Нем] апостол говорит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога», «Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор. 6:19, 20); и эти трое суть один Бог, как исповедует кафолическое благомыслие; то остается не достаточно ясным, которое из Лиц Троицы выражал ангел (если он был один из остальных), и выражал ли он какое–то [отдельное] Лицо, а не Саму Троицу. Но если в данном деле было воспринято творение, чтобы его посредством быть видимым для человеческих глаз и быть слышимым для человеческих ушей, и называться и ангелом Господнем, и Господом, и Богом, то тогда здесь Бог не может пониматься как Отец, но только как Сын или Дух Святой, хотя я не могу припомнить, чтобы Святой Дух назывался ангелом где–то еще. Впрочем, он мог бы так называться по своему действию, ведь о нем говорится. «И будущее возвестит вам» (Ин. 16:13); а слово «ангел» переводится с греческого на латынь как «вестник» (nuntius). Но также с совершенной ясностью мы читаем у пророка о Господе Иисусе Христе, что Он будет назван «Ангелом Великого Совета» (Ис. 9:6). Значит, и Святой Дух, и Сын Божий являются Богом и Господом ангелов.
24. И подобное же сказано о выходе из Египта сынов Израилевых: «Господь же шел пред ними в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном», и «не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица (всего) народа» (Исх. 13:21, 22). Так же и здесь кто бы стал сомневаться, что Бог явился смертным очам посредством все того же подвластного Ему телесного творения, а не своею сущностью? Однако подобным же образом не ясно, был ли то Отец или Сын, или Святой Дух, или Сама Троица единый Бог. И также остается неопределенным то, где сказано: «Слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: Я услышал ропот сынов Израилевых» и т. д. (Исх. 16:10–12).
25. А вот что говорится об облаках, громах, молниях, трубном звуке и дыме на горе Синай: «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым. как дым из печи, «и весь народ сильно ужаснулся». И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх. 19:18–19). И немного после того, как был дан Закон в десяти заповедях, соответственно следует: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный и гору дымящуюся»; и чуть позднее: «И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал народ Моисею…» и т. д. (Исх. 20:18, 21–22). Что же мне сказать по этому поводу, кроме того, что никто не может быть столь неразумным, чтобы верить, что дым, огонь, облака и туман, и что бы то ни было подобного рода является сущностью Святого Духа или Слова и Премудрости Божией, которая есть Христос? Что же касается Бога Отца, то даже ариане никогда не осмеивались думать подобным образом. Следовательно, все это было создано посредством творения, служащего Творцу, и было представлено сообразно [Божественному] устроению человеческим чувствам. Все же поскольку сказано, что Моисей взошел в облако, в котором был Бог, [постольку некоторые] плотским образом считают, что в то время, как народ видел облако, Моисей внутри облака видел своими плотскими глазами Сына Божия, Которого обезумевшие еретики желают видеть в Его сущности. Так как же мог видеть Его Моисей своими плотскими глазами, если плотскими глазами нельзя видеть не то что Премудрость Божию, которая есть Христос, но и [душу] какого угодно мудреца и даже [просто] какого–нибудь человека?! Или поскольку сказано о старейшинах Израилевых, что они «видели место стояния Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (Исх. 24:10), постольку нам следует верить, что в неком земном пространстве находились посредством своей сущности Слово и Премудрость Божия, Которая «быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу» (Прем. 8:1), и что Слово Божие, через Которого все начало быть, является таким образом изменчивым, что Оно то сокращается, то простирается?! Да очистит Господь сердца своих правоверных от таких мыслей! Но все эти видимые и чувственные вещи, как мы часто отмечали, представлены посредством подвластного [Господу] творения для того, чтобы обозначить невидимого и умопостигаемого Бога, не только Отца, но и Сына, и Святого Духа, «ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11:36), хотя «невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
26. Однако что касается того, что мы здесь предприняли, то я все же не пойму, каким образом становится ясно посредством того, что было столь устрашающе явлено чувствам смертных, говорил ли на горе Синай Бог Троица или же по раздельности Отец, или Сын, или Святой Дух. Но если будет позволено без поспешного утверждения скромно и осторожно предположить, не возможно ли [в этом случае] мыслить одно Лицо из [всей] Троицы, то почему бы нам не считать, что разговор скорее идет о Святом Духе, поскольку о самом Законе, который был дан там, сказано, что он был написан на каменных скрижалях перстом Божиим, каковым именем, как мы знаем, обозначается Святой Дух в Евангелии (Лк. 11:20). И отсчитываются пятьдесят дней от заклания агнца и празднования Исхода до того дня, когда все это начало происходить на горе Синай, точно так же, как отсчитываются пятьдесят дней после страстей Господних от Его воскресения, и тогда приходит Святой Дух, обещанный Сыном Божиим. В «Деяниях Апостолов» мы читаем, что Он явился им посредством разделяющихся огненных языков и почил по одному на каждом из них (Деян. 2:3). Это вполне согласуется с «Исходом», где сказано: «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне» (Исх. 19:18); а немного позднее также говорится: «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий» (Исх. 24:16). Или если все это произошло так, что ни Отец, ни Сын не могли быть там представлены без Святого Духа, Который должен был написать Закон, то мы, конечно же, знаем, что Бог явился там не в Своей сущности, которая пребывает невидимой и неизменчивой, а посредством тварного вида. Однако нам не известно, насколько это доходит до моего разумения, какое именно из Лиц Троицы, [отличенное] особым знаком, [тогда явилось].
27. Есть также еще одна трудность, которая заботит иных, ибо сказано: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Немного же позднее Моисей говорит: «Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: «яви мне Самого Себя», дабы я познал Тебя, чтобы приобресть благоволение в очах Твоих, и чтобы я знал, что эти люди Твой народ»; и еще немного позднее: «Моисей сказал: покажи мне славу Твою» (Исх. 33:11, 13, 18). Так что же, во всем, что было совершено [о чем сказано] выше, Бог мыслился видимым в своей сущности, отчего Сына Божиего эти жалкие [люди] считали видимым не через творение, но в Самом Себе, и что когда Моисей взошел в облако, людским глазам был явлен лишь темный мрак, а он внутри, якобы созерцая Лицо Бога, слышал Его слова? Ведь именно так и сказано, что «говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим», и, вот, то же самое Моисей говорит: «Если я приобрел благоволение в очах Твоих, яви мне Самого Себя». Он, конечно же, знал, что видел Его телесным образом, и хотел Его доподлинно увидеть духовным образом. А та речь [Господня], произнесенная в словах, была обращена так, как будто это была речь друга, говорящего с другом. Однако кто же видит Бога Отца телесными очами? И то, что в начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог, через Которого все начало быть, кто видит телесными очами? И кто видит телесными очами Духа Премудрости? Но что же может означать «яви мне Самого Себя, дабы я познал Тебя», как не «яви мне Свою сущность»? Если бы Моисей не сказал этого, нам надлежало бы как–то стерпеть тех глупцов, которые полагают, что сущность Бога сделалась видимой его глазам посредством тех [явлений], о которых говорилось выше. Но поскольку очевиднейшим образом показывается, что его желание не было удовлетворено, кто дерзнет сказать, что посредством подобных образов, которые были зримо явлены также и ему, глазам смертного [человека] явилась не природа, служащая Богу, но То, что есть Сам Бог?
28. Сюда же [следует добавить] и то, что после этого Господь говорит Моисею: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня: стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь задняя Моя, а лице Мое не будет видимо тебе» (Исх. 33:20–23).
Не без причины обычно предполагают, говоря о Личности Господа нашего Иисуса Христа, что Его «задняя» есть Его плоть, в каковой Он был рожден от Девы, умер и воскрес. Слово «задняя» употреблено или по причине того, что смерть есть нечто последнее вообще, или по причине того, что Его воплощение произошло почти в конце веков, т. е. в позднейший период. Слово же «лицо» [употреблено потому, что] или означает тот образ Божий, будучи которым Он не почитал хищением быть равным Богу Отцу и который не возможно увидеть и остаться живым, или потому, что после этой жизни, в которой мы далеки от Господа и где «тленное тело отягощает душу» (Прем. 9:15), мы увидим все «лицом к лицу», как говорит апостол. Ибо об этой жизни говорится в псалмах: «Подлинно, совершенная суета — всякий человек живущий»; а также: «Потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих» (Пс. 38:6; 142:2). И опять–таки в этой жизни согласно Иоанну «еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). [Иначе говоря] он хотел сказать, [что все это будет] после этой жизни, когда мы уже отплатим долг смерти и получим обещанное воскресение. Или даже сейчас в зависимости от того, насколько духовно мы понимаем Премудрость Божию, Которою все создано, настолько мы умираем для плотских страстей так, что, считая этот мир мертвым для нас, мы сами также умираем для него и говорим вслед за апостолом: «Для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14). И об этой смерти он также говорит: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь [его] постановлений?» (Колос. 2:20). Следовательно, не без причины [сказано, что] ни один не может увидеть [Его] лицо, т. е. само проявление Премудрости Божией, и выжить. Ибо это есть тот самый вид, по созерцанию которого воздыхает всякий, кто страстно стремится любить Бога от всего сердца, от всей души и всем своим умом; к созерцанию которого тот, кто любит своего ближнего как самого себя, подвизает и его, насколько может; и этими двумя заповедями [любви к Богу и любви к ближнему] держатся Закон и пророки. И сам Моисей тому пример. Так, когда он, пламенея от любви к Богу, сказал: «Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: яви мне Самого Себя, дабы я познал Тебя, чтобы приобресть благоволение в очах Твоих»; и далее по причине любви к ближнему он добавляет и говорит: «Чтобы я знал, что эти люди Твой народ». Следовательно, это есть то видение, которое преисполняет всякую разумную душу желанием его [созерцать], тем более страстным, чем чище душа, а душа тем чище, чем выше она поднимается к духовному, а она тем выше поднимается к духовному, чем больше она умирает для плотского. Но пока мы далеки от Господа и «ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7), мы должны созерцать «задняя» Христа, т. е. Его плоть, посредством той самой веры, т. е. стоя на крепком основании веры, которую означает камень (о чем Он сказал, что создаст на нем свою Церковь), и устремляя свой взор на Него из такой безопасной смотровой башни, как вселенская Церковь. И мы тем сильнее любим Лицо Христа, которое стремимся видеть, чем больше мы распознаем в том, что называется «задняя» Его, насколько изначально Христос любил нас.
29. Но вера в Его воскресение спасает и оправдывает нас, [пребывающих] во плоти. «Ибо, — говорит апостол, — если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9); а также он говорит [о Христе, что Он есть Тот], «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25). Наградой же за веру нашу является воскресение тела Господа нашего. Ведь даже враги наши верят, что Он умер на страстном кресте, хотя они не верят, что Он воскрес. Мы же, непоколебимо веря в это, твердо на этом стоим, как на камне. И мы с определенной надеждой ожидаем усыновления и искупления тел наших. Ведь мы надеемся на то, что, будучи членами [тела] Христова, мы, по рассуждению здравой веры, совершенны в Нем как главе нашей. Поэтому Он не хотел, чтобы увидели Его «задняя», за исключением того мгновения, когда проходила слава Его, дабы уверовали в Его воскресение. Ибо еврейское слово «пасха» означает по–нашему «проходить» [или «переходить»]. Поэтому–то и евангелист Иоанн говорит: «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу…» (Ин. 13:1).
30. Тот же, кто верит в воскресение, но верит, пребывая не во вселенской Церкви, а в схизме или ереси, видит «задняя» Господа не с того «места, которое у Него». Ибо что же означает сказанное Господом: «Вот место у меня; стань на этой скале»? Какое же земное место «у Господа»? Быть «у Господа», конечно же, означает прикасаться к Нему духовно. Ибо какое место не есть «у Господа», Который «быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу», и о Котором пророк говорит, что небо — Его престол, а земля — подножие ног Его. И [как сообщает тот же пророк далее], Господь говорит: «Где же вы построите дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя» (Ис. 66:1–2). Очевидно же, что под местом, которое «у Господа», понимается вселенская Церковь, в которой [человек] стоит как на камне, и где верящий в воскресение Господне безопасно созерцает «Пасху» Господню, т. е. прохождение Господа, и «задняя» Его, т. е. Его плоть. Господь говорит: «Стань на этой скале, когда будет проходит слава Моя». И действительно, сразу же после того, как прошла слава Господня, в которой Он, поднимаясь, вознесся к Отцу, мы укрепились на камне (petram). И сам Петр укрепился так, что уверенно проповедовал Того, Кого прежде, чем он укрепился, трижды предал от страха. С другой стороны, будучи поставленным предопределением на смотровую башню из камня, он был все еще прикрываем рукою Господа, дабы Петр Его не увидел. Ибо он должен был увидеть «задняя» Его, а Господь еще не прошел от смерти к жизни, т. е. Он еще не был прославлен Своим Воскресением.
31. Что же касается того текста из книги «Исхода» «Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею», то многие израильтяне, олицетворением которых тогда был Моисей, уверовали в Господа после Его воскресения, как будто Господь убрал Свою руку с их глаз и они увидели «задняя» Его. И поэтому евангелист вспоминает пророчество Исайи: «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули» (Мф. 13:15). Допустимо предположить, что к ним также относится и то, что сказано в псалме: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя» (Пс. 31:4). «День», возможно, означает явные чудеса, которые Он совершал, но так и не был ими узнан; «ночь» — Его смертные страсти, в течение которых они с большей уверенностью стали полагать, что Он был умерщвлен и уничтожен как обыкновенный человек. Но когда «прошла» Его слава, они увидели Его «задняя». И так как апостол Петр сообщил им о том, что Христос должен пострадать и воскреснуть, они ощутили горечь раскаяния от того, что это может произойти среди крещеных, о чем говорится в начале того же псалма: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!» (Пс. 31:1). Поэтому–то и было сказано: «Тяготела надо мною рука Твоя». Здесь как бы имеется в виду, что когда слава Господня прошла, Он убрал Свою руку, и они увидели «задняя» Его. За тем же следует голос скорбящего и исповедующего, который получает отпущение грехов благодаря вере в воскресение Господне: «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего»» (Пс. 31:4–5). Но нам не следует столь обволакиваться облаком плоти, чтобы считать, что лицо Господа невидимо тогда, как Его «задняя» можно видеть, ибо в образе раба зримо явлены и одно, и другое. Да не помыслим мы чего–либо подобного в образе Божием; да не помыслим мы так, будто Слово Божие или Премудрость Божия с одной стороны имеет лицо, а с другой — спину, подобно телу человеческому, или что они вообще изменяемы какими–либо явлениями или движениями в пространстве или времени.
32. Вот почему, если в тех словах, которые произносились в книге «Исхода», и во всех тех телесных проявлениях обнаруживался Иисус Христос или если в одних случаях обнаруживался Христос, как убеждает нас в этом рассмотрение данного текста, а в других — Святой Дух, как это указывается в том, о чем мы говорили выше, то все же из этого не следует, что Бог Отец никогда не являлся отцам в каком–либо подобном образе. Ибо в те времена видели много подобных явлений, не имеющих, впрочем, явного названия или обозначения, по которому можно было бы сказать, относятся ли они к Отцу или Сыну, или Святому Духу. Однако с учетом иных признаков, имеющих вполне определенное значение, было бы слишком поспешным заключать, что Бог Отец никогда не являлся отцам или пророкам посредством каких–либо видимых образов. Подобный взгляд [на этот вопрос] был порожден теми, кто не мог понять в отношении единства Троицы следующее: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу» и «Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 1:17; 4:16). Эти тексты понимаются здравой верой как относящиеся к самой вышней сущности, в высшей степени Божественной и неизменчивой, в Которой и Отец, и Сын, и Святой Дух — единый и единственный Бог. Те же видения, созданные посредством изменчивой твари, подчиненной неизменяемому Богу, являли Бога не так, как Он есть, а лишь так, как следовало в данных обстоятельствах.
33. Я действительно не знаю, каким образом те люди понимают явление Даниилу Ветхого днями, от Которого, как считается, Сын Человеческий, соблаговоливший быть ради нас, получил [в наследование] царство, от Того, Который говорит Ему в псалме: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе» (Пс. 2:7–8); от Того, Который «все положил под ноги Его» (Пс. 8:7). Следовательно, если Даниилу являлись в телесном образе Отец, дающий царство, и Сын, его наследующий, как могут те люди считать, что пророкам никогда не было видения Отца, и что поэтому о Нем следует думать как о единственно невидимом, как о Том, Которого никто из человеков не видел и видеть не может? Ибо вот что нам рассказал Даниил: «Видел я наконец, — говорит он, — что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на нем было, как снег, и волосы главы его — как чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы там предстояли пред Ним; судьи сели и раскрыли книги». Чуть далее он продолжает: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его–владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7:9–10, 13–14). Итак, вот Отец дающий и Сын наследующий непреходящее царство, и Их обоих в зримом образе видел пророк. Следовательно, вполне справедливо полагать, что Бог Отец также обычно являлся смертным таким образом.
34. Возможно, правда, кто–то скажет, что Отец потому невидим, что Он явился [Даниилу] во сне, а Сын и Святой Дух видимы, так как Моисей видел явления во время бодрствования. Как будто Моисей видел Слово и Мудрость Божию плотскими очами, или как будто можно увидеть дух человеческий, который животворит эту плоть или же такую телесную вещь, которая называется ветром! Насколько же менее возможно увидеть Дух Божий, Который невыразимым совершенством Божественной сущности превосходит все умы человеческие и ангельские! Или же кто–то настолько заблуждается, что осмеливается утверждать, будто Сын и Дух Святой могут являться даже бодрствующим людям тогда, как Отец — только спящим? Каким же образом они тогда понимают следующее как сказанное только об Отце: «Которого никто из человеков не видел и видеть не может»? Или, может, когда люди спят, они уже и не люди? Или же Тот, Кто может создать подобие тела для того, чтобы обозначить Себя через видение спящих, не может создать тварное телесное подобие, чтобы явить Себя глазам бодрствующих? Но ведь сама сущность Его, по которой Он есть то, что Он есть, не может быть явлена каким–либо телесным подобием спящему или каким–либо телесным образом бодрствующему. И это относится не только к Отцу, но и к Сыну, и к Святому Духу. Однако что же еще могут сказать те, кто в отношении видений бодрствующих считает, что не Отец, а только Сын или Святой Дух являлся телесным взорам людей (при этом мы опускаем всю обширность священных страниц и разносторонность их толкования), исходя из чего никто, будучи в здравом уме, не стал бы утверждать, что Лицо Отца никогда не являлось в каком–либо телесном образе глазам бодрствующего); так вот, что же еще могут сказать они об отце нашем Аврааме, который, конечно же, бодрствовал, прислуживая, когда Писание уже предпослало, говоря: «И явился Господь Аврааму»? И не один, не два, но трое мужей явились ему. И сказано, что ни один из них по отношению к другим не выделялся большим преимуществом, не отличался большей славою, не действовал с большей властью.
35. В тройственности нашего подразделения мы сначала решили выяснить, являлся ли отцам посредством тварных образов Отец или же Сын, или же Святой Дух; или иногда Отец, иногда Сын, иногда Дух Святой; или же без какого–либо различения Лиц, как говорится, единый и единственный Бог, т. е. Сама Троица. Когда же мы изучили, насколько казалось достаточным, места из Святого Писания, какие смогли, [то выяснилось, что] рассудительное и осмотрительное исследование Божественных тайн, по моему мнению, не приводит нас к определенному суждению о том, какое именно Лицо Троицы явилось тому или иному отцу или пророку в каком–либо теле или подобии тела (если только мы не спешим с утверждением или если само содержание текста не предоставляет какие–нибудь внушающие доверие доказательства). Ибо саму природу или субстанцию, или сущность, или каким бы другим именем не называлось то, что есть Бог, нельзя увидеть телесным образом. Поэтому следует считать, что посредством подвластного [Богу] творения не только Сын или Святой Дух, но и Отец мог дать смертным чувствам знак о Себе телесным образом или подобием. А поскольку дело обстоит так, что вторая книга не может безмерно длиться, то давайте рассмотрим то, что остается, в последующих [книгах].
КНИГА 3
(В ней трактуется о явлениях Божества, о каковых говорилось в предыдущей книге: создавал ли Бог телесные образы для того, чтобы явиться людям, или же это были ангелы, посылаемые от лица Бога, в то время, как сущность Божия сама по себе оставалась невидимой)
1. Пусть тот, кто пожелает, поверит, что я предпочитаю трудиться, читая, нежели диктуя то, что бы читали [другие]. Те же, кто не желает верить этому, будучи при этом способными и желающими попытаться [сделать то, что делаю я], пусть, когда я буду читать их, снабдят меня ответами, на мои ли изыски или же на вопросы других, каковые мне приходится выслушивать по причине той роли, которую я играю в служении Христу, и по причине того пылающего во мне стремления ограждать веру нашу от ошибок людей плотских и уподобившихся животным; и пусть они увидят, с какой легкостью я удержусь от этого труда и даже с какой радостью я устрою отдых своему перу. Но что если то, что бы мы прочли об этих вещах, или не достаточно изложено, или не обнаруживается, или едва может быть обнаружено нами на латыни ([притом что] греческий язык нам не настолько знаком, чтобы мы оказались каким–либо образом способными читать и понимать книги о подобных вещах)? Между тем, в такого рода сочинениях (судя по тому малому, что из них было переведено), без сомнения, содержится много полезного для нашего исследования. Я же не могу противиться своим братьям в том их праве, что я их слуга, когда они настоятельно требуют, чтобы я в особенности прислуживал им в их похвальном ученичестве Христу как словом, так и пером, запряжной парой которых управляет во мне любовь. И я должен признаться, что пока я писал, сам узнал многое из того, что не ведал. Следовательно, этот мой труд не должен показаться излишним ни ленивому, ни ученому, ибо он необходим и многим усердным, и многим неучам, а также и мне самому. Таким образом, получая огромную помощь и содействие от книг, написанных другими об этих предметах, которые мы уже прочли, я предпринял попытку исследовать и рассуждать о том, что, как мне кажется, может быть благочестиво исследовано и обсуждено касательно Троицы, едином, вышнем и преблагом Боге, при условии, что Он Сам будет поощрять меня в исследовании и способствовать в рассуждении затем, чтобы было [написано] сочинение такого рода, если нет других, дабы те, кто желает и может, читали; если же нечто такое уже существует, то будет тем легче отыскать что–либо подобного рода, чем больше об этом написано.
2. На самом деле, для всего, что я пишу, мне бы хотелось иметь не только доброжелательного читателя, но также и свободного критика, в особенности здесь, где само величие предмета исследования требует, чтобы у него было столь же много исследователей, сколь и тех, кто им возражает. Однако, как я не хочу, чтобы у меня был пристрастный [в пользу меня] читатель, так же не хочу я, чтобы был предвзятый [в свою пользу] критик. И да не любит меня первый больше кафолической веры, и да не любит себя второй больше кафолической истины. Первому я говорю: «Не покоряйся написанному мною, как если бы каноническому писанию, но если в нем ты обнаружил что–то новое, чего ты раньше не знал, сразу же держись этого; что же касается моих трудов, то не принимай наверняка то, о чем ты не был осведомлен ранее, если ты только не понял все как следует». Другому же я скажу: «Не критикуй мою работу, исходя из своего собственного мнения или пристрастности, но из Божественного Писания или незыблемого разума. Если же ты обнаружишь истинное в написанном мною, то оно не есть мое от того, что оно у меня; но, будучи любимым и понимаемым, да пребудет оно и твоим, и моим. Если же ты изобличишь ложное, то хотя совершение ошибки и было моим, однако будучи предотвращенным, да не будет оно ни твоим, ни моим».
3. Итак, эта третья книга берет свое начало оттуда, докуда дошла книга вторая. Так как мы добрались до того, что хотели показать, что Сын не меньше Отца ни потому, что Отец посылает, ни потому, что Сын послан, а также то, что Дух Святой не меньше Их обоих, потому что мы читаем в Евангелии, что Он посылается и от одного, и от другого, мы предприняли попытку исследовать, послан ли Сын туда, где Он [раньше] был, ибо Он приходит в этот мир и в этом мире был, и также послан ли Дух Святой туда, где Он [раньше] был, поскольку Дух Господа «наполняет вселенную, и, как всеобъемлющий, знает всякое слово» (Прем. 1:7); послан ли Господь потому, что Он из сокровенного был рожден во плоти и явился, как бы выйдя из лона Отца пред человеческие очи в образе раба; и был ли Святой Дух также послан потому, что был виден в самом телесном образе голубя и разделяющихся огненных языков; так, что когда о Них высказывается определение «быть посланным», оно означает исходить ко взору смертных в каком–либо телесном образе из духовной потаенности; и что Отец называется пославшим, но не посланным, поскольку Он этого не делал. Далее спрашивается, почему Отец никогда не называется посланным, хотя Он Сам Себя показывал посредством тех телесных образов, которые являлись глазам древних. И если Сын показывался и в то время, то почему Он называется посланным гораздо позднее, т. е. когда пришла полнота времени, и Он родился от жены, хотя Он и раньше посылался, поскольку являлся в тех телесных образах? И если о Нем неверно говорить как о посланном за исключением того, когда Слово стало плотью, то почему мы читаем о Духе Святом как о посланном, хотя Он никогда не воплощался. Но если на самом деле посредством этих древних видений являлся не Отец и не Сын, но Святой Дух, то почему Он называется посланным теперь, хотя этим [зримым] способом Он посылался [гораздо] раньше? Далее мы провели подразделение так, чтобы изучить предмет тщательнейшим образом. В нашем исследовании получилось три части, одну из которых мы рассмотрели во второй книге, а две оставшиеся я начну рассматривать одну за другой. Мы ведь уже изучили и определили, что в этих древних телесных образах и видениях являлся не только Отец и не только Сын, и не только Святой Дух, но неразличимым образом Господь Бог, Который понимается как Сама Троица, какое бы Лицо Троицы ни обозначало посредством обстоящих знаков библейское повествование.
4. Итак, теперь мы будем исследовать сначала то, что следует [непосредственно из предыдущего]. Во второй части проведенного подразделения излагается, было ли творение создано только так, чтобы в нем Бог, насколько Он счел бы это наиболее подходящим, мог являться человеческим взорам; или же ангелы, которые уже существовали, посылались таким образом, чтобы говорить от Лица Бога, принимая телесный образ от телесного творения для выполнения своей задачи; или же изменяя и превращая само свое тело, которому они не подвластны, но [напротив] над которым они властвуют, в любые подходящие и удобные для их действий образы, какие бы они ни пожелали, в соответствии со способностью, данной им от Творца. После же изучения этой части предмета исследования (насколько позволит Господь [нам это сделать]) мы должны обратиться к тому, что мы [также] решили рассмотреть, [т. е.] посылался ли прежде Сын и Святой Дух, и если да, то в чем разница между прежним их посланием [в Ветхом Завете] и тем, о котором мы читаем в Евангелии; или же никто из них не посылался прежде того, как Сын был рожден от Марии Девы, а Святой Дух явился в видимом образе (голубя или огненных языков).
5. Однако я признаюсь, что за рамки моих намерений выходит [задача исследовать], воспринимают ли [что–либо] ангелы, сокровенно действуя посредством духовной природы, пребывающей в их телах, от низших более телесных стихий, которых они, приспособив к себе, изменяют и превращают как какую–то одежду в какой бы то ни было телесный вид, причем сами эти виды такие же настоящие, какой настоящей, например, была вода, которую Господь превратил в вино; или же они преобразуют свои собственные тела подходящим для их действия образом в то, во что они пожелают. Впрочем, что бы то ни было, оно не относится к рассматриваемому вопросу. И хотя я, будучи человеком, не могу ни в каком опыте постигнуть эти предметы так, как это делают ангелы; и [хотя] они знают [их] больше, чем я, поскольку мое тело изменяется под воздействием моей воли, что я испытываю или в себе или в других; все же, нет нужды говорить, какому из этих вариантов я поверю, исходя из авторитета Святого Писания, чтобы меня не принудили доказывать его [истинность], и чтобы мое рассуждение не стало гораздо пространнее, в чем совсем не нуждается настоящее рассмотрение.
6. Здесь, таким образом, нам надлежит рассмотреть, действовали ли тогда ангелы, являя те образы тел глазам людей и возвещая слова их ушам, когда само чувственное творение, служа Творцу по Его мановению, превращалось в то, что было нужно по обстоятельствам, как это написано в книге Премудрости: «Ибо Тварь, служа Тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим в Тебя. Посему и тогда она, изменяясь во все, повиновалась Твоей благодати, питающей всех по желанию нуждающихся» (Прем. 16:25–26). Ибо мощь Божественной воли простирается через духовную природу до видимых и [вообще] чувственных действий природы телесной. Ибо где же не свершается то, чего желает Премудрость всемогущего Бога, Которая «быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу» (Прем. 8:1)?!
7. Существует определенный естественный порядок в превращении и изменении тел, который, хотя и является слугой Божественных распоряжений, все же вследствие своей постоянной обыденности уже перестал быть предметом удивления, подобно тем вещам, которые изменяются в кратчайшие или уж точно не долгие промежутки времени на небе, земле и море, возникают ли они или исчезают, или же появляются время от времени. Есть, однако, и другие вещи, которые, хотя и возникают из того же самого порядка, [все же] менее обычны вследствие [того, что они изменятся в] более долгие промежутки времени. Хоть они многих и поражают, они [вполне] постигаются теми, кто исследует этот мир, и с продвижением поколений становятся тем менее удивительными, чем чаще они повторяются и познаются большим числом [людей]. Таковы затмения луны и солнца и некоторые изредка возникающие виды звезд, землетрясения, уродливые порождения живых существ и некоторые другие подобные вещи, из которых не возникло бы ни одной, не будь на то воли Божией, хотя большинству это и не очевидно. Оттого тщеславие философов находило этому другие причины. Они, быть может, и верные, однако [наиболее] поверхностные, поскольку [эти философы] не способны увидеть Причину, превосходящую все остальные, т. е. волю Божию. [Другие же причины] ложные, [ибо] выведены не из [какого–нибудь] исследования телесных вещей и движений, а из своих догадок и ошибок.
8. Чтобы [мое изложение] было более ясным, я, как смогу, попытаюсь привести пример. В человеческом теле есть, конечно же, некоторый остов плоти, и внешний вид, а также упорядоченность и различенность членов и надлежащее состояние здоровья. Но этим телом правит вдохновленная в него душа, которая разумна. И эта самая душа, хотя она и изменчива, все же может быть причастницей той неизменной Премудрости так, что ее причастие в ней самой, подобно тому, как сказано в псалме о всех святых, из которых словно как из живых камней возводится тот Иерусалим, который есть Матерь наша предвечная на небесах. Ибо поется так: «Иерусалим, устроенный как город, чье причастие в нем самом» (Пс. 121:3). Выражение «в нем самом» здесь, конечно же, означает «в том высшем и неизменном Благе, Которое есть Бог, Его Премудрость и Воля». Ему же поется и в другом месте: «Ты переменишь их, — и изменятся, но Ты — тот же» (Пс. 101:27–28).
Давайте условимся [к примеру] о таком мудром [человеке], чья разумная душа уже является причастницей неизменной и предвечной истины Он совещается со своей душой по поводу всех своих действий и совсем не делает ничего такого, чего бы он не знал, что следует делать в соответствии с ней затем, чтобы посредством подчинения и повиновения ей поступать правильно. [Теперь представим], что этот человек по совету высшего разума Божественного благочестия, который он слышит тайным сердечным слухом, и по его же приказу истязает свое тело трудом на какой–либо службе милосердия и навлекает на себя болезнь. При этом, по мнению [двух] врачей, считается, что причина болезни вызвана или преизбыточной сухостью тела, как утверждает один, или [напротив] неумеренной влажностью, как утверждает другой. Один из них называет верную причину, другой ошибается. Однако и тот, и другой говорит о ближайших, т. е. телесных, причинах. Но если бы мы [глубже] исследовали причину той сухости и обнаружили, что это — добровольный труд, то мы бы добрались до более существенной причины, которая проистекает из души и воздействует на тело, которым управляет. Но и это не было бы первой причиной. Последняя же, несомненно, была бы существеннее и [заключалась бы] в Самой неизменной Премудрости, ради Которой душа мудрого человека, по любви служа [Ей] и подчиняясь [Ее] неизреченным приказаниям, предприняла добровольный труд. Итак, воистину, ничто, кроме воли Божией, не могло бы считаться первопричиной той болезни. [Теперь же представим], что к труду ревностному и благочестивому этот мудрый человек привлек помощников, соработающих с ним в благом деле, которые, однако, служили Богу не с тем же желанием, но жаждали получить награды своим плотским страстям или избежать чувственных неприятностей. [Представим что] он даже привлек вьючных животных, если исполнение этих трудов требует такого попечения. Как бы то ни было, эти [вьючные животные] являются существами неразумными, и под своими вьюками они двигали бы своими членами не потому, что что–то думали об этом благом деле, но по причине склонности к удовольствию или во избежание неприятных ощущений. В конце концов [представим, что] он привлек даже телесные предметы, лишенные каких–либо чувств, которые необходимы для этих трудов, будь то хлеб, вино, масло, одежда, деньги, книга и что бы то ни было подобного рода. И, конечно же, во всех этих занятых в данном деле телесных предметах, одушевленных или неодушевленных, какие бы [из них] ни двигались, исчезали, возобновлялись, уничтожались и как бы они ни изменялись под влиянием пространства и времени, — какой же еще могла бы быть причина всех этих видимых и изменчивых созданий, как не невидимой и неизменной волей Божией, которая посредством праведной души как обиталища Премудрости пользуется ими всеми, [т. е.] и дурными и неразумными душами и, наконец, телами, будь они те, что вдохновлены и одушевлены или же те, что совершенно лишены чувств, ведь прежде, чем использовать их, сама благая и святая душа подчинила себя благочестивому и религиозному послушанию?
9. То, что мы, ради примера, излагали в отношении одного мудрого человека, хотя все еще имеющего смертное тело и не видящего всей полноты [истины], может быть также распространено и на какую–либо семью, в которой [обнаруживается] сообщество таких [людей], и на город, или даже на весь мир, если управление и руководство человеческими делами принадлежит мудрым людям, свято и совершенно преданным Богу. Но поскольку это пока не так (ибо мы в нашем странствии должны упражняться смертным образом и должны быть наставлены плетьми кротости и смирения), давайте задумаемся о том горнем и небесном Отечестве, откуда мы странствуем. Ведь там — воля Божия, что творит «ангелов своих духами, и служителей своих огнем пылающим» (Пс. 103:4), восседая среди духов, связанных совершенным миром и дружбой и слитых в единой воле своего рода духовным огнем любви, как будто в вышнем, святом и тайном обиталище, словно в своем собственном доме и храме. Оттуда растекается она совершенным образом упорядоченными движениями творения, сначала духовного, затем телесного, и пользуется в соответствии с неизменным благоусмотрением своего решения всеми ими, будь они вещи бестелесные или телесные, духи разумные или неразумные, будь они благи через ее благодать или же дурны из–за их собственного произвола. Но каким образом в [должном] порядке тела более грубые и низшие управляются посредством [тел] более тонких и высших, таким же образом все тела [управляются] духом жизни, дух неразумной жизни–духом жизни разумной, отступившийся и прегрешающий дух жизни разумной — духом разумной жизни благочестивым и праведным, последний же — Самим Богом, как и все сотворенное — его Творцом, от Кого, через Кого и в Ком оно создано и устроено. Таким образом, выходит, что воля Божия есть первая и высшая причина всех видов и движений. Следовательно, в этом неохватном и безмерном общем целого творения что–либо может произойти видимым и [вообще] чувственным образом, только если получено такое приказание или разрешение из невидимого и умопостигаемого тайного дворца высшего Повелителя в соответствии с неизреченной справедливостью поощрений и наказаний, милостей и воздаяний.
10. Поэтому, если апостол Павел, хотя он все еще нес на себе груз [своего] тела, которое растлевает и отягощает душу, и хотя он все еще не видел всей полноты [истины] и [не достиг] ясности, желая освободиться и быть с Христом, и стеная, «ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23), мог, тем не менее, проповедовать Господа Иисуса Христа или своими речами, или же своими посланиями, или же через причастие Его телу и крови (ведь мы, конечно же, не считаем плотью и кровью Христа ни язык, ни пергамент, ни чернила, ни значащие звуки, произносимые языком, ни буквенные знаки, начертанные на [писчей] коже, но только то, что мы потребляем от принятия земных плодов и по освящении в религиозном таинстве для нашего духовного спасения в память о страданиях за нас нашего Господа; и что, хотя и приводится человеческими руками к тому видимому образу, не может освятиться так, чтобы стать великим таинством, если невидимым образом не содействует Святой Дух, так как все, что происходит в этом деле посредством телесных движений производит Бог, приводящий в движение сначала невидимый [мир] своих служителей или души человеческие, или же рабов тайных духов, подвластных Ему); что же удивительного, если также и в творении неба и земли, моря и воздуха, Бог творит видимые и невидимые [предметы], какие желает, чтобы обозначить и явить Самого Себя в них так, как Он считает это нужным, притом не являя самой сущности Его, посредством которой Он есть и которая совершенно неизменна и [несравнимо] более глубока, более сокровенна и более возвышенна, нежели все те Духи, которые Он сотворил.
11. Итак, этой Божественной силой, управляющей всем творением, духовным и телесным, каждый год в определенные дни воды моря вздымаются и проливаются [вниз] на поверхность земли. Но когда это произошло по молитве святого Илии, [который молился] потому, что этому предшествовала настолько продолжительная засуха, что люди стали голодать, и потому, что в тот самый час, когда этот раб Божий молился, сам воздух какой–нибудь внешней приметой влаги не проявлял никаких знаков приближающегося дождя, Божественная мощь проявилась в последовавшем сильном и быстром проливном дожде, посредством чего и было явлено чудо. Так же обычно Бог производит молнии и гром. Но так как на горе Синай они происходили необычным образом, и те звуки были произнесены не как бессвязный шум, но так, что было ясно по вернейшим указаниям, что даются определенные знаки, то и это было чудом. И кто же подтягивает влагу через корень виноградной лозы к самой грозди и делает вино, как не Бог, Который дает [растению] рост, хотя человек его сажает и поливает. Но когда по мановению Господа вода невиданно быстро превратилась в вино, даже глупец признался бы, что здесь была явлена Божественная сила. И кто же обычно одевает деревья в листву и цвет, как не Бог? Однако, когда зацвел жезл первосвященника Аарона, не Божественность ли говорила с сомневающимся человечеством? И, конечно же, земля служит материалом для рождения и образования как всякой древесной породы, так и плоти всяческих животных. Но кто же это делает, как не Тот, Кто сказал, чтобы земля произвела все это; Тот, Кто Своим Словом руководит и направляет тем, что сотворил? Однако, когда Он в одно мгновение превратил [бесчувственный] материал жезла. Моисея в [живую] плоть змеи, произошло чудо, [ибо хотя] эта вещь и была изменчивой, само изменение было невиданным. Но кто же дает жизнь всякому живому при рождении, как не Тот, Кто дал жизнь и этой змее в час, когда это было нужно.
И кто же вернул мертвым телам их души, когда они воскресли, как не Тот, Кто одушевляет плоть в материнской утробе, чтобы родились те, кому предстоит умереть? Когда такие вещи происходят так, что они подобны непрерывному потоку вещей, вечно текущих и переходящих обычным порядком из сокровенного к очевидному и от очевидного в сокровенное, они называются естественными. Когда же они для увещевания людей преподносятся посредством невиданного изменения, то называются чудесами.
12. Здесь я вижу, что может произойти с человеком шаткого ума, [который может задать вопрос,] почему подобные чудеса производились также посредством чар. Так ведь и волхвы фараона подобным образом сотворили змей и кое–что другое. Но тогда тем боле следует удивиться тому, каким же образом та сила волхвов, которая могла создать змей, когда она дошла до мельчайших мух, совсем пропала. Ведь мошки, являясь мельчайшими мухами, [все же] стали третьей напастью, которая поразила жестоковыйный народ Египта. И тогда, не сумев с ними справиться, волхвы сказали: «Это перст Божий» (Исх. 8:19). Отсюда нам дано понять, что даже преступившие ангелы и силы воздуха, которые были низвержены из их [прежнего] обиталища в возвышенной эфирной чистоте в глубокий мрак как своего рода темницу и посредством которых волхвование способно на то, на что способны они, не могут ничего, если это не дано силою свыше. Эта сила дается или для того, чтобы обмануть обманщиков, как это было с египтянами и с самими волхвами затем, чтобы в прельщении этими духами все это казалось удивительным тем, кто это совершил, и затем, чтобы истина Божия осудила их; или для того, чтобы наставить правоверных, дабы они не возжелали сотворить что–либо как бы великое (ради чего все это и было показано нам посредством авторитета Святого Писания); или же для того, чтобы испытать, доказать и выявить смирение праведных. Ведь не по причине же малой силы видимых чудес Иов потерял все, что имел: и своих сыновей, и свое телесное здоровье.
13. Поэтому следует считать, что все эти видимые вещи служат не преступившим ангелам, но Богу, от Которого дается столько этой силы, сколько Он сочтет [необходимым] в Своем горнем и духовном неизменном обиталище. Ведь и вода, огонь и земля служат даже осужденным к работе в рудниках затем, чтобы они могли делать с ними то, что хотят, но лишь настолько, насколько им это позволено. И, конечно же, этих злых ангелов нельзя называть творцами по причине того, что с их помощью волхвы, противостоя рабу Божиему, производили жаб и змей, ибо не они их сами сотворили. Но, воистину, определенные сокровенные семена всех вещей, которые рождаются телесным и видимым образом, скрываются в телесных стихиях мира. Одно дело семена, которые мы нашими глазами можем [непосредственно] видеть в плодах и живых существах; другое же дело сокровенные семена видимых семян, из которых по повелению Творца вода производит первых плавающих и летающих, а земля первые ростки и первых в своем роде животных. Ибо тогда [те семена] были внедрены в порождения подобного рода не так, что сила порождения исчерпалась в этих порождениях; просто часто нет подходящих случаев надлежащих соотношений, посредством которых они бы изошли и исполнили бы свои виды. Ведь, вот же, и мельчайший побег есть семя, ибо если его верно посадить, то из него получится дерево. От этого побега происходит более тонкое семя в каком–нибудь зерне того же вида, и оно даже нами видимо. От этого же зерна есть также семя, которое, правда, мы не можем видеть глазами, однако мы можем предположить о нем, исходя из нашего разума, ибо если бы не было такой силы в природных стихиях, не часто бы рождалось от земли то, что не было туда посеяно, и без предшествующего смешения мужского и женского не было бы столько животных на земле или в воде, которые растут и, скрещиваясь, порождают других, тогда как первые появились без какого–либо соития родителей. И пчелы, конечно же, зачинают без соития семена своего потомства, как бы рассеянные по земле, которые они собирают ртом. Творец же этих невидимых семян есть Сам Творец всех вещей, поскольку что бы ни являлось нашим глазам через рождение, все имеет начало своего развития в сокровенных семенах и от них, словно как от исходных правил, получает прирост должной величины и различие в облике. Итак, поскольку мы не называем родителей творцами человеков, земледельцев — творцами плодов, хотя для сотворения этого сила Божия, действующая изнутри, внешним образом использует их действия, постольку же нельзя считать творцами не только злых, но и благих ангелов, когда благодаря тонкости их чувств и тел они используют знание тех семян вещей, которые для нас сокровенны, и тайно рассеивают их в подходящих соотношениях стихий и таким образом предоставляют возможности для порождения вещей и ускорения их роста. Но ни благие ангелы не совершают благого, если только им не прикажет Бог; ни злые ангелы не совершают злого, если Он им не попускает. Ибо [хотя] у неправедных из–за их лукавства недобрая воля, однако же, силу они получают праведную, [будь она] для своего собственного наказания, или же для наказания других, или же для прославления благих.
14. Поэтому и апостол, отличая внутреннее творение и образование Бога от действий твари, прилагающихся извне, проводит аналогию с земледелием: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор. 3:6). Поэтому как в самой нашей жизни никто, кроме Бога, не может оправдать ум, хотя люди также внешним образом могут проповедовать Евангелие, и не только благие [которые делают это] с искренностью, но и лукавые — при [выгодном для них] обстоятельстве, так и в творении видимых вещей Бог действует изнутри, внешние же действия, [совершаемые] посредством благих или злых, ангелов или людей или даже какого–либо вида животных, в соответствии с Его повелением и разделением прав, Им проведенным, и стремлением к соразмерности, прилагаются Им так к природе вещей, в которой Он все творит, как к земле — земледелие. Вот почему я так же не могу сказать, что злые ангелы, вызванные чарами, были творцами жаб и змей, как не могу я сказать, что злые люди являются творцами плодов, которые, как я увидел бы, взросли посредством их действий.
15. Также и Иаков не был творцом пестроты у скота от того, что он клал прутья разного цвета разным маткам, чтобы, когда они приходили пить, смотрели на них и зачинали. Но также и сам скот не был творцом различия своего потомства от того, что пестрый образ, запечатленный посредством его глаз от вида разного цвета прутьев, прикрепился к его душе, но мог воздействовать на тело, которое было одушевлено духом, на который производится воздействие лишь через сочувствие к этому смешению, настолько, чтобы отметить пестротою потомство первой поры. Ибо то, что они воздействуют сами на себя — тело ли на душу или же душа на тело — объясняется разумными причинами, неизменно пребывающими в Самой высшей Премудрости Божией, Которая не занимает никакого пространства и Которая Сама, будучи неизменной, не оставляет ничего из даже того, что существует изменчивым образом, поскольку все из того сотворено посредством Ее Самой. Ибо то, что от скота рождаются не прутья, а скот же, содеял неизменный и невидимый разум Премудрости Божией, через Которую сотворено все. То же, что от различия прутьев происходит какая–то пестрота, содеяла душа беременного скота, на которую было оказано воздействие извне через глаза и которая, извлекая изнутри в соответствии со своей собственной мерой правило образования, получила его от глубинной силы Самого Творца. Но какой же силой может быть душа, воздействующая на телесный материал и изменяющая его (хотя, впрочем, ее нельзя было бы назвать создательницей тела, поскольку любая причина изменчивой и чувственной сущности, и вся ее мера, число и вес, посредством чего образовывается и бытие ее как таковое, и бытие ее как такой–то и такой–то природы, возникает из умопостигаемой и неизменной жизни, которая надо всем, но которая достигает [самого] удаленного и земного), говорить слишком долго и не необходимо сейчас. Вследствие этого, я посчитал, что деяние Иакова в отношении скота примечательно тем, что [его посредством] можно осознать, что если творцом пестроты ягнят и козлят нельзя назвать ни человека, который так положил прутья, ни сами души маток, которые сделали пестрыми семена, зачатые во плоти от образа пестроты, воспринятого посредством телесных глаз; то тем более нельзя сказать, что творцами жаб и змей были злые ангелы, посредством которых волхвы фараона их создали.
16. Ибо одно дело устраивать и направлять творение из глубочайшего и высшего средоточия причин, что делает только Тот, Кто есть Бог Творец; и другое дело прилагать какое–либо действие извне в соответствии с дарованными Им силами и способностями, чтобы то, что Им творится, возникло тогда–то или тогда–то, так или сяк. Ибо все эти вещи исходным и изначальным образом уже были сотворены в некоторого рода соединении стихий; хотя они возникают лишь тогда, когда получают такую возможность. Ведь как матери беременеют потомством, так сам мир пребывает беременным причинами рождающихся вещей, которые рождаются в нем только от той высшей сущности, в которой ничего не возникает и не умирает, не начинает быть и не прекращает. Прилагать же извне случайные причины, которые, хотя и не являются естественными, все же прилагаются в соответствии с природой, чтобы те вещи, которые содержатся и скрыты в тайном лоне природы, вырвались наружу некоторым образом и родились вовне, выявляя свою меру, число и вес, сокровенно принятые от Того, Кто «все расположил мерою, числом и весом» (Прем. 11:21), могут не только злые ангелы, но и дурные люди, как я показал это выше, приведя в пример земледелие.
17. Чтобы по поводу животных не возникало затруднения в отношении того, что их жизненный дух связан с чувством желать того, что соответствует природе, и избегать того, что ей противно, следует вспомнить, как много людей знают из каких трав или [видов] плоти, или из каких бы то ни было соков и жидкостей, так–то и так–то помещенных или засыпанных, истолченных или смешанных, обычно рождаются животные. Но кто же из них столь безумен, что осмелился бы считать себя творцом [животных]? Что, следовательно, удивительного в том, что как какой–нибудь никчемнейший человек может знать, откуда возникают такие–то и такие–то черви и мухи, так и злые ангелы благодаря тонкости своего восприятия могут знать, как из сокровенных семян стихий возникают жабы и змеи, и как посредством определенных и известных соотношений благоприятных обстоятельств, прилагая тайные движения, они делают так, что эти [животные] возникают, но [однако же] не творят их? Но то, что обычно делается людьми, у людей удивления не вызывает. Если же кто–нибудь удивится скорости возрастания, с которой так быстро были созданы те живые существа, то пусть он обратит внимание на то, как это же могло бы быть совершено людьми в соответствии с мерой человеческих способностей. Ибо почему те же самые тела быстрее становятся добычей червей летом, нежели зимой, и быстрее в более теплых, нежели холодных местах? Все то же делается и людьми, но только трудностей у них больше настолько, насколько им не хватает тонкости восприятия и подвижности тела в их земных медленных членах. Поэтому чем легче каким–либо ангелам извлечь непосредственные причины из стихий, тем боле удивительной является быстрота их действий подобного рода.
18. Но Творцом является только Тот, Кто изначально создавал эти вещи. И никто не может Им быть кроме Того, с Кем исходным образом пребывают мера, число и вес всего существующего; и Он есть Единый Бог Творец, Чьею неизреченной силой выходит так, что эти ангелы могут что–либо, [только] если им это позволено, и потому не могут того, что не позволено. И в голову не приходит никакой другой причины, почему они, создав жаб и змей, не могли создать маленьких мошек, как только той, что [в это мгновение] посредством Святого Духа присутствовало лишавшее их сил единовластие Божие, так что сами волхвы признались и сказали: «Это перст Божий» (Исх. 8:19). Но то, что они могут сделать по природе, но не могут вследствие лишенности сил, и то, что устройство самой их природы не позволяет сделать, человеку исследовать трудно и даже невозможно, кроме как с помощью того дара Божия, вспоминая который, апостол говорит «Иному различение духов» (1 Кор. 12:10). Ибо мы знаем, что человек может ходить, но не может, если бы ему не было позволено; однако он не может летать, даже если бы ему было позволено. Так же и те ангелы могут делать определенные вещи, если им позволяют более сильные ангелы по повелению Божиему, некоторые же вещи они не могут делать, даже если бы им было позволено высшими ангелами, потому что не позволяет Тот, от Кого они получили определенную меру [силы] природы, и [потому что] Он большей частью даже через своих ангелов не позволяет делать то, что они могли бы.
19. Итак, исключая то телесное, что происходит в порядке природы вещей наиболее обычным временным ходом (восход и заход небесных светил, рождение и смерть животных, неисчислимое многообразие семян и зародышей, туманы и облака, снег и дождь, молнии и громы, гроза и град, ветер и огонь, холод и жара, и т. п.), исключая также и то, что в этом же порядке является редким (затмение луны и солнца, необычные явления звезд, уроды, землетрясения, и т. п.), итак, исключая все это, [лишь одна остается всему этому] первейшая и высшая причина — воля Божия, отчего также и в псалме, когда упоминались некоторые явления того же рода — «огонь и град, снег и туман, бурный ветер» — чтобы никто не подумал, что они появились или случайно, или исключительно от телесных причин, или даже от духовных, но тех, что существуют помимо воли Божией, сразу добавлено: «Исполняющий слово Его» (Пс. 148:8).
Но, как я сказал, исключая все эти [явления], есть еще и другие, которые, будучи из того же самого телесного материала, приводятся все же для того, чтобы возвестить нашим чувствам о чем–то Божественном. [В этом случае] они собственно и называются чудесами и знамениями, хотя во всем, что нам возвещается Самим Господом Богом, Личность Бога не является Когда же Она является, то выражается или в ангеле, или в образе, который не есть ангел, но ангелом управляется и совершается. И опять–таки, когда Она является в том образе, который не есть ангел, то иногда это — тело, которое уже существовало и которое, будучи измененным, воспринимается для явления; иногда же это — тело, которое производится [именно] для этого, а когда явление совершено, вновь уничтожается. И также, когда люди возвещают, они иногда сами произносят слова Божий, предваряя их такими выражениями, как «И сказал господь» или «Так говорит Господь», или как–нибудь еще в таком же роде; но иногда без какого–либо предварительного выражения они говорят от имени Божиего, как то: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» (Пс. 31:8). Итак, не только в словах, но и в деяниях накладывается на пророка ознаменование Личности Божией, чтобы он выражал Ее в совершении пророчества, как, например, выражал Ее тот, кто разодрал свою одежду на двенадцать частей и отдал десять из них рабу царя Соломона, будущему царю Израиля. Иногда даже вещь, которая [конечно же] не есть пророк и уже существовала среди [других] земных вещей, принимается для подобного рода обозначения. [Именно] так, например, пробудившийся от увиденного сна Иаков поступил с камнем, который он подложил себе под голову. Иногда же вещь производится в том же самом виде или так, чтобы некоторое время длиться [в своем существовании], как тот медный змей [Моисея] или как буквы, или же так, чтобы исчезнуть после выполнения своего предназначения, подобно тому, как потребляется хлеб при получении причастия.
20. Но поскольку эти вещи, конечно же, известны людям, ибо они создаются людьми, они могут иметь некоторое религиозное значение, но они не удивляют как чудеса. Те вещи, которые создаются посредством ангелов, более удивительны для нас, ибо более трудны и неизвестны, но они являются более известными и легкими для самих ангелов, поскольку представляют собой их деяния. Так, ангел говорит человеку от Лица Бога: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3:6). А перед этим в Писании сказано: «И явился ему ангел Господен» (Исх. 3:2). И человек тоже говорит от Лица Бога: «Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль!» и «Я Господь Бог твой» (Пс. 80:9, 11). И жезл был взят [Моисеем], чтобы послужить в качестве знака, и был превращен в змею ангельской силой. И хотя такой силы у человека нет, все же камень также был взят человеком для подобного знака. Впрочем, существует большая разница между деянием ангела и деянием человека. Первое должно вызывать удивление и требовать понимания, второе же может требовать только понимания. То, что понимается посредством обоих, возможно, одно и то же; однако те вещи, из которых это понимается, различны так, как если бы имя Господа было написано золотом и чернилами. Первое драгоценно, второе малоценно. И все же то, что каждым из них обозначается, есть одно и то же. И хотя змея, возникшая из жезла Моисея, обозначала то же, что и камень Иакова, однако же камень Иакова обозначал нечто лучшее, нежели змеи волхвов. Ведь как помазание камня [обозначало] Христа во плоти, в которой Он помазан «елеем радости более соучастников» Его (Пс. 44:8), так и жезл Моисея, превратившийся в змею, обозначал самого Христа, подчинившегося смерти на кресте. Поэтому Он говорит: «и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:14–15); и также, глядя на эту змею, выставленную на знамя, люди не погибали от укусов змей в пустыне. Ибо «ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное» (Рим. 6:6). Ибо под змеей понимается смерть, которая была создана змеей в раю — оборот речи, выражающий причиненное через причиняющее. Итак, жезл [превратился] в змею, Христос — в смерть, а змея опять в жезл; Христос же весь со своим телом — в воскресение; тело же Христово — в Церковь; и это будет в конце веков, что обозначается хвостом змеи, который держал Моисей затем, чтобы она превратилась в жезл. И также змеи волхвов могут обозначать умерших в этом миру. Они не могут в нем восстать, если только не веровали во Христа и, будучи как бы проглоченными, не вошли в тело Его. Итак, камень Иакова, как я сказал, обозначал нечто лучшее, нежели змеи волхвов. Но ведь деяние волхвов было гораздо более чудесным. Это, однако, не может помешать постижению сути вещей более, чем то, что как если бы имя человека было написано золотом, а имя Божие — чернилами.
21. Но кто же из людей знает, каким образом ангелы создавали или принимали на себя эти облака и огонь, чтобы обозначить то, что они возвещали, если мы даже не знаем, являлся ли в этих телесных образах Господь или Святой Дух? Так же и дети не знают, ни того, что кладется на алтарь, ни того, что съедается во время святого причастия, ни того, откуда или как это производится, ни того, откуда это берется для религиозного употребления. Но если бы они никогда не знали посредством своего опыта или опыта других и никогда бы не видели того образа вещей, как только лишь во время святого причастия, когда оно предлагается, и если бы им это было сообщено наивесомейшим авторитетом, чей плотью и кровью это является, то они не поверили бы ничему другому кроме того, что Господь явился целиком глазам смертных в этом образе и что именно такая жидкость истекала из Его прободенного бока. Поэтому мне было бы полезно напомнить себе о своих собственных силах, а также посоветовать братьям, чтобы они напомнили себе о своих, дабы слабый человеческий ум не перешел границы безопасного размышления. Ибо каким образом эти вещи создаются ангелами, или, вернее, каким образом их создает Бог посредством ангелов, и насколько Он желает, чтобы их создавали злые ангелы, будь то по Его попущениию или приказанию или же принуждению, [исходящему] из тайного обиталища Его высочайшего повеления, ни проникновением с помощью чувственного зрения, ни с помощью объяснения с упованием на разум, ни постижением посредством продвижения ума я не способен познать так, чтобы ответить на все, что могут спросить об этих вещах, как если бы я был ангелом, пророком или апостолом. Ведь «помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах — кто исследовал?». И поскольку далее следует: «Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше Твоего Духа?» (Прем. 9:14–17); мы не станем исследовать то, что на небесах, [т. е.] к какому роду вещей относятся ангельские тела в соответствии с их положением и их телесные действия. Однако в соответствии с тем, что нам был ниспослан Дух Божий, и тем, что нашим умам была дарована милость Его, я осмеливаюсь сказать с уверенностью, что ни Бог Отец, ни Слово Его, ни Дух Его, Которые суть один Бог, посредством того, что есть Он Сам, ни коим образом не есть изменчивые, и поэтому тем более не есть видимые. Ведь существует то, что хотя и является изменчивым, однако же не является видимым, например наши мысли, память, воля, и все бестелесное творение; но нет ничего видимого, что бы не было также изменчивым.
По причине того, что субстанция или, если угодно, сущность Божия, в которой мы, в соответствии с нашей мерой, какой бы малой она ни была, мыслим Отца и Сына, и Святого Духа, ни коим образом не является изменчивой, она [также] ни коим образом не может быть видимой посредством себя самой.
22. Таким образом, ясно, что все то, что было явлено отцам, когда Бог по обстоятельствам представлялся им в соответствии со Своим замыслом, было создано посредством тварной природы. И если нам не ясно, каким образом Он создал все это посредством ангельского служения, то мы все же говорим, что это было создано посредством ангелов; [хотя мы говорим это] не по причине собственного усмотрения, дабы не показаться более мудрыми, нежели должно; между тем, мы думаем скромно, по мере веры, какую Бог уделил нам (Рим. 12:3); «и мы веруем, потому и говорим» (2 Кор. 4:13). Ибо авторитет принадлежит Святому Писанию, от которого наш ум не должен отклоняться, чтобы, оставив твердую почву Божественных изречений, не низвергнуться в пропасть догадок, где ни телесные чувства не направляют нас, ни ясный разум истины не светит нам. Ведь в Послании к евреям, когда излагалось отличие замысла Нового Завета от замысла Ветхого Завета в соответствии с согласованием веков и времен, яснейшим образом сказано, что не только те видимые вещи были созданы ангелами, но даже сами слова. Так апостол говорит: «Кому когда из Ангелов сказал Бог: сядь одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:13–14). Отсюда становится очевидным, что все эти вещи были не просто созданы ангелами, но созданы ради нас, т. е. ради народа Божиего, которому было обещано наследовать жизнь вечную. И также говорится в послании к коринфянам: «Все это происходило с ними как образы: а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11). Поэтому, показывая четко и надлежащим образом, что в те времена слова произносились ангелами, а теперь [Самим] Сыном, он говорит: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как же мы избежим, вознерадевши о толиком спасении?». И [затем], как если бы ты спросил «о каком спасении?», он, чтобы показать, что теперь говорится о Новом Завете, т. е. о словах, которые произносятся не ангелами, а Господом, продолжает: «которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле» (Евр. 2:1–3, 3–4).
23. Но тогда кто–нибудь может спросить, почему говорится «И сказал Господь Моисею», а не «И сказал ангел Моисею». [Отвечаем]: потому что когда глашатай сообщает слова судьи, то не записывается: «Этот глашатай сказал», но — «Этот судья сказал». И точно так же, когда говорит святой пророк, хотя мы и говорим «пророк сказал», мы ничего другого не хотим иметь в виду, как того, что сказал [Сам] Господь. А если бы сказали: «Господь сказал», [это не значило бы, что] мы забыли о пророке, но лишь то, что мы напоминаем о Том, Кто говорит его посредством. И действительно Писание часто выявляет то, что ангелом был Господь, сообщая о Котором Оно говорит: «Господь сказал», как это мы уже показали. Но из–за тех, кто желает (поскольку Писание в том месте упоминает ангела), чтобы Сам Сын узнавался через Самого Себя, ибо ангелом называет Его пророк, возвещая волю Отца и Свою [собственную], я поэтому и хотел дать более ясное свидетельство из этого Послания, где не сказано «через ангела», но «через ангелов».
24. Ведь и Стефан в Деяниях апостолов говорит об этих вещах таким же образом, каким они записаны в Ветхом Завете: «Мужи, братия и отцы! Послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии» (Деян. 7:2). Но чтобы никто не подумал, что Бог славы явился глазам смертных так, как Он есть в Самом Себе, он далее говорит, что Моисею явился ангел. «От сих слов Моисей, — продолжает он, — убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет, явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господен в пламени горящего тернового куста; Моисей, увидев, дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господен: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал Ему Господь: сними обувь с ног твоих» и т. д. (Деян. 7:29–33). Здесь, конечно же, говорит он и об ангеле, и о Господе, и о все Том же Боге Авраама, и Боге Исаака, и Боге Иакова, как написано в книге Бытия.
25. Или, быть может, есть кто–нибудь, кто скажет, что Моисею явился Господь посредством ангела, а Аврааму посредством Самого Себя? Но давайте не будем искать ответ на этот вопрос у Стефана, а будем исследовать ту самую книгу, откуда Стефан взял все это. Ведь неужели потому, что говорится: «И сказал Господь Аврааму» и немного позднее: «И Господь явился Аврааму», [нам следует считать, что] это было совершено не через ангелов? [И хотя] в другом месте говорится подобное же: «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой, во время зноя дневного»; все же далее сразу же добавляется: «Он возвел свои очи и взглянул, и вот, три мужа стоят против него» (Быт. 18:1–2), о которых мы уже говорили. Ибо как же смогут эти люди, которые либо не желают подниматься от слов к [их] смыслам, либо беспечно бросаются от смыслов к словам; [повторяю я], как же они смогут объяснить, что Бог явился в [образе] трех мужей, если только они не признают, что это были ангелы, как и показывает то, что следует [дальше в Писании]. Или потому, что [в определенном месте] не сказано: «Ангел ему сказал»; или «Ангел ему явился»; они осмелятся говорить, что видение и голос [представшие] Моисею были совершены посредством ангела, ибо так написано, а Аврааму, поскольку [в Писании] не было сделано упоминание об ангеле, явился и говорил Бог в Самой Своей сущности. И как же насчет того, что и в связи с Авраамом говорится об ангеле? Ведь когда его сын был затребован к жертве, мы читаем: «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе» (Быт. 22:1–2). Конечно же, здесь упомянут Бог, а не ангел. Но немного позднее в Писании говорится: «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господен воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего» (Быт. 22:10–11). Так что же они ответят на это? Или, может, они скажут, что Бог приказал заклать Исаака, а ангел запретил, и далее, что отец, противореча указанию Бога, приказавшего заклать, повиновался ангелу, требовавшему пощадить? Но такое предположение достойно лишь того, чтобы его осмеяли и отбросили. И для столь грубого и плоского толкования Писание не оставляет никакого места, когда вслед добавляет: «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, ради Меня» (Быт. 22:11). Но что же означает «ради Меня», как не «ради Того, Кто приказал заклать»? Следовательно, Бог Авраама есть то же, что и ангел, или все же Бог [явившийся] посредством ангела? Рассмотрим следующее. Здесь, конечно же, разговор яснейшим образом идет об ангеле: «И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится: на горе Господь усмотрится» (Быт. 22:13–14). Точно так же и то, что немного раньше говорит Бог через ангела: «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Это нужно понимать не так, что Бог [только] тогда узнал [об этом], но что он сделал так, что через Бога сам Авраам познал, что он имеет такую силу сердца в послушании «Богу, что готов пожертвовать единственным сыном. В соответствии с оборотом речи, выражающим причиненное через причиняющее (как, например, холод называется медленным, потому что он делает [нас] медлительными), говорится поэтому, что Бог узнал, так как Он сделал так, что Авраам сам узнал, ведь твердость его веры могла бы оставаться Аврааму неизвестной, если бы не такое испытание. Точно так же [выражение] «нарек Авраам имя месту тому: «Господь усмотрит» означает, что Он сделал Себя видимым. Ведь далее сразу же следует: «Посему и ныне говорится: на горе Господь усмотрится». Так вот, тот же ангел называется Господом. Почему же еще, если не потому, что Господь [говорил] через ангела? Далее же по тексту ангел говорит совершенно как пророк и раскрывает, что через него говорит Бог: «И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господен с неба и сказал: Мною, клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» и т. д. (Быт. 22:15–16). Конечно же, эти слова «Так сказал Господь», которые произнес бы тот, через кого говорит Господь, обычно употребляют пророки. Разве говорит Сын Божий об Отце: «Так сказал Господь», а сам и есть тот Ангел Отца? И неужели они не видят, как сильно они прижаты по поводу тех трех мужей, которые явились к Аврааму, ведь ранее было сказано: «И явился ему Господь»? Или, быть может, они не были ангелами, так как названы мужами? Пусть же тогда они прочтут у Даниила, который говорит об ангеле Гаврииле как о муже (Дан. 9:21).
26. Но отчего же мы медлим заткнуть рты тех людей другим очевиднейшим и наивесомейшим доказательством, в котором говорится не об ангеле в единственном числе и не о мужах во множественном, но вообще об ангелах, посредством которых очевиднейшим образом представлено не просто какое–то слово, но дан сам Закон, который (в чем никто из правоверных не сомневается) был, конечно же, дан Богом Моисею для управления народом Израиля, однако же дан через ангелов? Так Стефан говорит. «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами' Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили» (Деян. 7:51–53). Что есть более очевидного? Что сильнее такого авторитета? Закон, и вправду, был дан народу посредством служения ангелов, но пришествие Господа нашего Иисуса Христа посредством Закона было предопределено и предвещено, и Он Сам как Слово Божие чудесным и невыразимым образом присутствовал в ангелах, через служение которых был дан Закон. Поэтому Господь говорит в Евангелии: «Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне» (Ин. 5:46). Следовательно, тогда Господь говорил через ангелов; и через ангелов Сын Божий, Которому от семени Авраама предстояло стать Посредником между Богом и людьми, готовил Свое пришествие так, чтобы Он обрел тех, кто бы Его принял, тех кающихся, которых неисполненный Закон сделал грешниками. Поэтому апостол и говорит галатам: «Для чего же законе Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан чрез ангелов, рукою посредника» (Гал. 3:19). (То есть он был дан через ангелов Его рукою. Ибо Он родился не вследствие [внешней] обусловленности, но вследствие [Своей] силы). О том же, что не какого–нибудь ангела он называет посредником, но Самого Господа нашего Иисуса Христа, насколько Он соблаговолил быть человеком, ты узнаешь из другого места: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос» (1 Тим. 2:5). Отсюда и та Пасха при убийстве Агнца; отсюда и все то, что в Законе говорилось в образах о Христе, которому предстояло явиться во плоти, принять страсти и воскреснуть. И все это было дано через ангелов, в которых присутствовал и Отец, и Сын, и Святой Дух; или иногда Отец, иногда Сын, иногда Святой Дух, иногда же без различения Лиц Бог [Троица]. Посредством ангелов Он представлялся в образах; но хотя Он являлся в видимых и [вообще] чувственных образах, все же [Он делал это] посредством Своего творения, а не посредством Самой Своей сущности, ради созерцания которой сердца очищаются посредством всего того, что видят глазами и слышат ушами. Но, как я полагаю, мы уже довольно сообразно нашим способностям обсудили и показали то, что предпринимали рассмотреть в этой книге. Посредством разума настолько, насколько я [всего лишь] человек, или, точнее, насколько я был способен, а также посредством авторитета настолько, насколько открылось значение Божественных изречений Святого Писания, было установлено, что те слова и образы [представленные] нашим отцам до воплощения Спасителя, когда говорилось, что являлся Бог, были созданы посредством ангелов, либо говорящих и действующих от Лица Бо–жиего так, как имели обыкновение делать пророки, либо принимавших от творения то, чем они сами не были, и в чем бы Бог был образно явлен человекам. Последний способ представления, как учит Писание посредством многих примеров, нередко использовали пророки. Поскольку же в Господе как [человеке], рожденном от Девы, и в Святом Духе, нисходившем в телесном образе голубя и огненных языках, явившихся с шумом с неба в день Пятидесятницы после вознесения Господня, являлось телесным и смертным чувствам не Само Слово Божие в Своей сущности, по которой Оно равно и сопредвечно Отцу, и не Дух Отца и Сына в Своей сущности, по которой Он Сам равен и сопредвечен Им обоим, но [только само же] творение, которое могло быть образовано и существовать в таких видах, постольку теперь нам остается рассмотреть, какая разница между теми [ветхозаветными] явлениями и этими признаками Сына Божия и Святого Духа [наличными в Новом Завете], хотя и они были созданы посредством видимого творения. Говорить об этом нам предпочтительнее начать в другой книге.
КНИГА 4
(В ней говорится о воплощении Сына и объясняется, зачем был послан Сын Божий, т. е. что посредством смерти Христовой мы, грешники, убеждаемся в том, насколько велика к нам любовь Божия, а также каковых именно Бог любит нас; что наша двойная смерть (т. е. тела и души) искупается Его единой смертью, что дает соотношение одного к двум, возникающее из троицы. Здесь же выявляется мистический характер числа шесть как совершенного. В этой же книге показывается, что Сын Божий оттого, что Он был послан и принял образ раба, не есть меньший Отца, потому что как Слово Божие Он был послан Самим Собой. То же самое касается и Святого Духа, о Котором также говорится как об исходящем не только от Отца, но и от Сына)
1. Знание вещей земных и небесных род людской имеет обыкновение оценивать очень высоко. Но, конечно же, лучшими [из его представителей] являются те, кто предпочитает этому знанию самопознание. Душа, которая знает свою немощь, более достойна похвалы, нежели та, что, не обращая на это внимание, исследует пути небесных светил, дабы познать [их], или [нежели] та, что, уже познав [их], держится [этого знания], сама оставаясь в неведении, каким путем достичь своего спасения и утверждения. Кто же, будучи поднятым пылом Святого Духа, уже пробудился к Богу и [кто] в любви к Нему обесценился пред самим собой, желая, но не имея сил войти в Него; и кто, будучи Им просвещенным, обратил внимание свое на себя, а также увидел и познал, что невозможно смешивать свои недуги с Его чистотою; тот считает сладостным проливать слезы, испрашивать у Него, чтобы Он вновь и вновь смилостивился, доколе не исчерпается все его несчастие, вымаливать с упованием, [словно] уже добившись безвозмездного ручательства в своем спасении от Единственного Спасителя и Просветителя человека. Ведь потому знание нуждающегося и страждущего не надмевает, что любовь назидает (1 Кор. 8:1). Ибо он предпочел знание знанию, так как он предпочел познать немощь свою, нежели пределы мира, основания земли и высоты небес. А умножая познание, он умножил скорбь (Еккл. 1:18), скорбь от своего странствия из–за желания [достичь] своей отчизны и благого Бога Творца. Поскольку же в том роде человеков, в семье Твоей Христовой, среди нищих Твоих стенаю и я, дай мне от хлеба Своего, чтобы я ответил людям, которые не алкают и не жаждут праведности, но насыщены и изобилуют. Однако, их насытили их собственные вымыслы, а не истина Твоя, отталкивая которую, они отступают и впадают в тщеславие. Я, конечно же, знаю, как много выдумок порождает сердце человеческое. И каково же мое сердце, как не человеческое? Но я молю Бога от [всего] моего сердца, дабы я в своем сочинении не изрыгнул ни одну из этих выдумок вместо верных истин, но чтобы в него вошло через меня то, что может войти в меня [от Бога], хотя я удален от очей Его и пытаюсь издалека вернуться [тем] путем, которым прошло человечество в Божественности Единородного [Сына]. Сияние Его Истины, которое мне, изменчивому, позволено воспринять постольку, поскольку я не вижу в нем ничего изменчивого, не обнаружить ни в пространстве, ни во времени (как в телах), ни только во времени и как бы в пространстве (как обстоит дело с размышлениями нашего духа), ни только во времени, но никак не в пространстве (как обстоит дело с некоторыми рассуждениями нашего ума). Ибо вообще сущность Божия, посредством которой Он есть, не имеет ничего изменчивого ни в вечности, ни в истине, ни в воле, так как там, где истина вечна, вечна и любовь, там, где любовь истинна, истинна и вечность, там, где вечность любима, любима и истина.
2. Поскольку же мы находимся в изгнании [вдалеке] от неизменной радости, хотя мы не отрезаны и не оторваны [от нее] так, что мы не могли бы во [всем] этом изменчивом и временном искать вечности, истины и благодати (ибо мы не хотим ни умирать, ни заблуждаться, ни волноваться), нам чудесным образом посылаются видения, сообразные нашему состоянию странствия, посредством которых мы увещеваемся, что то, что мы ищем, находится не здесь, но что нам надлежит вернуться из этого [странствия] в то состояние, которого бы мы не искали, если бы мы не произошли из него. Прежде же всего, нам следовало бы убедиться, насколько Бог любит нас, иначе бы мы не посмели воспрянуть к Нему. Нам следовало бы также показать, каких именно [Он нас] любит, чтобы мы, как бы гордясь своими заслугами, тем более не отступили от Него и чтобы тем более не отпали [от Него, уповая] на свою силу. Чрез нее же Он так действовал в нас, чтобы мы лучшим образом воспользовались Его силой, и так, чтобы в немощи уничижения усовершилась добродетель любви. Об этом и говорится в псалме, где сказано: «Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его» (Пс. 77:10). «Обильный дождь» означает, конечно же, не что иное, как благодать, которая воздается не по заслугам, но дается даром, отчего и называется благодатью. Итак, Он дал ее не потому, что мы были достойны, но потому, что Он так пожелал. Зная это, мы не можем верить в себя, и это означает «изнемогать». Подкрепляет же нас Тот, Кто Сам говорит апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). Следовательно, нам надлежало бы убедиться, насколько Бог нас любит и каких Он нас любит. Насколько — затем, чтобы мы не отчаивались, каких — затем, чтобы мы не гордились. Это весьма необходимое обстоятельство апостол объясняет так: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим. 5:8–10). О том же в другом месте: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31–32). То же, что возвещается нам как свершившееся, было открыто древним праведникам как то, чему предстоит совершиться, так, чтобы они посредством одной и той же веры, будучи уничиженными, пребывали в немощи, и, будучи немощными, укреплялись.
3. Значит, поскольку едино Слово Божие, через Которое все начало быть, и Которое есть неизменная истина, все изначально и неизменно пребывает воедино, причем не только то, что есть сейчас в этой сотворенной вселенной, но также и то, что было, и то, что будет. Ибо там все не было, и не будет, но только есть. И все есть жизнь, и все есть одно, или, точнее, все есть единое, и все — одна жизнь. Ибо все через Него начало быть так, что всяческое, что начало быть во всем, в Нем есть жизнь, а не так, что [в Нем] начало быть, поскольку Слово не начало быть в начале, но [уже] было, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, если бы Оно [уже] не было прежде всего, и [при этом Само Оно] не начало быть (Ин. 1:1–3). Но во всем, что через Него начало быть, даже тело, которое не есть жизнь, через Него не начало бы быть,, если бы прежде, чем оно начало быть, оно не было бы в Нем жизнью. Ибо то, что начало быть, в Нем [уже] было жизнью, но жизнью не какой–нибудь [особенной]. Ведь и душа есть жизнь тела, но и она начала быть, поскольку она изменчива. И через что же она начала быть, как не через неизменное Слово Божие? Значит, «все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть» (Ин. 1:2). Следовательно, то, что начало быть, в Нем уже было жизнью, и не какой–нибудь [особенной] жизнью, но [эта] «жизнь была свет человеков». Это, конечно же, — свет разумных умов (rationalium mentium), которыми люди отличаются от животных, и поэтому суть люди. Итак, это — не телесный свет, т. е. свет плотский, или же сияющий с небес, или же исходящий от горящих земных огней. И это — свет не только человеческой плоти, но также и животной, [свет, доходящий] вплоть до мельчайших из червячков. Ибо все [творение] видит этот свет. И эта жизнь была свет человеков, и он «недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17:27–28).
4. Но «свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). «Тьма» же — это неразумные умы человеческие, помраченные порочной страстью и неверием. И для того, чтобы излечить и исцелить их, Слово, через Которое все начало быть, «стало плотью, и обитало с нами» (Ин. 1:14). Ведь просвещение наше — это причастие Слову, а именно, той жизни, которая есть свет человеков. Но для этого причастия мы были совершенно неспособны и малопригодны вследствие нечистоты грехов. Поэтому нам надлежало очиститься. Очищение же неправедных и гордых едино–кровь Праведника и уничижение Бога [с той целью], чтобы для созерцания Бога, Которым мы по своей природе не являемся, мы очистились посредством Того, Кто соделался тем, что мы есть по своей природе и что мы не есть по своему греху. Ибо мы по своей природе не Бог, мы по своей природе человеки, по греху же своему мы неправедны. Таким образом, Бог, соделавшись праведным человеком, выступил посредником между Богом и человеком грешным. Ибо грешник не соответствует праведнику, но человек человеку соответствует. Так, присоединяя к нам подобие своей человечности, Он удаляет неподобие нашей неправедности; и, соделавшись причастником нашей смертности, Он соделал нас причастниками своей Божественности. Ведь смерть грешника, справедливо возникающая по необходимости осуждения, искупается смертью Праведника, возникающей по воле милосердия, лишь бы Его единый [откуп] соответствовал нашему двойному [долгу]. Ведь это соответствие (или сообразность, или соразмерность, или согласие, или [что–либо] более подходящее, служащее обозначением объединения двух с одним) ценится более всего во всяком соединении или, если выражаться точнее, сочетании природы. Ибо, как мне сейчас представляется, это сочетание есть то, что греки называли αζμονια. Сейчас, [впрочем], не уместно, чтобы я показывал, насколько ценно согласие одного и двух, которое в особенности обнаруживается в нас и которое от природы внедрено в нас (и от кого же еще, как не от Того, Кто нас сотворил?) так, что даже неискушенные, поют ли они сами или же слушают других, не могут его не услышать. Ведь посредством этого согласуются голоса высокие и низкие так, что всякий, кто нарушает созвучие, нещадно оскорбляет не столько искусство, которого у большинства нет, сколько само чувство слуха. Однако для того, чтобы это показать, требуется, конечно же, долгая беседа; довести же это до самых ушей может тот, кто разбирается в монохорде.
5. В настоящий же момент следует подробно изложить, насколько сподобит Бог, каким образом единое Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа согласуется с нашей двойственностью и, гак сказать, содействует спасению. Мы, конечно же (и по этому поводу не сомневается ни один христианин), и душою, и телом смертны. Душою — вследствие греха, телом — вследствие наказания за грех и поэтому телом — [также] вследствие греха. Значит, обоим определениям нашего [существа], т. е. и душе, и телу, необходимо было исцелиться и восстать, чтобы то, что [ранее] изменилось к худшему, обновилось к лучшему. Итак, смерть души — [ее] нечестивость, смерть же тела — [его] тленность, по причине которой происходит отделение души от тела. Ибо как душа умирает, когда ее оставляет Бог, так и тело умирает, когда его оставляет душа; ведь первая становится неразумной, а второе — бездыханным. Душа воскрешается посредством покаяния, а обновление жизни в геле все еще смертном начинается верою, которою верят в Того, Кто оправдал нечестивого; и оно усиливается и укрепляется благим образом жизни день ото дня, так как внутренний человек обновляется все больше и больше. Однако же тело, будучи как бы внешним человеком, чем дольше его жизнь, тем все более подвержено тлену, по причине ли возраста, или болезни, или различных терзаний, доколе оно не достигает предела, который всеми называется смертью. Воскресение же его откладывается до конца [времен], когда неизъяснимым образом совершится и само оправдание наше. Ибо тогда «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). Однако ныне, пока «тленное тело отягощает душу» (Прем. 9:15), и «вся жизнь человека на земле — искушение» (Иов. 7:1), не оправдается пред Ним ни один из живущих (Пс. 143:2) в сопоставлении с той праведностью, которою мы уравняемся с ангелами, и с той славою, которая откроется в нас. Но зачем приводить больше свидетельств для различения смерти души от смерти тела, ведь Господь одним изречением в Евангелии с легкостью различает оба вида смерти, когда Он говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8:22)? Мертвое тело, конечно же, должно было быть похоронено. Но под теми, кто должен был его хоронить, Он подразумевал мертвых в душе из–за нечестивого неверия, которые пробуждаются, когда говорится: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос» (Еф. 5:14). Такого рода смерть осуждает апостол, когда он говорит о вдове, что она «сластолюбивая заживо умерла» (1 Тим. 5:6). Поэтому говорится, что [теперь] уже благочестивая душа, которая была нечестива, благодаря праведности веры воскресла из мертвых и [вновь] живет. По словам же апостола в одном месте Писания о теле говорится, что оно не только умрет из–за предстоящего отделения души от тела, но даже и то, что оно [и так] мертво из–за столькой немощи плоти и крови: «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Рим. 8:10). Эта жизнь соделана верою, ибо «праведный верою жив будет» (Рим. 1:17). Но что же далее? «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).
6. Итак, к нашей двойной смерти Спаситель приложил Свою единую, и для того, чтобы содеять оба воскресения [души и плоти], Он в качестве таинства и образа предварил и предложил Свое единое. Ибо Он не был ни грешником, ни нечестивцем так, чтобы Ему было нужно, словно смертному духом, обновиться во внутреннем человеке и, словно раскаявшемуся, вновь быть призванным к праведной жизни. Но, обличенный в смертную плоть, и в ней одной умирая, и в ней одной воскресая, ею одной Он соответствовал двойственности нашей. Ибо в ней свершилось таинство для человека внутреннего и образ — для человека внешнего. Ведь не только в псалме, но также и на кресте для нашего внутреннего человека были сказаны в таинстве слова, чтобы обозначить смерть нашей души: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Пс. 21:1; Мф. 27:46). С этими словами согласуется то, что говорит апостол: «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6:6). Разумеется, что под распятием внутреннего человека понимаются муки раскаяния и спасительное распинание самообладания, смертью которого отменяется смерть из–за нечестия, в каковой нас оставил Бог. И поэтому на таком кресте отменяется тело греха так, чтобы мы [теперь] уже не предавали члены наши грех в орудия неправды (Рим. 6:13). Потому что и внутренний человек прежде, чем он обновился, являемся, разумеется, ветхим, коли он обновляется со дня на день (2 Кор. 4:16). Делается же это внутри, по поводу чего и говорит апостол «отложить прежний образ жизни ветхого человека» и «облечься в нового человека» (Еф. 4:22, 24). Далее он объясняет это так. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину» (Еф. 4:25). Но где же отвергается ложь, как не внутри, затем, чтобы тот, кто говорит истину в сердце своем, мог обитать на святой горе Божией (Пс. 14:1, 3)? При этом показывается, что воскресение тела Господа оттносится к таинству нашего внутреннего воскресения, почему Он, воскреснув, и говорит женщине: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17). Этому таинству соответствуют слова апостола: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте» (Коло. 3:1–2). Ибо не прикасаться ко Христу, пока Он не восшел к Отцу означает не помышлять о Христе телесным образом. Смерть же плоти Господа нашего относится к образу смерти внешнего человека, так как посредством этого страдания Он повелевает своим рабам, чтобы они не боялись «убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28) Поэтому апостол говорит: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых» (Колос. 1:24). А воскресение тела Господа оказывается относящимся к образу воскресения нашего внешнего человека, ибо Он говорит ученикам: «Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24:39). И один из учеников Его, дотронувшись до ран Его, воскликнул, говоря: «Господь Мой и Бог Мой!» (Ин. 20:28). Когда же явилась вся полнота Его плоти, это было показано в том, что Он говорил, ободряя учеников: «И волос с головы вашей не пропадет» (Лк. 21:18). Но почему же тогда было сказано «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему», если прежде, чем Он восшел к Отцу, до Него [уже] прикасались ученики, как не потому, что в первом случае внушается мысль о таинстве внутреннего человека, а во втором — образ человека внешнего? Или же есть кто–то столь неразумный и враждебный истине, что осмелится говорить, что мужи к Нему прикасались прежде, чем Он восшел, а женщины — когда Он уже восшел? По поводу этого образа нашего будущего воскресения в теле, который прежде осуществился в Господе, апостол говорит' «Первенец Христос, потом Христовы» (1 Кор. 15:23). Ибо в этом месте говорилось о воскресении тела, по поводу чего также сказано: «Уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Флп. 3:21). Итак, единая смерть нашего Спасителя была спасением от двойной смерти нашей, а Его единое воскресение стало ручательством нашего двойного воскресения. Ибо тело Его и в том, и в другом случае, т. е. и в смерти, и в воскресении, послужило нам [своего рода] исцеляющим соответствием и в таинстве внутреннего человека, и образом человека внешнего.
7. Это отношение одного к двум возникает, конечно же, из троичного числа, ведь одно к двум — три. Все же [числа], что я назвал, вместе равняются шести, ибо один и два, и три — шесть. Это число поэтому называется совершенным, ибо оно исполняется своими частями. Ведь у него их три: одна шестая, одна третья и половина. И в нем не обнаруживается никакой другой части, которую бы можно было назвать целым делителем. Значит, шестая часть его — один, третья — два, половина — три. Но один, два и три совершают всю ту же шестерку. Святое Писание указывает нам на совершенство этого числа в особенности в том, что Бог совершил свой труд в шесть дней, и [в том, что] на шестой день Он сотворил человека по образу Своему (Быт. 1:27). И в шестой век рода человеческого пришел Сын Божий и сотворен был Сыном Человеческим, чтобы преобразовать по образу Божию. Ибо мы теперь живем в шестом веке, считаем ли мы каждые тысячу лет за один век, или же отслеживаем в Святом Писании [наиболее] памятные и знаковые временные моменты так, что первый век — от Адама до Ноя, второй — от Ноя до Авраама, далее же [в соответствии с тем] как подразделил евангелист Матфей — от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения, а от него до Рождества [Христова] (Мф. 1:17). Если к этим трем векам добавить прежние два, получится пять. Таким образом, Рождеством Господа начался шестой век, который и совершается ныне до сокровенного конца времен. В этом отношении тройственности подразделения мы также полагаем это шестеричное число некоторым прообразом времени, посредством которого мы считаем первым временем то, что до закона, вторым–то, что под — законом, третьим — то, что в благодати. В последнее время мы восприняли таинство обновления для того, чтобы также и в конце времен мы, обновленные во всех частях воскресением плоти, исцелились от общей немощи не только души, но даже и плоти. Поэтому символом Церкви считается та женщина, что была [прежде] скорчена, ибо имела духа немощи, а [затем] исцелена и выпрямлена Господом (Лк. 13:16). Ибо из–за этого внутреннего врага печален голос псалмопевца: «Душа моя поникла» (Пс. 56:7). А ведь эта женщина имела духа немощи восемнадцать лет, что есть трижды шесть. Очевидно, что число месяцев в восемнадцати годах равняется шести в кубе, т. е. шестью шестью шесть. И в той же самой главе Евангелия говорится также и о смоковнице, на которой не находилось плода уже третий год. [Ее следовало срубить], однако за нее поручился [виноградарь] так, чтобы [господин] оставил ее на этот год: если она принесет плод, хорошо; если нет, ее срубят (Лк. 13:6–9). И [здесь] три года относятся к тому же тройственному подразделению, а число месяцев в трех годах равняется шести в квадрате, т. е. шести разам по шесть.
8. Один год также, если рассматривать вместе двенадцать месяцев, каждый из которых состоит из тридцати дней (ведь за месяц древние сочли оборот луны), обладает шестиричностью. Ибо то, что означает шесть в первом порядке чисел от одного до десяти, означает шестьдесят во втором порядке чисел от десяти до ста. Значит, шестьдесят дней — шестая часть года. Если же далее умножить шестерку второго порядка на шесть первого порядка, то будет шесть раз по шестьдесят, т. е. триста шестьдесят дней, которые вместе составляют двенадцать месяцев. Но как оборот луны для людей составляет месяц, оборот солнца — год. Причем остается пять дней и четвертинка дня, чтобы солнце исполнило свой ход и завершило год. Четыре четвертинки составляют один день, который необходимо добавлять каждый четвертый год, который называется високосным, дабы не нарушить порядок времен. Если мы также рассмотрим эти пять дней и четвертинку, то и в них большей частью превалирует число шесть. Во–первых, потому, что поскольку обычно целое считается от части, постольку они суть не пять дней, а, пожалуй, шесть (если принять эту четвертинку за [еще один] день); во–вторых, в этих пяти днях заключается шестая часть месяца, а сама четвертинка состоит из шести часов (ибо целый день, т. е. вместе с ночью, состоит из двадцати четырех часов, четверть от которых, т. е. четверть дня, и составляет шесть часов). Итак, в течение года большей частью превалирует число шесть.
9. И не без основания в отношении воскресения тела Господня под годом подразумевается число шесть, ибо оно символ храма, по поводу которого Он говорил иудеям: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Они же на это сказали: «Сей храм строился сорок шесть лет» (Ин. 11:19, 20). Шесть же раз по сорок шесть получится двести семьдесят шесть, а это число исполняет девять месяцев и шесть дней, которые зачисляются женщине в качестве десяти месяцев для вынашивания плода. Не потому, что все рожают на шестой день после девяти месяцев, но потому, что по прошествии этого количества дней само совершенство тела Господня было приведено к рождению (как установлено авторитетом Церкви, принятым от древних). Ведь считается, что Он был зачат и претерпел страдания за восемь дней до апрельских календ. Таким образом, новому гробу, в котором Он был похоронен и в котором ни до, ни после [этого] не был положен никто из мертвых (Ин. 19:41–42), соответствует чрево Девы, в котором Он был зачат и из которого не исшел ни один из смертных. Также говорят, что Он был рожден за восемь дней до январских календ. Значит, между этими двумя датами — двести семьдесят шесть дней, т. е. шесть раз по сорок шесть. Именно таково число лет, в течение которых был воздвигнут храм, ибо этим числом шестерок создавалось тело Господне, которое, будучи разрушенным смертным страданием, Он воскресил на третий день. Ибо «Он говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2:21), что яснейшим и несомненным образом утверждается свидетельством Евангелия, когда Он говорит: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40).
10. Писание также свидетельствует, что и сам трехдневный промежуток не был целым и полным: первый день считается целым лишь по последней его части; третий — по первой; средний же между ними, т. е. второй день, — полностью целый и состоит из двадцати четырех часов (двенадцати ночных часов и двенадцати дневных). Ибо сначала Он был распят голосами евреев в третьем часу, когда был шестой день субботний, на кресте же Он был распят в шестом часу и испустил дух в девятом часу (Мф. 27:23–50). Похоронен же Он был, «как уже настал вечер» (Мк. 15:42), о чем и говорится в Евангелии, и что означает «в конце дня». Следовательно, откуда ни начинай (если даже может быть дан другой расчет), чтобы не оказаться в противоречии с Евангелием от Иоанна, по которому Он был распят в третьем часу, никак нельзя считать первый день целым. Значит, [этот] день считается целым по последней части, как третьей от первой. Ночь же до рассвета, когда стало известно о воскресении Господнем, относится к третьему дню, потому что Бог, «повелевший из тьмы воссиять свету» (2 Кор. 4:6), дабы через благодать Нового Завета и причастие в воскресении Христа мы услышали [слова] «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе» (Еф. 5:8), внушает нам некоторым образом, что день берет свое начало от ночи. Ибо как первые дни вследствие будущего падения человека отсчитываются от света к ночи, так же и вследствие восстановления человека они отсчитываются от тьмы ко свету. Значит, от часа Его смерти до рассвета Его воскресения — сорок часов, включая в это число и тот девятый час. Этому числу соответствует также и Его земная жизнь после воскресения в течение сорока дней. И это число наиболее часто используется в Писании для того, чтобы внушить мысль о тайне совершенства в четырехсоставном мире, ибо число десять имеет определенное совершенство, и оно, умноженное на четыре, равняется сорока. От вечера же погребения до рассвета воскресения — тридцать шесть часов, что есть шесть в квадрате. Это же относится к пропорции одного к двум, в каковой более всего налично согласие соответствий. Ведь соотношение двенадцати к двадцати четырем соответствует соотношению одного к двум, и вместе [двенадцать и двадцать четыре] равняется тридцати шести: вся ночь вместе со всем днем и всей ночью, и с тем таинством, о котором я упомянул выше. Не без основания, конечно же, мы сравниваем дух со днем, а тело с ночью. Ибо тело Господне в смерти и в воскресении представляло собой прообраз нашего духа и образ нашего тела. Итак, таким же образом соотношение одного к двум очевидно и в тридцати шести часах, когда двенадцать добавляется к двадцати четырем. Тому, почему эти числа помещены в Святое Писание, кто–нибудь другой, возможно, изыщет и другие причины: или те, по отношению к каковым мои окажутся более предпочтительными; или же те, что вероятны столь же [что и мои]; или же те, что даже более вероятны [нежели мои]. Однако не найдется никого столь глупого и несуразного, чтобы спорить, что эти числа помещены в Писание бесцельно и что нет никаких тайных причин, почему они там упоминаются. Те же [причины], что я привел, я воспринял или от авторитета Церкви, или из свидетельства Святого Писания, или из логики чисел и подобий. Ибо ни один здравомыслящий не выскажется против логики, ни один христианин — против Писания, ни один мирный [человек] — против Церкви.
11. Это таинство, эта жертва, этот Первосвященник, этот Бог прежде, чем Он был послан и, родившись от женщины, пришел [этот мир] — все, что священным и таинственным образом было явлено нашим отцам посредством ангельских чудес, или что было содеяно самими [отцами], было уподоблением Ему; [причем таким], чтобы всякая тварь своими деяниями говорила каким–либо образом о Том Едином, Кому предстояло быть, и в Ком спасение в восстановлении всех от смерти. Ибо поскольку из–за неправедности нечестия мы, отступив от единого Бога вышнего и истинного, ниспали и истаиваем во многом, будучи раздираемыми многим и цепляясь за многое; постольку было необходимо, чтобы по мановению и повелению милосердного Бога то самое многое провозгласило пришествие Единого, и чтобы Единый, провозглашенный многим, пришел, и чтобы многое засвидетельствовало пришествие Единого; и чтобы мы, освобожденные от бремени многого, пришли к Единому; и чтобы мы, будучи по многим грехам мертвыми душой и смертными вследствие [первородного] греха плотью, возлюбили Того Единого, Кто без греха умер во плоти ради нас; и чтобы мы, веруя в Него воскресшего и восставая с Ним верою в духе, оправдались, сделавшись единым, в Едином праведном; и чтобы мы не теряли надежду на наше будущее воскресение в самой плоти, поскольку мы видим, что нам, многим членам, предшествовала единая Глава. [Ибо] в Ней мы, тогда обновленные созерцанием, теперь очищенные верою и примеренные Посредником с Богом, прикрепляемся к Единому, наслаждаемся Единым, и пребываем в Едином.
12. Так, Сын Божий Сам, Слово Божее и Тот же Самый Посредник между Богом и человеками Сын Человеческий, равный Отцу в единстве Божественности и причастник наш в воспринятом человечестве, ходатайствует пред Отцом за нас, ибо был человеком, и, однако же, не умолчавший, что был вместе с Отцом единым Богом, среди прочего говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино: как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:20–22).
Он не сказал: «Я и они едино (ипит)»; хотя потому, что Он есть Глава Церкви, которая есть Его тело (Еф. 1:22:23), Он мог бы сказать «Я и они» не «едино (ипит)», но «Единый (ипиs)», ибо глава и тело есть Единый Христос. Но, показывая Свою Божественность, единосущную Отцу (ибо и в другом месте Он говорит: «Я и Отец одно (ипит)» (Ин. 10:30)) в своем роде, т. е. в единосущном равенстве той же самой природы, Он желает, чтобы Его [правоверные] были одним (ипит), но в Нем, ибо в себе они не могли бы быть так, будучи разъединенными друг от друга различными волениями, желаниями и нечистотой грехов. От всего этого они очищаются через Посредника, чтобы быть в Нем одним не только посредством одной и той же природы, в которой все из смертных людей становятся равными ангелам, но также посредством одной и той же единодушной воли, созвучной одной и той же благости, сплавленной в огне любви в единый дух. Ибо об этом слова: «Да будут едино, как Мы едино»; так, чтобы каким образом Отец и Сын одно не только равенством по сущности, но также и воли, таким образом и они, между кем и Богом Посредник Сын, были бы одним не только по тому, что они суть по одной и той же природе, но также и по одному и тому же единению любви. Далее же Он так указывает, что он Посредник, через Которого мы примиряемся с Богом: «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во едино» (Ин. 17:23).
13. Это есть наш истинный мир и крепкая связь наша с Творцом нашим посредством очищения и примирения через Посредника жизни. Ведь [прежде] мы, запятнанные и отчужденные, удалились от Него через посредника смерти. Ибо как дьявол, возгордясь, привел возгордившихся людей к смерти, так смиренный Христос вернул людей послушных к жизни. Ибо как тот, вознесшись, пал и низвергнул согласного [с ним человека], так Этот, уничижившись, воскрес и восстановил уверовавшего [в Него]. Ибо поскольку дьявол сам не спустился туда, куда он низвел (ведь в нечестивости своей он нес смерть духа, но он не подлежал смерти плоти, потому что не принимал на себя одеяние плоти), он показался человеку великим князем легионов демонов, посредством которых он правит своим царством обмана. Так раздувая человека, жаждущего более власти, нежели праведности, посредством гордыни возвышения или же ложной философии, или сплетая его сетями святотатственных обрядов, в которых, низвергая обманом и видимостью души наиболее любопытных и гордых, он улавливает его, подчинив козням волшебства, и даже сулит ему очищение души посредством того, что они называют τελεται превращаясь в ангела света посредством разнообразных махинаций лживыми знамениями и чудесами.
14. Ибо посредством воздушных тел лукавые духи легко делают многое из того, что удивляет даже лучшие души, отягощенные земными телами. Ведь если сами земные тела посредством искусства и опыта выказывают на театральных зрелищах столькие чудеса, что те, кто никогда их не видел, едва верят, когда о них рассказывают, что трудного для дьявола и ангелов его сотворить из телесных элементов посредством воздушных тел то, что удивляет плоть, для того, чтобы сокровенными внушениями, содеяв призраки образов, ввести в заблуждение человеческие чувства, которыми он обманывает и бодрствующих, и спящих или возмущает бесноватых. Но как может произойти так, что человек, лучший по своей жизни и нравам, созерцает наихудших людей или ходящими по канату, или творящими много невероятного посредством разнообразных телесных движений, и, [однако], никоим образом не желает делать этого, и не оценивает их вследствие того как предпочтительных в сравнении с собой, так и верная и благочестивая душа не только если видит, но даже если вследствие немощи плоти содрогается от демонских чудес, все же не будет скорбеть по тому поводу, что не может того же, и не будет поэтому считать их лучшими; в особенности же потому, что она пребывает в единстве со святыми, которые, будь они людьми или благими ангелами, с помощью силы Божией, которой все подчинено, творили более великие чудеса и совсем без обмана.
15. Следовательно, души очищаются и примиряются с Богом никак не посредством святотатственных уподоблений, нечестивого любопытства и магических обрядов, ибо лживый посредник не приводит их к вышнему, но, вытесняя, отрезает им путь посредством страстей, гибельных настолько, насколько они преисполнены гордыни, — [страстей], которые он внушает своей общине и которые не могут напитать крылья добродетели для того, чтобы взлететь, но которые увеличивают еще больше вес грехов для того, чтобы обречь душу вниз и чтобы она пала настолько тяжко, насколько высоко она возомнила себя взлетевшей. Таким же образом, как сделали наставленные Богом маги (Мф. 2:12), которых вела звезда, чтобы они созерцали уничижение Господа, и мы должны вернуться в свою Отчизну, но не тем путем, которым мы пришли, а другим, которому наставляет Царь смиренный, и который не может быть перекрыт царем гордым, враждебным Царю смиренному. Ибо и нам также, чтобы мы созерцали смиренного Христа, «небеса проповедают славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь», и «нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их» (Пс. 18:2, 4). Наш путь был к смерти через грех Адамов: «Как одним человеком грех вошел в мир, и. грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Посредником на этом пути был дьявол, соблазнитель ко греху и ниспровергатель в смерть. Ибо и он приложил свою единую смерть, [но затем] чтобы содеять двойную нашу. Ибо вследствие нечестия он мертв духом, однако плотью он, конечно же, не умер. Но он соблазнил нас к нечестию, благодаря чему он сделал так, что мы заслужили и смерть плоти. Итак, одно мы возжелали из–за нечестивого соблазна; другое же последовало из–за справедливого осуждения. Потому–то и написано: «Бог не сотворил смерти» (Прем. 1:13), что причиной смерти Сам Он не был; однако, смерть была назначена грешнику как Его справедливейшее наказание. Так судья назначает наказание виновнику, но причина наказания не справедливость судьи, а заслуга преступления. Итак, куда посредник смерти послал нас, а сам не пришел, т. е. к смерти плоти, туда Господь Бог наш привнес нам целительное средство исправления, которого Он Сам не нуждался в соответствии с сокровенным и весьма таинственным порядком Божественной и совершенной справедливости. «Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых» (1 Кор. 15:21), ведь люди избегали более того, что избежать не могли, т. е. смерти тела, а не смерти духа, т. е. наказания, а не причины наказания (ибо не грешить есть то, по поводу чего не заботятся или мало заботятся; однако же не умереть есть то, что, хотя и не достижимо, [все же является] предметом, по поводу которого немало заботятся). Посредник же жизни, показывая, что не смерти следует боятся, ибо теперь по состоянию человечества ее невозможно избежать, но скорее нечестия, против которого можно защититься верою, предстает нам в конце, к которому мы пришли, но не таким образом, каким мы шли. Ибо мы пришли к смерти по причине греха, Он же — по причине праведности. И поэтому если наша смерть — наказание за грех, Его смерть — искупительная жертва за грех.
16. Поскольку дух предпочитается телу, смерть духа означает, что Бог покинул его, а смерть тела означает, что его покинул дух. Наказание же в смерти тела заключается в том, что дух покидает тело против своей воли, ибо он по своей воли покинул Бога. Так что когда дух покинул Бога, потому что желал, он покидает тело, хотя бы и не желал; и он не покидает его, когда он пожелал, если только он не применил к себе силу, посредством чего тело само умерщвляется. Дух же Посредника показал, как без какого–либо наказания за грех Он принял смерть плоти и не потому, что Его дух, не желая, покинул ее, но потому, что он пожелал, и когда он пожелал, и как пожелал. Ибо, будучи [с ней] смешан Словом Божиим, Он говорит: «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее» (Ин. 10:18). И как говорится в Евангелии, более всего изумились те, кто присутствовал, когда после того возгласа, в котором символизировался наш грех, Он сразу же испустил дух (Мк. 15:37). Ведь распятые умирали долго; и поэтому разбойникам, чтобы они умерли и чтобы их сняли с креста до субботы, переломали голени (Ин. 19:30). А то, что Он был найден уже мертвым, вызвало удивление. Так, мы читаем, что даже Пилат был удивлен, когда у него запросили Тело Господа для захоронения (Мк. 15:43–44).
17. Итак, тот лукавый, который был посредником [ведущим] человека к смерти, лживым образом выставил себя [посредником ведущим] к жизни под видом очищения посредством святотатственных обрядов и жертвоприношений, чем соблазняются гордецы. Ведь он не мог ни умереть с нами, ни воскреснуть; он, конечно же, мог приложить свою единую смерть к нашей двойной, однако он, разумеется, не мог добавить своего единого воскресения, в котором должно быть и таинство нашего обновления, и образ пробуждения, которому быть в конце. Тот же, Кто, будучи жив духом, восстановил свою мертвую плоть, т. е. истинный Посредник жизни, вытеснил мертвого духом и посредника смерти из душ, верующих в него, так, что бы тот не царил внутри, а пытался одолеть извне, но все же не мог преодолеть. Он даже позволил ему искушать Себя, чтобы, превзойдя его искушения, быть Посредником не только Своим содействием, но и Своим примером. Но когда тот, пытаясь вначале всяческими доступными образами проникнуть во внутренняя Его, был изгнан и закончил все свои соблазняющие искушения после Его крещения и возведения в пустыню (Мф. 4:1–11) (ибо, будучи духом мертвым, он не мог войти в Живого духом), он, алкая смерти человека каким бы то ни было образом, обратил себя к тому, чтобы учинить смерть такую, какую мог, и ему было позволено [сделать это] в отношении той смертной [части нашей], которую Посредник жизни воспринял от нас. И где он что–либо мог сделать, там он во всем был побежден; и от чего он внешним образом получил силу для того, чтобы убить Господа во плоти, от того его сила, которою он уловлял нас, была убита внутренним образом. Ибо произошло так, что единой смертью Одного безгрешного были разрешены путы множественных грехов [являющихся причинами] множественных смертей. Своей незаслуженной смертью ради нас Господь сделал так, что бы наша заслуженная смерть не навредила нам. Ведь не по праву чьей–то власти Он был лишен плоти, но Он Сам освободился от нее. Ибо, несомненно, что Тот, Кто мог не умереть, если не желал, умер, потому, что желал. Так, Он, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Колос. 2:15). И Его смерть была единым и наидействительнейшим жертвоприношением за нас, какова бы ни была вина наша; а то [прегрешение], по причине которого начальства и власти задерживали нас, чтобы мы по праву понесли наказание, Он очищал, отменял, прекращал; и Своим воскресением Он предопределил нас и призвал к новой жизни, а призвав, оправдал, а оправдав, прославил (Рим. 8:30). Таким образом, дьявол, который, будучи огражденным от какого–либо тления плоти и крови, обладал уступившим его соблазну человеком словно по незыблемому праву и господствовал над ним посредством непрочности смертного тела [человеческого], слишком страждущего и немощного. [Однако дьявол], превосходя [человека] настолько, насколько он был, так сказать, богаче и сильнее его, как бы одетого в лохмотья и удрученного страданиями, в самой смерти плоти [все же] упустил его. Ибо куда он ввергнул павшего грешника, но сам не последовал, туда низвергнул он, преследуя, нисходящего Искупителя. Так, в общности смерти Сын Божий соизволил стать нашим другом, чего не претерпев, [Его и наш] враг счел себя лучшим и высшим нас. Ведь Искупитель наш говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Поэтому дьявол даже счел себя высшим в сравнении с Самим Господом, поскольку Господь в Своих страданиях уступил ему, ибо в Его отношении понимается то, что говорится в псалме: «Немного Ты умалил Его пред ангелами» (Пс. 8:6). Так, пребывая невинным, Господь, преданный смерти неправедным [духом], который противостоял нам как бы по праву, превзошел его наиправеднейшим образом (и так Он пленил плен (Еф. 4:8) [в который мы попали] вследствие греха) и освободил нас от справедливого по причине [нашего] греха плена, своей несправедливо пролитой праведной кровью, навсегда отменив печать смерти и искупив [нас] подлежащих оправданию грешников.
18. До этих же пор дьявол обманывает своих [последователей], кому он представляется как лживый посредник (как если бы они очищались посредством его обрядов; на самом же деле они лишь все более запутываются и погружаются [во грех]). Он очень легко убеждает гордецов высмеять и презреть смерть Христа; и чем он отчужденнее по отношению к ней, тем более святым и божественным он мыслится своими [последователями]. Однако те, кто с ним остался, малочисленны, ибо народы признают и с благочестивым смирением впитывают цену, заплаченную за них, и с верою в это они оставляют своего врага и соединяются у своего Искупителя. Ибо дьявол не знает, каким образом для спасения верующих в Него превосходящая все Премудрость Божия использует его и как расставляющего сети, и как неистовствующего, ибо от того высшего предела, который есть начало духовного творения, до этого низшего предела, который есть смерть тела, «Она быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу» (Прем. 8:1). Ведь Премудрость «по чистоте своей сквозь все проходит и проникает» и «посему ничто оскверненное не войдет в нее» (Прем. 7:24, 25). Поскольку же дьявол чужд смерти плоти, от чего происходит его чрезмерная гордыня, смерть иного рода уготовляется в вечном огне преисподней, от которого могут пострадать не только души, имеющие земные тела, но также и духи, имеющие тела воздушные. Однако гордецы, для которых Христос обесценился, поскольку Он умер и за эту дорогую цену купил нас (1 Кор. 6:20), возвращают и прежнюю смерть, и вместе с ней людей к [прежнему] жалкому состоянию природы, каковое происходит от первородного греха, и будут вместе с дьяволом низвергнуты в смерть новую. Они же предпочли дьявола Христу, поскольку он низвергнул их в прежнюю смерть, в которую он сам в силу своей отличной природы не пал, и куда ради них по великому милосердию своему спустился Господь. И, однако же, они не сомневаются в том, что они лучше демонов, и они не перестают, всячески злословя, надсмехаться над ними и гнушаться их, т. е. тех, которых они знают как, конечно же, чуждых того рода смерти, из–за которого они презирают Христа. И не желают они думать, что могло статься так, что Слово Божие, пребывая в Себе и не будучи в какой–либо части Своей изменчивым, могло, однако, через принятие низшей природы пострадать каким–то низшим образом, каким нечистый дух, поскольку он не имеет земного тела, пострадать не мог. Итак, хотя они и лучше демонов, все же, поскольку они имеют плоть, они могут умереть так, каким образом демоны, поскольку они, разумеется, плоти не имеют, умереть не могут. И хотя многое заранее воображается ими о смертях их жертв, они не понимают, что приносят жертвы лукавым и гордым духам, а если и понимают, то считают чем–то полезным дружбу с вероломными и завистливыми [духами], чья единственная цель — препятствовать нашему возвращению.
19 И не понимают они, что даже возгордившиеся духи не могли бы возрадоваться почестям жертвоприношений, если бы не следовало приносить истинную жертву единому истинному Богу, за Которого они хотят почитаться. И не может быть она правильно принесена, если только ее не приносит благой и праведный первосвященник, и если только то, что приносится, не принимается от тех, ради кого приносится, а также если только это жертвоприношение без греха так чтобы, оно могло быть принесено ради очищения грешных. Этого, конечно же, желает всякий, кто хочет, чтобы жертва приносилась Богу ради себя самого. Так, кто же Тот праведный и благой Первосвященник, как не единственный Сын Божий, Которому не нужно посредством жертвы очищаться от своих грехов, ни от первородного, ни от тех, что добавляются из человеческой жизни? И что столь подходящее может быть выбрано людьми для того, чтобы принести в жертву за себя, как не человеческая плоть? И что может быть столь уместным для этого заклания, как не смертная плоть? И что же может быть столь чистым для очищения грехов смертных, как не плоть, рожденная в чреве и из чрева Девы без какого–либо загрязнения плотским зачатием? И что же может со стольким удовольствием приноситься и приниматься, как не плоть жертвы нашей, соделанной телом Первосвященника нашего? И в то время, как в каждом жертвоприношении обнаруживаются четыре [определения] — кому приносится, от кого приносится, что приносится, и ради кого приносится, — Один и Тот же единый и истинный Посредник, чрез жертву мира примиряющий нас с Богом, остается единым с Тем, Кому приносится, делает Себя единым с теми, ради кого Он Себя приносит, и Сам есть единство того, кто приносит, и приношения.
20. Есть, однако, те, кто считает, что может своею собственной силою очиститься для созерцания Бога и пребывания в Нем. Это — те, гордыня которых пятнает их более всего. Ведь нет ни одного греха, которому бы более противостоял Божественный закон и в котором тот наиболее высоковыйный дух, посредник [ведущий] вниз, преграждающий [путь] вверх, получает большее право господствования, если только его сокровенные козни не обходят другим путем или если только он не преодолевается крестом Господним, которым Моисей, простерши руки, оградил [от него], неистовствующего открыто через отпавший народ (что символизируется Амаликом (Исх. 17:8–16) и мешавшего прохождению к земле обетованной. Ибо [эти гордецы] сулят себе очищение посредством своей собственной силы на том основании, что некоторые из них смогли духовным взором заглянуть за пределы всякой твари и хоть в какой–то малейшей толике соприкоснуться с предвечным светом истины; и они насмехаются над тем, что многие христиане, между тем, живут только верою и пока не могут [этого сделать]. Но какая же польза гордящемуся и поэтому стыдящемуся взойти на древо [палубы корабля] созерцать издалека находящуюся за морем отчизну? И как может навредить смиренному то, что он не видит ее с такого расстояния, но, [между тем], приближается к ней на этом древе, которое презирается [как средство] другим?
21. Эти [гордецы] упрекают нас также и за то, что мы веруем в воскресение плоти. И они хотят, чтобы в этих вопросах доверялись им, якобы на том основании, что поскольку они смогли посредством сотворенного осознать, что есть высшая и неизменная сущность, постольку с ними надлежит советоваться по поводу обращения вещей изменчивых или связного порядка веков. Но неужели потому, что они увереннейшим образом рассуждают и убеждают посредством вернейших доказательств, что все временное происходит от вечных причин, они способны узреть в этих причинах или умозаключить от этих причин к тому, сколько есть родов животных; каковы семена каждого в его начале; какова мера их роста; каково число их зачатия, рождения, жизни и гибели; каково их движение в желании того, что согласно их природе, и в избежание того, что ей противно? И разве не исследовали они все эти предметы без посредства той неизменной Премудрости, но посредством истории мест и времен, и разве не доверяли они тому, что испытано и записано другими? Поэтому менее всего следует удивляться тому, что они были совершенно неспособны исследовать вереницу более удаленных веков, и обнаружить какую–либо предельную точку этому течению, по которому словно по реке спускается род человеческий, а также затем и переход каждого к своему должному концу. Эти предметы историки описать не могли, поскольку они — в далеком будущем и никем ни переживались, ни рассказывались. И не могли эти философы, лучшие среди прочих в [рассмотрении] высших и вечных причин, постигнуть таковые умом, иначе не изыскивали бы они прошедшее, что могут [делать] и историки, но наперед знали бы будущее. Те же, кто может это делать, называются у них прорицателями (uates), а у нас — пророками (prophetae).
22. Хотя [следует признать, что] имя пророков не совсем уж чуждо их сочинениям. Большей частью, однако, есть разница между тем, предсказывается ли будущее на основе прошлого опыта (как, например, медики, предвидя, предали перу многое из того, что они узнали на опыте; или как земледельцы и даже моряки многое предсказывают, ибо если такие предсказания делаются задолго [до того, как что–либо произойдет], то они считаются предчувствиями); или же то, что должно случиться, уже началось и, будучи в своем пришествии видимым издалека, возвещается сообразно с остротою зрения видящего. Поскольку же силы воздуха могут делать это, то считается, что они обладают даром предвидения (как если бы кто–то с вершины горы увидел кого–нибудь другого, идущего издалека, и возвестил об этом обитающим вблизи на равнине). [Это же имеет место] если что–либо предвозвещается определенным людям от святых ангелов, посредством которых Бог через Слово и Свою Премудрость указует на то, в чем будущее и прошлое, или же опять–таки, будучи услышанным от них, передается другим людям; или же если умы самих определенных людей поднимаются Духом Святым столь высоко, что не посредством ангелов, а себя самих созерцают причины будущих вещей в самом высшем средоточии всего. [При этом] силы воздуха также слышат то, что предвозвещается либо через ангелов, либо через людей; однако они слышат столько, сколько считает нужным Тот, Кому все подчинено. Многое же неосознанно предсказывается посредством некоторого воодушевления и внушения духа. Так, Кайафа не знал того, что он сказал, но, будучи первосвященником, пророчествовал (Ин. 11:51).
23. Итак, ни в отношении последовательности веков, ни в отношении воскресения мертвых не должны мы вопрошать тех философов, которые постигли вечность Творца, Которым мы «живем, и движемся и существуем» (Деян. 17:28), так как, познавши Бога посредством того, что сотворено, они не прославили Его как Бога и не возблагодарили; но, «называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1:21, 22). И поскольку они не были способны вперить в вечность духовной и неизменной природы взор ума настолько уверенно, чтобы увидеть в самой Премудрости Творца и Правителя вселенной изменения веков (которые там уже были и всегда были, здесь же еще предстояли быть так, что еще не были) и чтобы увидеть там превращения в лучшее состояние не только душ, но и тел человеческих, вплоть до совершенства в соответствии с их мерой; так вот, поскольку они никоим образом не были способны увидеть все это там, они даже не были сочтены достойными того, чтобы это было возвещено им через ангелов, будь то внешним образом посредством телесных чувств, или же внутренним образом посредством откровений в духе (как это было действительно явлено нашим отцам, исполненным благочестия, которые, предсказывали это или по имеющимся знамениям, или по ближайшим событиям так, что то, что они, веруя, предсказывали, происходило, и которые заслужили авторитет, в силу какового им верят относительно вещей удаленных в будущее, вплоть до скончания времени). Но если даже обнаружится, что гордые и лукавые силы воздуха говорили через своих прорицателей о сообществе и содружестве святых и об истинном Посреднике что–то из того, что услышали от святых пророков или ангелов, они делали это затем, чтобы посредством того, что им, на самом деле, не принадлежит, совратить, по возможности, верных Богу к своей нечисти. Бог же делал это чрез незнающих так, чтобы истина звучала отовсюду в помощь верным и во свидетельство нечестивым.
24. Итак, из–за того, что мы не были способны схватывать вечное, а также из–за того, что нечистоты грехов отягощали нас любовью к вещам временным, и, [наконец], из–за преемства смертности, как бы естественным образом навлеченной и внедренной, нам надлежало очиститься. Но мы никак бы не могли очиститься так, чтоб умериться вечным, как только посредством временного же, которым мы удерживались, будучи уже умеренными им. Ибо хотя здоровье более всего отлично от болезни, все же лечение не приведет к здоровью, если оно не будет соответствовать болезни. То временное, что бесполезно, просто обманывает больных. То же временное, что полезно, поднимает еще лечащихся и передает вечности вылеченных. Так, разумный ум, как очищенный, обязан созерцанием вечному, а как нуждающийся в очищении, обязан верою временному. Ведь один из тех, кто некогда считался у греков мудрецами, сказал: Истина относится к вере так, как вечность к тому, что было рождено. И это, несомненно, верное суждение. Ибо то, что мы называем временным, он назвал тем, что было рождено. К этому роду относимся также и мы: не только вследствие того, что имеем тело, но также и вследствие изменчивости души. Ибо то, что от части изменчиво, не может быть названо вечным собственно. Следовательно, насколько мы изменчивы, настолько мы отстоим от вечности. Жизнь же вечная обещана нам через истину, от очевидности которой, опять–таки, вера наша отстоит настолько, насколько смертность — от вечности. Итак, теперь мы прилагаем веру к вещам, созданным во времени, затем, чтобы посредством этой веры очиститься; [при чем] так, чтобы когда мы пришли к видению, тогда каким образом истина наследует вере, таким же образом и вечность наследовала бы смертности. Вот почему поскольку вера наша станет истиной, когда мы придем к тому, что обещано нам, верующим, а обещается нам жизнь вечная; Истина же (не та, что будет как то, чем будет наша вера, но та, что всегда есть Истина, ибо там она–вечность) сказала: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Когда вера наша посредством видения станет истиной, тогда вечность объем лет нашу измененную смертность. Пока же этого не произошло, и чтобы это произошло (ибо мы сообразовываем веру упования с вещами, которые были рождены, как в вечном мы надеемся на истину созерцания так, чтобы вера смертной жизни не была несозвучной истине жизни вечной), Сама Истина, совечная Отцу, родилась от земли, когда Сын Божий пришел так, чтобы стать Сыном Человеческим, и чтобы поглотить в Себя нашу веру, которой бы Он повел нас к Своей истине, которая так воспринимает нашу смертность, что не упускает своей вечности. Ибо истина относится к вере настолько, насколько вечность относится к тому, что было рождено. Следовательно, мы должны были очиститься так, чтобы для нас был рожден Тот, Кто пребывает вечным, дабы Он не был одним в вере, а другим — в истине. И мы не могли бы перейти от своего изменчивого бытия к вечному, если бы только мы не были преданы Его вечности посредством соединения нашей изменчивости с вечным. Поэтому теперь наша вера в некоторой мере последовала туда, куда восшел Тот, в Кого мы верили, Кто родился, умер, воскрес и вознесся. Из этих четырех первые два нам известны в нас самих; ибо мы знаем, что люди и рождаются, и умирают. Оставшиеся же два — воскресение и вознесение — мы надеемся будут в нас, ибо мы верили, что это произошло в Нем. Следовательно, поскольку в Нем то, что было рождено, перешло в вечность, постольку то, что в нас, также перейдет [в вечность], когда вера перейдет в истину. Ибо Он говорит уже уверовавшим для того, чтобы они пребывали в слове веры, а от него [переходили] к истине, и, ведомые через это к вечности, освобождались от смерти: «Если вы пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Ин. 8:31). И, как если бы Его спросили «С какой выгодой?», Он продолжает: «И познаете истину» (Ин. 8:32). И, опять–таки, как если бы спросили «Какая польза смертным от истины?», [Он продолжает]: «И истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). От чего же, как не от смерти, от тления, от изменчивости? Ведь истина пребывает бессмертной, нетленной, неизменной. Истинное же бессмертие, истинная нетленность, истинная неизменчивость есть сама вечность.
25. Вот почему посылается Сын Божий; или, точнее, вот, что значит, что Сын Божий послан. Каким бы ни было то, что создано во времени для того, чтобы у нас была вера, посредством которой мы бы очистились, чтоб созерцать истину в порожденных вещах, каковые были выведены из вечности и с вечностью соотносятся, оно было или свидетельством Его послания, или же самим посланием Сына Божия. Некоторые свидетельства предвозвещали Его пришествие, некоторые же свидетельствовали, что Он уже пришел. Ведь было необходимым, чтобы все. творение свидетельствовало о том, что Он, посредством Которого все сотворено, стал творением. Ибо если бы Один не предсказывался многими посланными, Он не был бы узнан в отпавшем творении. И если бы не были свидетельства таковыми, что они казались малым великими, то не поверили бы, что великими [людей] соделает Тот великий, Кто был к малым послан как малый. Ибо небо, земля и все, что есть в них (поскольку все это сотворено чрез Сына Божия) суть несравненно более великое, нежели знамения и чудеса, которые возникали во свидетельство Его. Однако, чтобы люди, будучи малыми, поверили, что первые [свидетельства], содеянные Им, велики, они должны были испытать трепет от вторых малых, как будто они были великими.
26. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону» (Гал. 4:4). Итак, Сын Божий умалился настолько, что родился, и в том, что Он родился, Он был послан. Следовательно, если больший посылает меньшего, то и мы признаем, что Он был рожден меньшим; и постольку меньшим, поскольку Он был рожден, и постольку Он был рожден, поскольку послан. Ибо «Бог послал Сына Своего, Который родился от жены». Однако, поскольку все начало быть через Него, не только прежде, чем Он Сам был рожден и послан, но прежде, чем все было, мы считаем равным Тому, Кто послал, Того, Кого мы называем посланным и меньшим. Но каким же образом еще до полноты времен, по наступлении которой Он должен был быть послан, Его могли видеть отцы прежде, чем Он был послан, когда им являлись некие ангельские образы, в которых Он представлялся как равный Отцу, не будучи еще посланным? Ибо почему же Он говорит Филиппу, которому Он был виден, как и прочим, и даже тем, кто распял Его во плоти: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел и Отца» (Ин. 14:9), как не потому, что Он был виден и не был виден? Он был виден, ибо, будучи посланным, Он был рожден. И Он не был виден как Тот, через Кого все начало быть. Ибо как же Он говорит даже это: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21), когда Он и так предстал пред человеческими глазами, как не потому, что плоть, которой стало Слово по полноте времен, была дана для того, чтобы быть воспринятой нашей верой, а Само Слово, через Которое все начало быть, доставалось уму, очищенному верой, для созерцания в вечности?
27. Но если потому Сын называется посланным от Отца, что одно есть Отец, а другое — Сын, [то все же] это никоим образом не мешает нам верить, что Сын является равным, единосущным и совечным Отцу, хотя Он и послан как Сын от Отца. И не потому, что один — больший, а другой — меньший, но потому, что один–Отец, а другой — Сын; один — Рождающий, другой — Рожденный; и один есть Тот, от Кого Тот, Кто посылается, а другой есть от Того, Кто посылает. Ибо Сын от Отца, а не Отец от Сына. В соответствии с этим теперь уже можно понять, что Сын называется посланным не только потому, что «Слово стало плотью» (Ин. 1:14), но также и потому, что Слово сделалось бы плотью так, чтобы Он через Его телесное присутствие совершал то, что было написано; т. е. посланным Он мыслится не только как человек, каковым было рождено Слово, но также и Слово мыслится посланным как то, что сделалось бы человеком. Ибо Он послан не потому, что Он не равен Отцу силою, или сущностью, или чем бы то ни было, но потому, что Сын от Отца, а не Отец от Сына. Ибо Слово Отца — Сын, Который [также] называется Его Премудростью. Так что же, следовательно, удивительного в том, что Он посылается не потому, что Он не равен Отцу, а потому, что Он [будучи Премудростью] есть «чистое излияние славы Вседержителя» (Прем. 7:25)? Ибо то, что изливается, и то, из чего оно изливается, имеет одну и ту же сущность. Ведь [Премудрость] изливается не как вода из отверстия в земле или камне, но как свет от света. И что еще могут обозначать слова: «Она есть сияние вечного света» (Прем. 7:26), как не то, что Она Сама есть вечный свет? Ибо что есть сияние света, как не сам свет? Поэтому Она совечна свету, сиянием которого является. Но предпочтительнее было бы сказать «сияние света», нежели «свет света», дабы не сочли, что то, что изливается, темнее того, из чего изливается. Ибо когда слышат о «сиянии света» как о «свете света», то скорее сочтут, что одно светит посредством другого, нежели то, что одно светит меньше, чем другое. Но поскольку не было нужды остерегаться того, чтобы кто–нибудь подумал, будто меньший свет тот, что породил другой (ибо [даже] ни один еретик не осмелился сказать это, так что не следует думать, будто кто–либо другой осмелится), Писание предупреждает ту мысль, в соответствии с которой свет, который изливается, может представляться как более темный, нежели тот, из которого он изливается. Писание снимает это подозрение, ибо говорится о сиянии света, а именно, о сиянии вечного света, и, таким образом, показывается, что одно равно другому. Ибо если первое меньше второго, то оно — его темнота, а не сияние. Если же первое больше второго, то оно не из него изливается, ибо оно не может превосходить то, из чего исходит. Следовательно, поскольку первое изливается из второго, оно не больше его; поскольку же первое не есть его темнота, но его сияние, оно не меньше его; и, значит, равно ему. И нас не должно беспокоить то, что будто потому, что первое названо «чистым излиянием славы Вседержителя», оно само не является всемогущим, но лишь «излиянием Вседержителя». Ибо затем об этом [сиянии, т. е. Премудрости] говорится: «Она — одна, но может все» (Прем. 7:27). Ибо кто же всемогущ, как не тот, кто может все? Таким образом, одно посылается другим, из которого оно изливается. Ибо так испрашивает Премудрость тот, кто возлюбил и возжелал Ее: «Ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих» (Прем. 9:10). Это означает: «Да наставит Она меня в моих трудах, чтобы я не испытывал трудностей». Ведь труды Ее — добродетели. Но одним образом Она посылается, чтобы быть с человеком; другим же образом Она была послана, чтобы Сама стала человеком. Ибо Она, «переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков» (Прем. 7:27), и также Она исполняет святых ангелов и посредством них совершает все сообразным своему устроению. Но когда пришла полнота времени, Она была послана не для того, чтобы исполнить ангелов, и не для того, чтобы быть ангелом, разве что настолько, насколько Она возвестила совет Отца, который был также и Ее; и не затем, чтобы быть с людьми или в людях, ибо и прежде Она была в отцах и пророках; но затем, чтобы Само Слово стало плотью, т. е. стало человеком. В этом предстоящем таинстве Откровения было спасение и тех мудрых и святых людей, которые прежде Его рождения от Девы рождались от женщин, и в котором по его свершении и возвещении — спасение всех, кто верит, надеется и любит. Ибо это — «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16).
28. Итак, Слово Божие посылается от Того, Чьим Словом Оно является; [и Сын Божий] посылается от Того, от Кого рожден. Посылает же Тот, Кто рождает; и посылается же, потому что рожден. И тогда Он посылается каждому, когда Он познается и воспринимается каждым, насколько Он может быть познан и воспринят в соответствии с познавательной способностью разумной души, или еще усовершающейся к Богу, или уже усовершившейся в Нем. Следовательно, Сын называется посланным не потому, что Он рожден от Отца, но или потому, что Слово, ставшее плотью, явилось этому миру, отчего Он и говорит: «Я исшел от Отца и пришел в мир» (Ин. 16:28); или потому, что сообразно времени Он воспринимается умом каждого [как Премудрость] в соответствии со сказанным: «Ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих». То, что рождено от вечного, вечно, ибо это — «сияние вечного света». То же, что посылается сообразно времени, познается каждым. Но когда Сын Божий был явлен во плоти, Он был послан в этот мир и рожден от женщины, ибо пришла полнота времени. Ибо поскольку «мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией» (1 Кор. 1:21) (так как «свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5)), «то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:21) так, чтобы «Слово стало плотью, и обитало с нами» (Ин. 1:5). Когда же сообразно времени Он, выступая, воспринимается умом каждого, Он, конечно же, называется посланным, но не в этот мир; ибо Он не является чувственным образом, т. е. не наличен для телесных чувств. Но ведь и нас в соответствии с тем, как мы постигаем умом насколько возможно что–либо вечное, нет в этом мире; и духи всех праведных, даже пока еще живущих в этой плоти, не находятся в этом мире, насколько они поглощены Божественными предметами. Но Отец не называется посланным, когда познается всяким сообразно времени; ибо у Него нет никого, от кого Ему быть или из кого исходить. Поэтому Премудрость говорит: «Я вышла из уст Всевышнего» (Сир. 24:3); о Духе же Святом [сказано]: «От Отца исходит» (Ин. 15:26); Отец же — ни от Кого.
29. Следовательно, поскольку Отец родил, Сын рожден, постольку Отец посылает, а Сын посылается. Но как Тот, Кто родил, и Тот, Кто рожден, суть одно, так же и Тот, Кто послал, к Тот, Кто был послан; ибо Отец и Сын суть одно (Ин. 10:30). И так же Святой Дух вместе с Ними есть одно, так как эти трое суть одно. Ибо как для Сына быть рожденным означает быть от Отца, так для Сына быть посланным означает быть познаваемым, что Он от Отца. И как для Святого Духа быть даром Божиим означает исходить от Отца, так для Него быть посланным означает быть познаваемым, что Он исходит от Отца. И мы не можем сказать, что Святой Дух не исходит также и от Сына, ибо не напрасно Тот же Самый Дух называется Духом и Отца, и Сына. И я не знаю, что еще Он хотел сказать, когда, дуя, [на апостолов] Он говорит: «Примите Духа Святого» (Ин. 20:22). Ибо это телесное дыхание, исходящее от тела и ощущаемое как телесное прикосновение, конечно же, не было сущностью Святого Духа, но лишь обозначением посредством соответствующего знака того, что Святой Дух исходит не только от Отца, но также и от Сына. Но какой же безумец сказал бы, что одним был Святой Дух, когда Господь, дунув, сообщил Его [апостолам], и другим — когда Он после Своего вознесения послал Его им? Ибо Дух Божий — единый Дух, Дух Отца и Сына, Святой Дух, «производящий все во всех» (1 Кор. 12:6). О том же, что Он был дан дважды, мы будем рассуждать, насколько даст Господь, в другом месте. А то, что Господь говорит: «Я пошлю вам от Отца Дух истины» (Ин. 15:26), показывает, что Святой Дух — Дух и Отца, и Сына. Ибо когда Он уже сказал: «Которого пошлет Отец», Он также добавил: «во имя Мое» (Ин14:26). Ведь Он же не сказал: «Которого пошлет Отец от Меня» точно таким же образом, каким Он сказал: «Которого Я пошлю вам от Отца» (Ин. 15:26), показывая именно то, что Отец есть начало всей Божественности, или, если угодно, Божества. Следовательно, Тот, Кто исходит от Отца и Сына, возвращается к Тому, от Кого рожден Сын. Что же касается слов Евангелиста: «Еще не было на них Святого Духа, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7:39), то они не могут пониматься иначе, как то, что тому дару или ниспосланию Святого Духа после прославления Христа предстояло быть таким, каким [тот дар или ниспослание] никогда прежде не было. Ибо [конечно же, дело] не в том, что его прежде вообще не было, но в том, что оно не было таким. Ибо если бы Святой Дух не давался прежде, чем бы преисполнялись пророки, когда они вещали, ведь Писание явно говорит и показывает по многим местам, что пророки говорили Святым Духом? Ведь и об Иоанне Крестителе сказано, что «Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» (Лк. 1:15); и также отец его Захария оказался исполненным Святого Духа, ибо стал пророчествовать (Лк. 1:67–79); и Мария преисполнялась Духом Святым так, что она пророчествовала о Господе, Которого носила во чреве (Лк. 1:46–55); Симеон и Анна тоже исполнялись Святого Духа так, что признали величие Младенца Христа (Лк. 2:25–38). Почему же тогда «еще не было на них Святого Духа, потому что Иисус еще не был прославлен», как не потому, что этот дар, или даяние, или ниспослание Святого Духа будет иметь особенное свойство при Его пришествии, какового прежде не было? Ибо мы нигде [в Писании] не находим, чтобы люди [до этих пор] по нисхождении Святого Духа говорили на языках, которых не знали. Это произошло тогда, когда было необходимо обозначить Его пришествие чувственными знаками так, что всему миру и всем народам, говорящим на разных языках, предстояло уверовать во Христа через дар Святого Духа, дабы исполнилось то, о чем поется в псалме: «Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их» (Пс. 18:4–5).
30. Итак, человек был связан и некоторым образом смешан со Словом Божием во единство [одной] Личности, когда пришла полнота времени, и Сын Божий был послан в этот мир и рожден от женщины затем, чтобы быть Сыном Человеческим ради сынов человеческих. Ангелы же могли проявлять эту Личность и прежде [Его пришествия], дабы предвозвестить Ее, но они не могли заместить Ее так, чтобы быть Ею. Касательно же чувственных явлений Святого Духа, будь то в образе голубя (Мф. 3:16) или огненных языков (Деян. 2:3), когда подчиненное и подвластное творение посредством временных движений и образов выявляло Его сущность, совечную Отцу и Сыну, и столь же неизменную, я не осмелюсь сказать, было ли что–либо подобное прежде [как это было по отношению к Сыну Божию], ибо творение не соединялось со Святым Духом так, чтобы быть одной Личностью, как [соединялась с Сыном Божиим] плоть, которой стало Слово. Однако я могу с уверенностью сказать, что Отец, Сын и Святой Дух суть одной и той же сущности Бог Творец, Троица всемогущая, действующая нераздельно. Но как невозможно именовать Отца, Сына и Святого Духа нашими словами, которые, разумеется, суть телесные звуки, как только посредством их собственных временных промежутков, различенных определенным разделением, которые занимаются слогами каждого слова, точно так же невозможно нераздельно показать эту нераздельность [Троицы] посредством столь неравного и столь телесного творения. Ведь в их сущности, по которой Они суть, Отец, Сын и Святой Дух суть одно, [пребывая] одним и тем же вне какого–либо временного движения над целым творением без каких–либо промежутков времени или пространства от вечности к вечности, словно сама вечность, которая несть без истины и любви. В моих же словах Отец, Сын и Святой Дух разделены и не могут быть произнесены одновременно, а в видимых буквах раздельно занимают свои пространственные места. И каким образом, когда я называю свою память, понимание и волю, каждое из этих названий относится к отдельной способности, и, однако же, каждое обозначается всеми тремя, ибо нет ни одного из этих трех имен, которое бы не было в своем действии одновременно и моей памятью, и пониманием, и волей; точно так же и Троица действовала одновременно и в голосе Отца, и в плоти Сына, и в голубе Святого Духа, хотя каждое из них относится к отдельному Лицу. С помощью этого подобия так или иначе познается, что нераздельная в Себе Самой Троица является раздельно посредством образа видимой природы, и то, что действие Троицы нераздельно также и в отдельных образах, которые считаются относящимися к проявлению собственно или Отца, или Сына, или Святого Духа.
31. Следовательно, если меня спрашивают, каким образом производились или слова, или чувственные образы и явления прежде воплощения Слова Божия, которые Его предвозвещали, я отвечаю, что они создавались Богом посредством ангелов, что, насколько мне представляется, я достаточно показал с помощью свидетельств Святого Писания. Если же меня спрашивают, каким образом производилось само воплощение, я говорю, что Само Слово Божие стало плотью, т. е. стало человеком, однако не так, что Оно превратилось или изменилось в то, чем стало, но совершенно так, что там должно быть не только Слово Божие и плоть человека, но также и разумная душа человека, и это целое должно называться Богом, ибо в Нем Бог, и человеком, ибо в Нем человек. Если же это трудно понять, ум должен быть очищен верою посредством все большего отстранения от греха, благодеяниями и молитвою со стенанием святых скорбей так, чтобы посредством Божественного содействия он понял и возлюбил. Если же меня спрашивают, каким образом после воплощения Слова производился или голос Отца, или телесный образ, в котором являл Себя Святой Дух, то я не сомневаюсь, что это происходило посредством творения. Но должно ли здесь мыслится только телесное и чувственное [творение], или также дух разумный или умный (ибо таким словом иные предпочитают именовать то, что греки называют νοεζον), не для объединения с одним из Лиц [Бога], конечно же (ибо кто же сказал бы, что каким бы ни было творение, посредством которого звучал голос Отца, оно таким образом есть Бог Отец; или каким бы ни было творение, в котором посредством образа голубя или огненных языков являлся Святой Дух, оно таким образом есть Святой Дух, каким образом Сын Божий есть тот человек, который родился от Девы?), но исключительно для устроения и совершения тех знамений, которых счел необходимыми Бог; или же что–либо еще, — выяснить трудно, и не может утверждаться наугад. Однако я не знаю, каким образом эти явления могли бы произойти без разумного или умного творения. Но сейчас пока не уместно объяснять, почему я так сужу, насколько сил мне дал Бог. Ибо сначала надлежит обсудить и опровергнуть доводы еретиков, которые они приводят не из священных книг, а из своих рассуждений, на основании коих, как они полагают, они неумолимо принудят нас так понимать свидетельства Писания об Отце, Сыне и Святом Духе, как они сами желают.
32. Теперь, как я считаю, уже достаточно показано, что Сын не есть меньший потому, что Он послан Отцом, и что Святой Дух [также] не есть меньший потому, что Он посылается Отцом и Сыном. Ибо все это мыслится наличным в Писании или вследствие видимой природы [воплотившегося Слова], или скорее вследствие внушения мысли о начальстве [Отца], но не вследствие неравенства или различия, или несхожести сущности; ведь даже, если Бог Отец желал посредством подвластного Ему творения явиться видимым образом, было бы, однако, совершенно нелепым считать, что [Отец] послан или Сыном, Которого Он родил, или Святым Духом, Который от Него исходит. Но пусть же здесь будет конец этой книги. Далее, в других [книгах] мы, да поможет нам Бог, увидим, каковы те изощреннейшие доводы еретиков, и каким же образом мы могли бы их изобличить.
КНИГА 5
(Опровержение ереси ариан. В ней против тех, кто считает, что сущность Отца и Сына не является одной и той же потому, что все, что высказывается о Боге, высказывается по сущности (и поэтому утверждает, что рождать и рождаться или быть рожденным и нерожденным, являясь различными определениями, суть различные сущности), показывается, что не все, что высказывается о Боге, высказывается по сущности, но что некоторые определения высказываются также и относительно, т. е. по чему–то, что Он Сам не есть; отчего если что–либо высказываемое относительно, т. е. по чему–то, что Он Сам не есть, высказывается также и во времени, в Него не привходит ничего, из–за чего бы Он изменился, и Сам Он остается по Своей природе или сущности совершенно неизменным)
1. Теперь же я начинаю говорить о том, о чем ни один человек (и, конечно же, мы) не может сказать так, как это мыслится. Хотя само наше размышление, когда мы думаем о Боге Троице, считает себя совершенно немощным по отношению к Тому, о Ком оно размышляет, и не постигает его таковым, каков Он есть, так что даже столь великими, каковым [например] был апостол Павел, Он зрим лишь «как бы зеркалом, как в загадке» (1 Кор. 13:12), как это сказано в Писании; я [все же] молю Господа Бога нашего (о Ком мы всегда должны помышлять, но Кого мы не можем мыслить в соответствии с Его достоинством; и Кого мы должны благословлять и восхвалять во всякое время (Пс. 33:2), но Кого никакая речь не способна выразить) о том, чтобы Он оказал мне содействие в понимании и объяснении того, к чему я стремлюсь, и снисхождение, в чем бы я ни ошибся. Ибо я помню не только о своем желании, но и о моей немощи. У тех же, кто будет читать мое сочинение, я прошу, чтобы они простили меня, если заметят, что я больше хотел, чем смог, высказать то, что они сами понимают лучше или же не понимают из–за неясности моего изложения. Так же и я прощаю их, когда они не могут меня понять из–за медлительности своего ума.
2. И нам легче будет прощать друг друга, если мы знаем или, твердо веря, исповедуем то, что из того, что говорится о неизменчивой и невидимой природе, сущей по себе и довлеющей себе, ничто нельзя определять мерою вещей изменчивых и видимых, смертных и не довлеющих себе. И хотя мы, напрягаясь в постижении, не удовлетворительны в знании даже тех вещей, которые непосредственно наличны для наших телесных чувств, или того, что мы есть в самих себе, все же нет ничего постыдного в том, что искреннее благочестие пылает страстью к тому Божественному и невыразимому, что свыше ([если только] это благочестие не то, что раздувается высокомерием собственных сил, а то, что воспламеняется благодатью Самого Творца и Спасителя). Но каким же пониманием может человек постичь Бога, если он еще не постигает само свое понимание, которым он желает постичь Его? Если же он уже постигает свое понимание, пусть он тщательно подумает о том, что в человеческой природе нет ничего лучше его, и пусть он посмотрит, может ли он увидеть в нем какие–либо очертания образов, краски цветов, величину пространства, разобщенность частей, протяженность тел, какое–либо движение через пространственные промежутки, или что бы то ни было такого рода. Конечно же, ничто из перечисленного мы не можем обнаружить в том, лучше которого нет ничего в нашей природе, т. е. в нашем понимании, которым мы, насколько способны, постигаем мудрость. Следовательно, того, чего мы не обнаруживаем в нашем лучшем, не следует нам искать и в Том, Кто несравненно лучше нашего лучшего, затем, чтобы мы, если способны и насколько способны, постигли Бога как благого без качества, как великого без количества, как творца без нужды, как настоящего без присутствия, как содержащего все без имения, как вездесущего без пространства, как всевременного без времени, как создающего изменчивое без какого–либо изменения или страдания в себе. Всякий, кто помышляет о Боге таким образом, хотя и не может вполне обнаружить то, что Он есть, все же благочестиво остерегается, насколько может, от примышления Ему того, что Он не есть.
3. Он все же, несомненно, есть субстанция (substantia) или, если сказать точнее, сущность (essentia), что по–гречески ουσια. Ибо как «мудрость» производится от «мудрого», а «знание» от «знать», так от «сущего» производится «сущность». И кто же есть больший нежели Тот, Кто сказал Своему рабу: «Я есмь Сущий» и «Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. III, 14)? Однако же другие предметы, называющиеся сущностями или субстанциями, допускают привходящие (accidentias), посредством которых в них происходит большее или меньшее изменение. В Бога же ничего из такого рода допущено быть не может. Поэтому неизменчивая субстанция или сущность, которая есть Бог, — одна единственная. Поэтому ей, конечно же, более всего подобает быть сущей, от чего [и возникает] само название сущности. Ибо то, что изменяется, не сохраняет самого существования, и то, что может изменяться, даже если не изменяется, может не быть сущим так, как было. А поэтому то, что не только не изменяется, но вообще даже не может измениться, несомненно, подпадает под то, что истиннейшим образом называется сущим.
4. [Итак] теперь я начинаю отвечать противникам нашей веры по поводу тех предметов, которые не могут быть высказаны так, как они мыслятся, и не могут мыслиться так, как они суть. Так, среди прочих изворотливейших махинаций, которые ариане, выступающие против кафолической веры, имеют обыкновение выставлять, есть то, что, как они говорят, все, что высказывается или мыслится о Боге, высказывается не в отношении привходящего (accidens), но в отношении сущности (substantiam). Поэтому нерожденность относится к сущности Отца, а рожденность — к сущности Сына. Поскольку же нерожденность и рожденность суть отличие, постольку различны и сущности Отца и Сына. Мы же отвечаем им, что если все, что говорится о Боге, говорится о Его сущности, то слова «Я и Отец одно» (Ин. 10:30) сказаны в отношении сущности. Следовательно, у Отца и Сына одна сущность. Если же эти слова были сказаны не в отношении сущности, то тогда то, что говорится о Боге, говорится не в отношении сущности, и мы более не обязаны мыслить определения нерожденности и рожденности как существенные. Ведь о Сыне также сказано: «Не почитал хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6). Спрашивается: равным в отношении чего? Ибо если о Нем говорится как о равном не в отношении сущности, то тогда они должны допускать, что что–то может говориться о Боге не в отношении сущности. Так пусть же они допустят, что определения не–рожденности и рожденности высказываются не в отношении сущности. А если они этого не допустят потому, что они желают, чтобы все, что говорилось о Боге, высказывалось бы в отношении сущности, то тогда Сын равен Отцу по сущности.
5. Привходящим же обычно называется не что иное, как то, что посредством изменения той вещи, в которую оно привходит, может быть утрачено. Ибо хотя некоторые привходящие называются неотделимыми (что по–гречески–αχωζιοτα), подобно тому, что есть черный цвет для крыла ворона, все же и перо теряет цвет не потому, что оно перо, но потому, что и перо не вечно. Ибо сама материя изменчива. И когда бы не перестало быть то животное или то перо, и все тело его изменилось и превратилось бы в землю, оно, конечно же, утратило бы и тот цвет. Другие же привходящие, хотя они и называются отделимыми, утрачиваются не отделением, а изменением, как, например, чернота по отношению к человеческим волосам, поскольку волосы, оставаясь [волосами], могут побелеть. Однако при внимательном рассмотрении, вполне очевидно, что ничего не отходит от головы в то время, как она седеет, будто чернота оттуда отступает и куда–то уходит, а белизна приходит. [Нет, в этом случае] превращается и изменяется само качество цвета. Поэтому в Боге нет ничего привходящего, ибо в Нем нет ничего изменчивого или того, что может быть утрачено. Но если угодно называть привходящим и то, что, хотя и не может быть утрачено, все же уменьшается или увеличивается, как, например, жизнь души (ибо, доколе она — душа, она живет, а поскольку душа вечна, то и живет она вечно, но поскольку душа более велика, когда она разумна, и менее — когда неразумна, здесь тоже происходит некоторое изменение: не так, что жизнь отсутствует, как отсутствует мудрость в глупости, но так, что она уменьшается), то в Боге ничего подобного не происходит, потому что Он пребывает совершенно неизменным.
6. Итак, потому в Нем нет ничего называющегося привходящим, что в Него ничего не привходит. Однако же все, что [о Нем] говорится, говорится не в отношении сущности. Ведь в сотворенных и изменчивых вещах то, что говорится не в отношении сущности, говорится, конечно же, в отношении привходящего. Ибо все для них является привходящим, так как может быть утрачено или уменьшено, будь то качества или величины; а также то, что говорится в отношении чего–либо, как то: симпатии, родственные связи, обязанности, подобия, равенства и что бы то ни было подобного рода; а также положение и состояние, место и время, действие и страдание. Но в Боге нет ничего, что говорилось бы в отношении привходящего, ибо в Нем нет ничего изменчивого. Однако же все, что [о Нем] говорится, говорится не в отношении сущности. Но [все], что говорится в отношении чего–либо, как говорится об Отце в отношении Сына и о Сыне в отношении Отца, не есть привходящие, ибо один — всегда Отец, а другой — всегда Сын; и «всегда» здесь означает не «от того, как Сын был рожден, или от того, что Он никогда не переставал быть Сыном, Отец не перестает быть Отцом», но «от того, что Сын всегда рождался и никогда не начинал быть Сыном». Ибо если Он когда–либо начал быть Сыном, или если Ему когда–либо предстояло перестать Им быть, то это высказывалось бы в отношении привходящего. Если же Отец, в том что Он называется Отцом, назывался бы так по отношению к Самому Себе, а не к Сыну, а Сын в том, что Он называется Сыном, назывался бы [также] по отношению к Самому Себе, а не к Отцу, то определения Отца и Сына высказывались бы по отношению к сущности. Но поскольку ни Отец не называется Отцом, если только у Него нет Сына, ни Сын не называется Сыном, если только Он не имеет Отца, постольку эти определения высказываются не по отношению к сущности, ибо каждое из них высказывается не по отношению к Самому Себе, но взаимно и по отношению к Своему другому; и [точно так же эти определения высказываются] не по отношении к привходящему, ибо то, что называется Отцом, и то, что называется Сыном, суть [в Них] вечное и неизменное. Вот почему хотя бытие Отца отличается от бытия Сына, их сущность, однако, не различается, ибо эти [определения] высказываются не в отношении сущности, но во взаимном отношении; причем это отношение не есть привходящее, ибо оно неизменно.
7. Если же они считают, что положению о том, что Отец называется таковым в отношении Сына, а Сын — в отношении Отца, следует противопоставить то, по которому [определения] нерожденный и рожденный высказываются по отношению к Ним Самим, а не по отношению друг к другу (ибо называть Его нерожденным не есть одно и то же, что называть его Отцом, так как даже если бы Он не родил Сына, ничто бы не помешало называть Его нерожденным; а если же кто–то и рождает сына, то [совсем] не поэтому он может быть назван нерожденным, ибо люди, рожденные от других людей, сами рождают других), то они говорят, что Отец называется таковым по отношению к Сыну, а Сын — к Отцу, но нерожденный — по отношению к Самому Себе и рожденный — [тоже] по отношению к Самому Себе. Поэтому если все, что высказывается по отношению к самому себе, высказывается по отношению к сущности, а быть нерожденным и быть рожденным суть различные определения, то, следовательно, и сама сущность у них различна. Если это — то, что они говорят, то они не понимают, что они говорят о нерожденном то, что должно быть изучено более тщательно. Ибо не потому кто–то является отцом, что он не рожден, и нерожденный не есть нерожденный потому, что он — отец. Следовательно, тот, кто считается нерожденным, таков не по отношению к чему–то, но к себе самому. Однако, как будто ослепнув, они не видят, что рожденным можно называться только в отношении чего–либо. Ибо потому Он–Сын, что рожден, и потому рожден, что Он — Сын. И как Сын относится к Отцу, так рожденный относится к родившему; и как Отец — к Сыну, так родитель — к рожденному. Поэтому посредством одного представления нами мыслится родитель, и посредством другого — нерожденный. И хотя оба [этих определения] высказываются о Боге Отце, первое, однако, высказывается по отношению к рожденному, т. е. по отношению к Сыну, что они не отрицают; но то, что Он называется нерожденным, они считают высказывающимся по отношению к Самому Себе. Так, они говорят: «Если то, что называется по отношению к самому себе отцом, не может быть названо по отношению к самому себе сыном, и все, что высказывается по отношению к самому себе, высказывается по отношению к сущности, а Он называется нерожденным по отношению к Самому Себе, каковым не может называться Сын, то Он называется нерожденным по отношению к сущности. Таковым Сын назван быть не может, по причине чего Он не той же самой сущности». Ответ на это ухищрение будет состоять в том, чтобы заставить их самих сказать, в соответствии с чем они мыслят Сына равным Отцу: в соответствии с тем, как Он называется по отношению к Самому к Себе, или же в соответствии с тем, как Он называется по отношению к Отцу. [Ибо, конечно же] не в соответствии с тем, как Он называется по отношению к Отцу, поскольку по отношению к Отцу Он называется Сыном, а Отец не есть Сын, но Отец. Ведь не так называются по отношению друг к другу Отец и Сын, каким образом — друзья и соседи. Ибо друг называется таковым относительно друга, и, если они любят друг друга равным образом, дружба в обоих одна и та же; и сосед называется таковым относительно соседа, и поскольку они суть соседи равным образом (ибо первый соседствует со вторым настолько же, насколько второй с первым), соседство в обоих одно и то же. Но поскольку Сын называется таковым не в отношении Сына, но Отца, постольку то, что Сын равен Отцу, высказывается не в соответствии с тем, что говорится в отношении к Отцу. Следовательно, остается [полагать], что то, что Он равен [Отцу], высказывается в соответствии с тем, каковым Он называется по отношению к Самому Себе. Все же, что высказывается по отношению к самому себе, высказывается по отношению к сущности. Следовательно, остается [полагать], что Он равен [Отцу] по сущности. Когда же Отец называется нерожденным, то говорится не о том, что Он есть, но о том, что Он не есть. Когда же относительное отрицается, то отрицается не в отношении сущности, ибо само относительное высказывается не в отношении сущности.
8. Это необходимо пояснить примерами. Прежде всего, следует усвоить, что посредством определения «рожденный» обозначается то же, что обозначается посредством определения «сын». Ибо потому сын, что рожден, и оттого, что сын, рожден. Следовательно, то, что называется нерожденным, оказывается тем, что не есть сын. Но «нерожденный» и «рожденный» суть слова, употребляемые подобающим образом; [при этом] слово «сын» в латыни употребляется, а слово «несын» не позволяет употреблять языковой обычай. Впрочем, в значении ничего не утрачивается, если говорится «не сын». Точно таким же образом ничего другого не было бы сказано, если бы вместо слова «нерожденный» было сказано «не рожденный». Ибо так же относительно высказываются и определения «сосед» и «друг», и, однако же, нельзя сказать «несосед» так, как говорится «недруг». По этой причине в вещах следует принимать в расчет не то, разрешает нам или нет языковое употребление говорить [определенным образом], а то, каким является значение самих вещей. Поэтому давайте не будем говорить «нерожденный», хотя в латыни это возможно, но будем вместо этого говорить «не рожденный», что означает то же самое. Итак, значит ли это что–либо иное, нежели «не сын»? Ведь, будучи приставленной, эта отрицательная частица не делает того, что без нее высказывается относительно, высказываемым существенно, но только отрицает то, что без нее утверждалось. Так же и в других высказываниях. Например, когда мы говорим: «Он–человек», мы обозначаем его сущность. Следовательно, тот, кто говорит: «Он не человек», высказывает не какое–то другое определение, но лишь отрицает то же. Значит, каким образом я утверждаю в отношении сущности [когда говорю]: «Он — человек», таким же образом я отрицаю в отношении сущности, говоря: «Он не человек». Когда же спрашивается «Насколько он велик?», и я говорю: «Четырехфутовый», т. е. что он размером в четыре фута, я утверждаю в отношении количества; тот же, кто говорит: «Он не четырехфутовый», отрицает в отношении количества. «Он–белый» — я утверждаю в отношении качества; «Он не белый» — я отрицаю в отношении качества. «Он близкий» — я утверждаю отношение; «Он не близкий» — я отрицаю отношение. Когда я говорю: «Он лежит», я утверждаю в отношении положения; когда я говорю: «Он не лежит», я отрицаю в отношении положения. Когда я говорю: «Он — вооружен», я утверждаю в отношении состояния; Когда я говорю: «Он не вооружен», я отрицаю в отношении состояния (точно так же, если бы я сказал: «Он безоружный»). Когда я говорю: «Он — вчерашний», я утверждаю в отношении времени; когда я говорю: «Он не вчерашний», я отрицаю в отношении времени. Когда я говорю: «Он — в Риме», я утверждаю в отношении места; когда я говорю: «Он не в Риме», я отрицаю в отношении места. Когда я говорю: «Он бьет», я утверждаю в отношении действия; когда я говорю: «Он не бьет», я отрицаю в отношении действия так, чтобы показать, что он не действует так. Когда же я говорю: «Он — избиваем», я утверждаю в отношении определения, которое называется страданием; и когда я говорю: «Он не избиваем», я отрицаю в этом отношении. И вообще нет ни одного рода определения, в отношении которого мы могли бы что–либо утверждать, без того, чтобы не быть уличенными в отрицании, если бы пожелали приставить отрицательную частицу. И поскольку это так, то если бы я утверждал в отношении сущности, говоря «сын», то я бы и отрицал в отношении сущности, говоря «не сын». Поскольку же я утверждаю относительно, когда говорю: «Он — сын», ибо я соотношу [его] с отцом, постольку же относительно я и отрицаю, если говорю: «Он не сын», ибо я отношу то же самое отрицание и к родителю, желая [тем самым] показать, что у него нет родителя. Но если называть? себя «сыном» означает то же самое, что называться «рожденным», как мы уже сказали, то называться «не сыном» означает то же самое, что называться «не рожденным». Ведь мы отрицаем относительно, говоря «не сын»; следовательно, мы отрицаем относительно, говоря и «не рожденный». Более того, что же означает «нерожденный», как не «не рожденный»? Итак, когда говорят «нерожденный», то не отступают от относительного определения. Ибо каким образом «рожденный» говорится не в отношении к самому себе, но к родителю, таким же образом, когда говорится «нерожденный», это говорится не в отношении к самому себе, но показывается отрицание наличия родителя. Однако оба значения разделяют одно и то же определение, которое называется относительным. А то, что определено как относительное, не обозначает сущность. Таким образом, хотя «рожденный» и «нерожденный» суть различные [определения], они не обозначают различной сущности, ибо как «сын» относится к отцу, а «не сын» — к «не отцу», так с необходимостью «рожденный» относится к «родителю», а «не рожденный» — к «не родителю».
9. Поэтому, прежде сего, давайте держаться того, что все высказываемое об этом превосходнейшем и божественном величии, говорится существенно; то же, что говорится в отношении к чему–либо, говорится не существенно, но относительно. Сила же единой сущности Отца, Сына и Святого Духа такова, что все, что говорится об отдельных [Лицах] в отношении Их Самих воспринимается не как многое,.но как одно. Ибо каким образом Отец–Бог, таким же образом Сын — Бог, и Святой Дух — Бог, что, несомненно, говорится в отношении сущности, и, однако же, мы не говорим, что эта вышняя Троица есть три Бога, но один Бог. Итак, велик Отец, велик Сын, велик Дух Святой; однако же, не три великих, но один Великий. Ибо не только об Отце, как извращенно полагают иные, но об Отце, Сыне и Святом Духе говорится в Святом Писании.» «Ты велик», «един Ты» (Пс. 85:10). И благ Отец, благ Сын, благ Святой Дух, но не три благих, но один Благой, о Ком сказано: «Никто не благ, как только один Бог» (Лк. 18:19). Вот почему Господь Иисус Христос, дабы о Нем не подумали только как о человеке, тому, кто к Нему обратился: «Учитель благий» (Лк. 18:18), Он сказал не то, что «Никто не благ, как только Отец», но то, что «Никто не благ, как только один Бог». Ибо в имени Отца выражается только Сам Отец, в имени же Бога — и Отец, и Сын, и Дух Святой, ибо Троица — единый Бог. Об определениях же положения и состояния, места и времени говорится в Боге не в собственном смысле, а в переносном и посредством подобий. Ведь Он называется восседающим на херувимах (Пс. 79:2), что высказывается по отношению к положению; «облаченным в бездну как покрывало» (Пс. 103:6), что высказывается по отношению к состоянию. Слова же «Лета твои не кончатся» (Пс. 101:28) высказываются по отношению ко времени, а «Взойду ли на небо — Ты там» (Пс. 138:8) — по отношению к месту. Что же касается действия, то в этом отношении, вероятно, можно говорить истинным образом только о Боге, ибо только Бог содеял все, а Сам не содеян. И Он не подлежит страданию, поскольку Он принадлежит той сущности, по которой Он Бог. Итак, Отец всемогущ, Сын всемогущ, Святой Дух всемогущ; но не три всемогущих, а один Всемогущий, и «все из Него, Им и в Нем. Ему слава» (Рим. 11:36). Следовательно, все, что говорится о Боге по отношению к Нему самому, говорится и в отдельности о каждом из трех Лиц, [т. е.] и об Отце, и о Сыне, и о Святом Духе; а также вместе — и о Самой Троице, но не во множественном, а в единственном числе. Поскольку же для Бога быть не есть одно, а быть великим — другое, но для Него быть есть то же самое, что быть великим; постольку как не говорим мы о трех сущностях, так не говорим мы и о трех величиях, но об одной сущности и об одном величии.
10. Я говорю о сущности (essentia), которая по–гречески–сшоча, и которую чаще мы называем субстанцией (substantia). Греки, правда, используют также и термин υποστασιζ, но я не знаю, какое различие они хотят провести между словами ουσια и υποστασιζ. Те, кто рассматривают эти вопросы по–гречески, привыкли говорить (μιαν ουσταν и τζειζ υποτασταειζ, что на латыни — одна сущность и три субстанции (ипат essentiam tres substantias). Но поскольку наш языковой обычай сложился так, что когда мы говорим «сущность» (essentiam), мы понимаем то же, [что и тогда], когда мы говорим «субстанция» (substantiam), постольку мы не осмеливаемся говорить одна сущность и три субстанции, но сущность или субстанция и три Лица (essentiam eul substantiam et ires personas). Так говорили многие, исполненные авторитета писатели, рассматривавшие эти предметы на латыни, ибо они не обнаруживали более подходящего способа для выражения посредством слов того, что понимали и без слов. И действительно, поскольку Отец не есть Сын, Сын не есть Отец, а Святой Дух, Который также называется даром Божиим, не есть ни Отец, ни Сын, постольку, разумеется, Их трое. Поэтому–то и сказано во множественном числе: «Я и Отец одно есмы» (Ин. 10:30). Ведь не сказал же Он «есть одно», как говорят савеллиане, но «есмы одно». Но когда спрашивается: «Что [эти] три?», язык человеческий страдает от неспособности [это выразить]. О трех Лицах же говорится не затем, чтобы сказать что–нибудь вообще, но затем, чтобы не молчать вообще.
11. Следовательно, как не говорим мы о трех сущностях (tres essentias), так не говорим мы ни о трех величиях, ни о трех великих. Ибо в вещах великих [лишь] причастием величию, для которых одно дело — быть и другое дело — быть великими, как, например, величественный дом, величественная гора, величественная душа, — так вот в этих вещах одно дело — величие, и другое дело — то, что велико посредством этого величия; и, конечно же, величественный дом не есть то, что есть само величие. Само же величие есть то, посредством чего велик не только величественный дом, велика величественная гора, но велико все, что называется величественным. Так что одно дело — само величие, и другое — то, что от него называется великим. И , разумеется, сначала велико это величие, намного превосходящее то, что велико причастием к нему. Поскольку же Бог велик не тем величием, которое не есть Он Сам, так, что Он, будучи великим, будто бы является его причастником (иначе это величие было бы большим, нежели Сам Бог, тогда как нет ничего, что было бы большим Бога), постольку, следовательно. Он велик тем величием, посредством которого Он Сам есть то же самое величие. Поэтому–то как не говорим мы о трех сущностях, так же не [говорим мы] и о трех величиях. Ибо для Бога быть есть то же, что быть великим. По этой же причине мы не говорим о трех великих, но об одном великом, ибо Бог велик не причастием величию, но Он велик, будучи Сам по Себе великим, так как Он Сам есть Свое величие. То же самое было бы сказано и в отношении благости, вечности и всемогущества Бога, и вообще в отношении всех определений, в которых может выражаться Бог, что высказываются по отношению к Нему Самому в собственном, а не в переносном смысле или посредством подобия (если только что–нибудь может быть высказано о Нем в собственном смысле устами человеческими).
12. То же, что в Самой Троице говорится в собственном смысле раздельно, ни коим образом не говорится по отношению к Ней Самой, но по отношению друг к другу или по отношению к творению, и поэтому очевидно, что это говорится не существенно, но относительно. Ибо как Бог Троица называется великим, благим, вечным, всемогущим, так же Он может быть назван Своим Божеством, Своим величием, Своею благостью, вечностью, Своим всемогуществом. Однако Троица не может быть названа Отцом так, как только, по–видимому, в переносном смысле по отношению к творению по причине нашего усыновления. Ибо то, что сказано в Писании: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4), не следует, конечно же, понимать так, как если бы исключался Сын или Святой Дух. Ведь этого единого Господа Бога нашего мы справедливо называем также и Отцом, ибо Он рождает нас милостью Своей. Никоим образом не может Троица называться и Сыном. Однако Она может называться Духом Святым в соответствии с тем, что сказано: «Бог есть дух» (Ин. 4:24), поскольку это может быть сказано обо всех, так как и Отец — дух, и Сын — дух, и Отец свят, и Сын свят. Таким образом, поскольку Отец, Сын и Святой Дух суть один Бог, а Бог, конечно же, свят, и Бог, конечно же, дух, постольку Троица может называться Святым Духом. Но, однако же, Тот Святой Дух, что не есть Троица, но мыслится в Троице, в том, что Он собственно называется Святым Духом, называется относительно, ибо Он относится и к Отцу, и к Сыну, поскольку Святой Дух есть Дух и Отца, и Сына. Само же отношение в том имени не очевидно. Очевидно же оно тогда, когда Он называется даром Божиим (Деян. 8:20). Ибо Он есть дар Отца и Сына, так как Он «от Отца исходит» (Ин. 15:26), как говорит Господь; и то, что утверждает апостол: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9), он утверждает, конечно же о Самом Святом Духе. Следовательно, когда мы говорим «дар дарителя» и «даритель дара», мы говорим о каждом одно относительно другого. Следовательно, Святой Дух есть некоторое невыразимое общение Отца и Сына; и, возможно, потому Он называется так, что это самое название подходит и к Отцу, и к Сыну. Ибо Он называется собственно так, как Они называются сообща, поскольку и Отец — дух, и Сын — дух, и Отец свят, и Сын свят. Следовательно, затем, чтобы обозначить общение Обоих именем, которое подходит к Обоим, Святой Дух называется даром Обоих. И эта Троица — один Бог, единственный, благой, великий, вечный, всемогущий; Само по Себе единство, Божество, величие, благо, вечность, всемогущество.
13. И поскольку мы сказали, что имя Святого Духа (не Того, что есть Сама Троица, но Того, что в Троице) высказывается относительно, нас не должно беспокоить то, что наименование Его, похоже, не соответствует в свою очередь Тому, к Кому оно относится. Ибо здесь мы не можем сказать так, как мы говорим «раб господина» и «господин раба», «сын отца» и «отец сына», поскольку это говорится относительно. Ибо мы говорим о Святом Духе Отца, но мы, однако же, не говорим об Отце Святого Духа, в свою очередь, дабы Святой Дух не мыслился Его Сыном. И также мы говорим о Святом Духе Сына, но мы не говорим «Сын Святого Духа», дабы Святой Дух не мыслился Его Отцом. Ибо во многих соотносительных [предметах] случается так, что не обнаруживается никакого наименования, посредством которого соотносящиеся предметы взаимно соответствовали бы друг другу. Ибо что столь ясно говорится относительным образом, как не слово «залог»? Ведь оно относится к тому, по отношению к чему оно залог, и залог — всегда залог чего–либо (2 Кор. 5:5; Еф. 1:14). Можем ли мы, следовательно, говоря «залог Отца и Сына», сказать в свою очередь «Отец залога» или «Сын залога»? Ведь, говоря «дар Отца и Сына», мы же не можем сказать «Отец дара» или «Сын дара»; но для того, чтоб они соответствовали друг другу, мы говорим «дар дарителя» и «даритель дара», ибо в последнем случае возможно найти имя для обозначения, а в первом — нет.
14. Следовательно, Отец называется таковым относительно и так же относительно Он называется началом и чем бы то ни было. Отцом же Он называется по отношению к Сыну, а началом — по отношению ко всему, что от Него. Сын таким же образом называется относительно. Так относительно Он называется Словом и Образом, и во всех этих наименованиях Он соотносится с Отцом; Отец же не именуется ни одним из них. Называется Сын и началом, ибо когда Ему сказали: «Кто же ты?», Он ответил: «Начало, что и говорю вам» (Ин. 8:25). Но не ужели Он начало Отца? [Конечно же, нет.] Говоря, что Он — начало, Он лишь хотел сказать, что Он — Творец, подобно тому, как и Отец — начало природы, так как все — от Него. Ибо и Творец называется таковым по отношению к природе, как господин — по отношению к рабу. И хотя мы говорим, что и Отец — начало, и Сын — начало, мы говорим не о двух началах природы, ибо Отец и Сын вместе суть единое начало по отношению к природе, как единый Творец, как единый Бог. Но если все, что пребывает в себе и порождает или производит что–либо, есть начало тому, что оно порождает, или тому, что оно производит, мы не можем отрицать и того, что Святой Дух также будет справедливо называться началом, ибо мы не отделяем Его от имени Творца. И о Нем сказано, что Он производит, причем производит, конечно же, пребывая в Самом Себе, ибо Сам Он не изменяется или превращается во что–либо из того, что Он производит. Взгляните же на то, что Он производит: «Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:7–11), как подобает, конечно же, Богу. Ибо кто же может произвести такое, как не Бог? «А Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12:6). Если же нас спросили бы о Святом Духе в частности, мы бы, несомненно, ответили, что Он есть Бог и вместе с Отцом и Сыном — единый Бог. Итак, говорится, что Бог в отношении природы — одно начало, а не два или три начала.
15. Если рождающее по отношению к тому, что оно рождает, есть начало, то во взаимном отношении друг к другу в Троице Отец есть начало Сына, поскольку Он рождает Его. Однако является ли Отец началом по отношении к Святому Духу в силу того, что Он «от Отца исходит» (Ин. 15:26), представляет собой серьезный вопрос. Ибо если это так, то Он будет началом не только тому, что Он рождает или создает, но также и тому, что Он дарует. И здесь проявляется, насколько может, то, что обычно волнует многих: почему Святой Дух не есть также и Сын, ведь Он также исходит от Отца, о чем мы и читаем в Евангелии. Ведь Дух исшел, но не как рожденный, а как дарованный; а потому Он не называется Сыном, что Он не был ни рожден, как Единородный, ни создан так, чтобы посредством благодати Божией родиться во усыновление, как мы. Ибо то, что рождено от Отца, только тогда относится к Отцу, когда называется Сыном, и поэтому Сын есть Сын Отца, а не наш. То же, что даровано, относится и к Тому, Кто даровал, и к тому, кому Он даровал. Таким образом, Святой Дух называется Духом не только Отца и Сына, даровавших [Его], но также и нашим, [т. е. Духом тех], кто [Его] принял Ведь когда мы говорим «от Господа спасение» (Пс. 3:9), [т е. от Того] Кто его дает, [то имеется в виду, что] это же спасение и наше, [т е. тех], кто это спасение принял. Следовательно, Дух есть и Дух Бога, Который [Его] даровал, и Дух наш, [т. е. Дух тех], кто [Его] принял. Он, конечно же, не есть наш дух, который в нас, ибо этот дух — человеческий. Но Он есть наш Дух другим образом, в соответствии с которым мы говорим: «Хлеб наш насущный дам нам» (Мф. 6:11). Хотя мы, конечно же, получили и тот дух, который называется человеческим. Ибо апостол говорит «Что ты имеешь, чего бы не получил? » (1 Кор. 4:7). Но одно дело — то, что мы получили, чтобы быть; другое же дело–то, что мы получили, чтобы быть святыми. Поэтому сказано также и об Иоанне, что он придет «в духе и силе Илии»; и [хотя] сказано «в духе Илии», но [имеется в виду] Святой Дух, Которого получил Илия. То же следует мыслить и о Моисее, когда Господь говорит ему: «И возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них» (Чис. 11:16), что означает: «Я дам им Духа Святого, Которого уже дал тебе». Следовательно, если Святой Дух, Который даруется, имеет своим началом Того, от Кого даруется, поскольку Он не происходит от кого бы то ни было еще, как от Него, следует признать, что Отец и Сын суть одно начало Святого Духа, а не два. И каким образом Отец и Сын суть единый Бог, а по отношению к творению — единый Творец и Господь, таким же образом по отношению к Святому Духу Они суть одно начало. И каким образом по отношению к природе Отец, Сын и Святой Дух суть одно начало, таким же образом [по отношению к нему] Они суть и единый Творец, и единый Господь.
16. Далее же спрашивается: таким же ли образом, как Сын имеет то, что Он — Сын, не только по Своему рождению, но и потому, что Он — Сын вообще, Святой Дух имеет то, что Он даруется, не только потому, что Он даруется, но и потому, что Он есть дар вообще? И, следовательно, был ли Он прежде, чем даровался, но пока еще не был даром; или был ли Он уже даром и прежде, чем даровался, потому, что Бог собирался его даровать? Но если Он не исходит за исключением того, когда Он даруется, и не исшел бы прежде, чем был тот, кому Он даровался бы; каким же образом Он был [вообще] по самой Своей сущности, если Он не есть [Он Сам], как только при условии того, что Он даруется; подобно тому, как Сын имеет то, что Он — Сын, не только по Своему рождению, что высказывается относительно, но и потому, что Он есть Сын вообще по самой Своей сущности? И всегда ли святой Дух исходит, и исходит ли Он не во времени, но от вечности? И если Он исходил так, что мог быть дарован, не был ли Он даром и прежде, чем был тот, кому Он даровался бы? Ибо по–разному мыслится то, что называется даром, и то, что называется дарованным. Ибо дар может существовать и прежде того, как он дарован, дарованное же ни коим образом не может называться таковым, если только оно не было даровано.
17. И пусть не смущает нас то, что хотя Святой Дух совечен Отцу и Сыну, он все же называется чем–то [сущим] во времени, как, например, тогда, когда мы назвали Его дарованным. Ибо Святой Дух есть дар в вечности, во времени же — дарованное. Ведь если и господин не называется таковым, как только тогда, когда он возымел себе раба, то и это определение является во времени относительным к Богу, ибо творение, по отношению к которому Он — Господь, не вечно. Так, каким же образом [нам] доказать, что сами [эти] относительные определения не являются привходящими, поскольку ничего временного в Бога не привходит, ибо Он не изменчив, как мы показали в начале нашего рассмотрения? [Начнем с того, что Его] бытие Господом не является для Него вечным, иначе бы мы вынуждены были сказать, что и творение вечно, ибо Бог не господствует вечно, если только творение не пребывает [у Него] в вечном услужении. [Кроме того] как не может быть рабом тот, кто не имеет господина, так и [не может быть] господином тот, кто не имеет раба. И кто бы ни был тот, кто говорит, что только Бог вечен, а время не вечно вследствие непостоянства и изменчивости, хотя время начало быть не во времени (ибо времени не было прежде, чем время началось, а поэтому то, что Он — Господь, произошло с Ним не во времени, ибо Он был Господом самого времени, что, конечно же, началось не во времени), что бы он сказал насчет человека, который был создан во времени, и кому Он, конечно же, не был Господом прежде, чем возник тот, кому Он должен был стать Господом? Несомненно, то, что Он стал Господом, произошло с Богом во времени. И чтобы прекратить все прения, [следует сказать, что], несомненно, то, что Он стал Господом твоим или моим, [т. е. тех], кто начал быть недавно, произошло с Богом во времени. Если же и это вследствие неясности вопроса о душе кажется сомнительным, как же тогда насчет того, что Он был Господом народа Израилева? Ибо хотя природа души, которую имел тот народ уже была (что, [впрочем], мы [сейчас] не исследуем), того народа, однако, пока еще не было, и когда он начал быть, [вполне] известно. И, наконец, то, что Он стал Господом того–то дерева и тех–то всходов, которые начали быть недавно, произошло во времени. Ибо хотя сама материя уже была, одно дело — быть Господом материи, другое — быть Господом образованной природы. Ибо и человек в одно время — господин древесины, в другое — господин сундука (хотя тот и сделан из той же древесины), господином чего он [еще] не был, когда уже был хозяином древесины. Итак, каким же образом нам доказать, что о Боге ничего не говорится в соответствии с привходящим, как не [сказав, что это имеет место] потому, что в Его природу не привходит ничего, посредством чего Он бы изменился. Поэтому те [определения], которые привходят при изменении вещей, по отношению к каковым они высказываются, называются относительными привходящими [определениями]. Поскольку друг называется таковым относительно, ибо он не начинает быть таковым, если только он [уже] не начал любить, постольку имеет место некоторое изменение воли, так что он называется другом. Деньги же, когда они называются ценою, называются таковыми относительно, хотя они и не изменились, когда начали быть ценою, или, [например], залогом и т. п. Следовательно, если уж деньги могут столь много раз называться относительно без какого–либо изменения в себе, так что ни когда они начинают, ни когда они перестают называться [относительно], в их природе или форме, по которой они суть деньги, не происходит никакого изменения, насколько же охотнее мы должны согласиться в отношении неизменной сущности Божией, что она может быть определена в отношении творения таким образом, что хотя это [определение] и начинает высказываться во временном отношении, но все же [ни как] не мыслится привходящим в саму сущность Божию, но лишь в это творение, по отношению к которому определяется [сущность]! «Господи», — говорит Псалмопевец, — «Ты нам прибежище» (Пс. 89:1). Следовательно, Бог называется «нашим прибежищем» относительно, ибо о Нем говорится в отношении нас, и тогда Он становится нашим прибежищем, когда мы прибегаем к Нему. И неужели тогда в Его природе происходит нечто, чего прежде, чем мы к Нему прибегли, не было? В нас [на самом деле] происходит некоторое изменение, ибо мы были хуже прежде, чем к нему прибегли, и, прибегнув к Нему, соделываемся лучше; в Нем же — никакого. Он также начинает быть нашим Отцом, когда посредством Его мы возрождаемся, поскольку Он дал нам власть быть Его чадами (Ин. 1:12). Таким образом, сущность наша изменяется к лучшему, когда мы соделываемся Его чадами; одновременно и Он начинает быть нашим Отцом, но Его сущность при этом никоим образом не изменяется. Следовательно, ясно, что то, что начинает говориться о Боге во времени, и то, что прежде о Нем не говорилось, говорится относительно, но, однако же, не как о привходящем в Бога, как будто что–то с Ним произошло, но только лишь как о привходящем того, по отношению к чему о Боге что–либо начинает высказываться относительно. Праведник, начиная быть другом Божиим, сам изменяется; Бог же, несомненно, далек от того, чтобы возлюбить кого–либо во времени как бы новой любовью, которой в Нем не было прежде; [ибо] у Него былое не прешло, а будущее уже свершилось. Таким образом, Он любил всех Своих святых прежде основания мира, как Он предопределил их. Но [лишь] когда они уже обращены и находят Его, тогда [только] говорится, что Он начинает любить их. То есть это говорится так, чтобы то, что говорится, могло быть воспринято человеком. И также, когда говорится, что Он гневается на нечестивцев и кроток с благочестивыми, изменяются они, а не Он. Точно так же свет мучителен для немощного зрения, но приятен для здорового, по причине перемены именно в состоянии зрения, а не в свете.
КНИГА 6
(В ней так ставится вопрос о том, каким образом Христос назван апостолом Божией силой и Божией премудростью, что до тех пор откладывается более тщательное рассмотрение того, не является ли Тот, от Кого рожден Христос, самой премудростью, но только Отцом Своей премудрости, или же премудрость сама родила премудрость, пока не выясняется равенство Троицы и то, что Бог не тройственный, но Троица)
1. Иные считают, что мыслить Отца, Сына и Святого Духа равными мешает то, что, как сказано, [мы исповедуем] «Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1:24). Они не видят равенства в том потому, что Сам Отец не есть сила и премудрость, но родитель силы и премудрости. И, действительно, обыкновенно не без должного внимания спрашивается, каким образом Бог называется Отцом силы и премудрости. Ведь апостол считает Христа силой Божией и премудростью. Поэтому иные из нас заключали таким образом против ариан, по крайней мере, тех, кто прежде вознес себя против кафолической веры. Ибо сообщают, что Арий сам сказал, что «если Он — Сын, то Он был рожден; если Он был рожден, то было время, когда Он не был Сыном», не понимая, что даже рожденность для Бога означает вечность, так что Сын совечен Отцу (как сияние совечно огню, который порождает и распространяет его; так что если огонь вечен, вечно и сияние). Поэтому некоторые позднейшие ариане отбросили это мнение и стали исповедывать, что Сын Божий не начал быть во времени. Среди же доводов, что имели кафолики против тех, кто говорил, что «было время, когда Он не был Сыном», иные выставляли такое рассуждение: «Если Сын Божий — сила и премудрость Отца, а Бог никогда не пребывал без силы и премудрости, то Сын Божий совечен Богу. Ведь апостол называет Христа силой и премудростью Божией, и безумно утверждать, что когда–то у Бога не было силы и премудрости. Следовательно, не было времени, когда не было Сына».
2. Это рассуждение обязывает нас к тому, чтобы мы не называли Отца премудрым как только посредством премудрости, которую Он породил, [и чтобы мы не считали Его] Отцом, являющимся Самим по Себе премудростью. Затем, если это так, что Сын Сам называется «Богом от Бога, Светом от Света», следует разобраться, может ли Он называться премудростью от премудрости, если Бог Отец не есть сама премудрость, но лишь родитель премудрости. Если мы держимся [этого положения], то почему Он также и не родитель Своего собственного величия, Своей собственной благости, вечности, Своего всемогущества; таким образом, что Он Сам не есть Свое величие, Своя благость, вечность, Свое всемогущество, но велик этим величием, что Он породил, благ этой благостью, вечен этой вечностью и всемогущ этим всемогуществом, что было рождено от Него; и таким образом что Он Сам не есть Своя премудрость, но Он премудр Своей премудростью, которая была рождена от Него? И нам не следует бояться того, как бы нам не пришлось сказать, что помимо усыновления творения существует много сынов Божиих совечных Отцу, так как Он — родитель и Своего величия, и благости, и вечности, и всемогущества. Ведь на это превратное истолкование легко ответить, что из того, что многое было названо, [отнюдь] не следует, что Он
— Отец многих совечных сыновей, и точно так же из того, что Христос назван силой и премудростью Божией, не следует, что Он
— Отец двух сыновей. Ибо сила есть то же, что и премудрость, а премудрость — то же, что и сила. Не то же ли самое, следовательно, и в отношении прочих [определений], так что величие есть то же, что и сила, и что бы то ни было или из того, что было упомянуто выше, или из того, что может быть еще упомянуто.
3. Но если о Нем как таковом не говорится ничего, кроме того, что говорится по отношению к Сыну, т. е. то, что Он — Его Отец, родитель или начало, и если также Рождающий для Того, Кого Он рождает от Себя, есть соответственно начало, то все, что говорится о Нем, говорится в связи с Сыном или, точнее, в Сыне, будь то, что Он велик тем величием, которое Он породил; или праведен той праведностью, которую Он породил, или благ той благостью, которую Он породил, или же могуч тем могуществом или силой, что Он породил; или премудр той премудростью, которую Он породил; то Отец не есть само величие, но родоначальник величия. И [если же] Сын, поскольку Он называется Сыном Сам по Себе, называется так не в связи с Отцом, но по отношению к Отцу, то Он и велик не Сам по Себе, но в связи с Отцом, величие Которого Он есть; также и премудрым Он называется в связи с Отцом, премудрость которого Он есть. Но ведь и Отец называется премудрым в связи с Сыном, ибо Он премудр той премудростью, которую породил. Следовательно, как бы Они не назывались по отношению к Самим Себе, Они не называются так один без другого; т. е. в том, в чем, как бы Они не назвались, проявляется их сущность, Они Оба называются вместе. Если же [все] это так, то, следовательно, ни Отец не есть Бог без Сына, ни Сын не есть Бог без Отца, но Оба вместе суть Бог. Слова же «В начале было Слово» (Ин. 1:1) означают, что Слово было в Отце. Или если слова «в начале» означают «прежде всего», то в том, что следует — «и Слово было у Бога», — под Словом понимается один Сын, а не Отец и Сын вместе, как если бы Оба были одним Словом. Ибо Он таким же образом Слово, каким Он — Его образ. Ведь Отец и Сын не суть образ вместе, но только один Сын — образ Отца, каким образом Он также и его Сын; но Они Оба вместе не суть Сын. В том же, что добавляется: «и Слово было у Бога» (Ин. 1:1), сказано достаточно, чтобы понимать это как то: «Слово, Которое есть лишь один Сын, было у Бога, Который не есть только Отец, но Бог Отец и Сын вместе». Но что же в том удивительного, если это можно сказать и о вещах, столь различных меж собой? Что же еще есть столь различное, как душа и тело? Однако же и о душе можно сказать, что она была у человека, т. е. в человеке, хотя душа не есть тело, а человек — душа и тело вместе. Так что слова «и Слово было Бог» (Ин. 1:1) могут пониматься следующим образом: «Слово, Которое не есть Отец, было Бог вместе с Отцом». Так, не сказать ли нам, что Отец — родоначальник величия, т. е. родоначальник Своей силы или родоначальник Своей премудрости; Сын же–величие, сила и премудрость; Оба же вместе — Бог великий, всемогущий и премудрый? Но каким же образом тогда «Бог от Бога, Свет от Света»? Ибо вместе Они Оба не суть Бог от Бога, но только Сын от Бога, а именно от Отца. И вместе Они Оба не суть Свет от Света, но только Сын от Света, т. е. от Отца. Разве лишь затем, чтобы внушить и кратчайшим образом заставить понять то, что Сын совечен Отцу, слова «Бог от Бога, Свет от Света», и что бы то ни было того же рода, были сказаны так, как если бы было сказано: «То, что не есть Сын без Отца [следует] из того, что не есть Отец без Сына, т. е. тот Свет, что не есть Свет без Отца, [исходит] от того Света, т. е. Отца, что не есть Свет без Сына». Так что, когда говорятся слова «Бог, Каковой не есть Сын без Отца, от Бога, Каковой не есть Отец без Сына», они означают, что родитель не предшествует тому, кого он родил. И коль это так, то о Них не может быть сказано лишь то, что Этот от Того, что Оба Они вместе не суть. Каким образом нельзя сказать «Слово от Слова», ибо Они вместе не суть Слово, но лишь один Сын, таким же образом нельзя сказать и «Образ от Образа», ибо Они Оба вместе не суть Образ, но лишь один Сын; таким же образом нельзя сказать и «Сын от Сына», ибо Они Оба вместе не суть Сын. Что же касается того, что сказано: «Я и Отец одно есмы» (Ин. 10:30), то «одно есмы» означает: «Он есть то же, что и Я, в смысле сущности, а не отношения».
4. И я не знаю, можно ли обнаружить в Писании слова «они суть одно», сказанные о вещах, имеющих различную природу. Если же имеется много вещей одной и той же природы, но разные по мысли, то они не суть одно, поскольку они различны по мысли. Ибо если бы [ученики] уже были одно от того, что они были людьми, Он бы не молил Отца за Своих учеников: «Чтобы они были едино, как и Мы» (Ин. XVII, 11). Но поскольку Павел и Аполлос оба были и людьми, и тождественными по мысли, постольку и сказано: «Насаждающий и поливающий суть одно» (1 Кор. 8:8). Следовательно, когда что–либо называется одним так, что [при этом] не добавляется, что это за одно, и одним называется множество, тогда обозначается одна и та же природа и сущность, неразличная и согласная. Когда же добавляется, что это за одно, то может обозначаться то, что сделано одним из многих, хотя их природа и различна. Так, душа и тело, конечно же, не суть одно (ибо что же столь различно [как не они]?), если бы не добавлялось или не подразумевалось, что за одно [они суть], т. е. один человек или одно животное. Поэтому апостол говорит: «Совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею» (1 Кор. 6:16). Он, однако, не сказал ни «становятся одно», ни «суть одно», но добавил слово «тело», словно это было одно тело, составленное из мужского и женского тел, различных меж собой. Но: «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Апостол не сказал: «Соединяющийся с Господом есть один» или «они суть одно», но добавил слово «дух». Ибо различна природа духа человеческого и Духа Божия. Но, соединяясь из двух различных, они становятся одним духом так, что и без человеческого духа Дух Божий блажен и совершен, человеческий же дух блажен лишь с Богом. Я полагаю, что не без причины Господь в Евангелии от Иоанна столь много и столь часто говорил о самом единстве, будь то о Своем с Отцом или же о нашем по отношении друг к другу, но Он нигде не говорил о том, чтобы мы и Они были одним, но только чтобы мы были едино, как и Они. Следовательно, Отец и Сын суть одно, разумеется, в соответствии с единством сущности; и Бог един, и Един великий и премудрый, что мы и разбирали.
5. Следовательно, от чего же Отец больше? Ибо если Он больше, Он больше величием. Но так как Его величие есть Сын, то Сын, конечно же, не больше Того, Кто Его породил, и Отец не больше того величия, которым он велик. Значит, Они равны. Ибо каким же образом Сын равен, как не посредством Того, от Кого Он есть, и в Ком быть и быть великим суть одно и то же? Или если Отец больше вечностью, то Сын не равен [Ему], в чем бы то ни было. Чем же Он тогда [Ему] равен? Если скажут [что Он равен Ему] величием, то величие, что менее вечно, не может быть равным, и так же в отношении остального. Но, быть может, Он равен Ему добродетелью, но не равен премудростью? Но каким же образом добродетель, меньшая премудростью, может быть равна? Или, быть может, Он равен Ему добродетелью, но не равен премудростью? Но каким же образом премудрость, меньшая силой, может быть равна? Значит, остается [сказать], что если Он не равен Ему в чем–либо, Он не равен Ему [ни в чем]. Но ведь Писание вопиет, что Он «не почитал хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6). Следовательно, всякий противник истины, который [все же] держится апостольского авторитета, вынужден признать, что Сын равен Отцу [по крайней мере] в чем–то одном, в чем ему угодно. Так пусть же он выберет, что ему угодно. На основе этого одного ему покажут, что Он равен Ему во всем, что высказывается о Его сущности.
6. Ведь так и сущие в человеческой душе добродетели (хотя каждая из них воспринимается различным образом и отдельно) все же ни коим образом не отделяются друг от друга. Так что все, кто, например, равны храбростью, равны также и благоразумием, и праведностью, и воздержанностью. Ибо если скажут, что такие–то [два] человека равны храбростью, но один из них выделяется благоразумием, то из этого следует, что храбрость другого менее благоразумна, из–за чего они не равны также и храбростью, ибо храбрость первого более благоразумна. То же самое обнаруживается и в отношении других добродетелей, если бегло рассмотреть их все, ибо стоит вопрос не о силе тела, но о храбрости души. Тем более, следовательно, это касается той неизменной и вечной сущности, которая несравненно проще, нежели человеческая душа. Ибо в человеческой душе не одно и то же — быть и быть храбрым, или благоразумным, или праведным, или воздержанным. Ведь душа может быть, но не иметь ни одной из перечисленных добродетелей. Для Бога же быть есть то же, что быть могучим, или праведным, или премудрым, и каким бы то ни было из того, что может быть сказано о том простом множестве или множественной простоте для того, чтобы обозначить Его сущность. [Итак], когда говорится «Бог от Бога», [это может говориться] так, что это имя относится к каждому [из Них], впрочем, не так, что Оба вместе суть два Бога, но один Бог (ибо Они таким образом соединяются друг с другом, какой имеет место быть, по апостольскому свидетельству, даже в сущностях отдаленных и различных, ведь и Господь Сам есть Дух, и дух человеческий сам также есть дух; однако же, если он соединяется с Господом, он есть один дух; тем более это имеет место быть там, где есть совершенно нераздельное и вечное соединение, дабы не сочли Его нелепым образом как бы Сыном Обоих, когда Его называют Сыном Божиим, если то, что называется Богом, говорится только об Обоих вместе). [А может быть так, что] все, что говорится о Боге, дабы обозначить Его сущность, говорится только лишь об Обоих вместе, а также о всей Троице. Впрочем, так это или иначе, этот вопрос требует более внимательного рассмотрения. Сейчас же довольно и того, что, как мы уже показали, Сын никоим образом не равен Отцу, если обнаруживается, что Он не равен Ему в чем–либо, что касается обозначения Его сущности. Апостол же сказал, что Он равен. Следовательно, Сын равен Отцу во всем, и Он [с Ним] одной и той же сущности.
7. Вот почему Святой Дух также пребывает в том же единстве сущности и равенстве. Ибо [вне зависимости от того], есть ли Он единство Обоих или святость, или любовь, или потому единство, что Он — любовь, или потому любовь, что Он — святость, ясно, что ни один из [Этих] двух не есть Тот, через Кого Они соединяются, через Кого Рожденный возлюблен Рождающим и любит Своего Родителя и через Кого Они не по причастию, но по Своей сущности, и не по дару кого–то высшего, но Сами по Себе суть, «стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), подражать чему посредством благодати нам повелевают и по отношению к Богу, и по отношению к себе самим. «На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:40). Итак, эти Трое суть Бог единый, единственный, великий, премудрый, святой, блаженный. Мы же блаженны от Него, через Него и в Нем, ибо мы одно по Его дарованию; [и] с Ним мы один дух, ибо душа наша прилепляется к Нему. И для нас благо соединиться с Богом, ибо Он повергнет всякого, кто отвратился от Него. Следовательно, Святой Дух, чем бы Он ни был, есть нечто общее Отцу и Сыну, и само это общее единосущно и совечно. И, если угодно, чтобы оно было названо дружбой, пусть так и зовется, но более подходящим образом его звать любовью. И оно также есть сущность, ибо Бог есть сущность, а «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16), как это сказано в Писании. Но поскольку Он — сущность вместе с Отцом и Сыном, постольку вместе [с Ними] эта сущность велика, блага и свята, и все то, что бы ни высказывалось в отношении к ней, ибо для Бога быть и быть великим и благим и т. п. — одно и то же, как мы это уже показали. Ибо если в Нем любовь менее велика, нежели премудрость, то и премудрость возлюблена менее того, что она есть; следовательно, любовь равна настолько, насколько должна быть возлюблена премудрость. Но премудрость равна Отцу, как мы доказали выше. Значит, и Святой Дух также равен. Если же Он равен, то Он равен во всем по причине совершенной простоты, что налична в этой сущности. И потому Их не больше, чем трое: Один, любящий Того, Кто из Него; Один, любящий Того, из Кого Он Сам; и Сама Любовь. И если последнего нет, то каким же образом Бог есть Любовь? И если Он не сущность, каким же образом Бог — сущность?
8. Если же спрашивается, каким образом эта сущность и проста, и сложна, следует сначала рассмотреть, почему природа сложна, но никоим образом не проста. Во–первых, целое тело состоит, конечно же, из частей, так, что одна часть больше, другая–меньше, но целое больше [любой] части, какой и сколькой она бы ни была. Ведь небеса и земля суть части тела вселенной, [причем] и земля, и небо [сами] состоят из неисчислимого количества частей; в своей третьей части они меньше, нежели в остающемся, а в своей половине — меньше, нежели в целом. Целое же тело мира, которое обычно называется по своим двум частям, т. е. земля и небо, конечно же, больше, нежели только земля или только небо. И в каждом теле одно дело — величие, другое — цвет, третье — форма. Ибо даже если величие уменьшено, в нем может остаться тот же цвет и та же форма; если же изменится цвет, то [все же] может остаться та же форма и то же величие; и даже если тело меняет форму, оно может быть столь же великим и того же цвета. И все, что не говорилось бы вместе о теле, может измениться [сразу вместе] или же может измениться многое, но не все. Вследствие этого, выявляется, что природа тела сложная, но никоим образом не простая. Природа же духовная, как, например, душа, в сравнение с телом более проста; но если не сравнивать ее с телом, то она сложна, [ведь] она также не проста. Ибо она потому более проста, нежели тело, что не занимает места в пространстве; [и она более проста потому] что она — в каждом теле во всем вся, и в любой части его [также] вся. Поэтому когда что–либо происходит в какой–либо мельчайшей частичке тела, что может чувствовать душа, то, хотя это и не происходит во всем теле, все же она вся чувствует [это], ибо ей это открывается всей. Однако поскольку даже в душе одно дело — быть искусным, другое — безыскусным, третье проницательным, и [поскольку] одно дело — желание, другое — страх, третье — радость, четвертое — печаль; а [также поскольку] в природе души неисчислимым образом могут обнаруживаться неисчислимые [переживания], одни — отдельно от других, другие — более сильные, нежели третьи; постольку ясно, что [ее] природа не проста, но сложна. Ибо нет ничего простого, что было бы изменчивым; все же творение изменчиво.
Бог, правда, называется множественными именами: великий, благой, премудрый, блаженный, истинный (и любое другое имя, что высказывается [по отношению к Нему] подобающим образом); но Его величие есть то же, что Его премудрость (ибо Он велик не размером, но добродетелью), Его благость есть то же, что Его премудрость и величие, а Его истина есть то, что есть все это. И в Нем одно и то же — быть блаженным и быть великим, или премудрым, или истинным, или благим, или быть Самим в целом.
9. Но от того, что Он — Троица (trinitas), отнюдь не следует считать Его тройственным (triplex). Иначе или Отец один, или Сын один будет меньше, нежели Отец и Сын вместе, хотя не ясно, каким образом возможно сказать, что Отец один или Сын один, ибо всегда и нераздельно Отец — с Сыном, а Сын — с Отцом, и не так, что Оба суть Отец или Оба — Сын, но так как Они суть по отношению друг к другу, ни один из Них не есть один. Впрочем, мы говорим о Самой Троице и как о Боге одном, хотя Он всегда пребывает со святыми духами и душами; и говорим мы, что Он один Бог, потому что они не суть Бог вместе с Ним. Так, мы называем Отца одним Отцом не потому, что Он отделен от Сына, но потому, что Они Оба вместе не суть Отец.
Следовательно, так как Отец один или Сын один, или же Святой Дух один столь же велик, сколь Отец, Сын и Святой Дух вместе, Его никоим образом не следует называть тройственным. Но тела увеличиваются, соединяясь. Так, тот, кто прилепляется к своей жене, есть одно тело; и возникает большее тело, нежели [то, которое] было бы у одного мужа или у одной жены. В вещах же духовных, когда меньшее присоединяется к большему, как, например, творение присоединяется к Творцу, большим, нежели прежде, становится оно, а не Он. Ибо в тех вещах, чье величие не в телесном, быть большим означает быть лучшим. Лучшим же дух какой–либо твари становится тогда, когда он присоединяется к Творцу, а не тогда, когда он не присоединяется; а большим потому, что лучшим. Следовательно, «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Однако же, Господь не становится от этого лучше, хотя соединяющийся с Господом становится. Итак, когда в Самом Боге равный Сын присоединятся к равному Отцу или равный Святой Дух — к Отцу и Сыну, Бог не становится большим, нежели каждый из них [по отдельности], ибо Его совершенство не может увеличиться. И совершен ли Отец или Сын, или Святой Дух, совершен и Бог Отец, Сын и Святой Дух. Значит, Он — Троица, но не тройственный.
10. Поскольку мы [уже] показали, что мы можем называть Его одним Отцом, потому что кроме Него [в Троице] нет никакого Отца, постольку теперь следует рассмотреть то суждение, по которому единый истинный Бог — не один Отец, но Отец, Сын и Святой Дух. Ибо, если кто–нибудь спросит, является ли один Отец Богом, мы не можем сказать, что Он не является. Однако мы должны добавить, что хотя Он и является Богом, но не одним–единственным, ибо один–единственный Бог это — Отец, Сын и Святой Дух. Но что же делать со свидетельством Господа? Ведь Он говорил с Отцом, именуя Отцом Того, к Кому обращался, когда говорил: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога» (Ин. 17:3). И вот эти слова ариане воспринимают так, как будто Сын не есть истинный Бог. [Однако], не обращая на них внимания, следует рассмотреть, действительно ли, когда Он говорит слова «да знают Тебя, Единого Истинного Бога», мы, дабы мы не мыслить Бога [иначе], как только всех [их] трех вместе — Отца, Сына и Святого Духа, обязаны думать так, словно Он хотел внушить мысль о том, что один Отец есть истинный Бог. Так, не должны ли мы от свидетельства Господня заключить, что и Отец есть единый истинный Бог, и Сын есть единый истинный Бог, и Святой Дух есть единый истинный Бог, и что вместе Отец, Сын и Святой Дух, т. е. Сама Троица, не суть три истинных бога, но единый истинный Бог? Или поскольку Он добавил: «и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3), мы [и в Нем] должны подразумевать: «единого истинного Бога», и тогда порядок слов должен быть таким: «да знают Тебя и посланного Тобою Иисуса Христа, Единого Истинного Бога»? Почему же Он тогда умолчал о Духе Святом? Или это потому, что где бы ни говорилось о том, что Единый присоединяется к Единому в таком согласии [мира], посредством которого Они суть Едино, уже из этого самого следует понимать этот [единящий] мир, хотя он и не упоминается? Ведь и в другом месте апостол, кажется, как бы обходит молчанием Святой Дух, хотя Он подразумевается, когда тот говорит: «Все ваше; вы же — Христовы, а Христос–Божий» (1 Кор. 3:22–23). И еще: «Мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог» (1 Кор. 11:3). Но, опять–таки, если Бог — это только все Трое вместе, каким же образом Бог–глава Христу, т. е. Троица — глава Христу, ведь Христос — в Троице так, чтобы была Троица? Или то, что есть Отец с Сыном, — глава тому, что есть один Сын? Ведь Отец с Сыном — Бог, а Сын один — Христос, в особенности потому, что Слово, уже ставшее плотью, говорит в соответствии со своим уничижением, что Отец есть больший: «Ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28). Так что бытие Самим Богом, что едино для Него вместе с Отцом, есть глава человека–посредника, который есть Он один (1 Тим. 2:5). Ибо если мы верно считаем ум главным для человека, т. е. словно он глава человеческого существа, хотя человек является человеком [лишь] вместе с умом, то почему же тогда Слово вместе с Отцом, Которые вместе суть Бог, тем более подходящим образом не суть глава Христу, хотя Христос может мыслится как человек только вместе со Словом, ставшим плотью? Но это, как мы уже сказали, рассмотрим более внимательно несколько позднее. Сейчас же было показано равенство и тождество сущности (настолько кратко, насколько мы смогли) так, чтобы, каким бы образом не ставился этот вопрос (более проницательное обсуждение чего мы отложили), ничто не помешало бы [нам] исповедывать совершенное равенство Отца, Сына и Святого Духа.
11. Один писатель, желая кратчайшим путем обозначить свойства каждого Лица в Троице, говорит: «Вечность (aeternitas) — в Отце, вид (species) — в образе (in imagine), польза (usus) — в даре (in munere)». И поскольку это был муж немалого авторитета в истолковании Писания и в утверждении веры (ибо это было сказано в книгах Илария), то я, насколько мог, искал тайный смысл этих слов, т. е. слов об Отце, образе и даре, и о вечности, виде и пользе. И я не думаю, что словом «вечность» он хотел выразить больше того, что Отец не имеет отца, от кого бы Он был, и что Сын от Отца так, чтобы быть, и так, чтобы быть совечным Ему. Ибо если образ совершенно исполняет Того, Чьим образом является, то [именно] образ соделывается равным Ему, а не наоборот. Иларий назвал этот образ видом (speciem), как я думаю, по причине красоты (pulchritudinem), в чем налично сразу же и совершенное согласие, и совершенное равенство, и совершенное подобие; и в чем нет какого–либо различия или неравенства, или неподобия в какой–либо части, но что неизменно соответствует Тому, Чьим образом является; в чем — совершенная жизнь, ибо здесь жить и быть не есть разное, но одно и то же — быть и жить; здесь же и совершенное понимание, ибо здесь понимать и жить не есть разное, но одно и то же — понимать, жить и быть. Как будто это — совершенное Слово, Которое довлеет Себе, и некоторое искусство всемогущего и премудрого Бога, исполненное всяческим смыслом живым и неизменным; и все в нем едино, как едино оно само Тем, с Кем оно едино. В нем Бог знает все, что содеял его посредством, и поэтому по мере того, как уходит и приходит время, в знании Божием ничего не уходит или приходит. Ибо Бог знает сотворенное не потому, что оно сотворено; но, пожалуй, оно было сотворено, причем изменчивым, что Бог знает его неизменным образом. Следовательно, это невыразимое соединение Отца и образа происходит не без наслаждения, любви и радости. Значит, эта любовь, удовольствие, счастье или блаженство (если вообще это [чувство] может быть подобающе выражено каким–либо человеческим словом) называется им кратко — «пользой». В Троице это — Святой Дух, [Который] не рожден, но Он есть любезность Рождающего и Рожденного, преисполняющая неисчерпаемым изобилием и богатством всякое творение в меру его восприятия так, чтобы оно сохраняло свой порядок и удовлетворялось своим местом.
12. Следовательно, все, что было сотворено посредством Божественного искусства, выявляет в себе некоторое единство, вид и порядок. Ибо всякий предмет из этого числа есть, во–первых, нечто одно, каковы суть природы тел и врожденные свойства душ; во–вторых, формируется в некоторый вид, каковы образы и качества тел и учения или искусства душ; в–третьих же, ищет и удерживает некоторый порядок, каковы массы и положения тел, а также желания или удовольствия душ. Следовательно, необходимо, чтобы мы постигали Творца через видимые создания (Рим. 1:20) как Троицу, Чьи следы в надлежащей мере очевидны в творении. Ибо в этой Троице — высший источник всех вещей, совершеннейшая красота и блаженнейшее наслаждение. Таким образом, представляется, что эти Трое определены по отношению друг к другу, в себе же — беспредельны. Однако здесь — в вещах телесных — одно не есть столько, сколько вместе суть трое, и две вещи суть нечто большее, нежели одна; в той же высшей Троице одно [Лицо] столь же велико, сколь велики и все трое вместе, и двое не больше, нежели одно; в Себе же Они беспредельны. Итак, каждое [из Лиц] — в каждом, и все — в каждом, и каждое — во всех, и все — во всех, и все — каждое. Тот же, кто видит это, будь то отчасти или же как бы зеркалом, как в загадке, да возрадуется, познавая Бога, да воздаст Ему почести как Богу, да возблагодарит Его. Тот же, кто не видит, да будет стремиться к видению посредством благочестия, но не к извращенному толкованию вследствие слепоты. Ибо Бог един, но все же Он — Троица. Слова же «все из Него, Им и в Нем. Ему слава» (Рим. 11:36) недопустимо понимать ни как относящиеся к неразличимому единству (confuse), ни как относящиеся ко многим богам, но «Ему слава во веки. Аминь».
КНИГА 7
(В ней разъясняется отложенный вопрос о том, каким образом Бог, родивший Сына, является не только Отцом Своей силы и премудрости, но и Сам есть сила и премудрость, и также Святой Дух есть то же; причем Они вместе все же не суть три силы и три премудрости, но одна сила и одна премудрость, как один Бог и одна сущность. Здесь же спрашивается, почему латиняне говорят об одной сущности и трех лицах, а греки — об одной сущности и трех субстанциях (ипостасях); и выясняется, что говорится так по речевой необходимости, чтобы называлось какое–нибудь одно имя, когда спрашивается, что суть Трое, Которых мы воистину исповедуем как Трех, а именно: Отца, Сына и Святого Духа)
1. Давайте же теперь, насколько даст Бог, более внимательно исследуем то, что мы еще недавно откладывали [а именно]: может ли каждое отдельное Лицо Троицы Само по Себе, а не вместе с двумя другими, называться Богом; или великим, или премудрым, или истинным, или всемогущим, или праведным, и чем бы ни было то, что можно сказать о Боге, но не относительно, а непосредственно; или же эти определения можно высказать только тогда, когда мыслится [вся] Троица. Поскольку написано [что мы исповедуем]: «Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1:24), постольку возникает вопрос, является ли Он Отцом Своей премудрости и силы так, что Он премудр Своей премудростью, которою Он породил, и силен Своей силою, которую Он породил; и поскольку Он всегда был всемогущ и премудр, всегда ли Он порождал силу и премудрость. Ибо, как мы сказали, если это так, то почему Он не Отец Своего величия, которым Он велик, и Своей благости, которой Он благ, и Своей праведности, которой Он праведен; и чем бы ни было то, каковым Он является. Или если все эти [определения], несмотря на множественность их именования, мыслятся во все той же премудрости и силе так, что то же есть величие, что и сила, то же есть благость, что и премудрость, и, опять–таки, то же есть премудрость, что и добродетель, как мы уже отмечали, то давайте помнить, что когда я называю какое–либо из этих [определений], меня следует воспринимать так, как если бы я упомянул все. Итак, спрашивается: премудр ли Отец также и как отдельный, и есть ли Он сама [премудрость] Сам по Себе, или же Он премудр таким образом, каким говорит? Ведь Он говорит Словом, Которое Он породил. Не тем словом, что произносится, звучит и преходит, но тем Словом, Которое было у Бога, и Тем, Которое было Бог, и Тем, через Которое все начало быть (Ин. 1:1, 3), Словом, Которым Он равен Самому Себе и Которым Он открывает Себя вечно и неизменно. Ведь Он не есть Само Слово, как не есть Он Сын или образ. Когда же Он говорит посредством этого совечного Слова (мы исключаем те временные выражения Бога, что происходили в творении), Он мыслится не отдельно, но вместе с Самим Словом, без Которого Он, конечно же, не говорит. И не потому ли Он премудр, что Он говорит, так что Он потому премудрость, что Он — Слово? И не так ли, что быть Словом есть то же, что быть премудростью? И не возможно ли то же сказать и о силе, так что сила, премудрость и Слово суть одно и то же? И не высказываются ли [эти определения] относительно так же, как определения «Сын» и «образ»? И разве Он сильный или премудрый как отдельный, а не вместе с самими силой и премудростью, которых Он породил, подобно тому, как Он говорит не отдельно, но Тем Словом и вместе с Тем Словом, Которое Он породил? И не таким ли же образом Он велик посредством того величия и вместе с тем величием, которое Он породил? И если [дело обстоит] не так, что Он велик посредством одного, а посредством другого Он — Бог, но так, что Он велик посредством того, посредством чего Он — Бог, поскольку для Него быть великим и быть Богом — одно и то же, то, следовательно, как отдельный Он не есть Бог, но [только] посредством той Божественности и вместе с той Божественностью, Которую Он породил. Так что Сын есть Божественность Отца так же, как и премудрость и сила Отца; так же, как и Слово, и образ Отца. И поскольку для Него быть и быть Богом — одно и то же, Сын является таким же образом сущностью (essentia) Отца, каким Он — Его Слово и образ. И вследствие этого также (за исключением того, что Он — Отец) Отец [вообще] есть что–либо только потому, что у Него есть Сын, так что не только то, что Он называется Отцом (ибо очевидно, что о Нем говорится как об Отце не в отношении к Нему Самому, но в отношении к Сыну, и потому Он — Отец, что у Него есть Сын), но также и то, что Он есть Сам по Себе, [высказывается] потому, что Он породил свою сущность. Ибо подобно тому, как Он велик лишь посредством того величия, которое Он породил, Он есть (est) лишь посредством той сущности (essentia), которую Он породил, ведь для Него быть и быть великим — одно и то же. Так не есть ли Он, следовательно, Отец Своей сущности подобно тому, как Он — Отец Своего величия, подобно тому, как Он–Отец своих силы и премудрости? Ибо Его величие есть то же, что Его сила, а Его сущность — то же, что Его величие.
2. Это обсуждение порождено тем, что, как было сказано, [мы исповедуем]: «Христа, Божию силу и Божию премудрость». Вот почему, желая говорить о невыразимом, наша беседа ограничивается до тех узких рамок, что или мы говорим, что Христос не есть Божия сила и Божия премудрость, и, таким образом, бесстыдно и нечестиво противостоим апостолу; или мы исповедуем «Христа, Божию силу и Божию премудрость», но [считаем] что Его Отец не есть Отец Своей силы и премудрости, что не менее нечестиво (ибо тогда Он не будет и Отцом Христа, поскольку Христос–Божия сила и Божия премудрость); или же [мы считаем, что] Отец силен не Своей силою, и премудр не Своей премудростью (но кто же осмелится сказать такое?!); или же мы думаем, что в Отце одно дело быть, а другое — быть премудрым, так что Он не есть посредством того, посредством чего Он премудр (каковым образом обычно мыслится душа, которая иногда немудра, а иногда мудра, поскольку ее природа изменчива, а не полностью и совершенно проста); или же [мы считаем, что] Отец не есть что–либо Сам по Себе и [даже] не только то, что Он есть Отец, но [также] и то, что Он вообще есть, говорится лишь в отношении к Сыну. Но каким же тогда образом Сын той же сущности, что и Отец, ведь Сам по Себе Отец не есть сущность, и Он вообще не есть Сам по Себе, но само бытие Его есть лишь по отношению к Сыну? Однако же, напротив, в гораздо большей степени Он одной и той же сущности, поскольку Отец и Сын суть одна и та же сущность, поскольку бытие Отца не есть само по себе, но по отношению к Сыну, [т. е.] к сущности, каковую Он родил, и [посредством] каковой Он есть все, что Он есть. Следовательно, ни одно [из Лиц] не есть [отдельно] Само по Себе, но каждое высказывается относительно друг друга. И разве об одном Отце скажут, что Он не только не есть Отец Сам по Себе, но также и то, что все, что о Нем говорится, высказывается по отношению к Сыну, тогда как то, что говорится о Сыне, высказывается о Нем Самом? Если это так, то что говорится о Нем как о Нем Самом? То, что Он есть сама сущность? Но Сын есть сущность Отца, так как Он — сила и премудрость Отца, так как Он — Слово и образ Отца. Или если Сын сам по Себе называется сущностью, а Отец не есть сущность, но родитель сущности, и Он не есть Сам по Себе, но посредством той сущности, которую Он родил (подобно тому, как Он велик тем величием, которое Он родил), то тогда Сын Сам по Себе называется и величием, и силой, и премудростью, и Словом, и образом. Но что же может быть более нелепым, нежели сказать, что Он Сам по Себе является образом? Но если образ и Слово не одно и то же, что сила и премудрость, ибо те высказываются относительно, эти же — сами по себе, а не по отношению к другому, то получается, что Отец премудр не той премудростью, которую Он породил, потому что о Нем нельзя говорить по отношению к ней, и о ней нельзя говорить по отношению к Нему. Ибо все, что говорится относительно, говорится по отношению друг к другу. Следовательно, выходит, что даже сущностью Сын называется по отношению к Отцу. Из этого следует неожиданнейший вывод о том, что сама сущность не есть сущность; по крайней мере, когда она называется сущностью, имеется в виду не сущность, а [нечто] относительное. Так, когда говорится о господине, то имеется в виду не [его] сущность но то относительное, каковым он относится к рабу. Когда же мы говорим о человеке или о чем–либо таком, что высказывается непосредственно, а не по отношению к чему–то другому, тогда имеется в виду сущность. Следовательно, когда человек называется господином, сам человек есть сущность, а господином он называется относительно. Ибо он называется человеком сам по себе, а господином — по отношению к рабу. Но, исходя из этого, если сама сущность называется таковой [лишь] относительно, то она сама и не есть сущность. Однако следует учесть, что всякая сущность, о которой говорится относительно, есть все же и нечто безотносительное. [Возьмем] к примеру, человека, который является господином, человека, который является рабом, лошадь, которая есть вьючное животное, деньги, которые являются залогом. [В этих выражениях] человек, лошадь, деньги высказываются безотносительно и суть субстанции или сущности (subsiantiae sunt uel essentiae); господин же, раб, вьючное животное, залог высказываются относительно чего–то другого. Но если б не было человека, т. е. определенной сущности, то не было бы и того, о ком относительно говорится как о господине; и если б не было лошади как определенной сущности, то не было бы и того, о чем относительно говорится как о вьючном животном; и если бы таким же образом деньги не были определенной сущностью, то о них не возможно было бы высказаться относительно как о залоге. Вот почему, если Отец не есть также что–либо Сам по Себе, то тогда нет вообще никого, о ком бы можно было высказаться относительно чего–либо. Ибо [здесь дело обстоит] не так, как цвет относится к чему–либо цветному, ведь о цвете безотносительно вообще не говорится, но всегда как о чем–либо, что имеет цвет. Тот же предмет, что имеет цвет, даже если он и относится к цвету вследствие того, что называется имеющим цвет, все же, поскольку он называется телом, называется [так] самим по себе. И никоим образом не следует думать так, что Сам по Себе Отец ни как не называется, и что все, что о Нем высказывается, высказывается по отношению к Сыну, тогда как Сын называется Сыном как Сам по Себе, так и по отношению к Отцу, когда Он называется великим величием и сильной силою Сам по Себе, и величием и силою великого и сильного Отца, посредством которых Отец велик и силен. Нет, дело обстоит не так. Оба суть сущность, и Оба суть одна сущность. Ибо насколько нелепо утверждать, что белизна не является белой, настолько же нелепо утверждать, что премудрость не является премудрой. И поскольку белизна называется белой сама по себе, постольку и мудрость сама по себе называется мудрой. Но белизна тела не есть сущность, поскольку само тело есть сущность; белизна же есть его качество, и от этого качества и называется белым тело, для которого быть и быть белым не одно и то же. Ибо в теле форма — это одно, а цвет — другое, и оба суть не сами в себе, но в некоторой массе, каковая не есть ни форма, ни цвет, но имеет форму и цвет. Истинная же премудрость премудра, и она премудра сама по себе. Ибо если какая–либо душа, ставшая мудрой в силу причастия премудрости, вновь утрачивает разумение, сама премудрость, однако же, пребывает в себе; и если такая душа, изменившись, стала глупой, премудрость не изменяется. [Следовательно], не таким образом пребывает премудрость в том, кто от нее становится мудрым, каким в теле пребывает белизна, от которой тело является белым. Ибо когда тело, изменившись, приобретает другой цвет, эта белизна не остается, но совсем преходит. Если же и Отец, Который породил премудрость, становится от нее премудрым, и для Него быть и быть премудрым не одно и то же, то Сын есть Его качество, а не Его порождение, и Они уже не будут совершенной простотой. Но да не помыслит этого никто, ибо Они суть [вместе] совершенная простая сущность, и для Них быть и быть премудрыми — одно и то же. Если же для Них быть и быть премудрыми — одно и то же, Отец премудр не посредством премудрости, которую Он родил, иначе не Он родил ее, но она породила Его. Ибо что же еще мы говорим, когда мы говорим, что для Него быть и быть премудрым — одно и то же, как не то, что Он есть посредством того, посредством чего Он премудр? Вот почему то, что для Него причина того, что Он премудр, является также и причиной того, что Он [вообще] есть. Соответственно, если премудрость, которую Он породил, является для Него причиной того, что Он премудр, она также является для Него и причиной того, что Он есть. И этого не может быть, как только в том случае, если она порождает или создает Его. Но никто ни коим образом не называл премудрость ни родительницей, ни создательницей Отца, ибо что же есть более безумного? Следовательно, и Сам Отец есть премудрость, и так же Сын называется премудростью Отца, каким образом Он называется Светом Отца; т. е. каким образом Свет от Света и Оба суть один Свет, таким же образом следует мыслить Премудрость от Премудрости и то, что Они Оба суть одна Премудрость. Следовательно, и сущность одна, ибо для Них быть и быть премудрым — одно и то же. Ибо что для премудрости быть мудрым, для могущества — могучим, для вечности — вечным, для праведности — праведным, для величия — великим, то для сущности быть сущим. И так как в этой простоте быть и быть премудрым — одно и то же, в ней премудрость есть то же, что и сущность.
3. Итак, Отец и Сын вместе суть одна сущность, одно величие, одна истина, одна премудрость. Но Отец и Сын Оба не суть вместе одно Слово, поскольку Они оба вместе не суть один Сын. Ибо как Сын относится к Отцу и называется таковым не Сам по Себе, так и Слово относится к Тому, Чьим Словом Оно является, когда называется Словом. Ибо Он Сын посредством того, что Он Слово, и Он Слово посредством того, что Он Сын. Значит, поскольку Отец и Сын вместе, конечно же, не суть один Сын, постольку, следовательно, Отец и Сын вместе Оба не суть одно Слово. Поэтому Он не есть Слово потому, что Он премудрость, ибо Он называется Словом не Сам по Себе, но только по отношению к Тому, Чьим Словом Он является таким же образом, каким Он Сын по отношению к Отцу; но Он есть премудрость потому, что Он–сущность. И так как сущность одна, премудрость [также] одна. Поскольку же и Слово есть премудрость (но не потому Он Слово, что Он премудрость, ибо Слово мыслится как относительное, а премудрость — как существенное), постольку давайте будем считать, что когда говорится о Слове, говорится о рожденной премудрости так, чтобы это было и Сыном, и образом. Когда же произносятся эти два [слова], т. е. «рожденная премудрость», [тогда] в одном из них — «рожденная» — мыслится и Слово, и образ, и Сын, и во всех этих именах сущность не проявляется, так как они высказываются относительно; однако в другом слове — «премудрость» -, поскольку оно высказывается само по себе (ибо премудрость премудра сама по себе), сущность выражается, ибо для Него быть и быть премудрым — одно и то же. Поэтому Отец и Сын вместе суть одна премудрость, ибо Они суть одна сущность, и так же по отдельности Они суть премудрость от премудрости, как и сущность от сущности. И хотя Отец не есть Сын, а Сын не есть Отец, или [иначе] хотя первый — Нерожденный, а второй–Рожденный, Они суть одна сущность, потому что этими [различными] именами обозначаются лишь относительные [определения]. Значит, Оба суть и одна премудрость, и одна сущность, в каковой быть и быть премудрым — одно и то же. Но вместе Они Оба не суть Слово или Сын, ибо не одно и то же — быть и быть Словом или Сыном, поскольку мы уже довольно показали, что эти [определения] высказываются относительно.
4. Но почему же тогда в Писании почти нигде ничего не говорится о премудрости, за исключением того, чтобы показать, что она была рождена или сотворена (genita uel creata) Богом? [Она была] рождена, потому что через нее все начало быть; [она была] сотворена или создана, потому что она [пребывает] в людях, когда они обращаются к ней и просвещаются ею как не сотворенной или созданной, но как рожденной. Ибо в них возникает нечто, что может быть названо их мудростью. Ведь и Писание предвозвещает и повествует о том, что «Слово стало плотью, и обитало с нами» (Ин. 1:14), ибо таким образом Христос соделался премудростью потому, что Он соделался человеком. И не потому ли в этих книгах премудрость не говорит ничего, или же о ней не говорится ничего, как только то, что показывает ее как рожденную или созданную Богом (хотя и Отец есть премудрость), что надлежало ее препоручить нам, дабы мы подражали ей, ибо мы образуемся подражанием этой премудрости? Ведь Отец высказывает ее так, чтобы она была Его Словом, но не звучащим словом, что произносится из уст или мыслится прежде произнесения, ибо такое слово исполняется во времени, а Слово [Божие] вечно. Слово [Божие], просвещая нас, говорит о Себе и об Отце то, что должно быть сказано человекам. Поэтому Христос утверждает: «Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27), ибо Отец открывает через Сына, т. е. через Слово Свое. Ведь если и то временное и преходящее слово, которое мы произносим, выявляет как себя самого, так и то, о чем мы говорим, насколько же более того [это делает] Слово Божие, через Которое все начало быть! Ибо Оно так выявляет Отца, как Он есть, потому что Слово [Божие] есть как Оно Само, так и Отец, поскольку Оно есть как премудрость, так и сущность. Поскольку же Оно–Слово, Оно не есть то же, что Отец, ибо Слово не есть Отец, и Слово высказывается относительно, как и Сын, Который, конечно же, не есть Отец. И потому Христос — сила и премудрость, что Он есть сила и премудрость от Отца, Который Сам есть сила и премудрость; и Он есть Свет от Отца, Который Сам есть Свет, и Он — источник жизни у Бога Отца, Который Сам есть источник жизни. Ведь сказано: «У Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пc. 35:10), «ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26). И «был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9); и этот свет — Слово — был у Бога, а «Слово было Бог» (Ин. 1:1). И «Бог есть свет, и нет в Нем ни какой тьмы» (1 Ин. 1:5), но свет, конечно же, не телесный, а духовный; однако не таким образом духовный, что создан просвещением, и которым говорится апостолам: «Вы — свет мира» (Мф. 5:14). [Нет] то, о чем мы сейчас говорим, — это свет, который просвещает всякого человека; это — сама совершенная премудрость, Сам Бог. Следовательно, Сын — Премудрость от Премудрости, т. е. от Отца, подобно тому, как Он — Свет от Света, и Бог от Бога так, что и Сам по Себе Отец — Свет, и Сам по Себе Сын — Свет, и Сам по Себе Отец — Бог, и Сам по Себе Сын — Бог. Значит, и Сам по Себе Отец — Премудрость, и Сам по Себе Сын–Премудрость. И как Они Оба вместе суть один Свет, и один Бог, так же Оба Они суть одна Премудрость. Но Сын «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30), потому что мы обращаемся к Нему во времени, т. е. от определенного времени, чтобы пребывать с Ним в вечности. И во времени [поэтому] Само «Слово стало плотью, и обитало с нами» (Ин. 1:14).
5. Следовательно, вот почему, когда в Писании возвещается или повествуется что–либо о премудрости (или когда Она говорит Сама, или когда говорится о ней), прежде всего, нам внушается мысль о Сыне. И по примеру Того, Кто есть Образ, да не будем мы удаляться от Бога, ибо и мы — образ (imago) Божий, хотя и неравный [Отцу], и не рожденный от Отца, как Тот, ибо мы соделаны образом от Отца через Сына. Мы — образ, потому что просвещаемся светом; Он же — образ, потому что Он и есть Свет, который светит. Он, не имея для Себя образца, Сам есть образец (exemplum) для нас. Ибо Он не подражает ничему предыдущему, ибо, что касается Отца, от Которого Он совершено не отделим, то Он Сам по Себе есть то, что есть Тот, от Кого Он есть. Мы же, стараясь, подражаем Тому, Кто пребывает, и следуем Тому, Кто недвижим, и, входя в Него, мы устремляемся к Нему, поскольку Он соделался для нас временным путем посредством [Своего] уничижения, которое в силу [Его] Божественности служит нам вечным пристанищем. Ибо поскольку Он, будучи в образе (forma) Божием и равным Богу и Самим Богом, являет Собой образец для чистых умных духов (spiritibus mundis intellectualibus), которые не впали в грех гордыни, постольку, чтобы явить Самим Собой образец возвращения также и падшему человеку, который вследствие нечистоты греха и наказания смертью не может узреть Бога, Он «уничижил Самого Себя» (Флп. 2:7), но не изменив Свою Божественность, а лишь усвоив нашу изменчивость; и, «приняв образ раба» (Флп. 2:7), Он пришел к нам в этот мир (1 Тим. 1:15), и Он был в этом мире, потому что мир через Него начал быть (Ин. 1:10). [Итак, Он пришел], чтобы явить образец тем, кто видит Бога горе, образец тем, кто дивится человеку здесь, образец тем, кто здоров, чтоб они хранились; образец тем, кто немощен, чтоб они исцелились; образец тем, кто умирает, чтоб они не страшились; образец тем, кто умер, чтоб они восстали; «дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1:18); затем, чтобы человек, который для достижения блаженства не должен следовать никому, кроме Бога, Которого он не может воспринимать, мог следовать за Богом, сделавшимся человеком, Кого он может воспринимать, и Кому он должен следовать. Так давайте же возлюбим Его и прикрепимся к Нему любовью, распростертою в наших сердцах посредством Святого Духа, Который нам дан (Рим. 5:15). Поэтому не следует удивляться ни тому, что Образ, равный Отцу, являет нам образец, дабы мы преобразились сообразно Образу Божиему; ни тому, когда Писание, говоря о премудрости, говорит О Сыне, Которому мы следуем, если живем мудро; хотя и Отец есть премудрость так, как Он есть и свет, и Бог.
6. Святой Дух также, зовется ли Он совершенной любовью, которая сочиняет Отца и Сына, а также подчиняет нас Им, что вполне справедливо, ибо сказано: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8) — не может не быть и премудростью, поскольку Он есть свет, ибо Бог есть свет. Или же если сущность Святого Духа надлежит обозначить каким–либо другим отдельным и особенным образом, то [все равно] поскольку Он — Бог, Он, конечно же, свет; а поскольку Он — свет, Он, конечно же, и премудрость. То же, что Святой Дух — Бог, Писание провозглашает через апостола, который говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий», и сразу же добавляет: «и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). Ибо Бог обитает в храме Своем. Ведь Дух Божий обитает в храме Божием не как слуга, о чем апостол говорит с еще большей ясностью в другом месте: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор. 6:19–20). И что же еще есть премудрость, как не свет духовный и неизменчивый?! Ибо и это солнце тоже есть свет, но телесный; и духовное творение тоже есть свет, но не неизменчивый. Следовательно, и Отец — свет, и Сын — свет, и Святой Дух — свет; однако вместе Они не три света, но единый свет. И поэтому и Отец — премудрость, и Сын — премудрость, и Святой Дух — премудрость; вместе же Они не три премудрости, но одна премудрость. Поскольку же для Них быть и быть премудрым–одно и то же, постольку Отец, Сын и Святой Дух суть одна сущность. И для Них одно и то же — быть и быть Богом. Следовательно, Отец, Сын и Святой Дух — единый Бог.
7. Итак, для того, чтобы высказаться о том, что невыразимо, дабы мы смогли хоть как–то выразить то, что невозможно выразить, наши греки говорят об одной сущности и трех субстанциях (ипа essentia, tres substantiae ), латиняне же — об одной сущности или субстанции и трех лицах (ипа essential ие1 substantia, tres personae) (ибо, как я уже говорил, в нашем языке, т. е. латыни, сущность (essentia) и субстанция (substantia) обычно мыслятся тождественными). И покуда то, что говорится, понимается, по крайней мере, гадательно, выражаться таким образом было достаточно, чтобы что–нибудь сказать, когда спрашивается о том, что суть Те Трое, Которых истинная вера возвещает как трех, когда она утверждает, что Отец не есть Сын и что Святой Дух, Который есть дар Божий, не есть ни Отец, ни Сын. Итак, когда спрашивается о том, что суть Трое, или что суть Три (quid tria uel quid tres), мы обращаемся к поиску некоторого видового или родового имени, которым бы мы охватили этих Трех; но оно не приходит на ум, поскольку превосходность (supereminentia) Божества выступает за пределы речевой способности. Ибо о Боге вернее мыслить, нежели говорить, и Его бытие вернее, нежели Он мыслится. Ибо когда мы говорим, что Иаков — не одно и то же, что Авраам, а Исаак — не одно и то же, что Авраам или Иаков, то мы, конечно же, признаем, что их трое — Авраам, Исаак и Иаков. Однако, когда спрашивается о том, что суть эти трое, мы отвечаем, что это — три человека, и называем их во множественном числе видовыми именами. Если бы мы давали им имя родовое, то [мы бы сказали, что] они суть трое животных (tria animalia) (ибо человек по определению древних — животное разумное и смертное); или, как обычно говорится в нашем Писании, [мы бы сказали, что они суть] три души (tria animas), ибо желательно называть целое по лучшей части, т. е. душой, ведь целый человек — это душа и тело [вместе]. Ибо именно таким образом говорится, что семьдесят пять душ пришли с Иаковом в Египет (Быт. 46; Втор. 10:22), вместо того, чтобы говорилось о том же числе людей. И так же, когда мы говорим, что твоя лошадь — не моя, а третья — еще кого–то, но не моя и не твоя, мы признаем, что их три, и спрашивающему о том, что суть эти три, мы отвечаем, что по своему видовому имени это — три лошади, а по своему родовому имени это — три животных. И точно так же, когда мы говорим, что бык — не лошадь, а собака — не бык, и не лошадь, мы говорим о трех; тому же, кто спрашивает о том, что суть эти трое, мы отвечаем теперь не посредством видового имени, что они суть три лошади, или три быка, или три собаки, ибо они не относятся к одному и тому же виду, но посредством родового имени, что они суть три животных; или же [мы можем обозначить их] посредством высшего рода как три существа, или три твари, или три природы. Но что бы ни выражалось во множественном числе одним именем в виде, может также быть выражено и в роде. Однако не все, что называется одним именем в роде, мы можем также назвать одним именем в виде. Так, мы называем трех лошадей, что является именем видовым, также и тремя животными. Но лошадь, быка и собаку мы называем только тремя животными или тремя существами (и что бы ни было то, что можно сказать о них в роде), которые суть имена родовые; три же лошади или быка, или собаки, каковые названия суть видовые, мы сказать о них не можем, хотя мы и выражаем их во множественном числе одним именем в том, что они имеют сообща и что обозначается этим именем. Ибо Авраам, Исаак и Иаков сообща имеют то, что есть человек, и, таким образом, они называются тремя людьми. Так же и лошадь, бык и собака сообща имеют то, что есть животное, и они поэтому называются тремя животными. Таким же образом мы три каких–нибудь лавра называем также тремя деревьями, но лавр, мирт и оливу [мы называем] только тремя деревьями, или тремя сущностями, или тремя природами. Таким же образом и три камня суть также три тела; камень же, дерево и железо могут быть названы только тремя телами или же именем высшего рода. Поскольку же Отец, Сын и Святой Дух [также] суть трое, давайте рассмотрим, что Они суть как трое, и что Они имеют сообща. Ибо Им не обще то, что есть Отец, так, чтобы Они по отношению друг к другу были Отцами, подобно тому как о друзьях, поскольку они называются таковыми относительно друг друга, можно сказать как о трех друзьях, потому что они таковые по отношению друг к другу. Но не то же самое для Них, ибо из Них только Отец есть Отец, и Он — Отец не двух, но лишь одного Сына. И Они не суть три Сына, ибо из Них ни Отец, ни Святой Дух не есть Сын. И Они не суть три Святых Духа, ибо Святой Дух по Своему собственному значению, по которому он также и дар Божий, не есть ни Отец, ни Сын. Так что же эти Трое суть? Ибо если Они суть три лица, то Им обще то, что есть лицо. Следовательно, это имя является для Них видовым или родовым, если мы принимаем такой способ выражения. Но в том, в чем нет никакого различия в природе, что–либо многое может быть обозначено как родом, так и видом. Ибо различие в природе обусловливает то, что лавр, мирт и олива или лошадь, бык и собака не называются [одним] видовым именем, например, первые — тремя лаврами, а вторые — тремя быками. [Это различие обусловливает то, что они могут называться только одним] общим именем, например, первые — тремя деревьями, а вторые — тремя животными. В том же, в чем нет никакого различия в сущности, должно быть так, что бы эти Трое имели и [одно] видовое имя, которое, однако, не находится. Ведь лицо–это родовое имя настолько, что даже человек может быть им назван, хотя человек и Бог столь различны.
8. Далее, что касается самого родового названия, то если мы говорим о трех лицах, потому что для Них общим является то, что есть лицо (иначе бы Они никоим образом не могли так называться, как не называются Они тремя сыновьями, поскольку то, что есть Сын, не является для Них общим), почему мы также не называем Их тремя Богами? Ведь, несомненно, поскольку и Отец — лицо, и Сын — лицо, и Святой Дух — лицо, Они суть три лица. Так почему же, следовательно, не три Бога, поскольку и Отец–Бог, и Сын — Бог, и Святой Дух — Бог? Или же если вследствие [Их] невыразимого сочетания эти Трое вместе суть один Бог, то почему Они также не суть одно лицо так, что мы уже не могли бы сказать о трех лицах (хотя каждое по отдельности мы называем лицом), как мы не можем говорить о трех Богах (хотя каждого по отдельности мы называем Богом, будь то Отец или Сын, или Святой Дух)? Или же [дело обстоит] так потому, что Писание не говорит о трех богах? Но мы также не обнаруживаем, чтобы Писание где–нибудь упоминало о трех лицах. Или же так потому, что Писание не называет этих Трех ни тремя лицами, ни одним лицом (ибо [в Нем] мы читаем о лице Господа, но не о Господе как лице)? И в разговоре или обсуждении позволялось по необходимости говорить о трех лицах не потому, что так говорится в Писании, но потому, что это не противоречит Писанию; тогда как если бы мы говорили о трех Богах, то это противоречило бы Писанию, в котором сказано: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4)? Почему же тогда не позволяется говорить и о трех сущностях, что в Писании как не упоминается, так и не опровергается? Ведь если сущность есть видовое имя, общее Трем, почему же тогда мы не говорим о Них как о трех сущностях, как [например, мы называем] Авраама, Исаака и Иакова тремя людьми, поскольку человек есть видовое имя, общее всем людям? Если же сущность — не видовое имя, но родовое, поскольку сущностью можно назвать и человека, и скот, и дерево, и созвездие, и ангела, почему же тогда не называют Их тремя сущностями, подобно тому, как называют трех лошадей тремя животными, три лавра — тремя деревьями, а три камня — тремя телами? Или если Они не называются тремя сущностями, но только одной сущностью вследствие единства Троицы, то почему вследствие того же самого единства не говорится об одной субстанции (substantia) или об одном лице (persопа), но о трех субстанциях или лицах? Ведь поскольку имя сущности является общим для Них так, что каждый из Них по отдельности называется сущностью, постольку общим для Них является и название субстанции или лица. Ведь мы сказали, что то, что должно пониматься под «лицом» в соответствии с нашим языковым обычаем, должно пониматься под «субстанцией» (substantia) в соответствии с греческим. Ибо они, говоря о трех субстанциях и одной сущности (tres substantias, ипат essentiam), имеют в виду то же, что и мы, говоря о трех лицах и одной сущности или субстанции (tres personas, ипат essentiam ие1 substantiam).
9. Так что же, следовательно, нам остается, как не признать, что эти имена возникли по необходимости называния, когда потребовалось обстоятельное обоснование против козней или ошибок еретиков? Ибо когда человеческая беспомощность пыталась речью передать человеческому восприятию то, что оно схватывает касательно Господа Бога Творца в тайниках ума в соответствии с его способностью или же с помощью благочестивой веры, или посредством какого бы то ни было рассуждения, она боялась говорить о трех сущностях, дабы в этом совершенном равенстве не мыслилось какое–либо различие. Но не могла же она и сказать, что нет неких Трех (tria quaedam), ибо, сказавши так, Савеллий впал в ересь. Ведь вернейшим образом познается из Писания и схватывается недвусмысленным восприятием умственного взора то, чему надлежит благочестиво верить [а именно тому, что] есть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и Сын не есть то же, что и Отец, а Святой Дух не есть то же, что есть Отец или Сын. [Итак, поскольку человеческая беспомощность] пыталась найти выражение, которым бы она обозначила этих Трех, она назвала Их субстанциями или лицами, посредством каковых названий она желала не того, чтобы Они мыслились раздельными, но не желала того, чтобы Они мыслились слиянными; [т. е. она хотела сказать, что] в Них должно мыслиться не только единство, по которому о Них говорится как об имеющих одну сущность, но что Они суть также и Троица, отчего о Них говорится как о трех субстанциях или лицах. Ведь если для Бога быть (esse) и существовать (subsistere) — одно и то же, Их нельзя было называть тремя субстанциями (tres substantiae) в том смысле, в каком Они не назывались бы тремя сущностями (tres essentiae); и точно так же, поскольку для Бога быть и быть премудрым — одно и то же, постольку как не говорим мы [здесь] о трех сущностях, так и не говорим о трех премудростях. Ибо, [опять–таки], поскольку для Него быть и быть Богом — одно и то же, постольку как непозволительно говорить [в таком случае] о трех сущностях, так же [непозволительно] говорить и о трех Богах. Если же для Бога быть и существовать — не одно и то же, подобно тому, как не является для Него одним и тем же быть и быть Отцом или быть Господом (ибо то, что Он есть, высказывается о Нем Самом, а Отцом Он называется по отношению к Сыну, Господом же — по отношению к подчиненному Ему творению), то существует (subsistit) Он, значит, относительно, подобно тому, как относительно Он рождает и господствует. Но тогда субстанция (substantia) не будет [более] субстанцией, потому что она будет [чем–то] относительным. Ибо как от бытия (еssе) производится сущность (essentiae), так от существования (subsistere) производится субстанция (substantia). Однако же нелепо, [когда говорится, что] субстанция высказывается относительно; ибо все существует (subsistit) само по себе, а тем более Бог.
10. Однако если же приличествует говорить о том, что Бог существует (ибо правильно мыслить существующими те вещи, в которых как подлежащих (subiectis) суть те, о которых говорится, что они суть в каком–либо подлежащем, как, например, цвет или форма в теле; ибо тело существует (subsistit), и потому является субстанцией (substantia); ведь те вещи, что суть в существующем теле как подлежащем, не суть субстанции, но — в субстанции, а потому если тот цвет или та форма перестанет быть, у тела не отнимется его бытие телом, потому что для него не одно и то же–быть и удерживать ту или иную форму и цвет; следовательно, субстанциями (substantiaе) собственно называются вещи изменчивые, а не простые); так вот, если о Боге можно говорить, что Он существует, так что о Нем можно сказать как о субстанции собственно, тогда в Нем есть что–то как в подлежащем, и Он не прост; а также для Него не одно и то же — быть и быть всем тем, что о Нем говорится по отношению к Нему Самому, как то: великий, всемогущий, благой и что бы то ни было такого рода, что соответствующим образом высказывается о Боге. Но тогда не допустимо говорить о том, что Бог существует, и что Он подлежит Своей благости, и что Его благость не является субстанцией или даже сущностью, а также и то, что Бог не есть Своя благость, и что она — в Нем как в подлежащем. Поэтому очевидно, что Бог называется субстанцией (substantiam) в несобственном смысле (abusiue) для того, чтобы обозначить то, что обозначается более употребляемым словом «сущность» (essentiа), которым Он называется правильно и в собственном смысле, так что, возможно, один Бог должен называться сущностью. Ибо Он действительно один, так как он неизменен; и это Свое имя Он возвестил Своему слуге Моисею, когда говорил: «Я есмь Сущий»; а также: «Скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. 3:14). Однако, называется ли Он сущностью, т. е. называется ли Он в собственном смысле, или же называется Он субстанцией, т. е. называется ли Он в несобственном смысле, в обоих случаях Он называется так Сам по Себе, а не по отношению к чему–либо. Поэтому для Бога быть и существовать — одно и то же; и, значит, если Троица — одна сущность, Она же — одна субстанция. Следовательно, возможно [именно] поэтому лучше говорить о Троице как о трех лицах, нежели как о трех субстанциях.
11. Но дабы не показалось, будто бы я высказываюсь в поддержку нас (латинян), рассмотрим также следующее. Хотя и они (греки), если бы пожелали, могли бы называть три лица τζιαπζοσωπα, как они называют три субстанции τζια υποστασειζ, они все же предпочитают последнее выражение, которое, возможно, больше соответствует их языковому употреблению. Ведь и в случае со словом «лица» дело обстоит так же: ибо для Бога совершенно одно и то же — быть и быть лицом. Ведь если Сущим Он называется Сам по Себе, а лицом — относительно, то мы должны говорить о трех лицах — Отце, Сыне и Святом Духе — так, как мы говорим о трех друзьях или о трех близких, или о трех соседях (в том, каковы они по отношению друг к другу, а не в том, каков каждый из них сам по себе). Вот почему каждый из них является для двух остальных или другом, или близким, или соседом, ибо эти имена имеют относительное значение. Так что же? Неужели мы должны называть Отца лицом Сына и Святого Духа или Сына лицом Отца или Святого Духа, или Святого Духа лицом Отца и Сына? Но нигде слово «лицо» не имеет обыкновения использоваться в таком значении, и в Самой Троице, когда мы говорим о лице Отца, мы не имеем в виду ничего, кроме как субстанции (substantiam) Отца. Вот почему поскольку субстанция Отца есть Сам Отец, не от того, что Он Отец, но от того, что Он есть, постольку и лицо Отца есть не что иное, как Сам Отец. Ибо Он называется лицом Сам по Себе, а не по отношению к Сыну или Святому Духу, подобно тому, как Бог называется и великим, и благим, и праведным, и каким бы то ни было еще такого же рода. И каким образом для Него одно и то же — быть и быть Богом или быть великим, или быть благим, таким же образом для Него одно и то же — быть и быть лицом. Так почему же мы не называем этих Трех вместе одним лицом, [так же] как и одной сущностью и одним Богом, но называем [Их] тремя лицами, хотя мы и не называем [Их] тремя Богами или тремя сущностями, как не потому, что мы хотим, чтобы какое–то одно слово служило значению, в котором бы мыслилась Троица так, чтобы мы, будучи вопрошенными, что суть Трое, не остались бы молчаливыми тогда, когда мы исповедуем, что Они суть Трое? Ибо если сущность (еssentia) есть род, а субстанция (substantia) или лицо — вид, как думают некоторые (я опускаю то, что уже сказал, [а именно, что] Они должны называться тремя сущностями, поскольку Они называются тремя субстанциями или лицами, подобно тому, как три лошади называются тремя лошадьми, и они же — тремя животными, ведь лошадь–это вид, а животное — род. Ибо здесь не говорится о виде во множественном числе, а о роде в единственном, подобно тому, как говорится о трех лошадях и об одном животном; но как они суть три лошади по своему видовому имени, так же они суть трое животных по своему родовому имени. Но если скажут, что имя субстанции или лица обозначает не вид, а нечто единичное или индивидуальное; так что о субстанции или о лице говорится не так, как говорится о человеке, каковое определение является общим для всех людей; но каким образом говорится о данном человеке, как об Аврааме, или Исааке, или Иакове, или как о ком бы то ни было, на кого, как на наличного, можно указать пальцем, таким же образом и здесь то же соотношение. Ибо как Авраам, Исаак и Иаков называются тремя индивидами, называются они также и тремя людьми, и тремя душами. Так почему же, следовательно, и Отец, и Сын, и Святой Дух, если мы рассуждаем о Них в соответствии с определениями рода, вида и индивида, не называются так же тремя сущностями (tres еssentiae), как называются они тремя субстанциями или лицами (tres substantiae seu personae)! Это, как я сказал, я опускаю), то, говорю я, если сущность есть род, то тогда одна сущность не имеет видов подобно тому, как поскольку животное есть род, одно животное не имеет видов. Следовательно, Отец, Сын и Святой Дух не суть три вида одной сущности. Если же сущность есть вид так, как человек есть вид, то те Трое, Которых мы называем субстанциями или лицами, имеют сообща один и тот же вид точно так же, как и Авраам, Исаак и Иаков сообща имеют тот вид, что называется человеком (но [конечно же] не так человек подразделяется на Авраама, Исаака и Иакова, как будто один человек может быть подразделен на нескольких отдельных людей, ибо это совсем невозможно, поскольку один человек есть также и отдельный человек). Почему же тогда одна сущность подразделяется на три субстанции или лица? Ведь если сущность — вид, как, например, человек, то одна сущность есть так же, как есть один человек. Или же как говорим мы о трех людях одного и того же пола, телесного строения и характера как об имеющих одну природу (ибо трое людей, но одна природа), так же мы говорим здесь и о трех субстанциях и одной сущности, или о трех лицах и одной субстанции или сущности? Как бы то ни было, это есть нечто подобное, поскольку и древние, которые говорили на латыни, прежде, чем они возымели эти имена, недавно вошедшие в употребление, т. е. сущность или субстанцию, вместо них говорили о природе. Мы поэтому используем эти слова не в соответствии с определениями рода и вида, но как бы в смысле общей и тождественной породы (таterieт). Точно так же если бы три изваяния были сделаны из одного и того же золота, мы бы сказали, что три изваяния суть одно золото, но не называли бы золото родом, а изваяния видами или золото видом, а изваяния индивидами. Ибо нет никакого вида, выходящего за свои индивиды так, чтобы в нем понималось что–либо, кроме них. Ибо когда я определял, что есть человек, каковое имя есть видовое, каждый отдельный человек, каковой есть индивид, подлежит одному и тому же определению, и к нему не относится ничего, что не было бы человеком. Когда же я определял золото, то [это определение] касалось не только изваяний (если они были сделаны из золота), но и колец, и всего того, что бы ни было то, что сделано из золота. И даже если из него ничего не было бы сделано, оно [все равно] называлось бы золотом; поэтому даже если бы изваяния не были золотыми, они все же были бы изваяниями. И точно так же ни один вид не выходит за определение своего рода. Касательно же моего определения животного [надо сказать], что поскольку видом этого рода является лошадь, всякая лошадь есть животное, но не всякое изваяние есть золото. Поэтому, хотя мы правильно говорим о трех золотых изваяниях как о трех изваяниях и одном золоте, однако, мы говорим это не так, что мыслим под золотом род, а под изваяниями виды. Следовательно, и о Троице мы говорим как о трех лицах или субстанциях и одной сущности, и одном Боге не так, словно три нечто суть из одной породы (таteria), даже если все, что есть, раскрывается в этих трех. Ибо нет ничего от этой сущности, что есть помимо той Троицы. Мы же говорим о трех лицах одной и той же сущности или о трех лицах и одной сущности; но мы не говорим о трех лицах из одной и той же сущности, как если бы в Троице сущность есть одно, а лицо — другое так, как мы можем сказать о трех изваяниях из одного и того же золота; ибо в этом случае одно–быть золотом, и другое — быть изваяниями. И когда говорится о трех людях и одной природе, или о трех людях одной и той же природы, то также можно сказать о трех людях из одной и той же природы, поскольку из одной и той же природы могут быть и три других человека. Но в той сущности Троицы ни коим образом не может быть какого–либо другого лица из той же сущности. Кроме того, в подобных предметах один человек не есть столько же, сколько суть трое человек вместе, и двое человек есть нечто большее, нежели один человек. И в одинаковых изваяниях золота больше в трех вместе, нежели в каждом по отдельности, и меньше золота в одном, нежели в двух. В Боге же не так; ибо Отец и Сын вместе не суть большая сущность, нежели Отец или Сын по отдельности; но эти три субстанции или лица (если надлежит их называть таким образом) вместе равны каждому по отдельности, чего не понять человеку естественному (аnimalis). Ибо он не может мыслить, как только лишь посредством вещества или пространства, будь то малым или великим, ибо в его сознании (in animo) блуждают чувственные представления (образы тел).
12. Пока же он не очистится от этой нечистоты, пусть верует в Отца и Сына, и Святого Духа, единого Бога, единственного, великого, всемогущего, благого, праведного, милосердного, Творца всего видимого и невидимого, и во все то, что может быть о Нем сказано соразмерно человеческой способности подобающим истинным образом. Когда же он услышит, что лишь Отец есть Бог, пусть не отделяет от Него Сына или Святого Духа, ибо только с Теми Он Бог, с Кем Он единый Бог; ведь когда мы слышим, что Сын также есть единственный Бог, мы должны воспринимать Его таковым без какого–либо разделения с Отцом или Святым Духом. И пусть он говорит об одной сущности таким образом, чтобы не считать, будто она есть нечто иное или большее, или лучшее, или же в каком–то отношении различное, но не таким образом, будто Отец Сам есть Сын и Святой Дух, и что бы то ни было, чем называется каждый из Них по отношению к каждому, другому по отдельности, как, например, Слово, каковым именуется только Сын, или, например, дар, каковым именуется только Святой Дух. По этой причине в данном отношении даже допускается множественное число, как это и обнаруживается в Евангелии: «Я и Отец одно есмы» (Ин. 10:30). Так, [Христос] сказал и «одно», и «есмы»; «одно» — сообразно сущности, так как Они суть один и тот же Бог; «есмы» — относительно, так как один — Отец, другой–Сын. Иногда же о единстве сущности умалчивается, и упоминается только об относительном во множественном числе: «Я и Мой Отец придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). «Придем» и «сотворим» — во множественном числе, поскольку было перед этим сказано: «Я и Мой Отец», т. е. Сын и Отец, — относительно друг друга. Иногда же это лишь подразумевается, как, например, в Книге Бытия: «Сотворим человека по образу Нашему, и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). И «сотворим», и «нашему» сказано во множественном числе, и должно восприниматься не иначе, как только в относительном смысле; ибо сотворили бы человека не боги и не по образу и подобию богов, но сотворили Отец, Сын и Святой Дух соответственно по образу и подобию Отца, Сына и Святого Духа так, чтобы существовал человек — образ Божий. Бог же есть Троица. Но поскольку этот образ Божий не был создан совершенно равным [Ему], ибо он был не рожден Им, но сотворен; для того, чтобы это выразить, [говорится, что] он является образом лишь постольку, поскольку он есть «по образу», т. е. он не равняется [Ему], но лишь приближается [к Нему] некоторым подобием. Ибо приближаются к Богу не пространством, а подобием, а неподобием удаляются от Него. Есть же, однако, и те, что проводят различие так, что хотели бы, чтобы Сын был образом, а человек — не образом, но «по образу». Их опровергает апостол, говоря: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что Он есть образ и слава Божия» (1 Кор.11:7). [Ведь] не сказал же он «по образу», но — «образ». Однако, поскольку в других местах говорится «по образу», то этот «образ» не следует понимать, как если бы это было сказано о Сыне, ибо Он есть образ, равный Отцу. Ведь иначе не было бы сказано «по образу Нашему». Но почему «Нашему», раз только Сын есть образ Отца? Но, как мы сказали, вследствие его неравного подобия [Богу], о человеке сказано, что он есть «по образу»; и потому [говорится] «Нашему», что человек есть образ Троицы, не равный Троице, как Сын Отцу, но приближающийся к Ней, как было сказано, некоторым подобием (точно так же в удаленных предметах может обозначаться некоторая близость, но не в пространственно смысле, а в смысле подражания). Ибо по этому поводу говорится: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2), а также: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные» (Еф. 5:1). Ибо о новом человеке сказано: «Который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:10). Или же если нам угодно, вследствие необходимости рассуждения, допустить множественное число, оставив даже относительные имена, так, чтобы мы посредством одного имени могли ответить, когда нас спрашивают о том, что суть трое, и чтобы мы говорили о трех субстанциях или трех лицах, то пусть не мыслят при этом о каком–либо веществе или пространстве, или же о различии, каким бы малым оно ни было, и пусть не думают, что [в Троице] одно по отношению к другому хотя бы немного меньше, каким бы образом ни могло быть меньшим одно по отношению к другому: затем, чтобы не было ни слияния лиц, ни такого различия, через которое бы возникло неравенство. Если это не может быть схвачено разумением, пусть удерживается верою, пока не воссияет в сердцах Тот, Кто говорит через пророка: «Если не уверуете, не уразумеете» (Ис. 7:9).
КНИГА 8
(В ней объясняется, что в Троице не только один не больше другого, но и все трое вместе не суть нечто большее, нежели каждый по отдельности. Здесь также указывается, что посредством истины, созерцаемой пониманием; посредством высшего блага, которым существует всякое благо; посредством праведности, ради которой любится праведная душа даже пока еще неправедной душой; и, наконец, посредством любви, которая в Святом Писании названа Богом, и через каковую для понимающих людей начинает быть различимой хоть какая–то троица любящего, любимого и любви; понимается не только бестелесная природа, но даже и неизменная, которая есть Бог)
1. В другом месте мы уже сказали, что в Троице то высказывается в качестве собственного признака [т. е.] как принадлежащее лицам по отдельности, что высказывается относительно друг друга, как, например, определения «Отец», «Сын», и «дар Обоих», т. е. Святой Дух. Ибо ни Отец не есть Троица, ни Сын не есть Троица, ни дар не есть Троица. То же, что по раздельности высказывается о Них по отношению к Ним Самим, не высказывается о Них как о трех во множественном числе, но как об одном, т. е. о Самой Троице, как Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. И благ Отец, и благ Сын, и благ Святой Дух; и всемогущ Отец, и всемогущ Сын, и всемогущ Святой Дух; и, однако же, не три Бога, или три благих, или три всемогущих, но один Бог благой и всемогущий, Сама Троица, [и Она есть] все те определения, что высказываются не по отношению друг к другу, но сами по себе по раздельности. Ибо все они высказываются сообразно сущности (secundum essentiam), ведь [в Троице] одно и то же–быть и быть великим, благим, премудрым и каким бы ни было то, что высказывается о каждом лице Самом по Себе или о самой Троице. Поэтому если и говорится о трех лицах или трех субстанциях (tres personas uel tres substantias), то это не затем, чтобы в сущности примышлялось какое–то различие, но затем, чтобы мы могли ответить одним словом, когда нас спрашивают, что суть Три или что суть Трое (quid tres uel quid tria). Равенство же в Троице настолько велико, что не только Отец не есть больший, нежели Сын, в том, что касается Божественности, но даже ни Отец вместе с Сыном не есть нечто большее, нежели Святой Дух, ни какое–либо отдельное лицо, одно из Трех, не есть нечто меньшее, нежели сама Троица. Это — то, что было сказано; и если обращаться к этому и повторять, то оно станет более ясным. Однако следует знать меру и помолиться Богу благочестивейшим образом так, чтобы Он открыл нам уразумение и избавил нас от пристрастия спорить для того, чтобы мы смогли постигнуть разумом сущность истины, невещественную и неизменчивую. Итак, теперь, насколько Сам Творец содействует нам Своим дивным милосердием, обратимся к тому, что [мы будем исследовать] более пристально, нежели мы исследовали то, что рассматривалось выше (хотя и то, и другое есть одно и то же), держась [при этом] того правила, в соответствии с которым то, что пока не стало ясным нашему разумению, [все же] будет удержано крепостью нашей веры.
2. Ведь мы говорим, что в Троице два или три лица не есть нечто большее, нежели одно из них, что не может быть схвачено телесным восприятием, поскольку оно постигает, насколько оно способно, лишь истинно сотворенное, но не может созерцать саму истину, которой все сотворено. Ведь если бы оно могло, то самый телесный свет ни коим образом не был бы более ясным, нежели то, о чем мы сказали. Ибо в сущности (substantia) истины, каковая только и есть истинно, ничто не есть большее, как только то, что есть более истинное. Но во всем умопостигаемым и неизменчивом нет ни одного [предмета] более истинного, нежели другой, поскольку неизменно вечное есть равное, и то, что называется здесь великим, является великим только потому, что оно есть истинное. Вот почему там, где величие есть сама истина, все, что обладает большим величием, с необходимостью обладает и большей истиной; и, следовательно, все, что не обладает большей истиной, также не обладает и большим величием. Далее, все то, что обладает большей истиной, является, конечно же, и более истинным, как является большим то, что обладает большим величием. Следовательно, в сущности истины большим является то, что более истинно. Однако же, Отец и Сын вместе не суть нечто более истинное, нежели Отец и Сын по раздельности. Следовательно, Оба вместе не суть нечто большее, нежели каждый из них по раздельности. Поскольку же Святой Дух есть истинный равным образом, Отец и Сын вместе не суть нечто большее, нежели Он, так как Они [вместе также] не суть [нечто] более истинное. Поскольку же и Отец вместе со Святым Духом не превосходят Сына истиной (ибо Они не суть более истинные), Они не превосходят Сына и величием. И, таким образом, Сын и Святой Дух вместе суть нечто столь же великое, сколь и один Отец, ибо Они суть столь же истинные. Так и Сама Троица есть нечто столь же великое, сколь и каждое из Лиц. Ибо там, где сама истина есть величие, то, что не является боле истинным, не является и большим. Ведь в сущности (essentiа) истины одно и то же — быть истинным и быть, и одно и то же — быть и быть великим; и следовательно, одно и то же — быть великим и быть истинным. Значит, то, что является равным образом истинным, с необходимостью также является равным образом великим.
3. Однако, что касается тел, то может случиться и так, что это золото и то золото суть равным образом истинные, но это может быть большим, нежели то, так как в них величие и истина не суть одно и то же, и для тел быть золотым и быть великим не суть одно и то же. Так же и в природе души: душа не называется великой в соответствии с тем, в соответствии с чем душа называется истинной. Ибо и тот, кто не великодушен, имеет также истинную душу, поскольку сущность тела и души не есть сущность самой истины [в отличие от] Троицы, единого Бога, единственного, великого, истинного, правдивого, [самой] истины. Если мы попытаемся размышлять о Нем (насколько Он позволит и даст), то да не будем мы мыслить [при этом] ничего осязаемого или связанного с пространством, как если бы Он был тремя телами, и [да не будем мы мыслить при этом] ничего сочлененного, как, например, трехтелый Герион (великан), о котором говорится в баснях. Но отбросим без какого–либо сомнения всякое пришедшее на ум представление, в соответствии с которым что–либо является большим в трех, нежели в каждом отдельно, и в соответствии с которым что–либо является меньшим в одном, нежели в двух, ибо таким образом отбрасывается всякое телесное. В духовном же не считай Богом ничего из пришедшего на ум, что было бы изменчивым. Ибо когда мы из нашей бездны устремляемся к таким высотам, [для нас] уже не малым знанием является и то, когда мы прежде того, как познать, что есть Бог, познаем то, что Он не есть. Ибо Он, конечно же, не есть ни земля, ни небо, ни нечто подобное земле или небу; ни что–либо такое, что мы видим на небе, и ничего из того, что мы не видим, но что, возможно, есть на небе. И если бы кто мысленным воображением, насколько мог, увеличил солнечный свет так, чтобы он стал или более сильным, или более ярким в тысячу или в несчетное количество раз, то и он не был бы Богом. И если бы кто мыслил ангелов, этих чистых духов, одушевляющих небесные тела, изменяющих и направляющих их волею, подвластной Богу; даже если бы он мыслил их всех, т. е. «тысячи тысяч», объединенными в одно (Откр. 5:11) (даже если бы кто мыслил этих духов без тел, что является крайне трудным для чувственного представления), то ничего подобного [все равно] не было бы Богом. Итак, узри, если сможешь, о душа, отягощенная тленным телом; итак, узри, если сможешь, ум многозаботливый, подавленный этой земной храминой (Прем. 9:15), что Бог есть истина. Ибо сказано, что «Бог есть свет» (1 Ин. 1:5); но не тот свет, что зрят эти [телесные] глаза, но тот, что зрит сердце, когда оно слышит, что Он есть истина. Не старайся разузнать, что есть истина; ибо сразу же на пути возникнут мрак телесных представлений и туман чувственных образов и смутят ту ясность, которая просияла, когда я произнес слово «истина». Итак, пребывай, если сможешь, в этой первой вспышке, которая словно сияние поражает тебя, когда говорится: «истина». Но ты не сможешь. И ты вновь опустишься в эту обыденность и приземленность. Так, что же, спрашиваю я, это за причина, по которой ты опускаешься, как не тяжесть нечистот твоей страсти и прегрешения отступничества [от истинного пути]?
4. Итак, узри, если сможешь. Ведь никто, конечно же, не любит того, что не является благом. Так, [например], блага земля высотою гор, покатостью холмов и плоскостью равнин; благо поместье, приятное и плодородное; благ дом, просторный и светлый, хорошо устроенный; благи животные и [вообще] живые существа; благ воздух, умеренный и здравый; блага пища, вкусная и подходящая для здоровья; блага здоровая жизнь без боли и усталости; блага пропорциональная человеческая внешность, на которую приятно взглянуть и которая светла; и блага душа друга сладостью согласия и верою любви; благ муж праведный; благ достаток, ибо он многому содействует; благо небо со своими солнцем, луной и звездами; благи ангелы святым послушанием; блага речь, должным образом обучающая и наставляющая слушателя; и благ стих ритмичными звуками и серьезным значением. Но стоит ли продолжать? Благо это, и благо то; однако сними покров этого и того, и узри, если сможешь, само благо; так ты узришь Бога, Который благ не посредством другого блага, но сам есть благо всего благого. Ибо во всем том благом или в том, что мы упомянули, или в каком–либо другом, что может быть увидено или помыслено, при справедливом рассуждении мы не можем сказать, что одно лучше другого, как только при условии, что у нас есть знание самого блага, в соответствии с которым мы что–либо одобряем и предпочитаем одно другому. Поэтому и надлежит любить Бога, Который не есть то или иное благо, но само благо. Ибо следует искать благо души, но не то, над котором она, рассуждая, поднимается, а то, к которому она, любя, прилепляется. И что же это за благо, как не Бог? [И это] не благая душа, или благой ангел, или благие небеса, но само благое благо. Ибо, возможно, то, о чем я хочу сказать, легче выразить таким образом. Ведь когда говорится, например, о благой душе, то поскольку в этом выражении наличны два слова, постольку у меня возникает мысль о двух, одно из которых — душа, другое–нечто благое. Для того, чтобы быть душой, душа не делает ничего, ибо в ней ничего еще не было, что сделало бы ее тем, что она есть. Но я понимаю, что для того, чтобы быть благой, душа должна была действовать сообразно воле, не потому, что поскольку она — душа, она не есть нечто благое (ведь от чего же еще говорится, и совершенно верно говорится, что душа лучше тела), но потому она пока еще не называется благой душой, что от нее требуется действие воли, посредством которого она стала бы более превосходной. Если же она пренебрегла им, она справедливо обвиняется и верно называется неблагой душой. Ибо [тогда] она отличается от той души, которая совершает это действие, и которая поэтому является достойной похвалы. Та же, что не совершает его, достойна порицания. Но [даже] когда она исполняет это задание с усердием, она [все же] не может достичь этого, если не обратится к тому, что она сама не есть. Но к чему же ей обращаться, чтобы стать благой душой, как не к благу, которое она любит, желает и достигает? Если же она опять отвращается и становится неблагой, то по самой той причине, что она отвращается от благого (если только само благо, от которого она отвращается, не остается в ней), она [уже] не знает, куда ей обратиться, если бы она пожелала улучшиться.
5. Вот почему ничто изменчивое не было бы благим, если бы не было неизменного блага. Поэтому когда ты слышишь о том или ином благом, которое в другом отношении может быть названо также и неблагим, если ты сможешь вне зависимости от того, что является благим посредством причастия благу, постигать само благо, причастием которому благое является таковым (ибо когда ты слышишь о том или ином благом, то вместе с ним ты мыслишь и само благо); так вот, если ты, отвлекшись от благого [по причастию], сможешь постигать само благо, ты постигнешь [Самого] Бога. Но если ты прилепишься [к Нему] любовью, то ты тогда приобретешь блаженство. Однако же, стыдись, если ты, прилепившись к тому, что невозможно любить как только потому, что оно есть благое, не любишь само благо, [причастием которому] оно благое. Также и то, что есть душа только потому, что является душой, и пока не есть еще благое посредством своего обращения к неизменному благу, есть, как я сказал, только душа; и хотя душа удовлетворяет нас настолько, что мы предпочитаем ее (если мыслим о ней верно) любому телесному свету, все же она сама по себе не удовлетворяет нас, но только то искусство, которым она была создана. Ибо она, как созданная, получает оправдание в том, от чего она, как мы видим, произошла. Это есть истина и чистое благо; и это — ничто, как только само благо, а поэтому также и высшее благо. Ибо только то благо может быть уменьшено или увеличено, что является благом от другого блага. Поэтому душа, чтобы быть благой, обращается к тому, от чего она получает, то, чтобы быть душой. Тогда–то воля согласуется с природой так, чтобы душа совершалась в благую душу, когда воля обращается любовью к тому, от чего исходит и то благо, которое не утрачивается отвращением от него воли. Ибо, отвращаясь от высшего блага, душа утрачивает то, посредством чего она — благая душа. Впрочем, она не утрачивает то, посредством чего она — душа, т. е. то, посредством чего она уже благо, и лучше тела. Следовательно, воля утрачивает то, что она получает. Но ведь душа уже была, чтобы желать быть обращенной к тому, от чего она была. Хотя прежде, чем быть, она еще не была тем, чтобы желать того. Таково наше благо, в котором мы видим, должно ли быть или должно было быть то, что мы считаем тем, что должно быть или должно было быть; и в котором мы видим, что не могло быть, если только не должно было быть, то, что мы считаем тем, что должно быть, хотя бы мы и не знали, каким образом оно должно было быть. Следовательно, это благо «недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17:27–28).
6. [Итак] нам надлежит стоять в Нем и прилепляться к Нему любовью затем, чтобы мы могли наслаждаться присутствием Того, посредством Кого мы есть, и без Кого мы не можем быть. Ибо поскольку «мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7), постольку мы, конечно же, еще не видим Бога, так сказать, «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12), как говорит тот же апостол. Однако мы никогда Его не увидим, если уже сейчас Его не любим. Но кто же любит то, чего не знает? Ведь можно знать что–либо и не любить; но я спрашиваю, возможно ли так, чтобы не знать и любить, ибо если это не возможно, то Бога никто не любит прежде, чем познает. Но что же означает знать Бога, как не постигать и воспринимать Его умом? Ибо Он не есть тело, чтобы быть обнаруженным телесным зрением. Но прежде, чем мы смогли бы постигать и воспринимать Бога так, как Он может быть постигнут и воспринят, что позволяется чистым сердцем, как сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8), необходимо, чтобы Он был возлюблен посредством веры, без чего сердце не может быть очищено для того, чтобы быть подходящим и способным созерцать Его. Ибо где же суть эти трое — вера, надежда, любовь, возвести которые в [нашей] душе нацелено все собрание Божественных книг, как не в душе, верующей в то, что она пока еще не видит, и надеющейся на то и любящей то, во что она верит? Следовательно, любят и то, чего не знают, но во что верят. Впрочем, несомненно, что необходимо остерегаться, как бы душа, верующая в то, чего она не видит, не вообразила себе чего–либо несуществующего, и не надеялась на то и не любила того, что ложно. Ибо в таком случае эта любовь не есть «любовь от чистого сердца, от доброй совести и нелицемерной веры», [т. е. такая любовь не есть та], что является целью увещевания, как говорит тот же апостол (1 Тим. 1:5).
7. Когда мы читаем или слышим о чем–либо телесном, во что мы верим, но чего не видим, [наша] душа с необходимостью воображает что–либо в чертах и образах тела, как это и происходит с мыслящим или то, что не есть истинное, или то, что, даже будучи истинным, может быть воспринятым столь редко, что нам нет никакой пользы верить в это, и оно является полезным для чего–то иного, мысль о чем внушается его посредством. Ибо кто из читавших или слышавших то, что написал апостол Павел, или то, что о нем написано, не представляет себе внешность самого апостола и всего того, о чем в Писании упоминается? Но поскольку в этом множестве людей, которые знакомы с этими писаниями, всякий мыслит по–разному очертания и образы этих тел, постольку, конечно же, остается неопределенным то, кто [из них] мыслит более сходным и подобающим образом. Поэтому и наша вера не озадачивает себя тем, какова была телесная внешность тех людей. Ее интересует только то, каким образом по милости Божией они жили и действовали, о чем свидетельствует Писание. В это полезно верить, к этому надо стремиться и по поводу этого не следует отчаиваться. Ведь даже внешность Самого Господа во плоти в бесчисленных представлениях воображается различным образом, и все же она одна, каковой бы она ни была. Также и в том, что мы имеем в вере нашей относительно Господа нашего Иисуса Христа, здравым является не то, что воображает себе сознание (animus), и что, возможно, далеко от истины, но то, что мы мыслим о человеке в сообразно его виду; ибо в нас внедрено как бы обязательное знание о человеческой природе, в соответствии с которым мы воспринимаем все, относящееся к этому виду, и сразу же распознаем его как человека или как человеческий образ.
Этому знанию сообразуется наше мышление, когда мы верим, что Бог ради нас соделался человеком для того, чтобы явить образец смирения и показать Свою любовь к нам. Ибо нам полезно верить, а также стойко и непоколебимо хранить в сердце то, что смирение, с которым Бог родился от женщины и претерпел столькие бесчестия от смертных вплоть до смерти, есть совершенное лекарство, которым исцеляется опухоль гордыни нашей, и глубокое таинство, которым развязываются путы греха. А также потому, что мы знаем, что есть всемогущество, и считаем, что Бог всемогущ, мы верим в силу Его чудес и Его собственного воскресения и так размышляем о делах такого рода сообразно видам и родам вещей, внедренных в нас природой или полученных из опыта, чтобы вера наша не была воображением. Ибо мы не знаем ни внешности Девы Марии, от Которой, нетронутой мужем и незапятнанной самим рождением, Он был чудесным образом рожден; и мы не видели ни очертаний тела Лазаря, ни Вифании, ни гроба, ни камня того, который Он велел отнять, когда Он воскрешал его (Ин. 11), ни того нового гроба, высеченного в скале, из которого Он воскрес, ни горы Елеонской, с которой Он вознесся на небо. Поскольку же ни один из нас этого вообще не видел, мы и не знаем, таково ли оно, как мы его представляем, или же, наоборот, не таково. Ибо когда образ какого–либо места или человека, или какого бы то ни было тела, нам случилось увидеть глазами таким же, каким мы его представляли прежде, чем увидели, мы немало удивляемся, так как это происходит редко и [даже] едва ли когда. И однако же мы верим в такие вещи с наибольшей твердостью, поскольку мы мыслим их в соответствии с видовым и родовым знанием, в котором мы уверены. Ведь мы верим, что Господь наш Иисус Христос был рожден от Девы, Которая звалась Марией. Что же касается того, что есть дева, и что есть быть рожденным, и что есть имя собственное, то в это мы не верим, но вполне знаем. Но мы как не знаем, так и не верим в то, была ли та внешность Марии такой, какой она представилась, когда мы о ней говорили или воображали. Мы можем, таким образом, не погрешая против веры, сказать: «Возможно, у Нее была такая внешность и, возможно, не была». Однако, никто, не погрешив против христианской веры, не может сказать: «Возможно, Христос родился от Девы».
8. Вот почему, поскольку мы желаем понять (насколько это нам дано) вечность, равенство и единство Троицы, постольку прежде, чем понимать, мы должны верить и быть осмотрительными, как бы наша вера не оказалась ложной. Ведь нам надлежит наслаждаться этой Троицей, чтобы быть блаженными. Если же в нашей вере по отношению к Ней было что–то ложное, пустой будет наша надежда, и нечистой — любовь. Так каким же образом мы можем, веря, любить Эту Троицу, Которую не знаем? Не в соответствии ли с видовым и родовым понятием, в соответствии с каковым мы любим апостола Павла? Ведь если даже он не имел той внешности, каковую мы представляли в наших размышлениях о нем (а ее мы, конечно же, не видели), мы все же знаем, что такое человек. Дабы не ходить далеко [за примером], именно таковы мы; и ясно [также], что таков и он, и что его душа, соединенная с его телом, жила смертным образом. Следовательно, относительно него мы верим в то, что обнаруживаем в себе согласно виду или роду, которым охватывается подобным образом всякая человеческая природа. Но что же мы можем познать о той высшей Троице в видовом или родовом смысле? [Разве] существует много таких троиц, одни из которых нам известны из опыта, так что посредством правила подобия, или же видового или родового понятия мы могли бы верить относительно той Троице в то, что Она такова же; и, таким образом, мы могли бы любить тот предмет, в который мы верим, хотя и не знаем, исходя из его равенства тому, что мы знаем? Конечно же, нет. Или каким образом мы любим в Господе Иисусе Христе то, что Он воскрес из смертных, хотя мы никогда не видели, чтобы кто–либо воскресал из мертвых, таким образом мы можем, веря, любить Троицу, Которую мы не видим и подобия Каковой мы никогда не видели? Но мы, конечно же, знаем, что же такое жить, и что такое умереть, ибо мы живем, а также иногда видели и [таким образом] знакомились на опыте с тем, что есть мертвые и умирающие. И что же еще означает воскреснуть, как не ожить, т. е. возвратиться из смерти к жизни? Следовательно, когда мы говорим и верим, что есть Троица, мы знаем, что такое Троица, ибо мы знаем, что такое трое. Но это не то, что мы любим. Ведь мы с легкостью можем, когда желаем, получить три, показав три пальца (не говоря о чем–либо еще). Или же мы любим не всякую троицу, но только Ту, что есть Бог? Следовательно, в Троице мы любим то, что есть Бог. Но мы никогда не видели и не знали никакого другого Бога, потому что Бог один, единственный Бог, Которого мы пока не видели и Которого мы, веруя, любим. Спрашивается, однако: на основании какого уподобления или сравнения с вещами известными мы можем верить так, чтобы любить Бога, пока еще не известного?
9. Итак, вернемся со мною и подумаем, почему мы любим апостола. Не вследствие ли его человеческого вида, который нам вполне известен, и в соответствии с которым мы верим, что он был человеком? Конечно же, нет. Ведь сейчас он не есть тот, кого мы любим, поскольку он уже не есть тот человек, ибо его душа отделена от тела. [Нет] мы любим в нем то, что, как мы верим, живет и сейчас, т. е. мы любим [его] праведную душу. Так на каком же основании, как не на том, в соответствии с которым мы знаем и то, что такое душа, и то, что такое праведный? Значит, мы верно говорим, что мы знаем, что такое душа, потому, что и мы имеем душу. Ведь мы никогда не видели душу [телесными] глазами, и не можем воспринять родовое и видовое знание о ней, исходя из подобия виденных. [Нет] мы имеем знание о ней, пожалуй, потому, что и мы, как я сказал, имеем душу. Ибо что познается столь внутренним образом, и что ощущает свое собственное бытие, как не то, посредством чего ощущается остальное, т. е. душа? Ведь, основываясь на своем подобии, мы распознаем и движения тел, посредством которых мы узнаем, что кроме нас живут и другие. Ведь и мы таким образом движем свое тело, каким, как мы замечаем, движутся другие тела. Ибо даже когда движется живое тело, путь к созерцанию души остается закрытым для наших глаз, [ибо душа — это то], что невозможно увидеть глазами. Мы же ощущаем [лишь то], что нечто содержится в веществе, как, [например], то, что содержится в нас самих и подобным же образом движет нашу [собственную] вещественность, а это и есть жизнь и душа. И это не есть нечто свойственное только человеческому умению или разуму, ибо также и животные ощущают, что живут не только они сами, но также и другие животные, и ощущают таковыми друг друга, и также нас самих. И они не видят наших душ, как только в движениях тела [как бы] сразу с величайшей легкостью и посредством тайного природного единения. Следовательно, мы знаем душу кого бы то ни было, основываясь на своей собственной; и, основываясь на своей душе, мы верим относительно того, кого не знаем. Ибо мы не только ощущаем душу, но даже можем знать посредством рассуждения, что есть душа, ведь мы же сами имеем душу. Но откуда же мы знаем, что есть праведный? Ибо мы уже сказали, что мы любим апостола не по какой другой причине, как потому, что он — праведная душа. Следовательно, мы знаем, что есть праведный так же, как мы знаем, что есть душа. То же, что есть душа, как мы сказали, мы знаем из себя самих, ибо в нас душа содержится. Но откуда же мы знаем, что есть праведный, если мы не праведные? Если же никто не знает, что есть праведный, как только тот, кто праведен, никто не любит праведного, как только праведный. Ибо невозможно любить того, относительно кого [лишь] верят, что он праведный, именно потому, что, [хотя] и верят, что он праведный, [все же] не знают, что такое праведный. Ведь как мы показали выше, никто не любит то, во что верит, но чего не видит, как только лишь на основании некоторого правила родового или видового знания. И если поэтому никто, кроме праведного, не любит праведного, каким же образом тот, кто не есть праведный, хочет быть праведным? Ибо никто не хочет быть тем, что он не любит. Для того же, чтобы тот, кто не есть пока праведный, был праведным, требуется, чтобы он захотел быть праведным. Потому–то он и любит праведного, чтобы хотеть [быть праведным]. Следовательно, и тот любит праведного, кто пока не есть праведный. Но тот, кто не знает, что такое быть праведным, не может любить праведного. Значит, и тот, кто пока не есть праведный, знает, что такое быть праведным. Но откуда же он знает? Неужели он увидел своим глазами, что какое–то тело является праведным подобно тому, как оно может быть белым или черным, или же квадратным, или круглым? Кто же такое сказал бы? Ведь глазами можно видеть только тела. В человеке же нет ничего праведного, кроме души, и когда человека называют праведным, то называют его так в соответствии с душой, а не телом. Ибо праведность — это некоторая красота души, сообразно которой люди прекрасны, причем даже те многие, кто уродлив и безобразен телом. Поскольку же душу нельзя увидеть глазами, постольку нельзя увидеть и красоту ее. Откуда же тот, кто пока не есть праведный, знает, что такое быть праведным, и [каким образом] он любит праведного, чтобы быть праведным? Или [быть может] в движениях тела проявляются некоторые знаки, посредством которых явствует, что тот или иной человек — праведный? Но откуда же тот, кто совсем не знает, что такое быть праведным, знает, что эти знаки являются знаками праведной души? Ведь тогда получается, что он знает. Но откуда же мы знаем, что такое быть праведным, если мы сами пока не праведны? Если мы знаем это из чего–то вне себя, то мы знаем это из чего–то телесного. Но это не есть нечто телесное. Значит, мы знаем, что такое быть праведным, из себя самих. Ибо, когда я ищу ответа на этот вопрос, я не могу обнаружить его где бы то ни было еще, как только в самом себе. И если я спрашиваю кого–нибудь другого, что такое быть праведным, ответ на этот вопрос он ищет в самом себе. И всякий, кто мог ответить на это правильно, нашел, что ответить, в самом себе. Ведь когда я желаю говорить о Карфагене, я ищу в себе, что говорить, и в себе я обнаруживаю представление о Карфагене. Но я воспринял это представление посредством тела, т. е. через телесное ощущение, поскольку я присутствовал в Карфагене телом и видел его и воспринимал, и запомнил его так, чтобы я мог обнаружить в себе соответствующее ему слово, когда бы я ни пожелал говорить о нем. Ибо само представление о нем в моей памяти и есть это слово (не то трехсложное звучание, когда называется Карфаген, или же когда я время от времени мыслю само название про себя, но то, что я различаю в душе, когда я произношу вслух это трехсложие, и даже прежде, чем я произношу). Так же и тогда, когда я желаю говорить об Александрии, которую я никогда не видел, у меня тут же возникает представление. Ибо поскольку я слышал от многих и уверился по поводу того, что это–великий город (насколько об этом было возможным мне рассказать), я, насколько мог, представил себе его образ; и прежде, чем я произношу пять слогов, что составляют название, известное почти всем, во мне [уже] есть слово, соответствующее ему. И, однако же, если бы я мог произвести этот образ пред глазами людей, которые знают Александрию, то, несомненно, что все сказали бы: «Нет, это — не Александрия». Если же они сказали бы: «Да, это — Александрия», я бы сильно удивился, ведь, созерцая его в своей душе, т. е. его образ или картину, я все же не знал его и [лишь] верил тем, кто видел этот город. Но не так я спрашиваю, что такое быть праведным, и не так я обнаруживаю, и не так я созерцаю это, когда я говорю об этом; и не так удостоверяются, когда я говорю об этом, и сам я, когда слышу об этом, удостоверяюсь не так, как тогда, когда я увидел что–либо своими глазами, или узнал что–либо посредством телесного ощущения, или же услышал это от тех, кто узнал об этом таким образом. Ибо, когда я говорю и говорю, зная, что та душа праведна, что сообразно знанию и разуму (scientia atque ratione) размеряет свою жизнь и нрав, воздавая каждому должное, я не мыслю ничего отсутствующего, как, например, Карфаген и не воображаю, будь то верно или ложно, ничего такого, как, например, Александрия. Но я различаю нечто присутствующее и различаю это в себе самом, даже если я и не есть то, что я в себе различаю. И многие, если услышат, удостоверятся в этом. И всякий, кто меня слышит и сознательно удостоверяется, различает и в себе самом то же самое, хотя он сам и не есть то, что он различает. Когда же говорит это праведный, он различает и говорит то, что есть он сам. Но где же и он различает это, как не в самом себе? Но в этом нет ничего удивительного, ибо где же еще ему различать себя самого, как не в самом себе? Удивительно же то, что душа в себе видит то, что она нигде никогда не видела; [и удивительно то, что] она видит истинное, и что она видит саму истинную праведную душу; и что она — душа и, [все же], не праведная душа, каковую она видит в самой себе. Так, неужели в душе, что пока неправедна, есть другая душа, что праведна? Или если ее нет, то что же она видит, когда она видит и говорит, что такое праведная душа, каковую она не видит нигде, как только в себе самой, хотя сама она и не есть праведная душа? Или же то, что она видит, есть истина, сущая в душе, которая имеет способность созерцать ее? Ведь не у всех есть эта способность, и те, кто имеет способность созерцать ее, также не суть все, кто ее созерцает, т. е. они сами не суть также праведные души, хотя они могут видеть и говорить, что такое праведная душа. И каким же еще образом они смогут стать праведными, как не прилепляясь к тому самому образу, который они созерцают, затем, чтобы чрез него преобразоваться и стать праведными душами, не только различая и говоря, что «та душа праведна, что сообразно знанию и разуму размеряет свою жизнь и нрав, воздавая каждому должное», но также и живя праведно и воздавая каждому должное так, чтобы не быть должным никому и любить друг друга (Рим. 13:8)? И каким же еще образом возможно прилепиться к этому образу, как не любя? Так, неужели мы любим того, в кого мы верим как праведного, и не любим тот самый образ, в котором мы видим, что такое праведная душа, и благодаря которому мы также можем стать праведными душами? Или же если мы не любили бы этот образ, мы бы никоим образом и не любили того, кого мы посредством этого образа любим, но поскольку мы пока еще не праведны, мы любим этот образ не настолько, чтобы самим стать праведными? Следовательно, человека, в которого верят как в праведного, любят согласно тому образу и истине, что различают и воспринимают в самой душе любящего. И невозможно любить тот самый образ и истину откуда бы то ни было еще. Ибо, кроме того, мы не обнаруживаем ничего такого, чтобы мы, веруя, но не зная, могли любить, исходя из чего–то еще такого же рода, что мы уже знаем. Ведь все, что бы то ни было из увиденного того же рода, и есть то же. И нет ничего другого из того же рода, поскольку только оно таково, каково оно есть. Следовательно, тот, кто любит людей, должен любить их либо потому, что они праведны, либо потому, что они могут стать праведными. Ибо так же он должен любить и самого себя или потому, что он праведен, или потому, что он может стать праведным. Ибо таким образом он любит ближнего своего как самого себя без какой–либо опаски. Ибо тот, кто любит себя другим образом, любит себя неправедным образом, поскольку он любит себя за то, что может стать неправедным, и, следовательно, за то, что может стать дурным (mains), а, значит, он и не любит себя, ведь «любящий неправду, ненавидит свою душу» (Пс. 10:5).
10. Вот почему в нашем исследовании о Троице и о познании Бога нам главным образом надлежит рассмотреть то, что такое истинная любовь, [или] нет, пожалуй, что такое любовь [вообще]. Ибо любовью следует называть только истинную любовь, так как иначе — это вожделение. И о тех, кто вожделеет, говорить, что они любят, так же неправильно, как неправильно говорить о тех, кто любит, что они вожделеют. Но такова истинная любовь, которая заключается в том, чтобы мы, прилепляясь к истине, жили праведно и презирали все смертное ради любви к человекам, сообразно которой мы хотим, чтобы люди жили праведно. Ибо таким образом мы сможем быть готовыми умереть с пользой за наших братьев, каковым наставил нас своим примером Господь Иисус Христос. Ибо поскольку есть две заповеди, на которых утверждается весь закон и пророки, — любовь к Богу и любовь к ближнему (Мф. 22:37–40), Писание не без основания часто замещает обе одной. Будь то заповедь любви к Богу, как в следующих местах: «Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу» (Рим. 7:28); «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8:8); «Потому что любовь к Богу» излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5); и во многих других; ведь тот, кто любит Бога, с необходимостью должен исполнять то, что заповедует Бог, и любит он Его настолько, насколько исполняет его заповеди; следовательно, он должен любить и ближнего, ибо такова заповедь Божия. Или же Писание упоминает только заповедь любви к ближнему, как в следующих местах: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христос» (Гал. 6:2); «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего своего как самого себя» (Гал. 5:14); и в Евангелии: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). В Святом Писании мы находим и многие другие места, в которых, как кажется, для совершения дается только заповедь любви к ближнему, и умалчивается о любви к Богу, хотя закон и пророки утверждаются на обеих заповедях. Впрочем, так это потому, что и тот, кто любит ближнего, с необходимостью должен любить прежде всего саму любовь. Ведь «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Следовательно, с необходимостью он прежде всего любит Бога.
11. Вот почему те, кто ищет Бога, посредством тех сил, что предводительствуют миром или частями мира, удаляются и отбрасываются от Него прочь, но не в смысле пространственных промежутков, а в смысле несхожести состояний, ибо они пытаются идти внешним путем, и оставляют свое внутреннее, в котором — Бог. Поэтому даже если бы они внимали какой–то святой небесной силе или же тем или иным образом мыслили ее, то, чего они скорее желали бы, есть ее деяния, каковым дивится немощь человеческая, а не благочестие, каковым достигается Божественный покой. Ибо они более предпочитают посредством гордыни быть способными совершать то, что делает ангел, нежели посредством набожности быть тем, что есть ангел. Ибо ни один святой не наслаждается собственной силой, но только [силой] Того, от Кого все, что имеет способность, имеет способность. И он знает, что соединение со Всемогущим благочестивою волею является большим могуществом, нежели быть способным собственной волей совершать то, от чего приходят в трепет те, кто не способен совершать такого. Поэтому и Сам Господь Иисус Христос, совершая такое для того, чтобы наставлять дивящихся более важному, и чтобы обратить внимающих и колеблющихся от необычного временного к вечному и внутреннему, говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя» (Мф. 11:28). Ведь не сказал же Он: «Научитесь от меня, ибо я воскрешаю тех, кто уже мертв три дня»; но: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Ибо непоколебимое смирение сильнее и надежнее вознесшейся гордыни. Поэтому Он, продолжая, говорит: «И найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Ибо «любовь не возносится» (1 Кор. 13:4), а «Бог есть любовь» (Ин. 4:8), и «верные в любви пребудут у Него» (Прем. 3:9)? Вызванные из внешнего шума к тихой радости. Итак, «Бог есть любовь». Так, что же мы движемся и стремимся в вышину небес и в глубины земли в поисках Того, Кто в нас, если мы хотим быть у Него?
12. Да не скажет никто: «Я не знаю, что любить». Пусть любит своего брата, и возлюбит саму любовь. Ибо он более знает любовь, которой любит брата, нежели брата, которого любит. Так, о Боге он имеет теперь знание большее, нежели о брате; знание явно большее, ибо [Бог] более настоящий; знание большее, ибо [это Бог] внутри него; знание большее, ибо он более уверен [в Бога]. Охвати Бога, Который есть любовь, и ты охватишь любовью Бога. Ведь то есть любовь, что объединяет узами святости всех благих ангелов и всех слуг Божиих, соединяет нас с ними и нас между собой и подчиняет себе. Следовательно, насколько мы исцелены от опухоли гордыни, настолько мы преисполнены любовью. И чем же, как не Богом, преисполнен тот, кто преисполнен любовью? Но ты скажешь: «Я вижу любовь, и, насколько могу, постигаю ее умом, и верю в Писание, утверждающее, что «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге» (1 Ин. 4:16). Однако, когда я вижу ее, я не вижу в ней Троицы». И все же, напротив, ты видишь Троицу, если видишь любовь. И я приложу усилия, если смогу, для того, чтобы ты увидел, что ты видишь [Троицу]. Пусть лишь Она поспособствует, чтобы мы подвизались любовью к чему–либо благому. Ибо когда мы любим любовь, мы любим то, что любит что–то, на основании именно того, что что–то любится. Так, что же должна любить любовь, чтобы она также была любимой? Ведь то не есть любовь, что ничего не любит. Если же она любит саму себя, то она должна что–то любить, чтобы любить себя как любовь. Ибо как слово обозначает что–то, обозначая также самого себя, и не обозначает себя как слово, не обозначая себя как обозначающего что–то, так же и любовь, конечно же, любит себя, но только если она не любит себя как любящую что–то, она не любит себя как любовь. Но что же тогда любит любовь, как не то, что мы любим любовью? То, с чего мы ближайшим образом начинаем, есть [наш] брат. Обратим внимание на то, как освещает апостол Иоанн братскую любовь: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Ин. 2:10). Ясно, что он вложил совершенство праведности в любовь к брату, ведь тот, в ком нет соблазна, конечно же, совершен. И, однако же, похоже, что он умолчал о любви к Богу. Он [безусловно] никогда бы этого не сделал, если бы он не хотел, чтобы в самой братской любви мыслился Бог. Совершенно же ясно он говорит об этом далее в том же самом послании: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7–8). Эти стихи показывают ясно и вполне достаточно, что та же самая братская любовь (ибо мы любим друг друга братской любовью) называется таким авторитетом не только сущей от Бога, но также и самим Богом. Следовательно, когда мы любим брата от любви, мы любим его от Бога. И не может так статься, чтобы мы не любили прежде всего ту самую любовь, которой мы любим брата. Из этого следует, что эти две заповеди могут быть лишь как взаимозаменяемые. Ибо поскольку «Бог есть любовь», тот, кто любит любовь, любит, конечно же, Бога. Тот же, кто любит брата, должен любить и любовь. И потому апостол далее говорит: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). И причина того, что он не видит Бога, состоит в том, что он не любит брата. Ибо тот, кто не любит своего брата, не пребывает в любви, а тот, кто не пребывает в любви, не пребывает в Боге, поскольку Бог есть любовь. Далее, тот, кто не пребывает в Боге, не пребывает в свете, ибо «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (Ин. 1:5). Так, что же удивительного в том, что тот, кто не пребывает в свете, не видит света, т. е. он не видит Бога, поскольку пребывает во мраке? Брата ведь он видит человеческим зрением, каковым невозможно узреть Бога. Но если бы он любил духовной любовью того, кого он видит человеческим зрением, он узрел бы Бога, Который есть сама любовь, внутренним зрением, каковым можно созерцать Бога. Так, как же может тот, кто не любит своего брата, которого видит, любить Бога, Которого поэтому не видит, ибо Бог есть любовь, каковой нет у того, кто не любит своего брата? И пусть не беспокоит нас следующий вопрос: сколько мы должны уделять любви брату, и сколько Богу. Мы должны [уделять любви] Богу несравненно больше, чем самим себе, а брату — столько, сколько себе самим. И мы тем более любим себя самых, чем более мы любим Бога. Следовательно, мы любим Бога и ближнего одной и той же любовью, но мы любим Бога сообразно Ему Самому, себя же самих и ближнего — сообразно Богу.
13. Так, от чего же, скажите, мы воспламеняемся, когда мы слышим или читаем следующее: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь, день спасения. Мы ни кому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во сем являем себя, как служители Божий, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бедствиях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы не известны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6:2–10)? Так, от чего же мы возгораемся любовью к апостолу Павлу, когда мы читаем эти слова, как не от того, что мы верим тому, что он жил таким образом? Однако мы верим, что служителям Божиим надлежит так жить не потому, что это было услышано от кого–либо, но потому, что мы воспринимаем это внутри себя самих, или, точнее, от того, что выше нас — от самой истины. Следовательно, того, кто, как мы верим, жил таким образом, мы любим за то, что видим. И если бы мы не любили его, прежде всего, в соответствии с тем образом, который мы знаем как вечно недвижимый и неизменный, мы бы не любили его потому, что мы верим, что его жизнь, когда он жил во плоти, была сообразной и согласной тому образу. И я не знаю как, но как–то через веру, посредством которой мы верим, что кто–то жил таким образом, мы побуждаемся к большей любви к [тому] самому образу; и к надежде, посредством которой мы совсем не отчаиваемся по поводу того, что и мы, будучи людьми, также способны жить таким образом, потому что некоторые люди так жили; и этого мы желаем с большей страстью, и об этом мы молим с большей верою. Итак, любовь к этому образу, в соответствии с которым, как мы верим, жили такие люди, побуждает нас любить жизнь самих этих людей, а сама их жизнь [которая, как мы верим, такова и была] побуждает нас с большей пылкостью любить тот самый образ затем, чтобы мы любили Бога тем более пылко, чем более уверенно и умиротворенно мы Его видим, ибо в Боге мы постигаем непреходящий образ праведности, в соответствии с которым мы судим, как должен жить человек. Следовательно, вера способствует знанию Бога и любви к Богу, Который прежде хотя и не оставался совершенно неизвестным или совершенно нелюбимым, но Который посредством нее познается с большей очевидностью и любится с большим чувством.
14. Но что же это за любовь (dilectio uel caritas), которую так восхваляет и провозглашает Божественное Писание, как не любовь к благу? Ведь чья–то любовь (атоr) есть любовь любящего, и любовью любится что–то. Таким образом, у нас есть трое: любящий, то, что любят, и любовь. Так, что же есть любовь, как не некоторая жизнь, совокупляющая или желающая совокупить каких–либо двух, а именно, любящего и то, что любят. И такова она даже внешняя и телесная. Но чтобы черпать из источника более чистого и ясного, давайте, поправ телесное, взойдем к душе. Ибо что же любит душа в друге (animus in arnica), как не душу? Здесь, значит, имеются трое: любящий, то, что любят, и любовь. [Следовательно], остается подняться отсюда и, насколько возможно для человека, исследовать то, что свыше. Но здесь пусть наше стремление немного успокоится, не потому, что оно сочло себя обнаружившим то, что ищет; но потому, что сначала обычно находится место, где надлежит что–либо искать. [Итак], то, [что мы ищем], пока не найдено, но уже обнаружено место, где мы должны это искать. Так, пусть сказанного будет достаточным для того, чтобы мы от него, как от начального пункта, развивали мысль далее.
КНИГА 9
(В ней рассуждается об образе Божием, который есть человек по своему уму, и обнаруживается определенная троица, а именно, ума, знания, которым он себя знает, и любви, которой он любит себя и свое знание; здесь также выясняется, что эти трое суть равные между собой и имеют одну сущность)
1. Мы, конечно же, ищем Троицу, но не какую–нибудь, а ту Троицу, которой является Бог, истинный, единый и вышний Бог. Так, подожди же, ты, внимающий [нам], ибо мы все еще ищем; никто же по справедливости не порицает ищущего то, что знать или вымолвить крайне трудно, если он непоколебим в вере. Всякий же, кто видит лучше или учит лучше, воистину по справедливости порицает того, кто утверждает, [что уже познал]. [Ибо] сказано: «И оживет сердце ваше, ищущие Бога» (Пс. 68:68). Но чтобы кто–нибудь беспечно не возрадовался, что он уже постиг, псалмопевец добавляет: «ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4). И [то же говорит] апостол: «Кто думает, что он знает что–нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8:2–3). Не сказал же он, что «он познал Его», ибо это является опасным предположением, но [сказал, что] «ему дано знание от Него». Так же и в другом месте, сказав: «ныне же познавши Бога», он тут же себя исправляет: «или лучше, получивши познание от Бога» (Гал. 4:9). Более же всего [по этому поводу] он говорит в другом месте: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить» (Флп. 3:13–15). Совершенство же в этой жизни, как он говорит, состоит ни в чем ином, как в том, чтобы позабыть то, что позади, и в том, чтобы стремиться к тому, что впереди. Ибо стремление ищущего совершенно оправдано до тех пор, пока не схватывается то, к чему мы устремляемся. Но это верное стремление есть лишь то, что произрастает из веры. Ведь истинная вера, так или иначе, полагает начало познанию; познание же не станет совершенным, разве только после этой жизни, когда мы [всё] увидим как бы лицом к лицу (1 Кор. 13:12). Следовательно, давайте полагать так, чтобы понять, что надежнее искать истину, нежели считать непознанное за познанное. Поэтому давайте искать так, как если бы должны были найти, и находить так, как если бы еще должны были искать. Ибо «когда человек окончил бы, тогда он только начинает» (Сир. 18:6). Давайте не будем сомневаться в том, чему надлежит верить, и не будем безрассудно утверждать о том, что еще надлежит познавать. В первом случае следует держаться авторитета, а во втором разыскивать истину. Что же касается настоящего вопроса, то давайте верить, что Отец, Сын и Дух Святой являются единым Богом, создателем и правителем сотворенной вселенной; и что ни Отец не есть Сын, ни Дух Святой не есть Отец или Сын, но что Троица состоит во взаимном общении Лиц и в равносущном единстве. Давайте, моля о помощи, испросим понимания этого у Самого Того, Кого мы желаем понять; и, насколько нам будет дано, [мы должны] суметь объяснить [это] со всем тщанием и осторожностью благочестия так, чтобы, даже если мы высказали бы одно вместо другого, мы не высказали ничего недостойного. (Например, если мы высказываем что–либо в отношении Отца, что не относится к Отцу собственно, или соответствует Сыну или Святому Духу, или самой Троице; или если мы высказываем что–либо в отношении Сына, что не соответствует Сыну собственно, но, по крайней мере, согласуется с Отцом или Духом Святым, или Троицей; или же если мы высказываем что–либо о Духе Святом, что не свойственно Святому Духу, что, однако же, не является чуждым Отцу или Сыну, или единому Богу Троице). Так, сейчас мы желаем знать, является ли Дух Святой той высшей любовью (caritas) собственно, и что если нет, то есть ли эта любовь Отец или Сын, или Сама Троица, ибо мы не можем устоять против истеннейшей веры и значительнейшего авторитета Писания, говорящего, что «Бог есть любовь». Но нам нельзя сбиваться, совершая святотатственную ошибку, и приписывать Троице то, что может подобать твари, а не Творцу, или же то, что воображается бездумными измышлениями.
2. Приняв это в расчет, обратим наше внимание на те три [определения], которые, как нам кажется, мы обнаружили. Мы не говорим еще о вышнем и не говорим еще о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, но о том несовершенном образе, только лишь образе, который есть человек, ибо, пожалуй, для нашего немощного ума (mеntis) последний предмет исследования более знаком и легок. Итак, когда я, т. е. тот, кто занимается этим вопросом, люблю что–либо, имеются три [определения]: я, то, что я люблю, и сама любовь (amor). Ведь не люблю же я любовь, если только не люблю я того, кто любит; и нет там любви, если нечего любить. Итак, всего есть трое: любящий, то, что любят, и любовь. Но что если я не люблю никого, кроме себя самого? Не будет ли тогда всего двое: то, что я люблю, и любовь? Ведь любящий и то, что любят, есть одно и то же, когда кто–нибудь любит себя самого, точно так же, как любить и быть любимым, когда любят самого себя. Ведь одно и то же говорится дважды, когда говорится «любить самого себя» и «быть любимым самим собой». Ибо тогда любить и быть любимым не являются разными вещами, точно так же, как не являются разными людьми любящий и любимый. Но ведь даже и в этом случае любовь и то, что любят, являются разными вещами, поскольку любящий себя не есть любовь, если только не любится сама любовь. Все же, одно дело любить себя, а другое — свою любовь. Ибо любовь не любят, если уже не любят что–либо, поскольку там, где ничего не любят, нет никакой любви. Итак, если кто–либо любит самого себя, тогда имеется двое: любовь и то, что любят. В таком случае любящий и то, что любят, есть одно. Но из этого вытекает, что не всегда там, где есть любовь, необходимо мыслить три составляющих. Давайте отвлечемся в нашем рассмотрении от всех прочих многих моментов, составляющих природу человека, затем, чтобы мы могли четко обнаружить (насколько это возможно в подобных вещах) то, что мы изыскиваем, [т. е.] давайте рассуждать только об уме. Итак, когда ум любит самого себя, в нем выявляется два [определения]: ум и любовь. [Так] что же такое любить самого себя, как не желать иметь себя в наличии для наслаждения собой? И когда кто–либо желает себя таким, какой он есть, тогда воля равняется уму, а любовь равняется тому, кто любит. И если любовь является какой–то субстанцией (substantia), то она, конечно же, не есть тело, но дух, и ум не есть тело, но дух. Однако любовь и ум не есть два духа, но один дух, и не две сущности (essentiae), но одна; и также суть одно эти два предмета — любящий и любовь или, если угодно, то, что любят и любовь. И об этих двух говорится как о взаимно соотнесенных. Ибо любящий, конечно же, соотносится с любовью, а любовь с любящим. Любящий любит какой–то любовью, а любовь существует посредством какого–то любящего. Однако же [определения] «ум» и «дух» выражают не соотношение, но сущность. Ведь не потому существуют ум и дух, что они принадлежат какому–то человеку. Ибо если мы отделим тело от человека (который называется таковым в соединении с телом), ум и дух останутся. Если же мы отделим любящего, не останется любви, и если мы отделим любовь, не останется любящего. Следовательно, поскольку они соотносятся друг с другом, они суть два, но поскольку о них говорят и в отношении их самих по отдельности, постольку каждый из них дух, и оба они вместе единый дух; и каждый из них отдельный ум, и оба они вместе единый ум. Но где же в том троица? Давайте же сосредоточимся, насколько это возможно, и призовем непреходящий свет, дабы он просиял в нашем мраке, чтобы мы увидели в нас, насколько нам это позволено, образ Божий.
3. Ум не может любить самого себя, если только он не знает самого себя. Ибо как же он может любить то, чего он не знает? Или если кто–либо говорит, что ум в соответствии с родовым и видовым знанием полагает себя таковым, каковыми он узнал другие [умы] из опыта, и потому он любит самого себя, он говорит величайшие глупости. Ибо откуда же один ум знает другой ум, если он себя не знает? [Остается лишь предположить, что] как и телесный глаз видит другие глаза, а себя не видит, так и ум знает другие умы, но не знает себя. Ведь посредством телесных глаз мы видим тела, потому что мы не можем в самих себе преломлять и обращать вспять без помощи зеркала лучи, которые исходят через них и касаются всего, что мы замечаем. [Впрочем], пока не будет четко показано, так ли это или нет, это соображение остается вопросом, который трактуется крайне изощренно и темно. Однако, какого бы рода ни была сила, с помощью которой мы видим через глаза — лучи или же еще что–либо — саму эту силу мы не можем увидеть через глаза; мы исследуем ее с помощью ума, и если это возможно, с помощью ума ее и постигаем. Итак, ум получает знание о телесных вещах посредством телесных чувств, а о нетелесных через самого себя. Значит, самого себя посредством самого же себя ум знает потому, что он бестелесен. И если он не знает себя, он не любит себя.
4. Поскольку, когда ум любит самого себя, имеются эти двое — ум и любовь, постольку, когда он себя знает, имеются также двое — ум и его знание о себе. Следовательно, сам ум, любовь и знание ума о себе суть трое, и эти трое суть одно, и когда они совершенны, они равны. Но если ум любит себя меньше, чем он есть в целом, например, если ум человека любит себя лишь настолько, насколько надлежит любить человеческое тело, он прегрешает, и любовь его несовершенна, поскольку сам ум есть большее тела. Но точно также и тогда, когда ум любит себя больше, чем он есть как таковой. Например, если ум любит себя настолько, насколько надлежит любить только Бога, он прегрешает ничуть не меньше, и его любовь также не достигает совершенства, поскольку сам ум есть нечто несравнимо меньшее, нежели Бог. Однако с еще большим извращением и чрезмерностью прегрешает ум тогда, когда он любит тело настолько, насколько следует любить только Бога. Точно так же и знание не является совершенным, если оно меньше того, что познается и может быть познано вполне. Если же оно больше, то это значит, что природа, которая познает, выше той, что познается, как больше знание тела, нежели само тело, которое этим знанием познается. Ибо знание есть некоторого рода жизнь в разуме (ratione) познающего, а тело жизнью не является. Между тем, любая жизнь больше любого тела, не по массе, но по силе. И действительно, когда ум познает самого себя, его знание не превышает его самого, так как он сам познает и сам познается. Следовательно, когда ум познает самого себя в целом и при этом ничего, кроме себя, его познание равно себе самому, поскольку, когда он познает себя самого, его познание проистекает не из какой–либо другой природы. И если он воспринимает себя целиком и ничего слишком, тогда его познание и не больше, и не меньше, [чем он сам]. Поэтому мы правильно считаем, что эти трое [ум, любовь и знание] надлежащим образом равны, когда они совершенны.
5. В то же время нам представляется (насколько это возможно), что эти предметы существуют в душе (animа), что они ею как бы обвернуты и что они развертываются так, что полагаются и считаются субстанциальными (substantialiter), или, если позволено будет сказать, существенными [определениями] (essentialiter), а не [такими определениями], как цвет или фигура в телах или какое–нибудь другое качество или количество. Ибо все, что ни есть подобного [телесного] рода, не выходит за пределы предмета, в котором оно есть, так как ни цвет, ни фигура данного тела не могут относиться к другому телу. А вот ум посредством любви, которой он любит себя, может любить что–нибудь и кроме себя. Следовательно, ум познает не только себя самого, но и многие другие предметы. Поэтому любовь и познание не содержатся в уме как в подлежащем (in subiecto), но существуют субстанциально ((substantialiter), как и сам ум, поскольку, хотя о них и говорится как о взаимно соотнесенных, в себе из них каждый является субстанцией ((substantia). [И когда] о них говорят как о взаимно соотнесенных, [то о них говорят] не так, как о цвете и цветном предмете, потому что цвет в цветном предмете не имеет в самом себе собственной субстанции ((substantiam), ибо цветное тело есть субстанция, а цвет — в субстанции. [Когда же о них говорится как о взаимно соотнесенных, то о них говорится] как о двух друзьях, которые оба люди, т. е. оба суть субстанции. [Итак], как о людях, о них говорится безотносительно; как о друзьях — относительно.
6. Все же хотя любящий или знающий являются субстанцией, и знание есть субстанция, и любовь есть субстанция, однако о любящем и любви, как и о знающем и знании, говорится как о взаимно соотнесенных, как о друзьях. Но ум или дух (mеns uerо аum spiritus) не являются взаимно соотнесенными, как не являются таковыми и люди. Тем не менее, любящий и любовь или знающий и знание не могут существовать отдельно друг от друга так, как люди, которые суть друзья. Хотя, как кажется, и друзья разделяются телами, но не душой, поскольку они друзья, все же может такое случиться, что один друг начнет ненавидеть другого друга и тем самым перестанет быть другом, в то время как другой, не зная, все еще будет любить. Но если любовь, которой ум себя любит, прекратится, то тогда одновременно и сам ум перестанет быть любящим. Точно так же, если знание, которым ум знает себя, прекратится, одновременно и сам ум перестанет знать себя. Так же и голова чего–либо, чему она является головой, является головой, и о них говорится как о взаимно соотнесенных, хотя они являются субстанциями, ибо и голова есть тело и то, чему она является головой, так как если бы не было головы, не было бы и того, чему она является головой. Но если эти [телесные] предметы могут быть разделены посредством разрезания, то те [духовные] не могут.
7. Даже если есть некоторые тела, которые не могут быть разрезаны и разделены, они не были бы телами, если бы не состояли из соответствующих частей. Следовательно, часть считается взаимно соотнесенной с целым, поскольку всякая часть является частью какого–либо целого, а целое является целым посредством всех своих частей. Но так как и часть, и целое являются телами, о них не говорится как о взаимно соотнесенных, но как о субстанциях. Возможно ли поэтому, чтобы ум был целым, а любовь, которой он себя любит, и знание, которым он себя знает, — как бы его частями, из каковых двух и составляется целое? Или же [здесь налицо] три равные части, из каковых получается единое целое? Но никакая часть не объемлет целого, частью которого она является. Когда ум знает себя в целом, т. е. знает совершенным образом, его знание охватывает его целиком; и когда он любит себя совершенным образом, он любит себя целиком, и его любовь охватывает его целиком. Не так ли обстоит дело, когда делается один напиток из вина, воды и меда, и каждая его часть охватывает весь напиток, и все же их три (ибо нет ни одной части напитка, которая не содержала бы этих трех; ведь они же не соединяются так, как если бы они были водой и маслом, но полностью перемешиваются: и все они суть субстанции (substantiae), и целое этого напитка есть одна субстанция (substantia), состоящая из трех)? Так, не в подобном ли роде нам следует мыслить как одно и эти три: ум, любовь, знание? Но вино, вода и мед не одной субстанции, хотя из их смешения возникает одна субстанция напитка. И я не вижу, почему другие три не суть одной и той же сущности (eiusdem essentiae), ведь ум сам себя любит и сам себя знает, и эти три суть таким образом, что ум не любим и не познаваем со стороны никакой другой вещи. Следовательно, необходимо, чтобы эти трое были одной и той же сущности. Поэтому если они соединяются как бы смешением, они никак не могут быть тремя и не могут быть взаимно соотнесены друг с другом. Так, например, если бы из одного и того же золота ты бы делал три одинаковых кольца, хотя бы и соединенных друг с другом, они бы взаимно соотносились друг с другом, потому что они одинаковы; ибо всякое одинаковое одинаково по отношению к чему–то и есть, таким образом, троица колец и одно золото. Но если бы они перемешались меж собой, и каждое соединялось бы с другим посредством их целой массы, тогда бы троица совершенно перестала быть; и тогда б об этом стали говорить не столько как об одном золоте, что имело место быть также и с теми тремя кольцами, сколько как о том, что более не представляет трех предметов из золота.
8. Но в тех трех, когда ум знает себя и любит себя, троица остается: ум, любовь и знание; и эта троица не спутывается каким–либо смешением, хотя они отдельны в себе самих и все взаимно находятся во всех; или каждый отдельный в двух, или два в отдельных. Итак, все во всех. Ибо, конечно же, ум есть в себе самом, поскольку он называется умом по отношению к самому себе, хотя знающий, познанное и познавание называется взаимно соотнесенным по отношению к самому знанию; и точно также любящий, любимый и то, что может быть любимым, по отношению к любви, которой он любит себя. И хотя знание относится к познающему или познаваемому уму (соgnоsсеntеm eul соgnitаm), все же о нем самом так же говорится как о знаемом и знающем (nоtа еt nоsсеns), ибо знание, которым ум познает самого себя, не является непознанным для него самого. И любовь, хотя она относится к любящему уму, любовью которого она является, все же есть также любовь и по отношению к себе самой так, что она есть и в себе самой; и любовь также любима, ибо не может быть любима чем бы то ни было еще, как только любовью, т. е. самой же собой. Итак, все эти моменты отдельно суть сами в себе. Но таковы они и друг в друге, ибо и ум, который любит, пребывает в любви, и любовь есть в знании ума, который любит, и знание в уме, который познает. И каждый из них есть в других так, как пребывает ум, который знает и любит себя в своих знании и любви; и как любовь ума, который знает и любит себя, есть в уме и в его знании; и как знание ума, который знает и любит себя, есть в уме и в его любви, ибо он любит себя знающим, и знает себя любящим. А поэтому двое из этих определений есть в каждом из них, так как ум, который знает и любит себя, есть со своим знанием в любви и вместе со своей любовью в знании; и также любовь сама и знание вместе суть в уме, который себя любит и знает. Каким образом все суть во всех, мы уже показали выше, ведь ум любит себя как целое и знает себя как целое, и знает свою собственную любовь как целую и любит свое собственное знание как целое, когда все эти три определения совершенны в отношении самих себя. Следовательно, все эти три момента нераздельны по отношению друг к другу, и все же каждый из них есть отдельная субстанция, но все вместе они суть одна субстанция или сущность (substantia eul essentia), если они рассматриваются во взаимном отношении.
9. Но когда человеческий ум знает и любит самого себя, он знает и любит не что–то неизменчивое; и каждый отдельный человек, когда он обращает внимание на то, что происходит в нем самом, выражает свой собственный ум посредством одного образа речи; посредством же другого, когда он определяет человеческий ум при познании видовом или родовом. Так, когда он говорит мне о своем собственном уме по поводу того, понимает ли он это или то, или не понимает, или же желает он это или то, или не желает, я ему верю. Когда же он высказывает истину о человеческом [уме вообще], будь–то видовую или родовую, я признаю это и одобряю. Отсюда ясно, что одно дело, когда кто–либо видит что–либо в себе и может высказать, а другой может поверить тому, не видя этого; и другое дело, когда он всматривается в саму истину, и другой может видеть также, потому что в первом случае один претерпевает изменения во времени, а второй остается неизменным в вечности. Ибо мы получаем родовое или же видовое знание о человеческом уме не посредством аналогии, видя множество умов телесными глазами, но созерцая незыблемую истину, из которой настолько совершенно, насколько это возможно, мы определяем не то, каков ум какого–нибудь отдельного человека, а каков он должен быть в соответствии с непреходящими установлениями.
10. Что же касается образов вещей телесных, усвоенных посредством телесных чувств и некоторым образом вторгшихся в память, посредством которых вещи, которых мы никогда не видели, измышляются в надуманном представлении другими, нежели они суть на самом деле, или же по чистой случайности такими, каковые они суть, то и здесь мы должны принимать или отбрасывать их на основе [хотя и] других правил, [но все же тех], что остаются неизменно выше нашего ума (если мы принимаем или отбрасываем что–либо правильно). Ведь когда я вспоминаю стены Карфагена, которые я видел, и когда я воображаю стены Александрии, которые я не видел, предпочитая одни образы другим, мое предпочтение имеет разумное основание. [Так], преисполненная силы сияет с высоты рассудительность истины, крепкая вовек нерушимыми правилами своего закона; и если она как бы заволакивается облаком телесных образов, она все же не скрывается и не смешивается в них.
11. Но есть разница между тем, нахожусь ли я как бы отрезанным от светлого неба под этой темнотой или в самой темноте, или же, как это имеет обыкновение случаться в высоких горах, наслаждаясь свободным воздухом, созерцаю яснейший свет сверху и густейшие облака внизу. Ибо откуда же во мне зажигается жар братской любви, когда я слышу, что какой–либо муж перенес жесточайшее страдание за красоту и стойкость веры? И если мне пальцем укажут на этого человека, я постараюсь к нему присоединиться, познакомиться, завязать дружбу. Так, если появится возможность, я подойду, обращусь к нему, заведу с ним беседу, выражу ему свое уважение теми словами, какими смогу; я пожелаю также, чтобы он в свою очередь выразил по отношению ко мне свое расположение; я попытаюсь объять его духом в вере, ибо я не могу так быстро разузнать и проникнуть внутрь его души. Итак, я люблю верного и мужественного человека чистой братской любовью. Но если вдруг в беседе он признается мне (или же по неосторожности [его] каким–либо образом выяснится), что или о Боге он думает нечто неподобающее и желает также чего–то плотского в Нем, и что он перенес свои страдания из–за этой ошибки, или из–за желания денег, на которые он надеялся, или из–за бессмысленной страсти к человеческой славе, тогда моя любовь, которую я испытывал к нему, тотчас оскорбленная, будет как бы отброшена от недостойного человека (если бы только я не любил его за то, что он мог бы стать таковым, каковым, как я узнал, он не является), но все же останется в том образе, согласно которому я любил человека, так как считал, что он соответствует ему. Но и в том человеке ничего не изменилось, хотя он мог бы измениться, чтобы стать таким, каким я его считал [сначала]. В моем же уме изменилась, разумеется, сама оценка, ибо одну я имел по отношению к нему [раньше], и другую [теперь]. Так же и сама любовь отвратилась от стремления наслаждаться к стремлению действовать сообразно с приказанием вышней и неизменной справедливости. Сам же образ непоколебимой и незыблемой истины, посредством которой я наслаждался бы человеком, которого считал благим, и которая мне указывает на то, благ ли он, из своей безмятежной вечности преисполняет светом нетленного и непорочного разума как взор моего ума, так и то облако воображения, которое я различаю сверху, когда мыслю того же человека, что видел. И опять–таки, когда я вспоминаю прекрасную и равномерно изогнутую арку, которую я видел, например, в Карфагене, то некоторая [телесная] вещь, переданная в ум посредством глаз и перенесенная в память, образует определенный вид. Но в своем уме я вижу нечто другое, в соответствии с чем мне нравится это произведение [искусства], и в соответствии с которым, я мог бы исправить произведение, если бы оно мне не понравилось. Следовательно, об этих [телесных вещах] мы судим в соответствии с тем [вечным образом], а его различаем разумным созерцанием ума. Если телесные вещи присутствуют, мы касаемся их телесными чувствами; если они отсутствуют, мы вспоминаем их образы, закрепленные в памяти, или по аналогии с ними представляем такие образы, какие сами, если пожелаем и сможем, постараемся создать: либо же представляя себе образы тел или видя тела посредством тела; либо схватывая простым пониманием пропорции и невыразимо прекрасную изящность тех образов, что превыше взора ума.
12. Итак, в этой вечной истине, на основе каковой сотворено все временное, взором ума мы созерцаем тот образ, в соответствии с которым существуем мы, и в соответствии с которым мы делаем что–либо по истинному и правильному разумению, и тогда, когда это касается нас самих, и тогда, когда это касается вещей телесных. Оттуда постигнутое истинное знание вещей у нас имеется как слово, которое мы порождаем, говоря внутри себя. Но слово это, родившись, от нас не отделяется. Когда же мы говорим с другими, к слову, которое остается внутри, мы прилагаем голос или какой–либо телесный знак так, чтобы посредством некоторого рода чувственного запоминания в памяти слушающего осталось то, что не исчезает из памяти говорящего. Следовательно, посредством наших телесных членов в словах или поступках, которыми одобряется или осуждается поведение людей, мы не делаем ничего, что бы мы не предвосхитили в слове, произносимом внутри нас. Итак, никто, желая чего–либо, не сделает того, чего бы он прежде не сказал в своем сердце.
13. И это [внутреннее] слово зачинается (соnсipitur) либо любовью к творению, либо любовью к Творцу, т. е. либо любовью к изменчивой природе, либо любовью к неизменной истине.
Итак, [это слово зачинается] либо вожделением (сuрidate), либо [собственно] любовью (саritate). И [дело] не в том, что не следует любить творение, но [в том, что] если эта любовь относится к Творцу, то она будет не вожделением, но [собственно] любовью. Ибо, когда любят творение само по себе, тогда это вожделение. И тогда оно не помогает тому, кто им пользуется, но вредит наслаждающемуся им. Так как творение либо равно нам, либо ниже нас, то следует пользоваться низшим ради Бога, а наслаждаться равным в Боге. Ибо собой ты должен наслаждаться не в себе самом, но в Том, Кто сотворил тебя; и также [ты должен наслаждаться] тем, кого ты почитаешь как самого себя. Так давайте наслаждаться собой и братьями нашими в Господе нашем; и давайте не будем позволять себе оставлять себя на самих себя и [таким образом] опускаться вниз. Слово рождается, когда, будучи мыслимым, оно служит либо для греховного, либо для праведного поступка. Таким образом, любовь, являясь как бы посредником, соединяет наше слово и ум, из которого оно происходит, и связывает себя с ними в качестве третьего в бестелесном объятии безо всякого смешения.
14. Но когда воля находит успокоение в самом знании, что происходит в случае любви к духовному, тогда слово зачатое (соnсерtion) и слово рожденное (nаtur) есть одно и то же. [Так] тот, кто, например, совершенным образом знает и совершенным образом любит благочестие, уже благочестив, даже если не существует какой–либо необходимости действовать вовне посредством своих телесных членов в соответствии с ним. Но в любви вещей плотских и временных, как и в порождениях животных, есть разница между словом мыслимым, и словом рожденным. Ибо здесь то, что зачинается желанием, рождается обретением. Поэтому для любостяжания недостаточно знать и любить золото, если только оно им не владеет. И так же [вожделеющему недостаточно] знать и любить есть или же возлежать [с кем–либо], если только он этого не делает; и так же знать и любить почести и власть, если только у него их нет. И даже если все это будет получено, этого все равно не будет достаточно. [Потому–то] Иисус Христос говорит: «Всякий пьющий воду сию, возжаждет опять» (Ин. 4:13). И то же самое говорит псалмопевец: «Вот, он зачал боль и родил несправедливость» (Пс. 7:15). И он говорит о боли или трудностях как «зачатых», так как они «мыслимы», и которых недостаточно знать и желать; и душа пылает и страждет от неудовлетворенности, пока она их не достигнет и как бы не породит. Отсюда в латинском языке мы имеем слово «рожденное» (раrtа), искусно увязываемое со словами «обретенное» (reperta) и «узнанное» (соmреrtа), которые звучат как будто произведенные от слова «рождение» (раrtu). Ибо «похоть же, зачавши, рождает грех» (Иак. 1:15). Поэтому Господь призывает: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11:28); и в другом месте: «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни» (Мф. 24:19). И когда поэтому Он относит к рождению слова и правые и греховные деяния, он говорит: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37), тем самым имея ввиду слова не слышимые, но внутренние неслышимые слова размышления и сердца.
15. Вполне уместен вопрос: всякое ли знание — слово или только знание, которое любят? Ведь мы также знаем и то, что ненавидим, но нельзя сказать, что то, что нам не нравится, зачинается и рождается нашим умом. Ибо не все, что его касается каким–либо образом, зачинается им; и то, о чем мы сейчас говорим, не называется словами, хотя оно и известно. Ведь одно дело, когда словом называется то, что посредством слогов занимает промежутки времени, или произносится, или мыслится; другое дело, когда все, что известно, называется словами, запечатленными в душе, пока их могут выводить из памяти и определять, даже если сама вещь нам не нравится; и, наконец, [словом называется] то, что зачинается умом, когда предмет нравится. Именно в отношении этого рода слова должно быть воспринято сказанное апостолом: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). В соответствии же с другим значением слова говорят те, о ком высказывается Сам Господь: «Не всякий говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное» (Мф. 7:21). Однако, когда то, что мы ненавидим, справедливо не одобряется и осуждается, само осуждение того ценится и одобряется, и является словом. Так же и само знание грехов не есть то, что не нравится нам, но [то, что нам не нравится есть] сами грехи. Так, мне нравится знать и определять, что такое невоздержанность, что [собственно] и есть ее слово. Таким же образом и в искусстве есть известные недостатки, и их знание справедливо одобряется, когда знаток различает вид или отсутствие достоинства, утверждая или отрицая, что оно есть или нет. Однако быть лишенным достоинства и впадать в грех есть нечто заслуживающее осуждения. Определение невоздержанности и произнесение ее слова относится к знанию нравов. Однако быть невоздержанным относится к тому, что это знание осуждает. Точно так же знание и определение того, что такое солецизм, относится к искусству речи; однако, допущение такой ошибки порицается этим искусством. Что мы сейчас хотим распознать и усвоить, есть то, что слово — это знание вместе с любовью. Ведь когда ум знает и любит себя, к нему любовью присоединяется его слово. И поскольку он любит знание и знает любовь, слово есть в любви, а любовь есть в слове, и оба суть в нем, любящем и говорящем.
16. Но всякое знание в соответствии с видом подобно вещи, которую оно знает. Ибо есть и другое знание в соответствии с его отсутствием, сообразно которому мы что–либо говорим, только когда осуждаем. И это осуждение отсутствия прославляет сам вид, и поэтому оно одобряется. Следовательно, душа содержит некоторое подобие тому виду, который она знает, или тогда, когда она одобряет этот вид, или тогда, когда она осуждает его отсутствие. Поэтому насколько мы знаем Бога, настолько мы подобны Ему, но подобны [мы Ему] не вплоть до равенства, ибо мы не знаем Его настолько, насколько Он есть Сам. И так же, как когда мы обозначаем тела посредством телесных чувств, в нашей душе возникает их некоторое подобие, что представляет собой образ в памяти, ибо сами тела, конечно же, не находятся в душе, когда мы их мыслим, но лишь их подобия. Следовательно, когда мы принимаем последние за место первых, мы ошибаемся, ибо признание одного за место другого является ошибкой. Однако телесный образ в душе лучше, чем вид самого тела, поскольку первое находится в лучшей природе, т. е. в живой субстанции, каковой является душа. Поэтому когда мы знаем Бога, хотя мы и делаемся лучше, нежели мы были прежде, чем знали Его, и сверх того, когда то же самое знание, будучи ценимым и заслуженно любимым, является словом, и даже когда это знание становится некоторым подобием Бога, все же оно низшего рода, ибо оно находится в более низкой природе, так как душа есть сотворенное, а Бог есть Творец. Из этого заключается, что когда ум знает и одобряет самого себя, это самое знание есть его слово таким образом, что оно вполне сродни, равно и тождественно ему, поскольку оно не есть знание низшего, каковым является тело, и не есть знание высшего, каковым является Бог. И когда знание уподобляется той вещи, которую оно знает, т. е. знанием чего оно является, оно имеет совершенное и равное подобие, как и ум, который знает, и познается. Поэтому оно есть и образ, и слово ума, ведь оно высказывается об уме, с которым оно сравнивается в познавании, и то, что рождено, равно порождающему.
17. Так что же любовь? Она не будет ни образом, ни словом, ни рожденной? Почему ум, когда он себя знает, рождает знание, а любовь, когда он себя любит, не рождает? Ведь, если потому ум является причиной своего знания, что он познаваем, он также сам является причиной любви, так как может быть ее предметом. Таким образом, трудно сказать, почему он не рождает обоих. Этот вопрос (касающийся самой вышней Троицы, всемогущего Бога Творца, по образу которого создан человек) — почему Дух Святой также не считается и понимается рожденным от Бога Отца так, чтобы Он тоже мог бы называться Сыном — обычно озадачивает людей, которых истина Божия посредством человеческой речи приглашает к вере. И мы пытаемся, насколько возможно, исследовать этот вопрос на уровне человеческого ума, чтобы из более низкого образа (в котором более знакомая нам природа наша, будучи как бы спрошенной, отвечает сама) мы направили уже более искусный взор ума от освещенного творения к непреходящему свету (однако, с тем условием, что сама истина уже убедила нас в том, что — в чем не сомневается ни один христианин — Слово Божие является Сыном, а Дух Святой — любовью). Поэтому давайте возвратимся к более тщательному исследованию и рассмотрению вопроса о том образе, который является творением, т. е. к вопросу о разумном уме, в котором знание некоторых вещей, [ныне] сущих во времени, но не бывших прежде, и любовь к тому, чего раньше не любили, с большей ясностью откроют, что говорить. Ведь и для речи самой, которая также должна быть во времени, легче объяснить то, что постигается во временном порядке.
18. Во–первых, ясно, что может быть так, что какая–нибудь вещь является познаваемой, т. е. что ее можно познать, но что ее не познают, однако не может быть, чтобы познавалось то, что не может быть познано. Отсюда следует четко понимать, что всякая вещь, которую мы познаем, порождает в нас знание о себе; ибо знание порождается как познающим, так и познаваемым. Следовательно, когда ум познает самого себя, он является единственным родителем своего знания, ведь он сам есть и познаваемый, и познающий. Но он был познаваем для самого себя и до того, как он познавал самого себя; когда же он не познавал себя, в нем не было знания самого себя. Значит, когда он знает самого себя, он порождает знание себя, равное самому себе. Так как он знает себя не меньше, чем он сам есть, и его знание не есть знание какой–либо другой сущности не только потому, что он сам знает, но и потому, что он знает самого себя, как это было сказано нами выше. Но что же нам сказать о любви? Почему, когда ум любит себя, мы не должны считать его породившим также и любовь к самому себе? Ведь он мог быть предметом любви для себя и прежде, чем он любил себя, ибо он мог любить себя точно так же, как он мог быть познаваемым для себя и до того, как он познал себя, ибо он мог познавать себя. Ибо, если бы он не был для себя познаваем, он никогда бы не смог познать себя; и точно так же, если бы он не был предметом любви для себя, он никогда бы не смог любить себя. Так почему же нельзя сказать, что, любя себя, он породил свою любовь так же, как говорится, что, познавая себя, он породил свое знание? Не потому ли, что этим самым четко показывается самое основание любви, из которого она происходит? Конечно же, она происходит из самого ума, который является возможным предметом любви для себя самого прежде того, как он сам себя любит, и также он является основанием любви к себе, которой он себя любит. Но неверно говорить о любви как о рожденной умом подобно тому, как он рождает свое знание, которым он знает себя, потому что знанием уже обнаружен предмет, который называется рожденным или обретенным, и этому часто предшествует поиск, который должен прекратиться по достижении конца. Ведь поиск — это желание (appertitus) что–либо найти или, что есть то же самое, что–либо обрести. То, что обретается, схоже с тем, что рождается, а поэтому подобно детищу. Но где же это имеется, как не в самом знании? Именно в нем оно приобретает образ и, так сказать, выражается. Ибо хотя вещи, которые мы обнаруживаем посредством поиска, существовали и раньше, все же не было самого знания их, которое мы рассматриваем как рожденное детище. И далее, желание, которое есть в поиске, происходит от ищущего и некоторым образом продолжается и не прекращается в конце, к которому оно направлено, если только то, что ищется, не найдено и не соединено с тем, кто ищет. Хотя желание, т. е. поиск, по–видимому, не есть любовь, которой то, что познано, любимо (ибо в этом случае мы все еще стремимся познавать), все же оно есть нечто того же рода. Его можно назвать именно волей (uoluntas), ибо всякий, кто ищет, желает (vult) найти; и если то, что ищут, относится к знанию, всякий, кто ищет, желает знать. А если он желает пылко и усердно, то говорят, что он «стремится» — слово, которое наиболее всего подходит, когда говорят о постижении и обретении каких–либо учений. Поэтому рождению ума предшествует некоторое желание, благодаря которому через посредство поиска и обретения того, что мы желаем познать, рождается детище, т. е. само знание. И поэтому само желание, посредством которого знание постигается и рождается, неправильно называть рождением и детищем. И то же самое желание, которое толкает нас к познанию вещи, становится любовью, когда вещь познана, пока любовь удерживает и охватывает свое драгоценное детище, т. е. знание, и соединяет его с тем, кто его породил. Итак, есть некоторый образ Троицы: [первое] — сам ум, [второе] — его знание, которое есть его детище, и слово его в отношении самого себя, и третье — любовь. И эти три суть одна единая сущность. И детище не есть меньшее, [нежели ум] ибо ум знает себя настолько, насколько велико [знание], и любовь не есть меньшее, [нежели ум], ибо он любит себя настолько, насколько знает и насколько сам велик.
КНИГА 10
(В ней показывается, что в уме человека есть более явная троица памяти, понимания и воли. Здесь также выясняется и то, что, хотя ум никогда бы не мог быть таким образом, чтоб он не помнил, не понимал и не любил себя, он не всегда думает о самом себе, и когда он не думает о себе, он не отличает себя одной и той же мыслью от телесного; отчего рассуждение о Троице, образом Каковой он является, откладывается затем, чтобы в самом видимом телесном обнаружилась троица, и чтобы в нем более надлежащим образом поупражнялось внимание читателя)
1. Теперь приступим с большим тщанием к более четкому объяснению того же самого. Во–первых, поскольку никто не может любить то, что совсем неизвестно, мы должны с большим вниманием рассмотреть то, какого рода любовь стремящихся (studentium), т. е. еще не знающих, но желающих знать какое–либо учение. В том, по отношению к чему слово «стремление» (studium) обычно не употребляется, любовь часто возникает от услышанного, когда слава о красоте чего–либо побуждает душу к созерцанию и наслаждению им, потому что душа знает род того, в чем заключается красота тел, поскольку она видела многих; и потому что внутри нее есть то, что оценивает желаемое извне. Когда это происходит, то возникающая любовь не есть любовь к той вещи, что совершенно неизвестна, ибо известен ее род. Когда же мы любим благого человека, внешность которого мы не видели, мы любим его потому, что наслышаны о его добродетелях, о каковых [вообще] мы знаем из самой истины. Что же касается учений, то нашу любовь к ним возжигает главным образом [внешний] авторитет восхваляющих и проповедующих их. Однако, если бы в нашем сознании не было хотя бы скудного представления о каждом учении, мы бы никогда не воспылали стремлением к изучению [какого–либо] учения. Ибо кто бы стал беспокоится и прилагать усилия к изучению, например, риторики, если бы не знал, что это — наука красноречия? Иногда же мы удивляемся достижениям изучения, о которых мы услышали или прознали, и поэтому мы жаждем приобрести, обучаясь, способность приходить к таким достижениям. Так, если кто–то сказал бы тому, кто не умеет писать, что существует знание, посредством которого всякий способен, молча, отправлять тому, кто находится сколь угодно далеко, начертанные рукой слова, каковые тот, кому они направлены, в свою очередь сочетает, но не слухом, а глазами, и если бы он увидел, как это делается, то разве в его желании обладать таким знанием не все его стремление будет направлено на то достижение, которое другой уже удерживает? Так возжигаются стремления учащихся; любить же то, что совершенно неизвестно, не может никто.
2. Поэтому также если кто–либо слышит неизвестный знак, например, звучание какого–то слова, значение которого ему не известно, он желает знать, что это, т. е. что по установлению должно мыслится посредством данного звучания. Так, например, когда слышат слово temetum (лат. — пьянящий напиток), то, не зная, спрашивают, что оно означает. Таким образом, необходимо, чтоб уже знали, что это–знак, что это — не пустое звучание, но что оно что–то обозначает. Впрочем, это трехсложие [также] и известно, ибо посредством слухового ощущения оно запечатлело в сознании свой членораздельный образ. Но что же большее требуется от этого слова для того, чтобы стало более известным то, все буквы и все звуки чего уже известны, как не то, чтобы оно в то же самое время стало известным и как знак, и чтобы оно пробудило желание знать, знаком чего оно является? Следовательно, чем больше что–либо известно (хотя не полностью), тем больше душа желает знать об этом то, чего пока не знает. Ибо если бы было известно, что данное слово является только звучанием, и не было бы известно, что оно является знаком чего–то, то не стали бы искать ничего [большего], поскольку чувственное уже воспринято, насколько возможно. Однако, поскольку известно, что это — не только звучание, но также и знак, постольку возникает желание знать это совершенным образом; но ни один знак не познается совершенно, если он не познается как знак чего–то. Так, неужели того, кто с рвением пытается познать и вдохновленный стремлением приступает [к делу], возможно считать пребывающим без любви? Но что же он любит, ведь любить возможно только то, что известно? Ибо, конечно же, не могут быть любимы те три слога, которые уже известны. Но, может, в них любят то, что знают, что они обозначают что–то? Однако сейчас разговор не об этом, так как стремятся узнать не это. Мы же спрашиваем о том, что любят в том, что стремятся знать, но чего, конечно же, еще не знают, и поэтому мы недоумеваем, почему [это] любят, ведь мы, несомненно, знаем, что нельзя любить то, чего не знают. Так, почему же любят, как не потому, что знают и созерцают в соотношениях вещей красоту науки, в которой содержится знание всех знаков? И в чем же польза от такого знания, как не в том, что посредством него люди сообщаются между собой, дабы собрания людей не были хуже одиночества, в том случае если бы они, разговаривая, не сообщали друг другу свои мысли? Следовательно, душа различает, знает и любит тот подобающий и пригожий образ; и всякий, кто ищет значения слов, которых не знает, стремится совершить в себе этот образ, насколько может. Ведь одно дело — созерцать его в свете истины, и другое — желать его. Ибо всякий созерцает в свете истины, насколько велико и благо то, что мыслится и говорится на всех языках всех народов, и что никем ни слышится, ни произносится как иностранное. Следовательно, красота этого знания уже распознается мыслью, а то, что известно, любимо. И таким образом это созерцается и воспламеняет стремление учащихся, так что они подвизаются в этом отношении и вожделеют во всяком усилии, которое они прилагают для достижения этого, для того, чтоб и на практике они овладели тем, что предузнали в созерцании ума. И чем более всякий приближается к этому надеждою, тем более воспламеняется любовью. Ибо те науки изучаются с большим рвением, в возможности постичь каковые не отчаиваются. Ведь если у кого–то нет надежды в достижении чего–то', то он любит это без особого рвения или вовсе не любит, каким бы прекрасным он его не считал. Вот почему, поскольку на знание всех языков почти никто не надеется, всякий стремится к тому, чтобы в совершенстве знать свой. Если же кто–то считает, что он и этого не может знать в совершенстве, то все же никто не будет столь ленив в отношении этого знания, чтобы [даже] не желать знать, что означает незнакомое слово, когда он его слышит, и пытаться по возможности выучить его. Пока же он пытается, он пребывает в стремлении учащегося и, как представляется, любит то, что ему не известно. Но дело обстоит иначе. Ибо его душу затрагивает тот образ, который он знает и мыслит, и в котором посредством языкового общения проявляется красота (decus) соединения душ, каковая воспламеняет стремлением ищущего то, чего он не знает. Однако он созерцает и любит знакомый образ, к которому относится искомое. Таким образом, если бы кто хотел знать, что такое, например, temetum (что, примера ради, я уже приводил), а его бы, [в свою очередь], спросили: «Зачем это тебе?», он мог бы ответить: «Затем, чтобы не случилось так, что я слушал кого–то и не понял, или чтобы не случилось так, что я прочел где–нибудь что–то и не знал, что писавший имел в виду». Кто же тогда ему скажет: «Не стремись понять, что ты слышишь, и не стремись знать, что читаешь»? Ибо почти для всякой разумной души очевидна красота (pulchritudo) этого знания, с помощью которого человеческие мысли сообщаются меж собой посредством выражения в значащих словах. И на основе этой известной, а потому и любимой, красоты (decus) со стольким стремлением возникает желание узнать это незнакомое слово. Таким образом, когда он прочтет и узнает, что словом temetum древние называли вино (uinum), но что теперь это слово уже вышло из употребления, он, возможно, [все же] сочтет для себя необходимым [знать это слово], чтобы понимать книги древних. Если же он сочтет эти книги чем–то излишним, он , возможно, сочтет и это слово не достойным запоминания, потому что он видит, что оно не имеет какого–либо отношения к тому известному виду (speciem) знания, который он созерцает и любит умом.
3. Вот почему всегда любовь стремящейся души, т. е. желающей знать то, что не знает, не есть любовь к тому, чего не знает, но к тому, что знает, на основе чего желают знать то, чего не знают. Если же душа настолько любопытна, что увлекается не по какой–то известной причине, но из–за одной любви к познанию неизвестного, то такого любопытствующего следует отличать от [собственно] стремящегося [к изучению]. О любопытном нельзя сказать, что он любит неизвестное, но, напротив, справедливым будет заметить, что он «ненавидит» неизвестное; и ему б не хотелось, чтоб было неизвестное, поскольку ему хочется, чтоб ему было известно все. Но чтобы никто не поставил перед нами более трудный вопрос, замечая, что никому не возможно ненавидеть то, что не известно, в той же степени, как и любить то, что неизвестно, давайте не будем противиться истинному. Ведь следует понимать, что говорить: «Он любит познавать неизвестное»; не есть то же, что говорить: «Он любит неизвестное». Ибо вполне возможно, чтобы человек любил познавать неизвестное, но невозможно, чтобы кто–либо любил неизвестное. Ведь не напрасно здесь говорится «познавать», поскольку тот, кто любит познавать неизвестное, любит не само по себе неизвестное, но познавать его. И никто, не зная, что означает познавать, не мог бы с уверенностью сказать, знает ли он что–либо или не знает. Ибо не только тот, кто говорит: «Я знаю», и говорит истинное, с необходимостью знает, что такое познавать. Ведь даже и тот, кто говорит: «Я не знаю», и говорит это уверенно, и знает, что говорит он истинное, конечно же, знает, что такое познавать, ибо и он отличает знание от незнания, когда он, вглядываясь в себя, правдиво замечает: «Я не знаю». И поскольку он знает, что говорит истинное, постольку откуда бы он знал это, если бы не знал, что такое познавать?
4. Итак, ни один стремящийся [к изучению] (studiosus), ни один любопытный человек не любит неизвестного, даже тогда, когда он целиком предался неистовому желанию познать то, чего он не знает. Так что, [во–первых], или он уже знает, что есть по своему роду то, что он любит, и также стремится познать это и в чем–то единичном или единичных, каковые, быть может, славятся, но ему пока не известны (В своем сознании он представляет себе их чувственный образ, посредством которого в нем возбуждается любовь. Но каким же образом он может вообразить их, как не посредством того, что уже знает? Однако, если он обнаружит, что то, что славится, не соответствует тому образу, который представлялся в сознании и был вполне знаком в мышлении, то, быть может, он их и не полюбит. Если же и полюбит, то любить он начнет лишь тогда, когда уже изучил. Ведь еще недавно тот образ, который полюбила душа, был отличным от того, который душа, вообразившая его, привыкла представлять. Если же он обнаружит, что этот [новый] образ подобен тому, что образовала у него слава, так, что он смог бы сказать ему: «Я тебя уже любил», то и тогда бы он не любил образа, которого не знал, ибо он знал его в его подобии). Или, [во–вторых], мы созерцаем и любим что–либо с точки зрения предвечного разума. Так, когда предвечное отображается в каком–либо образе преходящей вещи, мы, веря оценкам тех, кто его испытал, любим его. Но в этом случае мы любим не что–то неизвестное, о чем мы выше уже достаточно говорили. Или же, [в–третьих], мы любим что–то известное, на основе чего мы исследуем что–либо неизвестное. Таким образом, то, что владеет нами, никак не есть любовь к неизвестному, но любовь к известному, к чему, как мы знаем, принадлежит неизвестное, так что мы знаем также и то, что исследуем как пока неизвестное (например, как то, что я немного выше говорил о незнакомом слове). Или же, [наконец], любят само познание, что не может не быть известным желающему знать что–либо. На этих основаниях те, что желают знать что–либо из того, чего не знают, как представляется, любят неизвестное, и о них в силу их неистового желания исследовать нельзя сказать, что они пребывают без любви. Однако, насколько другим это оказывается в действительности, и то, что совсем не возможно любить неизвестное, я, думается, вполне убедил всякого, кто внимательно созерцает истину. Однако, поскольку примеры, которые мы дали, касаются тех, что желают знать что либо из того, что они сами не суть, постольку [теперь] мы должны рассмотреть, не возникнет ли, возможно, какого–то нового рода, когда ум желает познавать самого себя.
5. Так что же, следовательно, любит ум, когда он, еще не зная самого себя, страстно изучает себя, чтобы знать? Итак, ум пытается познать самого себя и загорается стремлением к этому. Значит, он любит. Но что он любит? Если он любит самого себя, то каким же образом [это может быть], когда он еще не знает себя, а никто не может любить то, чего не знает? Или же слава его предвозвестила его красоту подобно тому, как мы обычно слышим о тех людях, которых мы пока не видели? Но, быть может, он себя не любит, а любит то, как он себя воображает, что, возможно, есть нечто совсем отличное от того, что есть он сам? Или же если ум воображает себя подобным тому, какой он есть, и потому когда он любит свое воображение, то он любит самого себя прежде, чем он знает себя, ибо он созерцает то, что подобно ему? Но тогда он знает другие умы, на основании каковых он воображает себя самого, и, таким образом, он известен самому себе в своем роде. Почему же в таком случае, когда он знает другие умы, он не знает себя самого, ведь для него ничего не может быть более присущим, нежели он сам? Но что если здесь дело обстоит так, как то, что телесным глазам более, нежели сами себе, известны другие глаза? Но тогда пусть не изыскивает он самого себя, ибо никогда не обнаружит. Ибо глаза никогда не видят самих себя, как только перед зеркалом. И невозможно предположить каким–либо образом, чтобы для созерцания бестелесного было применено что–либо подобное, дабы ум познал себя как бы в зеркале. Или же в порядке вечной истины он усматривает то, насколько прекрасно знать самого себя, и поэтому он любит то, что видит, и стремится к тому, чтобы он сам стал таким, потому что, хотя он и не известен самому себе, ему все же известно, насколько благим является то, что он должен познать себя? И это, конечно же, весьма удивительно — не знать себя и знать, насколько прекрасно знать себя. Или же ум видит какую–то лучшую цель, т. е. свой покой и блаженство, посредством некой сокровенной памяти, которая не покидала его в его длительных продвижениях, и он верит, что он не сможет достичь этой самой цели, если только не познает самого себя? Таким образом, пока он любит то, он ищет это; и он любит то известное, на основании чего ищет неизвестное. Но почему его память о его блаженстве могла продолжаться, а его память о нем самом не могла так, чтобы он знал себя, желающего достичь [цели], как он знает цель, которую желает достичь? Или же когда он любит свое познание себя, он любит не себя, пока не знающего, но само познание, и страдает тем более от того, что его знанию, которым он желает постичь себя, не хватает его самого? Ведь он знает, что такое знать, и поскольку он любит то, что он знает, он также желает познать самого себя. Но откуда же он знает свое познание, если он не знает самого себя? Ведь он знает, что он знает другое, а не самого себя, и именно поэтому он знает, что такое познавать. Каким же образом тогда он, не зная самого себя, знает, что он знает нечто? Ведь он знает, что он сам знает, а не то, что другой ум знает. Следовательно, он знает сам себя. Значит, когда он стремится познать себя, он знает себя как стремящегося. Но тогда он уже знает себя. Вот почему невозможно, чтобы он совсем не знал себя, поскольку он, конечно же, знает себя, зная, что он не знает себя. Но если он не знает, что он не знает себя, он не исследует себя, дабы познать себя. Вот почему посредством того, что он исследует себя, он убеждается, что он, скорее, знает, нежели не знает, самого себя. Ибо пока он исследует себя, чтобы познать, он знает себя как исследующего и как не знающего.
6. Так, что же мы скажем? То, что ум знает себя отчасти (ех раrtе) и отчасти не знает себя? Но нелепо же говорить, что ум в целом не знает то, что знает. Я же не говорю, что он знает целое (totum); я говорю, что то, что он знает, он в целом (tota) знает. Следовательно, когда он что–либо знает о себе, что он может знать только в целом, он в целом знает себя. Но он знает, что он что–то знает, и он не может чего–либо знать, как только в целом. Следовательно, он в целом знает себя. Но что же ему столь знакомо, как не то, что он живет? Ведь не может он быть умом и не жить, ибо у него есть нечто большее [чем жизнь] — понимание; ведь и души животных живут, но не понимают. Следовательно, поскольку ум есть ум целиком, постольку он и живет целиком. Он знает, что он живет, а значит, он знает себя в целом. Наконец, когда ум стремится себя познать, он уже знает, что он — ум. Иначе бы он не знал, исследует ли он себя, и, быть может, он исследовал бы одно вместо другого. Ибо может статься, что сам он не есть ум, и, таким образом, пока он стремится познать ум, он не стремится познать самого себя. Вот почему поскольку ум, когда он стремится познать, что такое ум, знает, что он исследует самого себя, постольку он, разумеется, знает, что он сам есть ум. Далее, если он знает в себе самом то, что он — ум и ум целиком, он знает себя в целом. Но что если он не знает, что он — ум, и, исследуя себя, он знает себя только как исследующего? Если он этого не знает, то он может исследовать одно вместо другого. Поэтому для того, чтобы он не исследовал одно вместо другого, он, несомненно, должен знать то, что он исследует. Но если он знает, что он исследует, а он исследует самого себя, он, конечно же, знает самого себя. Так, чего же еще ему исследовать? Но что если он знает себя только отчасти и ищет себя еще только отчасти? Тогда он ищет не себя самого, но только часть себя самого, ибо когда говорится об уме самом, говорится о нем в целом. Затем, поскольку он знает, что пока не обнаружил себя целиком, постольку он знает, какой он в целом. Таким образом, он ищет то, чего не достает, подобно тому, как мы обычно стремимся к тому, чтобы на ум пришло то, что запамятовалось, но не забылось совсем, поскольку его можно вспомнить как то, что мы искали, если бы оно пришло [на ум]. Но каким же образом ум мог прийти бы на ум, как если бы ум мог не быть в уме? Добавь к этому и то, что если он, обнаружив себя отчасти, не ищет себя в целом, то все же он целиком ищет себя. Следовательно, он целиком в наличии у себя, и нет больше ничего, что бы ему искать; ибо не достает того, что ищут, а не то, что ищет. Таким образом, поскольку он целиком ищет себя, постольку нет ничего, чего бы от него не хватало. Если же он не целиком ищет себя, а только лишь обнаруженная часть [его] ищет часть, пока не обнаруженную, то тогда ум, ни одна часть которого не ищет себя, [также] не ищет себя. Ибо ни обнаруженная часть себя не ищет, ни та, что пока не обнаружена, себя саму не ищет, поскольку она ищется уже обнаруженной частью. Следовательно, если ни ум в целом не ищет себя, ни какая–либо часть его не ищет себя, то ум вообще не ищет себя.
7. Но почему же ему предписывается, чтобы он познавал самого себя? Я полагаю для того, чтобы он мыслил самого себя и жил в соответствии со своей природой, т. е. для того, чтобы он желал быть упорядоченным в соответствии со своей природой, смиряясь пред Тем, Кому он должен подчиняться, и возвышаясь над тем, чему он должен предпочитаться; т. е. смиряясь пред Тем, Кем он должен управляться, и возвышаясь над тем, чем он должен управлять. Многое он делает по причине превратного желания, словно забывает о самом себе, хотя может зреть внутрь прекрасного в превосходнейшей природе, которая есть Бог. Но тогда, как он должен пребывать неподвижным, чтобы наслаждаться прекрасным, он отвращается от Бога, желая присвоить прекрасное себе так, чтобы оно было не подобным Богу, как сущее от Бога, но подобным ему самому, как сущее от него самого. Тогда он приходит в движение и скатывается все ниже и ниже, хотя считает, что [поднимается] все выше и выше, ибо, отступившись от Того, Кто единственный довлеет [всему], ни он сам не есть нечто достаточное для себя, ни что–либо [иное] для него не достаточно. Вследствие нужды и лишений он становится слишком сосредоточенным на своих действиях и на суетных наслаждениях, которые он получает их посредством. Таким образом, желая приобрести знание внешнего, каковой род он знает и любит, но чувствует, что может быть утрачен, если не удерживать его постоянной заботой, он теряет покой, и настолько меньше думает о себе самом, насколько он более успокоился, что не может себя утратить. Итак, поскольку одно дело — не знать себя, и другое — не думать о себе (ибо мы не говорим о том, кто сведущ во многих науках, что он не знает грамматики, когда он не думает о ней потому, что он думает в тот момент о медицинской науке); итак, поскольку одно дело — не знать себя, и другое — не думать о себе, сила любви такова, что ум вовлекает в себя то, о чем он долго думал с любовью и к чему он прилепился узами привязанности, даже когда он некоторым образом возвращается к мыслям о себе. А так как то, к чему он вовне разгорелся любовью посредством телесных чувств, телесно, и поскольку из–за продолжительного знакомства он смешался с этим [телесным], [хотя] и не может внести вместе с собой как бы в область бестелесной природы само телесное, он схватывает и вовлекает образы телесного, созданные в нем самом. Ибо для их образования он дает нечто от своей сущности, сохраняя, впрочем, нечто, посредством чего он мог бы свободно судить о виде таких образов. И то, что сохраняется для того, чтоб он мог судить, есть собственно ум, т. е. разумное понимание (rationalis intellegentia). Ведь мы знаем, что части души, которые образуются подобиями телесного, общи у нас с животными.
8. Но ум ошибается, когда он соединяет себя столькой любовью с этими образами, так что даже считает себя чем–то того же рода. Ибо в определенной мере он сообразуется с ними, не по своему бытию, но по своей мысли. Это не значит, что он считает себя образом, но [однако же, он считает себя] тем самым, образ чего он в себе имеет. Ведь живет в нем еще способность различения телесного, которое он оставил вовне, от образа телесного, каковой он имеет в себе, за исключением того, когда те же образы представляются так, словно они воспринимаются извне и не мыслятся изнутри, как в случае тех, кто пребывает или во сне, или в безумстве, или в исступлении.
9. Итак, когда он считает себя чем–то такого же рода, он считает себя телом; поскольку же он вполне осознает свое начальство, посредством которого он управляет телом, постольку по этой причине иные спрашивают, что из телесного наиболее важно в теле; и считается, что это — ум, или, пожалуй, вообще вся душа. Поэтому одни полагали, что она — кровь, другие — мозг, третьи–сердце (не в том смысле, в каком говорится в Писании: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим» (Пс. 11:2; 110:1; 137:1); «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем» (Втор. 6:5; Мф. 22:37), ибо это телесное именование высказывается о душе в несобственном или в переносном смысле). [Таким образом], они считали, что она — частичка тела, которую можно увидеть, когда рассечены внутренности. Иные же полагали, что душа состоит из мельчайших и неделимых телец, которых они называют атомами, сталкивающихся и сцепляющихся друг с другом. Иные говорили, что ее сущность — воздух, иные–огонь. Иные же полагали, что она не есть какая–либо сущность, потому что они не могли представить себе ни какой другой сущности, кроме тела, и не считали, что она есть тело. По их мнению, душа — самоустроение нашего тела или соединение элементов, посредством которых как бы составляется плоть. [Таким образом], все они считали душу смертной, поскольку, будь она телом или же каким–либо телесным сочетанием, она, конечно же, не могла бы пребывать бессмертной. Те же, кто считал ее сущностью некоторую жизнь и никоим образом [что–либо] телесное (ибо они обнаружили, что она есть жизнь, одушевляющая и оживляющая всякое живое тело), соответственно пытались, насколько каждый мог, доказать, что она бессмертна, ибо жизнь не может быть без жизни. Касательно же того пятого — мне не ясно какого — рода тела, который добавили к прекрасно известным четырем элементам этого мира и сказали, что из него состоит душа, я не думаю, что здесь следует много рассуждать. Ибо или они считают телом то же, что и мы (т. е. то, часть чего в пространстве меньше, нежели целое), и они должны быть причислены к тем, что полагали ум телесным; или же они называют телом всякую сущность или всякую изменчивую сущность, хотя знают, что не всякая сущность пространственна и определяется длиной, шириной и высотой. [Так или иначе] мы не будем спорить с ними о словах.
10. Всякий, кто во всех этих мнениях видит, что ум по своей природе есть сущность и не есть тело, т. е. то, что он не занимает меньшей своей частью меньшего пространства, а большей–большего, с необходимостью должен видеть также и то, что те, что мнят его телесным, ошибаются не потому, что у них нет понятия об уме, но потому, что они примешивают к нему то, без чего они не могут мыслить ни о какой сущности. Ибо, если бы их попросили мыслить о чем–либо без телесных представлений, они сочли бы, что это — совершенное ничто. Поэтому [их] ум не стал бы искать себя, как если бы ему не хватало себя. Ибо что столь присуще знанию, сколь то, что присуще уму? Или что столь присуще уму, сколь сам ум? Отсюда если мы рассмотрим происхождение слова «нахождение» (inuentio), то [спрашивается] что же еще оно означает, как не то, что найти (inuenire) — это идти на то, что ищется? Вот почему то, что приходит на ум как бы само по себе, редко называется найденным, хотя об этом можно говорить как об известном, ибо [в таком случае] мы не пытались, ища, идти на то, т. е. найти то. Поэтому поскольку то, что ищется зрением или каким–либо другим телесным чувством, ищется самим умом (ибо ум направляет даже плотское чувство, и он находит тогда, когда чувство идет на то, что ищется), постольку он находит и другое, что он должен знать, но не посредством телесного чувства, а через себя самого, когда он идет на это; будь то в вышней сущности, т. е. в Боге, или же в других частях души (как, например, когда он судит о самих телесных образах, ибо он находит их, впечатленных чрез тело, внутри, в душе).
11. Каким же образом ум ищет и находит себя самого, на что он устремляет свой поиск или на что он идет, чтобы найти, есть предмет достойный удивления. Ибо что же есть такового в уме, каковой сам ум? Но поскольку он пребывает в том, о чем он думает с любовью, а привык он любить чувственное, т. е. телесное, постольку он не способен без образов телесного пребывать в самом себе. И отсюда возникает постыдная для него ошибка, состоящая в том, что он не может отделить от себя образы вещей чувственных для того, чтоб он смог узреть себя одного; ибо они чудесным образом соединились с ним узами любви. И в этом его нечистота; ибо в то время, как он тщится подумать о себе одном, он полагает себя таковым, без чего он думать о себе не может. Следовательно, когда ему предписывается познать самого себя, пусть он не ищет себя, как если бы он был удален от самого себя, но пусть он удалит то, что он сам себе добавил. Ибо сам ум есть более внутреннее по сравнению не только с тем чувственным, что, несомненно, пребывает вовне, но и с теми образами чувственного, каковые составляют некоторую часть души, [т. е. ту часть], которой обладают и животные, тогда как у них нет понимания, каковое свойственно уму. Итак, поскольку ум есть глубоко внутреннее, он некоторым образом исходит от самого себя, когда он проявляет свою любовь по отношению к этим как бы следам множества устремлений. Эти–то следы словно отпечатываются в памяти, когда то телесное, что пребывает вовне, ощущается таким образом, что хотя его и нет [в мышлении], однако в нем наличны его образы. Следовательно, пусть ум познает самого себя, а не ищет себя, как если бы он отсутствовал. Пусть он ухватит в себе [саму] направленность воли, посредством которой он блуждает по другим предметам, и думает о себе. Тогда он увидит, что он всегда любил себя, что он всегда знал себя; но, любя вместе с собой нечто иное, он смешал себя с этим и [даже] некоторым образом сросся. Поэтому, охватывая [многое] различное как одно, он счел одним то, что есть [многое] различное.
12. Итак, пусть он не пытается уличить себя как будто отсутствующего, но пусть позаботится различить (discernere) себя как присутствующего. И пусть не познает (cognoscat) себя, как если бы он не знал себя, но пусть он распознает (dinoscat) себя из того, что он знает как иное. Ибо каким же образом он исполнит предписание «Познай самого себя», если он не знает ни то, что такое познать, ни то, что такое он сам? Но если он знает и то, и другое, он знает и самого себя. Ибо «Познай самого себя» говорится уму не так, как говорится «Познай херувима и серафима»; ибо они отсутствуют, и в их отношении мы верим, что они суть некие небесные силы, как о них предсказывается. И [прежнее говорится] не так, как говорится: «Познай волю этого человека»; что никоим образом не может быть наличным ни для нашего ощущения, ни для нашего понимания, как только посредством внешних телесных знаков; причем так, что мы скорее верим, нежели понимаем. И не так [это говорится], как говорится человеку: «Взгляни на свое лицо»; ибо это не возможно сделать, как только в зеркале. Ибо наше собственное лицо не налично для нашего взора, потому что его нет там, куда можно направить взор. Но когда уму говорится: «Познай самого себя», он познает самого себя посредством того самого действия, в котором он понимает слова «себя самого»; и это [имеет место быть] ни по какой другой причине, как только потому, что он наличен у себя самого. Но если он не понимает, что говорится, он, конечно же, не делает [так, как ему предписывается]. Следовательно, ему предписывается делать то, что он делает, когда понимает, что ему предписано.
13. Следовательно, когда ему предписывается познавать самого себя, пусть он не добавляет ничего к тому, каковым он знает самого себя. Ведь он определенно знает, что это говорится ему самому, а именно, тому, который есть, живет и понимает. И труп есть, и скот живет, но ни труп, ни скот не понимают. Следовательно, он таким образом знает, что он есть и живет, каким понимание есть и живет. Значит, когда ум считает себя, например, воздухом, он считает, что воздух понимает. Он знает, однако, что он понимает. Но он не знает, что он — воздух, а только лишь считает себя таковым. Так пусть он отделит от себя то, чем он себя считает, и пусть различит то, что он знает. И пусть у него пребудет лишь то, в чем не сомневались даже те, что считали ум тем или иным телом. Ибо не всякий ум считает себя воздухом, но иные — огнем, а третьи — мозгом; [таким образом], одни — одним видом тела, другие — другим, как я уже упоминал. Однако же все они знают, что они понимают, суть и живут; но они относят понимание к тому, что они понимают, а бытие и жизнь — к самим себе. И ни один не сомневается в том, что не может понимать тот, кто не живет, и что не может жить тот, кого нет. Значит, соответственно тот, кто понимает, есть и живет, но не так, как есть труп, который не живет, и не так, как живет душа, которая не понимает, а каким–то собственным и более превосходным образом. И также они знают, что они желают; но в равной степени они знают, что ни один из тех, кого нет, и тех, кто не живет, не может желать; и также они относят саму волю к чему–либо тому, что они желают этой волей. Также они знают, что они помнят, как знают они и то, что никто бы не помнил, если бы не был и не жил, но саму память мы относим к тому, что мы помним посредством самой памяти. Следовательно, два из этих трех — память и понимание — составляют знание и науку о множестве вещей; воля же наличествует для того, чтобы мы могли наслаждаться или пользоваться ими. Ведь мы наслаждаемся знакомым, в каковом воля находит успокоение и удовлетворение для себя самой. Используем же мы то, что мы относим к чему–то иному, каковым наслаждаемся. И никакая жизнь человеческая не греховна и не заслуживает порицания, если ею не пользуются или наслаждаются дурным образом. Но сейчас об этом говорить неуместно.
14. Но поскольку мы заняты природой ума, постольку давайте удалим из нашего рассмотрения всякое знание, получаемое извне телесными ощущениями, и обратим большее внимание на то, что, как мы уже утверждали, все умы знают себя и уверены в этом. Ибо мнения людей расходились по поводу того, принадлежит ли сила жизни, памяти, понимания, воления, мышления, знания, суждения, воздуху, или же огню, или мозгу, или крови, или атомам, или же пятому (не известно, какого рода телу), помимо четырех известных элементов, или же сочетанию или устроению самой нашей плоти. Ведь одни пытались утверждать одно, другие — другое. Но кто же сомневается в том, что он живет, и помнит, и понимает, и волит, и мыслит, и знает, и судит? Ибо, даже если он сомневается, он живет; если он сомневается, он помнит, почему он сомневается; если он сомневается, он понимает, что он сомневается; если он сомневается, он желает быть уверенным; если он сомневается, он мыслит; если он сомневается, он знает, что он не знает; если он сомневается, он судит, что не должен необдуманно соглашаться. Следовательно, всякому, кто сомневается в чем–либо, не следует сомневаться во всем том, при отсутствии чего он не мог бы в чем–либо сомневаться.
15. Считающие ум телом или телесным сочетанием или устроением желают видеть все то [телесное] в подлежащем (insubiecto), так что сущность [ума], как они полагают, оказывается воздухом или огнем, или чем–то еще телесным. [При этом] понимание [считается] присущим этому телесному как его качество так, что само телесное рассматривается как подлежащее, а понимание — в подлежащем; а именно, подлежащее есть ум, который они считают телом, в подлежащем же — понимание, или что–либо иное из того, в чем, как мы уже упомянули, мы уверены. Равным образом мнят также и те, что считают ум не телом, но телесным сочетанием или устроением. Разница между ними заключается в том, что первые говорят, что сам ум есть сущность, в котором как подлежащем есть понимание; вторые же говорят, что ум сам — в подлежащем, т. е. в телесном, сочетанием и устроением которого он является. Но тогда в чем же еще они мыслят понимание, как не в том же самом подлежащем, т. е. в теле?
16. Ни те, ни другие не замечают, что ум знает себя, даже когда он ищет себя, как мы уже показали. Но никоим образом правильно нельзя сказать, что что–то познается, если не познается его сущность. Вот почему если ум знает себя, он знает свою сущность. И если он уверен в отношении себя, он также уверен и в отношении своей сущности. А он уверен в отношении себя, как убедительно показывает то, что было сказано выше. Однако же ум совсем не уверен в отношении того, является ли он воздухом, или огнем, или каким–то телом или же телесным. Следовательно, он не есть что–либо из того. И к тому целому, которому предписывается познать самого себя, относится то, что ум уверен, что он не есть что–либо из того, в чем он неуверен, и что он уверен, что он есть только то, в чем только он уверен, что он есть. Он же думает об огне или воздухе так, как он думает обо всяком телесном, и никоим образом не может произойти так, чтобы он думал о том, что он есть таким образом, каким он думает о том, что он не есть. Поскольку же он мыслит все то посредством образных представлений, будь то огонь или воздух, или то или иное тело, или какая либо часть [тела], или телесное сочетание и устроение, он, конечно же, говорит не то, что он есть все это, но нечто [одно] из того. Но если бы он был чем–то из того, он мыслил бы это иначе, нежели остальное, а именно, не через образное представление, как мыслятся [теперь] отсутствующие тела, будь то сами или же иные того же рода, которые [раньше] осязались телесным ощущением; [он мыслил бы это] посредством внутреннего, не мнимого, но истинного наличия (ибо ничто для него не налично так, как он сам). Именно так он думает о себе, что он живет, помнит, понимает, желает. Ибо он знает все это в себе самом и не воображает это, как если бы осязал ощущением все это вне себя, как осязается телесное. И если он из представлений о телесном не примысливает ничего по отношению к самому себе, из–за чего он сам мыслил бы себя чем–то телесным, то все, что у него остается от себя самого, есть только он сам.
17. Итак, отложив на некоторое время [рассмотрение] всего прочего, в чем ум уверен в отношении самого себя, давайте прежде всего займемся изучением следующих трех: памяти, понимания и воли. Ведь посредством этих трех способностей мы обычно различаем дарования даже у детей. Ибо чем лучше и легче ребенок запоминает, чем проницательнее он понимает, и с чем большей страстью он стремится [к изучению], тем более похвальны его дарования. Однако, когда спрашивается о чьей–либо учебе, то спрашивается не о том, насколько хорошо или легко запоминают, или насколько проницательно понимают, а о том, что запоминают и что понимают. И поскольку душа считается похвальной не только потому, что она ученая, но и потому, что она блага, постольку обращают внимание не только на то, что помнят и что понимают, но и на то, что желают; и не на то, насколько страстно желают, но прежде всего на то, что желают, а уж затем на то, насколько желают. Ибо тогда неистово любящая душа достойна похвалы, когда она неистово любит то, что надлежит любить неистово. Итак, поскольку мы говорим о следующих трех — даровании, знании и употреблении (ingenium, doctrina, usus), первое, что мы должны рассмотреть в этих трех, — это то, что может всякий посредством памяти, понимания и воли. Второе, что должно быть рассмотрено, — это то, что есть у всякого в памяти и понимании, что было достигнуто стремящейся [к знанию] волей. Третье же, т. е. употребление, заключено в воле, имеющей дело (pertractante) с тем, что содержится в памяти и понимании, и либо относящей это к чему–либо [как к цели], либо прекращающей действие, удовлетворившись этим как целью. Ибо употреблять означает внедрять что–либо в способность воли; удовлетворяться же означает употреблять что–либо с наслаждением, и не в упованиях, но в вещах. Поэтому всякий, кто удовлетворяется, употребляет, ибо он внедряет что–либо в способность воли в целях удовлетворения. Но не всякий, кто употребляет, удовлетворяется, если то, что он внедрил в способность воли, он желал не ради того самого, а ради чего–то иного.
18. Поскольку эти трое — память, понимание и воля — не суть три жизни, но одна жизнь, не суть три ума, но один ум, то из этого, разумеется, следует, что они суть не три сущности, но одна сущность. Ведь о памяти, насколько о ней говорится как о жизни, уме и сущности (substantia), говорится как о самой себе. Памятью же она называется относительно чего–то. И то же самое сказал бы я и о понимании, и о воле, ибо они называются пониманием и волей относительно чего–то. Каждый же сам по себе есть жизнь, ум и сущность (essentia). Вот почему эти трое суть одно, ибо они суть одна жизнь, один ум, одна сущность. И как бы их не называть по раздельности, когда о них говорят как о самих по себе, они так же будут называться и вместе, но в единственном, а не во множественном числе. Если же говорить о них во взаимном отношении, их трое. И если бы они не были равны, не только каждый по отдельности к каждому по отдельности, но и каждый, взятый отдельно, по отношению ко всем, взятым вместе, они, конечно же, не содержали бы друг друга. Ибо не только каждый, взятый отдельно, содержится каждым, взятым отдельно, но и все, взятые вместе, — каждым, взятым отдельно. Ибо я помню, что у меня есть память, понимание и воля; и я понимаю, что я понимаю, желаю и помню; и я желаю, что я желаю, помню и понимаю; и я помню вместе всю мою память, понимание и волю. Ибо то в моей памяти, чего я не помню, не есть в моей памяти. И нет в памяти ничего большего самой памяти. Следовательно, я помню ее всю. И точно так же все, что я понимаю, я знаю, что понимаю, и я знаю, что я желаю все, что я желаю, а все, что я знаю, я помню. Следовательно, я помню все мое понимание и всю мою волю. И подобным же образом, когда я понимаю этих трех, я понимаю их всех вместе. И нет ничего доступного пониманию, чего бы я не понимал, за исключением лишь того, что я не знаю. Но то, что я не знаю, я как не помню, так и не желаю. Следовательно, то, что из доступного пониманию я не понимаю, я также соответственно не помню и не желаю. Значит, все, что из доступного пониманию я помню и желаю, я соответственно также и понимаю. Моя воля также содержит все мое понимание и всю мою память, поскольку я употребляю все, что я понимаю и помню. Вот почему, поскольку все они взаимно содержатся каждым [из них] и [при том] как целые, каждый [из них] как целый равен каждому [из них, взятому отдельно], и каждый [из них] равен всем вместе. И эти трое суть одно, одна жизнь, один ум, одна сущность.
19. Так, не следует ли нам теперь вознестись, насколько это в наших силах, к той высшей и высочайшей сущности, каковой неравным образом, но все же образом, является человеческий ум? Или же эти три предмета должны быть более отчетливо прояснены в душе посредством того, что мы схватываем извне телесным ощущением, в котором знакомство с телесными вещами получает временное определение? Ведь мы обнаружили, что в своей собственной памяти, понимании и воле ум сам таков, что поскольку он постигался как всегда себя знающий и желающий, постольку он также постигался и как всегда себя помнящий, понимающий и любящий, хотя и как не всегда думающий о себе как об отличном от того, что не есть то, что он есть; по каковой причине в нем трудно распознаются его память о самом себе и его понимание самого себя. Ибо в этих предметах, каковые столь соединены и не предшествуют друг другу во времени, кажется так, как если бы они были не двумя, но одним, называемым двумя именами. Ведь и сама любовь не так уж чувствуется, когда ее не выявляет необходимость, если то, что любится, всегда в наличии. Вот почему эти предметы [постепенно] могут стать ясными даже для небыстрых умом, если толкуется о том, что доходит до сознания (ad animum) во времени и представляется в сознании временным образом, пока оно помнит то, чего не помнило, видит то, чего не видело, любит то, чего не любило. Но это рассмотрение уже требует другого начала по причине [достижения] меры этой книги.
КНИГА 11
(В ней показывается, что и во внешнем человеке имеется своего рода троица, проявляющаяся в том, что воспринимается извне, а именно, из видимого тела и формы, которая запечатлевается во взоре воспринимающего, а также в направленности воли, соединяющей первые два; каковые, однако, не равны и не имеют одну и ту же сущность. Здесь даже выявляется, что в душе есть иная троица (три определения каковой — образ тела, пребывающий в памяти, его воображение, возникающее по обращению к нему взора представляющего, и направленность воли, соединяющей первые два, — имеют одну и ту же сущность), которая все так же принадлежит внешнему человеку, ибо она привносится из телесного, ощущаемого извне)
1. Никто не сомневается в том, что как внутренний человек наделен пониманием (intellegentia), так человек внешний — телесным ощущением (sensu corporis). Так, давайте же, насколько сможем, постараемся обнаружить также и в этом внешнем [человеке] какой–нибудь признак Троицы, хотя и не потому, что человек в своей внешности есть образ Божий. Ибо [вполне] очевидно апостольское суждение, свидетельствующее о том, что внутренний человек обновляется в познании Бога «по образу Создавшего его» (Кол. 3:10). В другом же месте он также говорит: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Итак, в том, что тлеет, давайте, насколько мы способны, искать некоторое отражение (effigiem) Троицы, если и не столь четкое, то все же различимое. Ибо не зря же и тот [внешний человек] называется человеком, и ему присуще некоторое подобие [человеку] внутреннему. Ведь по причине такого порядка нашего устроения, в соответствии с которым мы созданы смертными и плотскими, нам легче и привычнее иметь дело с видимым, нежели с умопостигаемым, ибо первое — внешнее, последнее же — внутреннее; и первое мы ощущаем телесным чувством, а последнее понимаем умом. Сами мы, будучи душами, не являемся ощутимыми, т. е. телами, поскольку мы — жизнь. Однако же, как я сказал, наша привычка к телу такова и внимание наше, устремленное к ним, ввергает себя вовне таким удивительным образом, что когда оно [вдруг] отвлекалось от неопределенности телесного, чтобы укорениться в мысли [как чем–то] гораздо более определенном и непременном, [т. е.] в духе, оно [вновь] бежит к телесному и в том ищет успокоения, в чем оно усвоило немощь. На этот недуг следует обратить внимание так, чтобы, если когда мы попытались более сообразно различать и более легко вникать во внутреннее духовное, мы находили бы образцы подобия во внешнем телесном. Итак, внешний человек, наделенный внешним ощущением, ощущает тела. Телесное же ощущение, как это легко заметить, имеет пять видов: зрение, слух, нюх, вкус, осязание. Однако было бы излишним и [вовсе] не необходимым, если бы мы по поводу того, что исследуем, заинтересовались бы всеми пятью ощущениями, ибо то, что нам сообщает одно из них, остается в силе и в остальных. Поэтому, главным образом, давайте используем свидетельство зрения, ибо это телесное ощущение превосходит остальные, и оно с учетом различия своего рода наиболее близко видению ума.
2. Итак, когда мы видим какое–либо тело, наиболее легко могут быть рассмотрены и распознаны следующие три [момента]. Во–первых, сам предмет, который мы видим: будь то камень или какое–либо пламя, или что бы то ни было еще, что может быть увидено глазами, и что, конечно же, могло быть и прежде того, как было увидено. Во–вторых, видение, какового не было прежде того, как предмет, представленный ощущению, был ощущен. В–третьих, то, что удерживает ощущение зрения в видимом предмете, пока он видится, т. е. внимание души. Итак, в этих трех [моментах] очевидно не только различие, но [также] и разная природа. Ибо видимое тело имеет природу совсем иную, нежели ощущение зрения, при наличии какового и возникает видение. Но что же такое само видение, как не ощущение, образованное ощущаемым предметом? Хотя нет никакого видения, если нет видимого предмета, и вообще не может быть никакого такого видения, если нет тела, могущего быть увиденным, все же тело, посредством которого образуется ощущение зрения, когда это тело видится, и сам образ, отпечатываемый им в ощущении, каковое и называется видением, никоим образом не суть одной и той же сущности. Ибо тело от [своего] вида в своей сущности отделимо; ощущение же, которое уже было в одушевленном [существе] даже прежде того, как оно увидело то, что оно могло увидеть, когда оно сталкивается с чем–либо видимым, или, если угодно, видение, каковое возникает в ощущении от видимого тела, когда оно налично и видится; так вот, ощущение, или видение, т. е. ощущение [как] не образованное извне, так и ощущение, образованное извне, принадлежит природе одушевленного [существа] совершенно иной, нежели то тело, каковое мы ощущаем зрением, и посредством чего ощущение образуется не так, чтобы быть ощущением, но так, чтобы быть видением. Ведь если бы в нас не было ощущения и прежде наличия ощущаемого предмета, мы бы не отличались от слепых, когда мы ничего не видим во тьме или же при закрытых глазах. Но мы, даже когда не зрим, отличаемся [от них] тем, что нам присуще, посредством чего мы можем видеть, и что называется ощущением. Им же это не присуще, и они называются слепыми лишь потому, что им этого не достает. Таким же образом и внимание души, которое удерживает ощущение в видимом предмете и соединяет обоих, не только отличается от видимого предмета по своей природе, поскольку одно — душа, другое — тело, но также и от самого ощущения и видения, поскольку оно есть внимание лишь одной души. Ощущение же зрения называется телесным ощущением лишь потому, что сами глаза являются телесными членами, и хотя тело без души (corpus exanime) ощущать не может, все же душа, соединенная с телом, ощущает через телесное посредство (instrumentum), и это посредство называется ощущением. Но ощущение прерывается и уничтожается телесным страданием, когда кто–либо слепнет; душа же пребывает той же, и [хотя] ее внимание при незрячих глазах не имеет ощущения тела, зрением которого она соединялась бы с телом вовне и устремляла бы на его вид свой взор, однако самим устремлением она показывает, что [даже] при отсутствии телесного ощущения она не может ни погибнуть, ни уменьшиться. Ибо само стремление зреть, может оно быть осуществлено ли нет, пребывает невредимым. Итак, эти три [определения] — видимое тело, само видение и соединяющее их внимание — вполне распознаются не только в силу особенных свойств каждого, но также и по причине различия природ.
3. Хотя ощущение происходит не от того тела, что видится, но от тела ощущающего одушевленного [существа], с каковым смешивается душа некоторым удивительным образом своего рода, все же видение порождается видимым телом, т. е. само ощущение образуется (formatur) так, что оно уже не есть просто ощущение, которое может быть невредимым даже и во тьме, пока невредимы глаза, но ощущение воображенное (informatus), каковое называется видением. Следовательно, видение порождается видимым предметом, но не им одним, а также и видящим. Поэтому видение порождается видимым и видящим так, что от видящего [в нем] — ощущение зрения и внимания взора и созерцания, воображение же ощущения (informatio sensus), которое называется видением, отпечатывается лишь телом, которое видится, т. е. каким–либо видимым предметом. При удалении предмета не остается какого–либо образа, который был присущ ощущению, пока присутствовало то, что виделось. Однако же остается само ощущение, которое пребывало и прежде того, как что–то ощущалось. Так же, например, [остается] и след на воде, доколе налично само тело, которое отпечатывается; если же тело устраняется, то не останется никакого образа, хотя остается вода, которая была и прежде того, как приняла тот телесный образ. Поэтому мы, конечно, не можем сказать, что видимый предмет порождает ощущение. Однако он порождает образ как свое подобие, каковое возникает в ощущении, когда мы ощущаем что–либо, видя. Но посредством того же ощущения мы не различаем образ тела, которое мы видим, и образ, который возникает от него в ощущении видящего, поскольку [их] соединение таково, что не остается места для различения. Но, рассуждая разумно, [следует сказать] что мы бы совсем не могли ощущать, если бы в нашем ощущении не возникало какого–нибудь подобия созерцаемого тела. Ибо когда кольцо отпечатывается на воске, то это не значит, что не создается никакого образа, поскольку [нами] он не может быть различен, пока оно не отделено. Но поскольку после того, как воск отделен, то, что было создано, остается, так что его можно видеть, постольку мы легко убеждаемся в том, что воску уже был присущ отпечатавшийся от кольца образ и прежде того, как оно было отделено от него. Но если бы кольцо соединялось с жидкостью, то по его удалении не возникло бы никакого образа. И, однако же, разум мог бы различить, что в той жидкости прежде удаления кольца был образ кольца, созданный кольцом, который следует отличать от того, образа, каковой в [самом] кольце. Поэтому тот образ является созданным, которого [больше] нет при удалении кольца; пребывает же образ в кольце, от какового создается другой. Итак, [нельзя сказать, что] ощущение зрения не имеет образа видимого тела, пока оно видится, по той причине, что при его удалении не остается образа. Отсюда крайне трудно убедить медлительных умом, что образ видимого предмета образуется в нашем ощущении, когда мы его видим, и что этот самый образ и есть видение.
4. Но если кто будет внимательным к тому, что я собираюсь сказать, тот не встретит таких трудностей в этом исследовании. Обычно после того, как мы некоторое время смотрели на свет, а затем закрыли глаза, в них как бы кружатся какие–то яркие цвета, сменяющие друг друга различным образом и светящиеся все меньше и меньше, пока совсем не исчезнут. Эти [блики] нам следует понимать как остатки того образа, который был создан в ощущении, когда мы видели светящееся тело, и эти [остатки] чередовались, постепенно угасая. Ибо и края окон, если бы мы вдруг на них взглянули, часто оказываются в этих цветах, так что очевидно, что наше ощущение имеет впечатление от видимого предмета. Следовательно, этот образ уже был тогда, когда мы видели [предмет], и [тогда] он был более ясным и отчетливым. Но [тогда же] он был слит с видом созерцаемого предмета так, что не мог быть вполне отличен [от него]; и [все] это было само видение. Ведь возникают даже два видения, когда огонек лампы как бы удваивается расходящимися лучами глаз, хотя видимый предмет один. Ибо те же самые лучи, исходящие каждый из своего глаза, испытывают воздействие по отдельности, поскольку им не дозволяется сойтись в созерцании того тела совместно и равным образом так, чтобы из двух возник один взор. Так, если мы закроем один глаз, мы не увидим двух огней, но только один, как и есть [на самом деле]. Но почему при закрытом левом [глазе] перестает быть зримым тот вид, что был справа; и в свою очередь при закрытом правом глазе исчезает то, что было слева, есть [вопрос] как скучный, так и [вовсе] излишний для исследования и рассмотрения в рамках настоящего предмета. Ибо для предпринятого исследования довольно [заметить, что] если бы в нашем ощущении не возникало некоторого образа, совершенно подобного тому предмету, который мы различаем, вид пламени не удваивался бы в соответствии с числом глаз, так как применялся определенный способ различения, с помощью которого разделялось стечение лучей. И, конечно же, одним глазом (при закрытом другом) никоим образом не может видеться удвоенным то, что есть одно, каким бы путем оно не было выведено, запечатлено или извращено.
5. При таком положении дел, давайте вспомним, каким образом сочетаются в определенное единство эти три, различные по своей природе, [определения]: вид (species) тела, которое видится, его образ (imago), запечатленный в ощущении, каковой есть видение, или воображенное ощущение (sensus formatus), и воля души (uoluntas animi), которая направляет ощущение к ощущаемому предмету. Первый из них, т. е. сам видимый предмет, не принадлежит природе одушевленного [существа], если только этот предмет не есть наше тело. Второй принадлежит ей постольку, поскольку возникает в теле, а через тело — и в душе. Третий же принадлежит только душе, ибо это — воля. Итак, хотя сущности этих трех столь различны, все же они сходятся в такое единство, что первые два (а именно, вид тела, которое видится, и его образ, который возникает в ощущении, т. е. видение) едва ли могут быть различены даже в рассуждении. Воля же имеет столькую силу в сочетании этих двух, что направляет подлежащее воображению ощущение к видимому предмету и удерживает его воображенным в этом предмете (in ea formatum teneat). И если она столь необузданна, что может быть названа любовью или страстью, или же похотью (аmоr аut сирiditas ant teneat), она неистово воздействует на остальное тело одушевленного [существа], и там, где вещество (mаteries), будь оно более податливым или нет, не выказывает сопротивления, изменяет его в подобающий вид и цвет. [Так, например], можно видеть, с какой легкостью превращения изменяется тельце хамелеона в соответствии с цветами, которые он видит. Что же касается других животных, то поскольку их телесность не допускает такого легкого превращения, [их] потомство выдает, главным образом, влечения матерей, что бы они ни созерцали с наибольшим удовольствием. Ибо чем более податливы и, так сказать, вообразительны (formabiliora) по своему рождению отпрыски, тем выразительнее и сильнее наследуют они склонность материнской души и представление, которое есть в ней посредством того тела, которое она созерцала со страстью. Есть [много тому] примеров, каковые можно привести с избытком, но довольно будет и одного, взятого из достовернейших книг, [где говорится о том], как Иаков сделал так, дабы овцы и козы рождали потомство различных цветов, положив прутья различных цветов в водопойных корытах, чтобы те, приходя пить, смотрели [на них] в то время, как зачинали (Быт. 30:37–41).
6. Но разумная душа живет безобразно (deformiter), когда она живет в соответствии с троицей внешнего человека, т. е. когда она сообразует с тем, что воображает телесное ощущение извне, не достойную похвалы волю, посредством которой она приспосабливает это [внешнее] к чему–то полезному, но низменное влечение, которым она прилепляется к этому [внешнему]. Ибо, даже если вид тела, который ощущался телесным образом, не наличен [в чувственности], в памяти пребывает его подобие, к которому воля может вновь обратить свой взор так, чтобы быть воображенной изнутри, подобно тому, как воображалось извне ощущение при наличии ощущаемого тела. И таким образом та троица возникает из памяти, внутреннего видения, и из воли, которая сочетает обоих. Когда же эти трое сгоняются в одно, то от самого [этого] «согнания» они называются «сознанием». И в этих трех уже нет различия сущности. Ибо нет здесь ни того ощущаемого тела, совершенно отличного от природы одушевленного [существа], ни телесного ощущения, воображенного так, чтобы возникло видение, ни воли, направляющей ощущение к ощущаемому телу, дабы оно было воображено, и удерживающей его воображенным. Но вместо того, телесного вида, что ощущался извне, становится память, удерживающая тот вид, который впитала душа через телесное ощущение. Вместо же того внешнего видения, когда ощущение воображалось ощущаемым телом, становится подобное внутреннее видение, когда взор души воображается тем, что удерживается в памяти, и сознается (соgitantur) телесное, которое не налично [непосредственно]. И каким образом сама воля [прежде] направляла ощущение, дабы оно вообразилось телом, наличным вовне, и соединяло первое, когда оно вообразилось, со вторым, таким же образом она [теперь] обращает взор души вспоминающего к памяти для того, чтобы первый вообразился тем, что удержано во второй, и для того, чтобы в сознании (in cogitatione) возникло подобное видение. И как разум различал видимый вид, каковым воображалось телесное ощущение, и его подобие, каковое возникало в воображенном ощущении так, чтобы было видение (иначе бы они были соединены таким образом, что считались бы совсем одним и тем же); так же и то представление, возникающее, когда душа сознает вид тела, который она видела, состоит из подобия телу, удерживаемого памятью, и того, что воображается во взоре вспоминающей души. Однако оно кажется одним и единственным настолько, что его двойственность можно обнаружить только посредством рассуждения, с помощью какового мы понимаем, что одно дело — то, что пребывает в памяти, хотя мы сознаем, что оно [происходит] откуда–то еще, и другое дело — то, что возникает, когда мы вспоминаем, т. е. воспроизводим в памяти, и обнаруживаем в ней тот же самый вид. И если бы его там не было, мы бы сказали, что мы забыли так, что совсем не можем вспомнить. И если бы взор того, кто вспоминает, не был бы воображен тем, что было в памяти, то у представляющего не возникло бы никакого видения. Но соединение обоих, т. е. того, что удерживает память, и того, что там выражается для того, чтобы вообразился взор вспоминающего, делает так, что они кажутся как бы одним, ибо они совершенно подобны. Когда же взор сознающего отвращается от этого и перестает созерцать то, что виделось в памяти, [тогда] в этом взоре не остается никакого образа, который был запечатлен, и он вообразится тем, к чему обратится, для того, чтобы [в нем] возникло сознание чего–то другого. Пребывает же то, что [взор сознающего] оставляет в памяти, и к чему вновь обращается, когда мы это вспоминаем; обратившись же вновь, он воображается, и становится одним с тем, чем воображается.
7. Но если воля, направляющая взор то на одно, то на другое для того, чтобы он был воображен, и соединяющая его [с предметом], когда он воображен, целиком сливается с внутренним представлением и совершенно отвращает взор души от наличия тел, предстоящих ощущениям, и от самих телесных ощущений и полностью обращается к тому образу, который видится внутри, [тогда] возникает такое подобие телесного вида, воображенное из памяти, что даже сам разум не способен различить, видится ли извне само тело или же нечто подобное сознается внутри. Ведь иногда люди, увлеченные или испуганные излишним размышлением о видимых предметах, вдруг издавали даже соответствующего рода звуки, как будто они в действительности пребывали в сердце самих событий или страданий. И я помню, как мне кто–то говорил [о себе], что он обычно видел в представлении женское тело столь четко и доподлинно, что мог ощущать свое совокупление с ним и даже истечение в детородном органе. Такова сила души в своем собственном теле, и такова же ее способность в превращении и изменении качества своего одеяния, каковой наделен человек по отношению к носимой им одежде. К тому же роду переживаний относится и то, когда мы во сне обманываемся образами. Однако существует большое различие в том, являются ли телесные ощущения усыпленными, каковы они у спящих, или же возмущенными в их внутреннем строении, каковы они у беснующихся, или же пребывают они в каком–либо другом необычном состоянии, как у вещунов или пророков. [Соответственно] в силу определенной необходимости внимание души сталкивается с теми образами, которые возникают либо из памяти, либо по причине какой–либо другой сокровенной силы посредством определенных духовных сочетаний подобной духовной сущности, или же, как это иногда случается со здравыми и бодрствующими [людьми] так, что воля, занятая размышлением, отвращается от ощущений и воображает взор души различными образами ощущаемых предметов так, как если бы ощущались сами ощущаемые [предметы]. Но не только тогда возникают эти впечатления образов, когда воля, желая их, обращена к ним, но также и тогда, когда для того, чтобы уклониться и оградиться от них, душа устремляется к наблюдению за ними, избегая их. Поэтому не только желание, но также и страх подводит ощущение к самим ощущаемым [предметам], а взор души — к образам ощущаемых предметов. Следовательно, чем более неистовым является страх или желание, тем более отчетливее воображается взор ощущающего посредством тела то, что налично, или представляющего посредством телесного образа то, что содержится в памяти. Значит, для телесного ощущения какое–либо наличное тело есть то, что для взора души есть подобие тела в памяти; и видение созерцающего для телесного вида, которым воображается ощущение есть то, что есть видение представляющего для телесного образа, пребывающего в памяти, которым воображается взор души; и то, что есть внимание воли для видимого тела и видение, сочетающееся [с ним] так, чтобы возникло определенное единство трех, хотя их природа различна, есть то же внимание воли для сочетания телесного образа, присущего памяти и видению представляющего, т. е. формы, которую воспринял взор души, обращаясь к памяти, затем, чтобы возникло определенное единство трех, теперь уже не разрозненных различием природы, но имеющих одну и ту же сущность, ибо все это пребывает внутри, и все это есть душа.
8. Поскольку же когда форма и вид тела (forma et species corporis) исчезают, воля [уже] не может сообразовать с ними ощущение воспринимающего, постольку когда образ, который несет в себе память, стерт забвением, воля не может обратить назад к образу взор души посредством воспоминания для того, чтобы он вообразился. Но так как душа имеет достаточно сил для того, чтобы измышлять (confingere) не только забытое, но даже и то, что она [никогда] не ощущала и не переживала, и [для того, чтобы] увеличивать, уменьшать, изменять и составлять по своему усмотрению то, что она не забыла, то часто она воображается тем, что, как ей известно, несть так, как она вообразилась, или тем, по поводу чего она не знает, как оно есть. В таком случае необходимо остерегаться, чтобы она не измышляла ложным образом так, что вводила бы в заблуждение, или чтобы не мнила так, что заблуждалась бы. Если бы она избежала этих двух зол, то ей бы не помешали воображенные призраки, как не мешает ей то ощущаемое, каковое она испытала и удержала в памяти, при условии, что она не желает их страстно, если они доставляют удовольствие, и при том, что она не избегает их с позором, если они доставляют неудовольствие. Когда же воля, оставив наилучшее, оказывается погрязшей в них, она становится нечистой; и она думает о них пагубным образом, когда они присутствуют, и еще боле пагубным образом она думает о них тогда, когда они отсутствуют. Таким образом, жить в соответствии с троицей внешнего человека грешно и безобразно, потому что эта троица, хотя бы она и воображалась внутри, была порождена с целью жить чувственным и телесным. Ибо никто не может жить этим во благо, если только в памяти не удержаны образы ощущаемых предметов; и если только воля большей своей частью не пребывает в предметах вышних и внутренних; и если только она сама, будучи сообразованной либо с телами вовне, либо с их образами внутри, не обращает все, что бы она ни воспринимала, к лучшей и истиннейшей жизни, и если она не находит себе успокоения в том пределе, созерцая который, она считает необходимым это делать. И что же еще мы делаем, как не то, что запрещает нам делать апостол, говоря: «Не сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12:2)? Вот почему эта троица не есть образ Божий. Ибо она возникает в самой душе посредством телесного ощущения из низшего, т. е. телесного, творения, по отношению к которому [наша] душа стоит выше. И, однако же, [эта троица] не совсем не подобна. Ибо у чего же в своем роде и мере нет подобия Богу, если Бог создал все весьма благим ни по какой другой причине, как потому, что Он Сам есть высшее благо? Следовательно, поскольку все, что есть, является благим, постольку, разумеется, все так или иначе имеет некоторое подобие высшему благу, хотя ему и далеко до него. Если [это подобие] естественно, то оно, конечно же, правильно и упорядоченно; если же оно порочно, то оно безобразно и превратно. Ведь и души в самих своих грехах, пользуясь своей исполненной гордыней, превратной и, так сказать, рабской свободой, стремятся не к чему иному, как к некоторому подобию Богу. Так и прародители наши не были бы совращены ко греху, если бы им не было сказано: «Вы будете как боги» (Быт. 3:5). Но также разумеется, что ничего [из того], что в творениях каким–либо образом подобно Богу, нельзя назвать образом Божиим, а только то, выше чего лишь Он один. Ибо только то является соответствующим Ему изображением, между чем и Ним нет никакой опосредствующей [ступени] природы.
9. Итак, форма тела является как бы родительницей того видения, т. е. формы, возникающей в ощущении воспринимающего, из которой оно возникает. Но она не есть его истинная родительница, а оно ее истинное детище, ибо оно рождается не вполне от нее, поскольку к телу, дабы видение вообразилось им, добавляется нечто иное, а именно, ощущение видящего. Вот почему любить — это быть вне себя. Поэтому воля, которой соединяются оба, т. е. как бы родительница и как бы детище, более духовна, нежели что–либо из них. Ведь воспринимаемое тело и вовсе не является духовным; видение же, возникающее в ощущении, имеет примешанным к нему нечто духовное, ибо оно не может возникнуть без души. Но оно и не вполне духовно, поскольку то, что воображается, есть телесное ощущение. Следовательно, воля, соединяющая обоих, должна быть признана, как я сказал, более духовной, и потому она начинает внушать мысль о личности Духа в Троице. Но это скорее относится к воображенному ощущению, нежели к телу, которым оно воображается. Ибо ощущение и воля одушевленного [существа] принадлежат душе, а не камню или какому–либо иному зримому телу. Значит, она не исходит ни от тела как от родителя, ни от его детища, т. е. видения и формы, каковые суть в ощущении. Ибо воля, направившая ощущение к восприятию тела, дабы оно вообразилось им, была и прежде того, как возникло видение. Но она еще не была удовлетворена [им]. Ибо каким же образом может быть удовлетворительным то, что пока еще не было увидено? Удовлетворение же — это воля в покое. Следовательно, мы не можем назвать волю ни как бы детищем видения, ибо она была и прежде видения, ни как бы родительницей, ибо оно является воображением и изображением не воли, а видимого тела.
10. Возможно, мы правильно называем видение пределом и успокоением воли, по крайней мере, по отношению к этому одному [предмету], ибо из того, что она видит нечто, что она желала видеть, еще не следует, что она не пожелает чего–то иного. Таким образом, это еще не вся воля человека, предел которой есть не что иное, как блаженство, но воля, направленная на один этот предмет, которая имеет пределом своего видения не что иное, как само видение, [вне зависимости от того] относит ли она его к чему–то иному или не относит. Ибо если она не относит видение ни к чему иному, но желает только видеть, то нам не нужно обсуждать, каким образом показать, что предел воли есть видение, ибо это очевидно. Но если она относит его к чему–то иному, то она, конечно же, желает нечто иное. И она уже не будет волей, желающей лишь видеть, или, если [все же] видеть, то не то, что она видит. Подобно тому, как если бы тот, кто желал увидеть рубец для того, чтоб узнать, что была рана; или как если бы тот, кто желал увидеть окно для того, чтобы видеть через окно прохожих. Все эти и иные подобные виды воли имеют свои собственные пределы, которые относятся к пределу той воли, по которой мы желаем жить блаженно и достигнуть той жизни, которая [уже] не относится ни к чему иному, но сама собой довлеет тому, кто ее любит. Итак, воля видеть имеет своим пределом видение, а воля видеть какой–то определенный предмет имеет своим пределом видение какого–то определенного предмета. Следовательно, воля видеть рубец стремится к своему пределу, т. е. к видению рубца, и не преступает его; воля же проверить, была ли рана, есть иная воля, хотя и зависящая от первой, пределом которой также является проверка былого наличия раны. Воля же видеть окно имеет своим пределом видение окна, ибо воля видеть через окно прохожих есть другая воля, связанная с первой; пределом же последней является также видение прохожих. И все эти воли, связанные друг с другом, суть праведные, если блага та, к которой они все относятся, и они неправедны, если неправедна она. И, таким образом, [это] соединение праведных воль есть некоторого рода путь восхождения к блаженству, который проходится определенными шагами. Сплетение же неправедных и извращенных воль есть путы, которыми будет связан тот, кто поступает так, что его бросят во тьму внешнюю (Мф. 22:13). Следовательно, блаженны те, что своими поступками и нравами поют песнь восхождения, и горе тем, которые влекут на себя беззаконие словно длинную вервь (Ис. 5:18). Покой же воли, каковой мы называем ее пределом, если она все еще относится к чему–то иному, таков, каковым мы считаем покой ноги при хождении, когда она ставится для того, чтобы дать другой точку опоры, дабы продолжить ход. Если же что–либо удовлетворяет таким образом, что воля, довольствуясь, покоится в этом, то это все же еще не то, к чему стремятся, ибо и оно относится к чему–то иному; так что оно оценивается не как родной город гражданина, но как место отдохновения или пристанище путника, [свершающего путь домой].
11. Есть, впрочем, и другая троица, более внутренняя, нежели та, что обнаруживается в ощущаемых [предметах] и в ощущениях. Однако и эта троица воспринимается из них, хотя она уже не есть телесное ощущение, воображаемое телом, но взор души, воображаемый памятью, когда в самой памяти [уже] запечатлелся вид тела, который мы ощущали извне; [т. е.] тот наличествующий в памяти вид, который мы называем как бы родителем того, что возникает в представлении сознающего. Ибо он был в памяти и прежде того, как мы его представили, подобно тому, как было наличным тело и прежде того, как мы начали его ощущать так, чтобы возникло видение. Но когда этот вид, который есть как бы детище того, что удерживается в памяти, представляется из того, что удерживается в памяти, он выражается во взоре представляющего и воображается посредством припоминания. Но ни тот не есть истинный родитель, ни этот — истинное детище. Ибо взор души, который воображается из памяти, когда мы сознаем что–либо посредством представления, возникает не из того вида, который мы помним как виденный, поскольку мы ничего не могли бы вспомнить, если бы не видели. [Поэтому] взор души, который воображается воспоминанием, был также и прежде того, как мы видели тело, которое помним. [Значит], мы препоручили его памяти гораздо раньше. Следовательно, хотя образ, возникающий во взоре представляющего, возникает из того, что есть в памяти, все же сам взор существует не из того, но был и прежде того. Отсюда, если один не есть истинный родитель, то другой не есть истинное детище. Но и тот как бы родитель и этот как бы отпрыск внушают мысль о чем–то, в чем с большей очевидностью и определенностью созерцаются более глубокие и истинные предметы.
12. [Сначала] трудно различить, не является ли воля, соединяющая видение с памятью, родительницей или детищем одного из них. Подобие же и равенство одной и той же природы и сущности является причиной этой трудности в различении. Ибо [здесь дело обстоит] не так, как с ощущением, воображаемом извне (каковое легко отличить от ощущаемого тела, а волю — от их обоих), по причине различия природы, ибо она разная у всех трех по отношению друг к другу, о чем мы довольно говорили выше, и что сохраняет значение и здесь. Ибо хотя троица, каковую мы сейчас ищем, привносится в душу извне, она все же осуществляется внутри, и в ней нет ничего, кроме природы самой души. Так, каким же образом возможно показать, что воля не есть ни как бы родительница, ни как бы детище телесного подобия, содержащегося в душе, или того, что его выражает, когда мы представляем, поскольку в сознании она соединяет одно с другим таким образом, что они кажутся исключительно чем–то одним, и так, что их невозможно различить, разве что посредством рассуждения? Во–первых, следует уяснить, что не может быть никакой воли к воспоминанию, если в недрах памяти мы не удерживаем либо весь предмет, либо какую–то часть предмета, каковой мы желаем вспомнить. Ибо не может возникнуть воли к воспоминанию того, что мы забыли совершенно и полностью, поскольку мы уже вспомнили, что то, что мы желаем вспомнить, есть или было в нашей памяти. Например, если я желаю вспомнить, чем я вчера обедал, я или уже вспомнил, что я вчера обедал, или если еще нет, то я [все же] что–то вспомнил касательно самого того времени; и если ничего больше, то, по крайней мере, [я вспомнил] сам вчерашний день и ту его часть, когда обычно обедают и чем обедают. Ведь если бы я ничего такого не вспомнил, я не мог бы желать вспомнить, чем я вчера обедал. Из этого можно понять, что воля к воспоминанию происходит из того, что удерживается в памяти, и вместе с тем из того, что выражается через воспоминание посредством различения, т. е. из соединения чего–то того, что мы вспомнили, и видения, которое возникло во взоре представляющего, когда мы вспомнили. Сама же воля, сочетающая обоих, требует также и чего–то иного, что как бы налично и предстоит представляющему. Следовательно, имеется столько троиц такого рода, сколько воспоминаний, ибо нет ни одного из них, в котором бы не было этих трех, а именно: того, что было сохранено в памяти еще прежде того, как оно было представлено; того, что возникает в представлении, когда оно различается; и, [наконец], воли, соединяющей первые два, и посредством этих двух, а также себя самой как третьей, исполняющей единство. Или же скорей в подобном роде познается какая–то одна троица, но так, что мы вообще называем чем–то одним всякий телесный вид, таящийся в памяти, и опять–таки [так, что мы называем] чем–то одним общее видение души, вспоминающей и представляющей подобные предметы; и [наконец, так, что] к сочетанию этих двух как третья присовокупляется соединительница — воля (сорulatrix uoluntas), так что это целое становится чем–то одним, состоящим из трех?
Поскольку взор души не может узреть одним взглядом сразу все, что удерживает память, постольку троицы представлений чередуются, приходя и уходя, так что троица становится неисчислимой по своему числу, но все же не бесконечной, если не превышается число предметов, заключенных в памяти. Ибо, если даже бы были учтены все ощущения тел через все телесные ощущения, если даже было бы возможным присовокупить к ним те, что были забыты, [все же и тогда] число было бы, конечно же, точным и определенным, хотя и неисчислимым. Ведь мы называем неисчислимым не только бесконечное, но также и то, что конечно, но превосходит способность исчисляющего.
13. Но здесь возможно заметить с несколько большей ясностью, что то, что сохраняется в памяти, есть нечто иное по отношению к тому, что выражается в представлении вспоминающего, хотя когда они сочетаются, они кажутся одним и тем же, так как мы можем вспомнить лишь столько образов тел, сколько ощущали, и лишь столькими и таковыми, сколькими и каковыми ощущали (ибо душа вбирает их в память из телесного ощущения). Однако же видения представляющего, хотя они и опосредуются теми предметами, что содержатся в памяти, все же разнообразны и множественны совершенно бесконечным образом. Ибо я помню, что солнце одно, потому что я видел, что оно одно; но если я пожелаю, я могу представить два или три, или сколько пожелаю, хотя взор представляющего много [солнц] воображается из той же самой памяти, в соответствии с которой я помню только одно солнце. И я помню его стольким, скольким видел. Ибо если я помню его большим или меньшим, нежели я его видел, то я уже не помню то, что я видел, и, значит, я [его] не помню. Но поскольку я помню его, я помню его стольким, скольким я его видел. Большим же или меньшим я представляю его по своей воле. И я помню его так, как видел; представляю же я его по своей воли то свершающим свой ход, то стоящим, [а также] приходящим, откуда я пожелаю, и идущим, куда пожелаю. Я могу представить его даже квадратным, хотя помню его круглым, и [даже] какого угодно цвета, хотя я никогда не видел зеленого солнца, и потому не помню его таким. И как солнце, так и остальное. Но поскольку эти формы предметов суть телесные и ощущаемые, душа ошибается, считая, что они суть вовне таким образом, каким образом она представляет их внутри, или когда они уже прекратились вовне, но пока еще сохраняются в памяти; или когда даже то, что мы помним, воображается иным образом [уже] не в силу достоверности воспоминания, но по произволу представления.
14. Впрочем, очень часто мы верим рассказывающим нечто правдивое, каковое они воспринимали ощущениями. Но когда мы представляем то, что рассказывается, то, похоже, что, внимая, взор [души] не обращается к памяти для того, чтобы в представлении возникли видения; и наши представления основываются не на наших воспоминаниях, но на рассказе [кого–то] другого. И та троица, что возникает, когда виды, таящиеся в памяти, и видение вспоминающего сочетаются волей как третьей, здесь, похоже, не исполняется. Ибо когда мне что–либо рассказывается, я представляю не то, что таилось в моей памяти, но то, что я слышу. Я не говорю о самих словах рассказывающего, дабы кто не счел, будто я уклонился к той троице, которая осуществляется в ощущаемом и ощущениях; [нет,] я представляю те виды тел, которые словами и звуками обозначает рассказывающий, и каковые я представляю, конечно же, не вспоминая, но слыша. Но если мы рассмотрим [это] более внимательно, то [увидим, что] мера памяти не преступается. Ибо я просто не мог бы понять рассказывающего, если бы я не помнил вообще о тех единичных [предметах], о которых он говорит, хотя бы я и слышал их тогда в первый раз связанных [в один рассказ]. Ибо тот, кто, например, рассказывает мне о горе, очищенной от леса и насажденной оливами, рассказывает тому, кто помнит виды горы, леса и олив. И если бы я забыл их, то я бы совершенно не знал, о чем он говорит, и поэтому не мог бы представить его рассказ. Таким образом, получается, что всякий, кто представляет телесное, воображает ли он сам что–либо или же он слышит, или читает, будь то рассказ о происшедшем или предвозвестие будущего, обращается к своей памяти и там обнаруживает предел и меру всех форм, которые он созерцает, представляя. Ибо никто не может представить цвет и фигуру тела, каковых никогда не видел, или звук, который никогда не слышал, или вкус, который никогда не испытывал, или запах, которого никогда не обонял, или какого–либо телесного прикосновения, которого никогда не ощущал. Но если никто не может представить что–либо телесное, если только не ощущал его (ибо никто не помнит ничего телесного, если только не ощущал его), то в памяти есть мера для представления тел так же, как и для ощущения. Ведь ощущение воспринимает вид от того тела, которое мы ощущаем, а память–от ощущения, взор же представляющего — от памяти.
15. Итак, каким образом воля прилагает ощущение к телу, таким же образом память — к ощущению, а взор представляющего — к памяти. Но то, что сводит их и соединяет, есть то же, что разъединяет и разделяет; и это есть воля. Движением тела она отделяет ощущение тела от [самого] тела, подлежащего ощущению, либо затем, чтобы мы не ощущали, либо затем, чтобы мы перестали ощущать. Так, мы отвращаем глаза от того, что не желаем видеть, или закрываем их; и так же уши — от звуков, а ноздри — от запахов. И так же мы отвращаемся от вкусов, закрывая рот или выплевывая что–либо изо рта. Так же и в осязании мы либо удаляем тело, дабы не осязать то, что не желаем, либо если мы уже осязали, мы отбрасываем или отталкиваем его. Итак, воля действует движением тела затем, чтобы телесное ощущение не сочеталось с телесными предметами. И она действует таким образом, насколько она способна. Ибо когда в этом действии обнаруживается затруднение по причине нашей рабской смертности, то его следствием является мучение, так что для воли не остается ничего, как только терпеть. Но воля отвращает память от ощущения, когда она, обращая внимание на что–то иное, не позволяет наличным [предметам] укореняться в ней. Это легко заметить, когда нам кажется, что мы не слышали того, что нам говорили, поскольку мы думали о чем–то другом. Однако это не верно; ибо мы слышали, но не помним, потому что [хотя] слова [говорящего] и проскользнули через слуховое ощущение, но внимание воли, посредством которого они обычно закрепляются в памяти, было направлено не на них. Поэтому, когда случается нечто подобного рода, более правильным было бы сказать «мы не помним», а не «мы не слышали». Ведь это происходит и при чтении, и со мной очень часто, так что, прочитав страницу [книги] или письмо, я не знаю, что я прочел, и начинаю снова. Ибо память не была приложена к телесному ощущению таким образом, каким само ощущение — к написанному, поскольку внимание воли было направлено на иное. Также и всякий идущий не знает, куда он прошел, если внимание его воли направлено на нечто иное. Ведь если бы он не видел, он бы не шел или шел бы, нащупывая путь с превеликим вниманием, в особенности если бы он продвигался по незнакомой местности; но поскольку он шел легко, он, конечно же, видел. Но поскольку память не была приложена к самому ощущению таким образом, каким ощущение зрения — к той местности, по которой он шел, он не мог вспомнить даже того, что видел самым последним. Следовательно, желать отвратить взор души от того, что в памяти, означает не что иное, как не думать об этом.
16. Итак, при том порядке, когда мы начинаем с телесного вида и достигаем того вида, который возникает в созерцании представляющего, обнаруживаются четыре вида, как бы порождаемые постепенно, один другим: второй — первым, четвертый — третьим. Ибо от воспринимаемого телесного вида происходит тот, что возникает в ощущении воспринимающего, а от этого тот, что возникает в памяти, а от последнего тот, что возникает во взоре представляющего. Вот почему воля трижды сочетает как бы родителя с как бы детищем: во–первых, телесный вид с тем, который он порождает в телесном ощущении; во–вторых, этот с тем, что возникает из него в памяти; и, в третьих, последний с тем, что рождается от него в представлении созерцающего. Опосредствующее сочетание, которое является вторым, хотя и является более близким первому, все же не столь ему подобно, сколь третьему. Ибо есть два рода видения: одно — ощущающего (sentientis), другое — представляющего (cogitantis). Но для того, чтобы могло быть видение представляющего, в памяти из видения ощущающего возникает нечто ему подобное, к чему взор души обращается в представлении таким образом, каким обращается взор глаз к телу в ощущении. Поэтому в подобного рода предметах я хотел показать две троицы. Первая — это та, когда видение ощущающего воображается телом. Вторая — это та, когда видение представляющего воображается из памяти. Опосредствующую же я показывать не хотел, поскольку обычно не называется видением то, когда памяти препоручается форма, которая возникает в ощущении воспринимающего. Однако повсюду троица оказывается ни чем иным, как соединительницей (copulatrix) как бы родителя и как бы детища. И поэтому, откуда бы она не происходила, она не может быть названа ни родителем, ни детищем.
17. Но если мы не помним ничего, как только то, что мы ощущали, и не представляем ничего, как только то, что мы помним, почему же часто мы представляем ложное, хотя мы, конечно же, не помним ложным образом ничего, если только воля (которую я уже постарался показать, насколько смог, соединительницей и разделительницей — сопiunctricem ас separatricem — подобного рода предметов) по своему произволу не ведет взор представляющего, которому предстоит вообразиться через сохраненное в памяти; [и если только она] для того, чтобы представить то, что мы не помним, не подталкивает его к [произвольному] восприятию из того, что мы помним, одного здесь, другого там? В результате сведения их в одно видение возникает то, что называется ложным, потому что оно или не существует вовне, [т. е.] в природе телесных предметов, или не оказывается выражением памяти, ибо мы не помним, чтобы [когда–либо] ощущали нечто подобное. Ибо видел ли кто–нибудь когда–нибудь черного лебедя? [Конечно же, нет], и потому никто [этого] и не помнит. Однако кто же не может этого представить? Ибо [в представлении] ту форму, которую мы познали через ощущение зрения, мы можем легко окрасить в черный цвет, ни чуть не хуже виденный нами в других телах; и поскольку мы видели и то, и другое, мы помним и то, и другое. И я не помню четвероногой птицы, ибо не видел таковой, но я легко могу это представить, когда к какому–либо крылатому образу, каковой я видел, я присовокупляю еще две ноги, каковые я также видел. Вот почему когда мы представляем совокупно то, что мы помним ощущаемым раздельно, мы оказываемся представляющими не то, что мы помним, хотя мы делаем это, оставаясь в рамках памяти, из которой мы черпаем все, что слагаем многообразными и различными способами по своему произволу. Ведь без работы памяти мы даже не можем представить и величины тел, которых никогда не видели. Ибо насколько много пространства может охватить наш взор в величине мира, настолько мы можем расширить объем каких бы то ни было тел, когда представляем их наиболее великими. Разум, впрочем, может продолжать и далее, но представление последовать за ним не может, поскольку разум сообщает о бесконечности также и числа, каковую не может воспринять никакое телесное видение. Тот же самый разум научает нас мысли о том, что даже наимельчайшие тельца делятся до бесконечности. Однако, когда мы достигли этих тончайших и мельчайших частиц, каких только видели и помним, тогда мы уже не можем представить более мелких образов, хотя разум не перестает продолжать и делить. Итак, мы можем представлять только то телесное, что помним, или только из того, что помним.
18. Но поскольку то, что впечатляет память в единственном числе, может быть умножено в представлении, постольку, по–видимому, определение меры относится к памяти, а определение числа к видению; ведь хотя множественность таких видений неисчислима, все же в памяти есть один единственный установленный предел, за который невозможно выйти. Следовательно, мера — в памяти, а число — в видениях; но в самих видимых телах есть [также] определенная мера, к которой множественным образом приспосабливается ощущение видящего, ибо одним видимым [предметом] может воображаться взор многих людей, так что даже один человек, как правило, видит один предмет удвоенным образом из–за того, что у него два глаза, о чем мы излагали выше. Значит, в тех предметах, что изображаются в видениях, есть некоторая мера, в самих же видениях — число. Воля же, соединяющая и упорядочивающая их, а также сочетающая их в некоторое единство, довольствуясь направлением своего желания ощущать и представлять лишь к тем предметам, которыми воображаются видения, подобна весу. Вот почему [здесь] я бы лишь кратко заметил, что и во всех остальных вещах надлежит обратить внимание на эти три [определения]: меру, число и вес. Итак, я, каким образом смог и кому смог, показал, что воля является соединительницей видимого предмета и видения (т. е. как бы родителя и детища), будь то ощущение или представление; и что ее нельзя называть ни родительницей, ни детищем. Но время увещевает нас искать эту троицу во внутреннем человеке и устремиться внутрь, [прочь] от этого животного и плотского [человека], каковой называется внешним, и о котором я столь долго говорил. И мы надеемся быть способными отыскать [во внутреннем человеке] образ Божий в соответствии с Троицей, если нам посодействует Он Сам, т. е. Тот, Кто, как указывают сами вещи, так и свидетельствует Святое Писание, «все расположил мерою, числом и весом» (Прем. 11:21).
КНИГА 12
(В ней проводится отличие мудрости от знания, и в том, что называется знанием собственно, обнаруживается некоторая троица своего рода (как низшая), каковая, хотя и относится уже к внутреннему человеку, все же еще не должна ни называться, ни считаться образом Божиим)
1. Теперь давайте посмотрим, где пролегает как бы общая граница между человеком внешним и человеком внутренним. Ибо все, что мы имеем в душе (in animo) общего с животными, правильно считается относящимся к внешнему [человеку]. Ведь внешний человек не должен рассматриваться как только тело, ибо к нему присоединяется некоторая жизнь, каковой исполняются телесный организм и все ощущения, которыми он оснащен для восприятия внешнего. Когда образы этих ощущений, укоренившиеся в памяти, посредством вспоминания видятся вновь, то это состояние пока еще характеризует внешнего [человека]. И во всем этом мы ничем не отличаемся от животных за исключением того, что по своей фигуре мы являемся не согбенными, но прямостоящими. И тем, что мы отличаемся от них прямостоящим телом, мы увещеваемся нашим Создателем не походить на животных и своею лучшей частью, т. е. душой. [И наша цель состоит] не в том, чтобы мы ввергали душу в то, что является наиболее возвышенным среди телесного, ибо искать покоя для воли даже в такого рода вещах означает низвергать душу. Но поскольку [наше] тело естественным образом направлено вверх к тому, что является наивысшим среди тел, т. е. к небесному, постольку и душа, которая является духовной сущностью (substantia spiritualis), должна направляться вверх к тому, что является наивысшим среди духовного, но посредством не вознесшейся гордыни, а праведного благочестия.
2. Итак, животные тоже могут ощущать телесное извне посредством телесного ощущения и, укоренив его в памяти, вспоминать, [а также] искать в нем наиболее полезное и избегать неприятное. Но замечать телесное и удерживать его не только как естественным образом схваченное, но и как намеренным образом препорученное памяти; и воспроизводить вновь с помощью воспоминания и представления то, что сразу же ускользает в забвении, для того, чтобы (каким образом представление воображается тем, что обнаруживается в памяти, так же и само то, что есть в памяти, укрепилось представлением) сложить воображаемые видения посредством собирания вспомненного то отсюда, то оттуда, и как бы его связывания; разбирать, каким образом в такого рода предметах то, что правдоподобно, отличается от правды, и не в духовном, а в самом телесном; [все] эти [действия], хотя они проводятся и происходят в чувственном и в том, что душа извлекает из него посредством телесного ощущения, не могут, однако, совершаться без участия разума и быть общими у людей с животными. Но судить об этом телесном в соответствии с бестелесными и предвечными основаниями (rationes), каковые, если только они не выше человеческого ума (mеntеm), не являются, конечно же, неизменными, есть дело более высокого разума (rationis) И мы не можем судить о телесном на своих основаниях, если только они не подчиняются высшим. Судим же мы о телесном на основании (ех ratione) размеров и форм, которое ум знает как пребывающее неизменным.
3. То же в нас, что в рассмотрении телесного и временного совершается таким образом, что не является общим у нас с животными, есть, несомненно, разумное (rationale). Но оно как бы выводится из той разумной сущности нашего ума, посредством которой мы связываемся с умопостигаемой и неизменной истиной, и ему вменяется разбирать и направлять низшие [предметы]. Ибо как среди всех животных не может быть обнаружено помощника человеку, подобного ему, если только он, будучи взят от самого [человека], не образует с ним пары, так и для нашего ума, посредством которого мы сообщаемся с высшей и сокровенной (internam) истиной, среди тех частей души, которые являются общими у нас с животными, в отношении телесных предметов нет никакого такого помощника, который бы довлел природе человека. Поэтому некоторая часть разумного в нас, не отделенная так, чтобы нарушить единство, но как бы отвлеченная для того, чтобы быть помощником в общем деле, распределяется для выполнения своей работы. И каким образом двое есть одна плоть, когда мы говорим о муже и жене, таким же образом единой природой ума охватываются наш понимание (intellectum) и действие, совет и исполнение, или наш разум и разумное стремление, или какие бы то ни были другие [определения], исполненные большим значением слова, могущие выразить [сказанное]. Так что каким образом было сказано, что «будут два одна плоть» (Быт. 2:24), таким же образом можно сказать: «Два в одном уме».
4. Следовательно, когда мы обсуждаем природу человеческого ума, мы обсуждаем только одну единственную проблему, а не одну в упомянутых мною двух, если только мы не удваиваем ее согласно ее распределенности. Таким образом, когда мы ищем в ней троицу, мы ищем ее во всем уме, не отделяя разумное действие во временном от разумного созерцания вечного затем, чтобы далее искать нечто третье, которым бы исполнилась троица. И эта троица должна с необходимостью быть обнаружена во всей природе ума. Так что даже если бы в ней не хватало действия, [направленного] на временное, для свершения чего требуется помощник, по каковой причине для управления низшими [предметами] отвлекается некоторая часть ума, все же троица могла бы быть обнаружена в едином и никоим образом не разделенном уме. [Так, чтобы], когда подобное распределение уже было совершено, то в том единственном, что относится к созерцанию вечного, [можно было бы обнаружить] не только троицу, но и образ Божий; в том же, что отвлечено в действии, [направленном] на временное, тем не менее, можно было бы [обнаружить] троицу, хотя и не образ Божий.
5. Мне не кажется, что можно считать вероятным суждение тех, кто полагает, будто в человеческой природе можно обнаружить троицу образа Божиего в трех лицах, которая исполняется в союзе мужчины, женщины и их дитя. И будто бы сам муж выражает лицо Отца; тот, что исходит от него таким образом, что рождается, — лицо Сына; третьим же лицом, т. е. Духом, они считают жену, которая таким образом изошла от мужа (Быт. 2:22), что она сама не есть сын или дочь, хотя по ее зачатии родилось дитя. Ибо Господь сказал о Святом Духе то, что Он от Отца исходит, и все же не есть Сын (Ин. 15:26). В этом ошибочном мнении лишь то представляется вероятным, что в рождении созданной женщины согласно достоверности Святого Писания достаточным образом показано: не все то может быть названо сыном, что начинает существовать посредством какого–либо лица, что создает другое лицо. Так, лицо жены происходит от лица мужа, но однако же она не называется его дочерью. Остальное же в этом [мнении] настолько нелепо, или, точнее, ложно, что в его обличении нет никакого труда. Ибо я не хочу [даже] говорить о том, что Святой Дух является матерью Сына Божиего и супругой Отца, ибо [иначе мне сразу] сказали бы, что подобные представления не являются ошибочными только в том случае, если они относятся к плотским зачатию и рождению тел. Впрочем, те же самые предметы могут представляться непорочнейшим образом теми чистыми, для которых «все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1:15). Ведь даже Христос, рожденный от Девы во плоти, вызывает у иных из них отвращение. Но касательно этих высших духовных [предметов] (в соответствии с подобием каковым создаются рода низшего творения, какими бы удаленными они не были, и как бы они ни назвались), где ничто не может быть ни оскверненным или тленным, ни рожденным во времени, ни образованным от [чего–то] безобразного, да не побеспокоят [эти нечистые] трезвое благоразумие кого бы то ни было, чтобы во избежание напрасного страха [человек] не совершил губительной ошибки. Пусть он [сначала] приучится обнаруживать следы духовного в телесном так, чтобы когда он, руководствуясь разумом, начнет восходить вверх затем, чтобы достичь самой неизменной истины, посредством каковой все создано, он не привнес бы с собой в это высшее то, что он презирает в низшем. [Так] никто не стал бы краснеть от того, что он выбрал себе в супруги премудрость, [только] потому что слово «супруга» предполагает представление о тленном совокуплении для рождения дитя, или потому что сама премудрость, и вправду, по своему полу есть женщина, ибо и в греческом языке, и в латыни это слово женского рода.
6. Следовательно, мы отвергаем то суждение не потому, что мы боимся думать о святой, незыблемой и неизменчивой Любви как о супруге Бога Отца, сущей от Него (но [только] не как о дите [предназначенного] для порождения Слова, через Кого все начало быть), но потому, что Божественное Писание с очевидностью показывает, что оно ложно. Ибо Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и подобию Нашему» (Быт. 1:26); а немного после: «И сотворил Бог человека по образу Божиему» (Быт. 1:27). Несомненно, что поскольку слово «Нашему» является множественным числом, постольку оно применялось бы неправильно, если бы человек был сотворен по образу одного Лица, будь то Отец или Сын, или же Святой Дух. Но потому говорится «по образу Нашему», что он был сотворен по образу Троицы. Но опять–таки, дабы мы не сочли, что в Троице нужно полагать трех богов, тогда как Сама Троица есть единый Бог, было сказано, что «сотворил Бог человека по образу Божиему», вместо того, чтобы (и как если бы) было сказано «по образу Своему».
7. В Святом Писании такие высказывания обычны, но иные, даже если они претендуют на то, чтобы называться кафоликами, не обращают на них должного внимания, так что они полагают, что слова «сотворил Бог человека по образу Божиему» означают то же самое, как если бы было сказано: «сотворил Отец по образу Сына». Таким образом они желают заявить, что в Святом Писании Сын также называется Богом, как будто [в Писании] нет других достовернейших и очевиднейших свидетельств, в которых говорится, что Сын есть не только Бог, но что Он — истинный Бог. Ибо когда они стремятся разрешить в этом свидетельстве что–то еще, они так запутываются, что уже не могут выпутаться. Ибо если Отец сотворил [человека] по образу Сына так, что человек не является образом Отца, но Сына, то тогда Сын не подобен Отцу. Но если благочестивая вера наставляет нас (а именно это она и делает) тому, что Сын подобен Отцу по равенству сущности, то тогда то, что сотворено по подобию Сына, с необходимостью является также и тем, что сотворено по подобию Отца. Наконец, если Отец сотворил человека не по Своему образу, а по образу Сына, то почему же [еще] Он не сказал: «Сотворим человека по образу и подобию Твоему»; но сказал «по Нашему», как не потому, что в человеке был сотворен образ Троицы так, чтобы тем самым человек был образом единого и истинного Бога, ибо Сама Троица есть единый и истинный Бог? Подобным высказываниям в Писании несть числа, но будет достаточным привести следующие. [Например] в псалмах говорится: «От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое» (Пс. 3:9) таким образом, как будто говорится кому–то еще, а не Тому, о Ком слова «От Господа спасение». И еще: «Тобою избавлюсь от искушения, с Богом моим прейду стену» (Пс. 17:30). Эти слова: «Тобою избавлюсь от искушения» — сказаны так, как будто они говорятся кому–то еще. И еще: «Народы падут пред Тобою — они — в сердце врагов Царя» (Пс. 44:6). [Последняя часть говорится таким образом], как если бы было сказано, «в сердце врагов Твоих». Ибо слова «народы падут пред Тобою» были сказаны Царю, т. е. Господу Иисусу Христу, поскольку когда говорятся слова «в сердце врагов Царя», под словом «Царь» понимается именно Он. Подобные высказывания обнаруживаются реже в Новом Завете, но все же апостол так говорит в Послании к Римлянам [о том, что Бог обещал] «о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых Иисуса Христа Господа нашего» (Рим. 1:3–4); как будто выше говорилось о ком–то еще. Ибо кто же еще есть Сын Божий, Который открылся чрез воскресение из мертвых Иисуса Христа, как не Тот Самый Иисус Христос, открывшийся Сыном Божиим? Следовательно, каким образом здесь, когда нам говорится: «Сын Божий в силе Иисуса Христа»; или «Сын Божий по духу святыни Иисуса Христа»; или «Сын Божий чрез воскресение из мертвых Иисуса Христа» (тогда как это могло бы быть обычным образом сказано так: «в Его силе»; или «по духу святыни Его»; или «чрез Его воскресение из мертвых, или [чрез воскресение из] мертвых Его») — нам нет необходимости представлять какое–то другое лицо, нежели одно и то же, а именно, [лицо] Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа; таким же образом, когда нам говорится, что «сотворил Бог человека по образу Божиему» (хотя, выражаясь обычно, можно было бы сказать «по образу Своему») — нам все так же нет необходимости мыслить какое–то еще лицо в Троице, но только одну и ту же единую Троицу, Которая есть единый Бог, и по образу Кого сотворен человек.
8. Поскольку положение дел таково, постольку если мы станем искать тот самый образ Троицы не в одном человеке, но в трех, [т. е.] отце, матери и сыне, то тогда получится, что человек не был сотворен по образу Божиему прежде, чем для него была создана жена, и прежде, чем они продолжились в сыне, ибо тогда еще не было троицы. Или [быть может] кто–нибудь скажет, что если пока еще и не в собственном виде, то все же посредством своей изначальной природы была уже и жена в боку мужа, и был уже сын в чреслах отца? Но почему же тогда, когда Писание говорит, что «сотворил Бог человека по образу Божиему», то далее следует: «сотворил его как мужчину и женщину, сотворил их и благословил их» (Быт. 1:27–28)? (Ведь даже если следовало бы расчленить [эти стихи] таким образом, что к словам «сотворил Бог человека» затем приставлялись бы слова «по образу Божию сотворил его», а третьими бы добавлялись слова «мужчину и женщину сотворил их», ибо иные боялись сказать «сотворил его как мужчину и женщину», дабы не мыслилось что–то чудовищное, каковы [например] суть те, что называются гермафродитами; все же и тогда не было бы ложным мыслить обоих в единственном числе в соответствии с тем, что сказано: «и будут два одна плоть».) Так почему же, как я уже начинал говорить, Писание не упоминает в человеческой природе, сотворенной по образу Божиему, ничего, кроме мужчины и женщины? Может быть, для того, чтобы исполнить образ Троицы, надлежало добавить и сына, хотя и заключенного пока еще в чреслах отца, так как жена была в боку? Или, быть может, и жена была уже сотворена, и Писание [лишь] сжало в кратком выражении, но объяснило бы после более тщательно то, каким образом это было сделано; и, следовательно, сын не мог быть упомянут [только] потому, что пока еще не был рожден? Как будто Святой Дух, намереваясь поведать о рождении сына после в своем месте, не мог охватить в этом кратком изложении так же и это, подобно тому, как Он поведал в дальнейшем в своем месте то, что жена была взята из бока мужа, и, однако же, не забыл назвать ее в том же месте (Быт. 2:22–23)!
9. Следовательно, мы не должны понимать то, что человек был сотворен по образу высшей Троицы, т. е. по образу Божиему, таким образом, чтобы этот самый образ мыслился как три человека; в особенности когда апостол говорит, что муж есть образ Божий и поэтому снимает покров со своей головы, [тогда как] женщину убеждает покрывать голову, говоря: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа» (1 Кор. 11:7). Что же нам сказать по этому поводу? Если жена по значению своего лица дополняет образ Троицы, почему по ее извлечению из бока мужа, он все еще называется образом? Или если даже одно из трех лиц человека может называться образом Божиим, поскольку в самой высшей Троице каждое [отдельное] Лицо также есть Бог, почему [также] и жена не есть образ Божий? Ведь ей предписывается покрывать голову [именно] по той причине, по каковой мужу запрещается, ибо он — образ Божий.
10. Но следует уяснить то, каким образом слова апостола о том, что не жена, а муж есть образ Божий, не противоречат тому, что написано в книге Бытия: «Сотворил Бог человека по образу Божиему, сотворил его как мужчину и женщину; сотворил их и благословил их». Ведь [в последнем высказывании] говорится [лишь] о том, что была сотворена сама человеческая природа, которая исполняется [только] обоими полами; и в нем женщина не отделяется от того, чтобы она понималась как образ Божий. Ведь после того, как было сказано, что «сотворил Бог человека», говорится, что Он «сотворил его как мужчину и женщину», или же–при другой пунктуации — «мужчину и женщину сотворил их». Так, отчего же мы слышим от апостола, что муж есть образ Божий, и поэтому ему запрещается покрывать голову, а жена нет, и поэтому ей приказывается делать это? Я думаю, только оттого, что, как я уже сказал, когда касался природы человеческого ума, жена вместе со своим мужем есть образ Божий так, что вся эта человеческая природа (substantia) в целом есть единый образ Божий; [и оттого, что], когда жена рассматривается как помощник, каковое определение относится лишь к ней одной, она не есть образ Божий, хотя муж, рассматриваемый в том, что относится только к нему, есть образ Божий, столь же полный и цельный, сколь и тогда, когда жена соединяется с ним в одно. Таким же образом мы говорили о природе человеческого ума. Когда ум, взятый в целом, созерцает истину, он есть образ Божий. Когда же от него что–либо отделяется и по какому–то намерению отклоняется ко временному, он, тем не менее, в той части, посредством которой созерцает истину и сообщается с ней, является образом Божиим. Однако же в той части, посредством которой он направлен к низшим [предметам], он не есть образ Божий. И поскольку чем больше он себя распространяет в том, что вечно, тем больше он воображается образом Божиим, и по этой причине не должен себя сдерживать, дабы усмирять себя и удерживать себя от этого, постольку же и муж не должен покрывать своей головы. Но поскольку для того разумного действия, которое совершается в вещах телесных и временных излишнее продвижение в низшее опасно, ему надлежит иметь владыку над своей головой, на что и указывает покров, каковым знаменуется то, что оно должно сдерживаться. Ведь святому и благочестивому знамению признательны святые ангелы. Ибо Бог видит не во времени, и в Его видении и знании не происходит ничего нового, когда что–либо совершается временным и преходящим образом, воздействуя на ощущения, будь то плотские ощущения животных или людей и даже небесные [ощущения] ангелов.
11. Итак, то, что в сказанном явным образом о мужском и женском полах апостол Павел выразил тайну чего–то более сокровенного, может быть понято хотя бы из того, когда он в другом месте называет истинной вдовицей ту, что [хотя] и одинока, [т. е.] без детей или внучат, но, однако же, должна надеяться на Бога и пребывать в молениях и молитвах день и ночь (1 Тим. 5:5). Он также говорит, что жена, прельстившись и пав в преступление, спасается чрез чадородие, и добавляет: «Если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:15). Как будто благой вдовице могло бы помешать то, что у нее нет детей, или то, что те, кого она имела, не желали пребывать в благих нравах. Но поскольку то, что называется благими делами, есть как бы дети нашей жизни, в соответствии с каковым значением слова «жизнь» спрашивается: «Какой жизни [тот или иной] человек (cuius uitae sit quisque)?», т. е. «Каким образом он действует во временном?» (каковое значение жизни у греков выражается не словом ζωη, но — βιοζ); и поскольку эти благие дела совершаются, главным образом, милосердием (которое ничем не может помочь ни язычникам, ни иудеям, не верующим во Христа, ни каким–либо еретикам или схизматикам, в каковых не обнаруживается веры, любви и святости с целомудрием); постольку ясно, что имел в виду апостол: он, говоря о том, что жена должна покрывать голову, выражался образно и мистически (figurale ac mystice) потому, что если бы его слова не относились к какому–то сокровенному таинству (ad aliquod secretum sacramenti), то это были бы лишь пустые слова.
12. Ибо как не только истиннейший разум, но так же и авторитет самого апостола возвещает, что человек был сотворен по образу Божиему не в соответствии с образом тела, но разумного ума (rationalеm mеntеm). Так как представление, мнящее Бога очерченным и определенным линиями телесных членов, является дурным и пустым. И далее не тот ли же самый апостол говорит [о необходимости] «обновиться духом ума» «и облечься в нового человека, созданного по Богу» (Еф. 4:23, 24); и в другом месте он более ясно [говорит об этом, советуя нам не лгать друг другу], «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Колос. 3:9–10)? Следовательно, если мы обновляемся духом нашего ума, и тот есть новый человек, который обновляется в познании Бога по образу Создавшего его, то нет никакого сомнения, что человек был сотворен по образу Создавшего его не в соответствии с телом или какой бы то ни было частью души, но в соответствии с разумным умом, в котором [только] и возможно познание Бога. И также в соответствии с этим обновлением посредством крещения во Христе мы соделываемся сынами Божиими; и облекаясь в нового человека, мы через веру, конечно же, облекаемся во Христа. Но кто же тогда тот, кто отчуждает женщин от этого сообщества, тогда как они с нами суть сонаследники благодати; и тот же апостол говорит в другом месте: «Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса; все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни грека; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:26–28)? Так, неужели правоверные женщины утратили свой телесный пол? [Нет], но они обновились в соответствии с образом Божиим, в котором нет никакого пола, как и человек был сотворен по образу Божиему, в котором нет никакого пола, т. е. в духе своего ума. Так почему же тогда муж не должен покрывать голову потому, что он есть образ и слава Божия, а жена должна потому, что она — слава мужа, как будто жена не обновляется духом своего ума, который обновляется в познании Бога по образу Создавшего его? [Дело в том, что], поскольку она отличается от мужа телесным полом, постольку обрядом являлось возможным выразить в ее вещественном (corporali) покрове ту часть разума, которая отвлекается для управления временными [предметами]. Образ же Божий пребывает лишь в той части, посредством каковой в созерцании и сообщении человеческий ум прилепляется к предвечным основаниям и каковой обладают не только мужчины, но, конечно же, и женщины.
13. Итак, в их умах распознается общая природа, однако в их телах изображается различие [в направлении действий] того самого единого ума. Таким образом, при внутреннем постепенном восхождении по частям души, там, где в созерцании возникает нечто, что уже не есть общее у нас с животными, возникает и разум, отчего уже можно распознать внутреннего человека. И если этот внутренний человек, посредством того разума, которому вверено управление временными предметами, соскальзывает посредством неумеренного продвижения во внешнее, причем [на это нисхождение] согласна его голова, т. е. как бы мужская часть его, восседающая в дозорной башне совета (in specula consilii), которая не сдерживает и не обуздывает его, тогда он ветшает из–за всех врагов своих (Пс. 6:8), т. е. отличающихся своей завистью демонов во главе с дьяволом, и то видение вечного отвлекается от самой головы, вкушающей вместе со своей супругой запретное, так что свет очей его уже не с ним (Пс. 37:11). [И тогда] они, будучи оба обнаженными в этом явлении истины (при том, что у них открылись глаза их совести, дабы они узрели то, насколько бесчестными и безобразными они стали, словно листы от сладких плодов, но без самих плодов), ткут благие слова без плода благого дела так, чтобы, живя дурным образом, прикрыть свой позор как бы благими словесами.
14. Ибо душа, любящая свою собственную силу (potestatem), соскальзывает от всеобщей целостности к рядовой части (а соmmuni uniuerso аd рriuatаm раrtеm). И эта отступническая гордыня, которая называется «началом греха» (Сир. 10:15) (хотя она, следуя во всецелостности творения Богу Творцу, могла бы совершенным образом управляться Его законами), желая чего–то большего, нежели всецелое, и силясь управлять им по своему собственному закону, понукается к тому, чтобы тщиться о чем–то частном, поскольку нет ничего, что было бы больше всецелостности; и возжелав, таким образом, чего–то большего, становится меньше, отчего жадность и называется «корнем всех зол» (1 Тим. 6:10). И все то, что она делает, когда она тщится действовать из себя самой против законов, которыми управляется все творение, она делает посредством своего тела, которым она обладает [лишь] частично. Предавшись наслаждению телесными формами и движениями (каковых она не имеет их у себя внутри) и будучи охваченной теми их образами, каковые она удержала в памяти, она постыдно пятнается развратом измышлений, направляя все свои действия к тому, чтобы посредством телесного ощущения с тщанием изыскивать телесное и временное. [В итоге] она либо страстно желает из–за своей распухшей надменности превзойти другие души, пристрастившиеся к телесным ощущениям, либо погружается в полный нечистот водоворот плотской похоти.
15. Когда же душа ради себя самой или же ради других внушается благой волей воспринимать внутреннее и высшее [благо], каковым овладевают все любящие подобное [лишь] благочестивым объятием, без какого–либо стеснения или зависти и не частным образом, но общим, но обманывается в чем–либо из–за незнания временного (ведь в этом она действует временным образом) и не знает должной меры ему, то это есть человеческое искушение. И великим делом является прожить жизнь (словно прошествовать по пути домой) таким образом, чтобы нас «постигло искушение не иное, как человеческое» (1 Кор. 10:13). Ибо этот грех вне тела, и он не считается развратом, а потому и легко прощается. Но когда душа делает что–либо для достижения того, что ощущается посредством тела, ради того, чтобы испытать это, отличиться и завладеть этим так, что полагает в нем предел своего блага, тогда, что бы она ни делала, она поступает постыдным образом и предается разврату, греша против собственного тела (1 Кор. 6:18). [Тогда], выхватывая изнутри ложные видения телесных вещей и слагая их в суетном представлении таким образом, что ей уже ничто не кажется божественным, если оно не такого рода, из–за себялюбивой жадности она плодится ошибками, а из–за себялюбивой расточительности она теряет силы. [Нет], она не сразу же ниспадает к этому позорному и жалкому разврату, но, как сказано: «ни во что ставящий малое, мало–помалу придет в упадок» (Сир. 19:1).
16. Ибо каким образом змея вползает не прямым движением, но небольшими кольцеобразными движениями, таким же образом и скользящее движение отпадения захватывает беспечных понемногу и, начиная от превратного желания уподобления Богу, достигает уподобления животным. Поэтому–то, обнажившись от своей первой одежды, [наши прародители] погрузились по причине смертности в одежды кожаные (Быт. 3:21). Ибо истинная слава человека — образ и подобие Божие, каковые могут быть сохранены только посредством связи с Тем, Кем они были запечатлены. Следовательно, тем больше [человек] прилепляется к Богу, чем меньше он любит себя самого. Когда же он поддается страсти испытать свою собственную силу, то он по своему же желанию ниспадает до самого себя, являя собой как бы промежуточную ступень. Но когда он хочет быть как Бог, т. е. не быть подчиненным кому–либо, и сбрасывается в качестве наказания с этой своей промежуточной ступени вниз, т. е. к той, которой довольствуются животные, и поскольку его честью является подобие Богу, а бесчестие — подобие животным, то: «человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают» (Пс. 48:13). Но каким же [иным] образом мог он пройти столь долгий путь, как не чрез промежуточную ступень, олицетворяемую им самим? Ибо когда он пренебрегает любовью к премудрости, всегда пребывающей одним и тем же образом, и вожделеет знания из опыта вещей изменчивых и временных, тогда такое знание лишь надмевает, но не назидает (1 Кор. 7:1). И таким образом отягощенная душа как бы под тяжестью своего веса выталкивается из блаженства и, пребывая в этом своем промежуточном положении, научается чрез свое наказание тому, какая разница между покинутым ею благом и злом, в которое она себя ввергла. И она уже не может вернуться [к блаженству], если только ее Создатель не призовет ее к покаянию и не простит ее прегрешения. Ибо кто же избавит несчастную душу от этого тела смерти, как не благодать Божия через Иисуса Христа Господа нашего (Рим. 7:24–25)? Об этой благодати мы поговорим в другом месте, насколько нас сподобит Он Сам.
17. Теперь же давайте завершим с Божией помощью предпринятое рассмотрение той части разума, к которой относится знание (scentia), т. е. познание (cognitio) вещей временных и изменчивых, необходимое для того, чтобы свершать действия в этой жизни. Ибо как в том известном случае супружества двух людей, которые были сотворены первыми, змей не вкушал [плода] от запрещенного дерева, но только искушал вкусить; и жена не ела одна, но дала своему мужу, и они ели вместе, хотя она одна говорила со змеем, и она одна была им обольщена (Быт. 3:1–6); так же и в том случае сокровенного и тайного супружества, каковое содержится и распознается в едином человеке; телесное, или, как я бы сказал, чувственное движение души (поскольку оно направлено к телесному ощущению, которое является общим у нас с животными) отделяется от разума мудрости. Ибо телесное воспринимается телесным ощущением; духовное же, являясь вечным и неизменным, понимается разумом мудрости. Но влечение знания (scientiae appeititus) близко разуму (rationi), потому что то, что называется знанием (scientia) действия, судит (ratiocinatur) о телесных вещах, каковые воспринимаются телесным ощущением. Если оно судит благим образом, оно относит это познание (eam notitiam) к цели высшего блага; если оно судит дурным образом, оно наслаждается телесным, как таковым благим, в каковом оно успокаивается в ложном блаженстве. Следовательно, когда телесное или животное ощущение вносит в то намерение ума, которое занимается вещами временными и телесными для выполнения действия посредством живости суждения, некоторый соблазн для того, чтобы наслаждаться самим собой, как если бы оно было частным и особенным благом, а не общественным и общим, каково неизменное благо, тогда словно змей разговаривает с женою. Согласиться на этот соблазн означает вкусить от запретного дерева. Но если это согласие удовлетворяется наслаждением одной лишь мыслью, а члены [тела] удерживаются авторитетом высшего совета таким образом, чтоб они не оказались преданными греху в орудия неправды (Рим. 6:13), то я считаю, что это можно рассматривать, как если бы одна жена съела запретный плод. Но если в согласии использовать дурным образом то, что воспринимается телесным ощущением, какой бы то ни было грех определяется настолько, что если бы было возможным, он был бы осуществлен телом, тогда это следует понимать так, как если бы жена уже дала своему мужу запрещенный плод для того, чтобы они съели его вместе. Ибо и ум не способен определить, чтобы грех не только с наслаждением мыслился, но также и совершался в действительности, если только то устремление ума, в обладании которого высшая власть побуждать или сдерживать [телесные] члены, не уступает и не подчиняется дурному действию.
18. Когда ум лишь в представлении (sola cogitatione) забавляется недозволенным, не решаясь их совершить, и, однако же, удерживая и желая то, что должно было быть сразу же отвергнуто, как только оно коснулось души, то, конечно же, нельзя отрицать, что это — грех, но [все же] гораздо меньший, нежели тот, что решился осуществить ум во внешнем действии. Но и для таких представлений следует искать прощения, бить себя в грудь и говорить: «Прости нам долги наша»; и должно быть сделано то, что следует, и добавлено к молитве: «как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12). Ибо [здесь дело обстоит] не так, как в случае тех двух первых людей, каждый из которых выражал свое [собственное] лицо; а потому если бы одна жена съела недозволенное, она одна, конечно же, понесла бы наказание. [Так вот] в случае одного человека нельзя сказать так, что если бы только мысль наслаждалась недозволенными удовольствиями, от которых она должна была бы тотчас же отвращаться, хотя бы она и не решалась совершить дурное, а лишь удерживала его с удовольствием в памяти, то [мысль одна понесла бы наказание], как если бы жена могла быть проклята одна без мужа. Да не будем мы так считать. Ибо здесь — одно лицо, один человек, и он весь будет проклят, если только то, что без воли к свершению, но с волей к услаждению души, не воспринимается как грех одной лишь мысли, и не отбрасывается с помощью благодати Посредника.
19. Таким образом, посредством этого рассуждения мы изыскали в уме всякого отдельного человека некоторое разумное супружество созерцания и действия, каждой из сфер которого свойственны свои обязанности, но в которых все же сохраняется единство ума. Так вот это рассуждение, не будучи противоречащим истине той истории о двух первых людях (т. е. о муже и жене, от которых пошел человеческий род), каковую сообщает нам Божественный авторитет, должно быть выслушано только затем, чтобы понять, что апостол, называя образом Божиим только мужа, но не женщину, желал обозначить нечто, что должно искаться, хотя и в различии полов, но все же в одном человеке [взятом отдельно].
20. Мне известно, что некоторые из тех, кто был прежде нас славным защитником кафолической веры и толкователем Божественных изречений, когда они искали те два [определения] в одном человеке, они рассматривали его цельную душу в качестве благого рая, называя мужа умом, а жену — телесным ощущением. И в соответствии с этим разделением, по которому муж считается умом, а жена — телесным ощущением, все, как кажется, связно сходится, если рассматривается с должным вниманием, за тем лишь исключением, что в Писании говорится о том, что среди всех зверей и птиц человеку не нашлось помощника, подобного ему, и тогда была создана ему жена из [его] бока (Быт. 2:20–22). Поэтому я не счел [возможным] полагать, что жена обозначает телесное ощущение, которое, как мы видим, является общим у нас со зверьми. Я хотел найти нечто, чего звери не имеют, и потому я скорее представлял телесное ощущение в образе змея, который, как мы читаем, «был хитрее всех зверей полевых» (Быт. 3:1). Ибо в тех естественных благих вещах, которые, как мы видим, общи нам и неразумным живым существам, ощущение превосходно некоторого рода живостью. Не то ощущение, о котором говорится в Послании к Евреям, в котором мы читаем, что твердая пища «свойственна совершенным, у которых ощущения навыком приучены к различению добра и зла» (Евр. 5:14) (ибо такие ощущения имеют разумную природу и относятся к пониманию); но то ощущение (которое в теле подразделяется на пять видов), посредством какового ощущаются телесные форма и движение не только нами, но и зверьми.
21. Но будь так или сяк, или каким бы то ни было другим образом восприняты слова апостола о том, что муж есть образ и слава Божия, а жена — образ мужа, ясно, что когда мы живем сообразно Богу, наш ум, стремящийся к Его невидимому, должен воображаться из Его вечности, истины и любви. С другой стороны, часть нашего разумного устремления, т. е. того же самого ума, должна направляться к использованию вещей изменчивых и телесных, без чего не свершается эта жизнь; но не так, чтобы ум сообразовывался с этим веком (Рим. 12:2), полагая свою цель в такого рода благих предметах и отвращая к ним свое стремление к блаженству, а так, чтобы все, что мы ни делали бы разумным образом, используя временное, мы делали бы с видом на достижение вечного и, пройдя чрез первое, прилеплялись бы к последнему.
Знание (scentia) также имеет свою благую меру, если то, что в нем надмевает или имеет обыкновение надмевать, превосходится любовью к вечному, которая не надмевает, но, как мы знаем, назидает (1 Кор. 8:1). И без знания, конечно же, не могут быть обретены добродетели, посредством которых праведно живут, и через которых эта жалкая жизнь управляется таким образом, чтобы могла быть достигнута та вечная [жизнь], которая действительно блаженна.
22. Однако действие, посредством которого мы используем благим образом временное, отличается от созерцания вечного; и первое относится к знанию, а второе — к мудрости. Ибо хотя то, что есть мудрость, тоже может быть наречено знанием, что и делает апостол, когда он говорит: «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, как я познан» (1 Кор. 8:12) (ведь здесь, несомненно, он имел в виду созерцание Бога, которое будет высшей наградой святых). Все же там, где он говорит, что «одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом» (1 Кор. 12:8), он определенно, безо всякого сомнения, различает эти два [определения], хотя он и не объясняет, ни в чем различие, ни как каждый из них может быть распознан. Но, исследовав множество святых текстов, я обнаружил, что в книге Иова святому человеку говорится: «Вот, благочестие есть истинная премудрость, и удаление от зла — знание» (Иов. 28:28). В этом различении надлежит понять, что мудрость относится к созерцанию, а действие — к знанию. Ибо под «благочестием» в этом месте имелось в виду «почитание Бога», что по–гречески — θεοσεβεια. Именно это слово и стоит в греческом тексте. Но что же в вечном есть более превосходное, нежели Бог, ведь только Его природа неизменчива? И что же есть почитание Его, как не любовь к Нему, по причине которой мы теперь желаем видеть Его, верим и надеемся, что увидим; и по мере совершенства [уже] «видим как бы зеркалом, как в загадке», тогда же со всей явью, что собственно и имеет в виду апостол Павел, говоря «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12). Об этом же говорит Иоанн: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божий; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). Здесь и в подобного рода изречениях, как мне кажется, говорится о мудрости. Но «удаление от зла», которое у Иова называется знанием, несомненно, относится ко временному, поскольку сообразно времени мы пребываем во зле, от которого мы должны удаляться, чтобы достичь того вечного блага. Вот почему все, что бы мы ни совершали с благоразумием, усердием, воздержанием и праведностью, относится к тому знанию или науке (scientiam suie disciplinam), с помощью каковой наше действие направляется во избежание зла и желания блага; и [также] все, что бы мы ни собрали в историческом познании (historica cognitione) посредством примеров, будь то для неприятия или же для подражания и посредством необходимых свидетельств, чего бы то ни было, [все это, говорю я] сообразуется с нашей пользой.
23. Итак, я полагаю, что то, о чем мы сейчас говорили, относится ко знанию и должно быть отличено от того, что говорится касательно мудрости, к [области] каковой относится не то, что было, и не то, что будет, но то, что [вечно] есть, т. е. все, что называется бывшим, сущим и будущим, по причине вечности, в каковой оно пребывает вне какого–либо временного изменения. Ибо оно не было таким образом, чтобы перестать быть; и оно не будет таким образом, каким оно не есть сейчас; но оно всегда было и всегда будет тем же самым сущим (idipsum esse). И оно пребывает, но не как тела, определенные местом в пространстве; и в своей бестелесной природе оно является столь же умопостигаемым и наличным для взоров ума, сколь видимым или осязаемым в пространстве является для телесных ощущений [само телесное]. Умопостигаемые и бестелесные причины (rationes), сущие вне [какого–либо] пространственного места, бывают не только для чувственных предметов, размещенных в пространстве; есть так же умопостигаемые, а не ощущаемые, [причины] сущие вне [какого–либо] временного прехождения, для движений, преходящих во времени. Достичь [этих причин] взором ума — участь немногих. Когда же они достигаются, насколько это возможно, достигший их не пребывает в них, но выталкивается, поскольку взор [его ума] как бы отражается. Так возникает преходящая мысль о непреходящем. Все же эта преходящая мысль посредством тех приемов, которым научена душа, препоручается памяти, чтобы душа могла вернуться туда, откуда ей приходится уйти. Хотя если бы мысль не возвратилась бы к памяти и не обнаружила бы там того, что она ей препоручала, то она [вновь], словно неуч, была бы проведена к тому, к чему ее [уже] приводили, и обнаружила бы то, что уже обнаруживала, т. е. к тому, что есть в бестелесной истине, от чего бы в памяти вновь запечатлелся образ. Ибо не так пребывает бестелесная и неизменчивая причина, например, квадратного тела [в самой себе], как пребывает в ней человеческая мысль, если все же последняя смогла достичь ее без пространственного представления о месте. Или если бы воспринималась ритмичность какого–либо художественного музыкального звука, проходящего временные промежутки, то она могла бы [также] мыслиться пребывающей вне времени в некоторой сокровенной и величественной тишине столь же долго, сколь долго слышалось бы ее звучание. Все же то, что схватит оттуда взор ума, хотя бы [лишь] пробегая, и, проглотив внутрь, поместит таким образом в память, он сможет, вспомнив, некоторым образом переварить и, усвоив, передать знанию (disciplinam). И если [даже] то окажется стертым в совершенном забвении, [все же] под руководством наставления можно вновь достичь того, что было всецело утрачено, и обнаружить его таковым, каковым оно и было.
24. [Исходя] из этого, благородный философ Платон пытался убедить, что души людей существовали и прежде, чем получили тела, и что поэтому то, чему научаются, пожалуй, не познается как новое, но вспоминается как уже познанное. [Так, Платон] сообщает [нам] о мальчике, которому задали (не помню какой) вопрос, связанный с геометрией, и [о том, что этот мальчик] ответил так, будто он был чрезвычайно осведомлен в этой науке. Ибо поскольку вопросы задавались ему постепенно и умело, он увидел то, что надлежало увидеть, и он сказал то, что увидел. Но если бы это было воспоминанием о вещах, прежде известных, то, конечно же, не всякий или далеко не всякий смог бы ответить, будучи вопрошенным таким образом. Ибо не всякий был бы в прошлой жизни геометром, поскольку таковые столь редки в роде человеческом, что с трудом можно обнаружить хотя бы одного. Однако нам скорее надлежит верить тому, что природа понимающего ума (mentis intellectualis) создана таким образом, чтобы в соответствии с установлением Создателя он видел то, что подчиняется естественным порядком к умопостигаемым предметам, посредством определенного бестелесного света своего рода (sui generis), подобно тому, каким образом плотский глаз видит то, что окружает его в этом телесном свете, к каковому свету он был сотворен восприимчивым и подходящим. (Однако же] и не потому он безо [всякого] наставника может различить белое от черного, что он уже знал эти [цвета] прежде, чем был сотворен во плоти. Но почему же тогда лишь в отношении умопостигаемых предметов может статься так, что всякий, будучи вопрошенным правильным образом, способен ответить на то, что относится к науке, в которой он не сведущ? И почему никто не может этого сделать по отношению к вещам чувственным, за исключением тех, что он видел в своем теле, или тех, каковым он поверил на основании слов или писаний других, которые знали о них? И не должны мы довольствоваться теми, кто сообщает, что Пифагор Самосский вспоминал нечто подобное из того, что пережил, когда он уже был здесь [якобы] в ином теле (а также другими, рассказывающими об иных, [якобы] переживших нечто такого рода в своих умах). Ибо то — ложные воспоминания, каковые мы обычно переживаем во сне, когда нам кажется, что мы вспоминаем, как будто мы свершали или делали то, что никогда не свершали и не делали. Подобного рода переживания происходят даже в умах бодрствующих, внушаемых злобными и лукавыми духами, которые стремятся обмануть людей, утвердив или посеяв ложное представление о круговороте душ. Из этого можно заключить, что если бы они действительно вспоминали то, что они видели здесь прежде, будучи помещенными в другие тела, то это случалось бы со многими или почти со всеми; ведь они полагают, что каким образом из живых беспрестанно становятся мертвыми, таким же образом из мертвых — живыми, словно из бодрствующих — спящими, а из спящих — бодрствующими.
25. Итак, если правильно наше различение между мудростью и знанием, в соответствии с каковым постигающее познание (cognitio intellectualis) вечного относится к премудрости, а разумное познание (cognitio rationalis) временного — к знанию, то не будет трудным понять, какое из них ставить выше, а какое — ниже. Но если нам надлежит использовать какое–то иное разделение, посредством которого могли бы быть распознаны эти два [определения], о различии каковых, несомненно учит апостол, говоря, что «одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом»; то все же различие между двумя этими определениями совершенно очевидно: одно — постигающее познание вечного, а другое — разумное познание временного; и никто не будет спорить, что первое следует ставить выше второго. Итак, оставляя то, что относится к внешнему человеку, и желая подняться внутри от того, что у нас есть общее с животными ([и] прежде, чем мы пришли бы к познанию умопостигаемого и высшего, каковое предвечно), мы занимаемся разумным познанием временного. Так, давайте, если сможем, и в нем обнаружим, определенную троицу, как мы [прежде] находили [ее] в ощущениях тела и в том, что их посредством в виде образов проникало в нашу душу или дух, так чтобы вместо телесного, которого, как сущего вне нас, мы касаемся телесным ощущением, мы имели внутри подобия тел, запечатленные в памяти, которыми воображалось бы представление (cogitatio), тогда как воля, будучи третьей, объединяла бы их. Таким же образом воображался извне взор глаз, который воля прилагала к видимой вещи затем, чтобы возникло видение, и сочетала их обоих, присоединяясь к ним в качестве третьей. Однако не следует стеснять этот вопрос рамками данной книги, дабы в следующей, если поможет Бог, он мог быть подобающим образом исследован, а то, что будет найдено, — изложено.
КНИГА 13
(В ней продолжает обсуждаться троица знания при посредстве христианской веры. Здесь говорится о том, что когда слова этой веры предаются памяти, выявляется троица, определениями которой являются звуки слов в памяти, взор воспоминания, воображающийся ими, когда он представляет их, и воля, соединяющая первое и второе)
1. В предыдущей, т. е. двенадцатой, книге этого труда мы довольно постарались, чтобы отличить задачу разумного ума во временном, которая состоит не только в познании, но также и в действии, от более высокой задачи того же самого ума, заключающейся в созерцании вечного и ограничивающейся одним познанием. Но я полагаю, что [здесь] было бы более уместным, если бы я сослался на какое–либо изречение из Святого Писания, посредством которого можно было бы различить их с большей легкостью.
2. Евангелист Иоанн так начал свое благовествование: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел ко своим , и свои Его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его. дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:1–14). Все то, что я вставил [здесь] из Евангелия, имеет своей первой частью то, что неизменно и предвечно, созерцание чего делает нас блаженными; в последующей же [части] вечное упоминается в соединении со временным. И потому там некоторое относится к знанию (ad scientiam), а некоторое — к мудрости (ad sapientiam) (каковое различение и было проведено в предшествующей двенадцатой книге). Ибо слова «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» требуют созерцательной жизни и должны постигаться понимающим умом (intellectuali mente). И чем больше кто–нибудь в этом продвинулся, тем более мудрым он, несомненно, стал. Что же касается [апостольских] слов «свет во тьме светит, и тьма не объяла его», то здесь необходима вера, посредством которой можно было бы верить в то, что невозможно увидеть. Ведь под тьмою он, конечно же, имел в виду сердце смертного [человека], отвращенное от такого рода света и неспособное созерцать его. По этой причине он, добавляя, говорит: «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали чрез него». Но это уже было совершено во времени, и относится к знанию, которое состоит в познании историческом (cognitione historica). Ведь мы воображаем Иоанна как человека, в соответствии с представлением о человеческой природе, имеющимся в нашей памяти. И вне зависимости от того, верят в это люди или нет, они представляют это тем же самым образом. Ибо им известно, что такое человек, с внешней частью какового, т. е. телом, они познакомились посредством глаз; а о внутренней, т. е. о душе, они прознали из самих себя, ибо они суть люди, а также из человеческого общения; так что они могут представить, когда говорится: «Был человек, имя ему Иоанн», ибо из речевого общения им известны имена. Что же касается слов «посланный от Бога», то приемлющие их приемлют верой, а те, что не приемлют их верой, либо, колеблясь, сомневаются, либо насмехаются в своем неверии. Однако же и те, и другие (если [только] они не из числа тех безумцев, что говорят в сердце своем «несть Бог» (Пс. 13:1), слыша эти слова, способны представить и первое, и второе, т. е. что есть Бог, и что значит быть посланным от Бога; и если [даже] они не делают этого так, как это есть, то они это делают так, как могут.
3. Затем, иным путем мы также знаем и о самой вере, каковую видит всякий в своем сердце: как присутствующую, если он верит, и как отсутствующую, если он не верит. Но [мы видим ее] не так, как тела, которые мы видим телесными глазами и которые, даже если они не наличны, представляем посредством самих образов, удерживаемых в памяти. [И мы видим ее] не так, как то, что мы не видели, но что мы кое–как воображаем в представлении [исходя] из того, что мы видели; и что мы препоручаем памяти, куда бы мы, когда пожелаем, могли вернуться для того, чтобы подобным же образом распознать это посредством воспоминания или, точнее, распознать какой бы то ни было образ того, что мы закрепили в памяти. И [опять–таки мы видим ее] не так, как живого человека, о чьей душе, хотя и не видимой нами, мы догадываемся [исходя] из своей, и которого мы можем мысленно воображать в его телодвижениях таким же образом, каким мы его узнали, созерцая чувственно. [Нет,] вера в сердце, в котором она пребывает, не таким образом видится тем, кто ее имеет. Ибо ее удерживает вернейшее знание (scentia) и провозглашает сознание (concsientia). Таким образом, хотя нам предписывается верить потому, что мы не можем видеть то, во что нам предписывается верить, мы все же видим саму веру в нас самих, когда она в нас; ибо присутствует вера и в то, что отсутствует, и вера в то, что вне нас, внутри нас, и вера в то, что невидимо, сама видима. И все же она возникает в сердцах человеческих во времени, а [потому], если верующие становятся неверующими, она преходит (perit). Иногда же вера прилагается к ложному. Ведь мы и выражаемся так, что говорим: «Я имел веру в него, а он обманул». И такого рода вера, если все же и ее следует называть верой, преходит из сердец, когда найдена истина, которая изгоняет ее. Однако желательно, чтобы вера в истинное преходила в само истинное. Ибо нам не следует говорить «преходит», если то, во что верили, [теперь уже] видится. Ведь неужели ее все еще следует называть верой, тогда как по определению, данному [апостолом] в Послании к Евреям, вера — это «вещей обличение невидимых» (Евр. 11:1)?
4. Следующие слова «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали чрез него» говорят нам о действии, которое, как мы сказали, имеет временной характер. Ибо свидетельствовать даже о вечном, каковым является умопостигаемый свет, есть то, что свершается [все же] во времени. А ведь именно во свидетельство этого пришел Иоанн, который «не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Ибо евангелист добавляет: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел ко своим, и свои его не приняли». Тот, кто умеет читать понимает все эти слова [исходя] из того, что знает. Из чего одно нам стало известно посредством телесного ощущения, например, [такой предмет, как] человек, или сам мир, величие которого для нас столь очевидно, или звуки этих слов, ведь и слух является телесным ощущением. Другое же [нам стало известным] посредством разума души (animi rationem), как то, что было сказано: «и свои Его не приняли», ибо это означает, что «они в Него не поверили»; что же такое последнее, [т. е. вера], познается не каким–либо телесным ощущением, но разумом души. Но даже значения, а не звуки, самих этих слов мы познали частично посредством телесного ощущения, частично посредством разума души. И мы слышали эти слова не в первый раз сейчас, и это слова, которые мы слышали прежде. И не только сами слова, но также и то, что они обозначают, мы удерживали в памяти, и сейчас распознали. Ибо когда произносится односложное слово «мир», то, поскольку оно есть звук, посредством тела, т. е. посредством слухового ощущения, нам стало известным нечто, конечно же, телесное. Но то, что оно обозначает, нам также стало известным посредством тела, т. е. посредством глаз плоти. Ибо насколько мир известен, он известен посредством зрения. То же четырехсложное слово, каковым является слово «поверили», проникает [в нас] своим звучанием через плотское ухо, поскольку оно [само] есть тело. Однако то, что оно обозначает, познается не каким–либо телесным ощущением, а [только] разумом души. Ибо если бы мы в душе не знали, что такое «поверили», мы бы не поняли, что не сделали те, о ком было сказано: «и свои Его не приняли». Следовательно, звук слова входит в уши извне и достигает ощущения, которое называется слухом. Также и вид человека известен нам как из нас самих, так и извне, будучи наличным в других для [наших] телесных ощущений, будь то для глаз, когда он видится; или для ушей, когда он слышится; или для осязания, когда он держится и осязается. Он также имеет в нашей памяти свой образ, бестелесный, конечно же, но подобный телу. Наконец, удивительная красота мира налична извне как нашему взору, так и тому ощущению, которое называется осязанием, если мы соприкасаемся с ним. И он также имеет внутри, [т. е.] в нашей памяти, свой образ, к которому мы обращаемся, когда мы, будучи ограниченными стенами или [находясь] во мраке, представляем (cogitamus) его. Но мы уже достаточно сказали в одиннадцатой книге об этих образах телесного, хотя и бестелесных, но все же имеющих подобие тел, и относящихся к жизни внешнего человека. Но теперь мы заняты человеком внутренним и тем его знанием, которое является знанием временного и изменчивого. Даже если в его внимание включается нечто из того, что относится к человеку внешнему, оно должно включаться таким образом, чтобы [из этого можно было извлечь] нечто для наставления, которое поспособствовало бы разумному знанию (rationalem scientiam). А поэтому разумное использование того, что является у нас общим с неразумными животными, принадлежит человеку внутреннему, отчего будет неправильным говорить, что оно является у нас общим с неразумными животными.
5. Но хотя вера, которую мы вынуждены обсуждать в этой книге несколько дольше в силу определенного установления нашего разума (и владеющие которой суть верующие, а не владеющие — неверующие, каковы, [например], те, кто не принял Сына Божия, пришедшего ко своим), и возникает у нас посредством слуха, она не относится к тому ощущению, которое называется слухом, поскольку она не есть звук; и не [относится она] к плотскому зрению, поскольку не есть она ни цвет, ни телесная форма, ни к тому, что называется осязанием, поскольку она не имеет чего–либо от телесности, ни к какому–либо телесному ощущению вообще, поскольку она — предмет сердца, а не тела. И она не вне нас, но внутри; и ни один не видит ее в другом, но каждый — в себе самом; наконец, она может притворно воображаться и мыслиться сущей там, где ее нет. Итак, всякий, кто видит свою веру, видит ее в самом себе; и не видит, но верит, что она есть в другом; и верит тем более утвердительно, чем больше ему известны плоды ее, каковые она обычно приносит, действуя любовью (Гал. 5:6). Вот почему она обща всем тем, по поводу кого добавляет и говорит евангелист: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». [Однако она является общей] не так, как обща какая–либо форма тела глазам всех видящих, для кого она налична (ибо взор всех воспринимающих [ее] некоторым образом воображается ею одной); но так, как можно сказать о том, что человеческая внешность является общей всем людям. Ведь это, [впрочем], говорится так, что все же каждый имеет свою собственную [внешность]. [Ибо] мы говорим совершенно верно, что вера запечатлевается из одного учения в каждом отдельном сердце верующих, которые верят в одно и то же. Однако одно есть то, во что верят, и другое — вера, которой верят. Ведь одно — это то, что в вещах, о которых говорится как о сущих, бывших или будущих, а другое–это то, что в душе верующего, и что может быть видимым лишь для того, чье оно, хотя оно может быть и в других, но не само, а как подобие. Ибо вера одна не по числу, но по роду. Все же по причине подобия и отсутствия какого–либо различия мы скорее называем ее одной, нежели многой. Ведь так же, когда мы видим двух чрезвычайно похожих людей, мы удивляемся и говорим, что у них одна внешность. Поэтому легче сказать, что было много душ (т. е. что у каждого отдельного человека есть, разумеется, отдельная душа) там, где в «Деяниях апостолов» говорится об одной душе (Деян. 4:32), нежели там, где апостол сказал «одна вера» (Еф. 4:5), сказать, что вер столько, сколько верующих. И все же Тот, Кто говорит: «О, женщина! Велика вера твоя (Мф. 15:28), и другому: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» (Мф. 14:31), дает нам знак того, что у каждого своя вера. Но вера тех, кто верит в то же самое, называется одной точно так же, как называется одной воля тех, кто желает то же самое. Ибо как и у тех, кто желает то же самое, воля каждого видима лишь для него самого, а воля другого сокрыта, хотя он желает то же самое; и если [даже] воля проявляет себя в каком–либо знаке, то в нее скорее верят, а не видят. Но всякий сознающий свою душу, конечно же, не верит, но явственно видит, что это и есть его воля.
6. Воистину, в природе живущей и наделенной разумом есть такое единодушие (conspiratio), что, хотя для одного остается сокрытым то, что желает другой, все же есть и некоторая [общая] воля, известная каждому отдельному [человеку]. И, несмотря на то, что ни один отдельный человек не знает того, что желает другой отдельный человек, в отношении некоторых предметов можно знать, что желают все. По этому поводу можно упомянуть забавнейшую шутку одного мима, который пообещал, что в следующем представлении в театре скажет то, что у каждого на уме, и то, чего желают все. Когда же в назначенный день собралась большая толпа, пребывающая от нестерпимого ожидания в напряжении и тишине, то, как утверждают, он сказал: «Вы желаете дешево купить и дорого продать». В сказанном этим кривлякой все обнаружили то, что сознавал каждый, и зааплодировали ему с удивительной благосклонностью потому, что он высказал перед глазами всех нечто само собой разумеющееся и, однако же, неожиданное. Так почему же от его обещания сказать, какова воля всех, возникло столь великое ожидание, как не потому, что от каждого человека скрыта воля другого человека? Но неужели она была скрыта и от мима? Но неужели она от кого–то скрыта? Почему, как не потому, что есть такие [общие всем воления], о [наличии] которых у других всякий может догадаться, [исходя] из их наличия у себя по причине нашего единодушия в грехе или добродетели? Однако одно дело — видеть свою волю, и другое–строить догадки о том, какова чужая, хотя бы эти догадки и были точными. Ибо в области человеческого я столь же уверен в том, что был построен Рим, сколь и в том, что был построен Константинополь, хотя Рим я видел своими собственными глазами, а о втором я сам не знаю ничего, за исключением того, во что я поверил, полагаясь на свидетельства других. И, конечно же, тот мим поверил, что желание покупать дешево и продавать дорого является общим, на основании наблюдения за самим собой или опыта других. Но поскольку в действительности такое желание является превратным, постольку всякий может оказаться правым в таком роде, или впасть в какую–нибудь другую, противоположную этому, ошибку, посредством которой можно было бы противодействовать и преодолевать первой. [Так, например], я сам знаю человека, которому предложили купить книгу и который понял, что продавец не догадывался о ее стоимости, поскольку он запрашивал ничтожную малость. Однако тот человек заплатил ему по справедливой цене, которая на удивление продавца оказалась гораздо большей. А ведь может быть и такой человек, которым овладела столькая расточительность, что он распродает дешево то, что ему досталось от родителей, и покупает задорого то, что необходимо для удовлетворения своей похоти. Как мне кажется, подобное мотовство не так уж невероятно. И если поискать, то можно найти подобных [людей]. Но даже не ища, можно встретить тех, кто, чтобы поглумиться над театральным представлением или декламацией, превосходит расточительство любителей театра и задорого покупает бесчестье, продавая дешево поместье. Я также знаю людей, которые в целях благотворительности покупали хлеб за более дорогую цену, а продавали за более дешевую своим согражданам. А вот также и то, что говорил древний поэт Энний: «Все смертные желают, чтобы их хвалили». Он заключил об этом в отношении других, разумеется, [исходя] из себя самого и из тех, с кем он был знаком, и провозгласил это как то, что, по–видимому, является волей всех. Ибо, наконец, если бы тот мим сказал: «Вы желаете, чтобы вас хвалили, и никто не желает, чтобы его порицали», то он бы, как кажется, подобным же образом высказал то, что является волей всех. Однако же есть и те, кто ненавидит свои пороки, и не желают, чтобы их хвалили другие за то, чем они не удовлетворены в себе. Они [даже] благодарны благосклонности ругающих их, если их порицают затем, чтобы они исправились. Но если бы он сказал: «Вы все желаете блаженства и не желаете несчастья»; то он сказал бы то, чего ни один человек не смог бы не признать в своей воле. Ибо какой бы ни была сокровенная воля кого бы то ни было, никто не отступится от этого желания, каковое хорошо известно всем и каковое есть во всех.
7. Желание достигнуть блаженства и удержать его является одним для всех, поэтому удивительно, отчего столь разнятся и различаются воли по отношению к самому блаженству. [Дело не в том], что кто–то не желает его, но в том, что не все знают, что оно. Ибо если бы все знали, то не считали бы одни, что оно заключается в добродетели души, другие — в наслаждении тела, третьи — и в том, и в другом; четвертые — в чем–то ином и т. д. Ибо то, что доставило им наибольшее наслаждение, они и представляют как блаженную жизнь. Но как же тогда все пылко любят то, что не все знают? Кто же может любить то, чего он не знает? (Об этом мы уже говорили в предыдущих книгах.) Так почему же блаженство любят все, но не все знают, что это? Или, быть может, все знают, что это, но не все знают, где оно, из–за чего и ведется спор, как будто разговор идет о каком–то месте в этом мире, где всякий, кто желает жить блаженно, должен желать жить, и как будто вопрос о том, где блаженство, не есть вопрос о том, что оно? Ибо, конечно же, если блаженство — в наслаждении тела, то блажен тот, кто испытывает наслаждение тела; если оно — в добродетели души, то блажен тот, кто добродетелен; если же и первое, и второе, то блажен тот, кто обладает и тем, и другим. Таким образом, если один говорит, что блаженно жить — это испытывать наслаждение тела, а другой говорит, что блаженно жить — это быть добродетельным душой, то не значит ли это, что или они оба не знают, что такое блаженная жизнь, или знают не оба? Но как же тогда они оба любят ее, если никто не может любить то, чего не знает? Или, быть может, ложно то, что мы полагали как истиннейшее и вернейшее, а именно то, что все люди желают жить блаженно? Ведь если жить блаженно означает, например, жить в соответствии с добродетелью души, каким же образом желает блаженно жить тот, кто не желает того? И не вернее ли сказать, что такой–то человек не желает жить блаженно, потому что он не желает жить в соответствии с добродетелью, что только и есть жить блаженно? Следовательно, если жить блаженно есть не что иное, как жить в соответствии с добродетелью души, то тогда не все люди желают жить блаженно, и даже более того, лишь немногие желают этого. И не будет ли тогда ложным то, в чем не сомневался сам академик Цицерон (хотя академики сомневаются во всем), который, желая начать свое рассуждение в диалоге «Гортензий» с чего–то определенного, в чем никто бы не сомневался, сказал: «Мы, конечно же, все желаем быть блаженными»? Да не будет того, чтобы я назвал это ложным! Но как же тогда? Неужели нам следует сказать, что, хотя жить блаженно означает не что иное, как жить в соответствии с добродетелью души, все же и тот, кто не желает последнего, желает жить блаженно? Однако это было бы слишком нелепым, ибо таково, как если бы мы сказали: «И тот, кто не желает жить блаженно, желает жить блаженно». Кто стал бы слушать, кто стерпел бы такое противоречие? И все же именно к этому подталкивает нас необходимость, если истинно то, что все желают жить блаженно, но не все желают жить таким образом, каким только и возможно жить блаженно.
8. Или, быть может, разрешение нашей проблемы заключается в том, что поскольку мы сказали, что всякий представляет как блаженную жизнь то, что доставило ему наибольшее наслаждение (как [телесное] удовольствие Эпикуру, а добродетель Зенону, а что–то еще кому–то иному), мы будем считать, что жить блаженно означает не что иное, как жить в соответствии с собственным наслаждением, и поэтому [уже] не будет ложным то, что все желают жить блаженно, потому что все желают жить так, как наслаждаются? Ведь если бы и это было сообщено людям в театре, то все бы обнаружили это в своей воле. Но когда Цицерон также предложил его себе в качестве противного [положения], он отверг его так, чтобы покраснели те, кто так считает. Ибо он сказал: «Но, вот, те, которые хотя и не являются философами, но быстры в рассуждении, говорят, что блаженны все, кто живет так, как желает». (Это то, что мы имели в виду, говоря, «как наслаждаются».) Но немного спустя он добавляет: «Но это, конечно же, ложно. Ибо желать того, что не приличествует, есть нечто крайне жалкое; и не достигать того, чего желаешь, является не столь жалким, сколь желать достигнуть того, чего не следует». Сказано яснейшим и достовернейшим образом. Ибо кто же столь слеп умом, чужд всякому свету пристойности и укутан во мрак непристойности, чтобы оттого, что человек живет так, как желает, называть его блаженным, т. е. того, кто живет беспутно и постыдно; того, кого никто не сдерживает, никто не наказывает и даже никто не осмеливается порицать; того, кого, даже наоборот, большинство хвалит, поскольку, как говорит Божественное Писание, «нечестивый хвалится похотью души своей, а творящий неправду благословляется» (Пс. 9:24), того, кто исполняет свои пороч–нейшие и постыднейшие желания; тогда как, конечно же, [и при осуществлении своих желаний] он был бы жалок, хотя он был бы менее жалок, если бы он не мог иметь ничего из того, что неправедно желал? Ибо и одной злой волей всякий делается жалким, но он делается еще более жалким при возможности, посредством которой исполняется желание злой воли. Вот почему, поскольку истинно то, что все люди желают быть блаженными, и то, что они стремятся к одному с пылкою любовью, и лишь по причине этого стремятся к чему бы то ни было остальному; постольку никто не может любить то, чего он не знает совсем, т. е. что это или какого рода; и не возможно не знать, что есть то, что известно как предмет желания. Следовательно, всем должна быть известна блаженная жизнь. И все блаженные имеют то, что желают, хотя не все имеющие то, что желают, суть поэтому блаженные. Те же, кто или не имеет того, что желает, или имеет то, чего желать неправедно, суть жалкие. Следовательно, блаженным является лишь тот, кто имеет все, что желает, но [при этом] не желает ничего дурного.
9. Итак, блаженная жизнь имеет в себе эти два [условия], и она всеми любима. Но что же тогда мы считаем причиной того, почему, когда люди не могут выполнить оба условия, [из этих двух] они скорее предпочитают иметь все, что они желают, нежели желать только благое, хотя и не иметь? Не есть ли это превратность рода человеческого, состоящая в том, что, хотя от людей не сокрыто то, что блаженным не является ни тот, кто не имеет того, чего желает, ни тот, кто имеет то, чего желает дурным образом, но только тот, кто имеет все благое, какое только ни пожелает, и не желает ничего дурного, все же при невозможности осуществить оба условия, которыми исполняется блаженная жизнь, люди выбирают то одно, при наличии какового они больше отступают от блаженной жизни (ибо тот, кто достигает страстно желаемого дурным образом, отстоит от нее далее нежели тот, кто не достигает желаемого таким образом), тогда как следует выбирать и предпочитать благую волю, даже если она не достигает того, к чему стремится? Ибо приближается к блаженному тот, кто желает благим образом все, чего он желает, и по достижению чего он будет блаженным. Ведь, конечно же, не дурное, но благое делает людей блаженными. И из этого он уже имеет кое–что, и это не должно быть недооценено, ибо это — сама благая воля, которая стремится наслаждаться тем благим, которое способна охватить человеческая природа, а не чем–либо дурным, которое могло бы быть совершено или достигнуто. [Так, вот такой человек] неотступно преследует и, насколько ему дается, настигает посредством благоразумного, умеренного, целенаправленного и праведного ума то благое, каковое возможно и в этой жалкой жизни, затем, чтобы, даже находясь во зле, быть благим, и затем, чтобы когда придет конец всему дурному, и осуществится все благое, стать блаженным.
10. Поэтому вера в Бога является в особенности необходимой в этой смертной жизни, столь преисполненной ошибками и бедствиями. И нет ничего благого, тем более такого, посредством которого всякий становится благим, и такого, посредством которого всякий станет блаженным, что могло бы войти в человека и присоединится к нему, за исключением того, что от Бога. Но когда тот, кто верен и благ в своих страданиях, перейдет от этой жизни к блаженной, тогда действительно будет то, что сейчас никак не возможно, а именно: человек будет жить так, как желает. Ибо в том благоденствии он не пожелает жить дурным образом, и не пожелает того, чего будет не доставать, и не будет недостатка в чем–либо, что бы он мог пожелать. Что бы он ни полюбил, будет наличным, и он не пожелает ничего, что не было бы наличным. Все, что там будет, будет благим, и вышний Бог будет высшим благом, и Он будет наличен для наслаждения любящих Его; и все будут уверены, что все, что ни есть наиблаженнейшего, пребудет таковым всегда. Но ныне философы, каждый по своему усмотрению, сами себе придумали образы блаженной жизни так, чтобы они могли как бы своими собственными силами [сделать] то, что они не могли при общем положении смертных, а именно: жить так, как желают. Ибо они осознавали, что никто не может быть блаженным, если не имеет того, чего желает, и страдает от того, чего не желает. Да и кто же не желал бы того, чтобы жизнь, какой бы она ни была и каковой наслаждаются, отчего она зовется блаженной, находилась в его власти так, чтоб он имел ее непрерывно? Однако для кого же это возможно? Но кто же желает страдать от тягот, которые он мог бы стерпеть со стойкостью и которые бы он желал и мог стерпеть, если бы страдал? Кто же пожелал бы жить в мучениях, хотя бы он и мог жить похвальным образом, держась праведности в испытании ими? Те, кто их перенес, будь то постыдно или похвально, из желания ли иметь или же из страха потерять то, что любили, считали эти бедствия преходящими. Ибо многие со стойкостью выдержали [такое] преходящее зло для [достижения] пребывающего блага. И они, разумеется, блаженны в своей надежде даже тогда, когда они находятся в преходящем зле, пройдя каковое они достигают непреходящего блага. Но тот, кто блажен в своей надежде, [все же] пока еще не блажен. Ибо он уповает достичь через страдание блаженство, какового еще не достиг. Тот же, кто страдает без какой–либо такой надежды, без какого–либо упования на вознаграждение, пусть прилагает сколь угодно терпения, ибо он не блажен истинным образом, но [лишь] мужественно жалок. Ибо оттого он не перестает быть жалким; хотя он был бы более жалким, если бы сносил свои мучения без терпения. К тому же, даже если он не страдает от того, от чего бы он не желал страдать в своем теле, и тогда его не следует считать блаженным, поскольку он не живет так, как желает. Ибо, не говоря уже о том неисчислимом зле, которое повреждает не тело, а душу, и которое мы желали бы избегать в нашей жизни, он, конечно же, желал бы, если бы мог таким образом сохранять свое тело здравым и невредимым и таким образом не испытывать из–за него страданий, чтобы удерживать его во [всей его] мощи или, [точнее], в нетленности, [каковая возможна для тела]. Но поскольку он этого не достигает и пребывает в неопределенности [в отношении этого], он, разумеется, не живет так, как желает. Ибо хотя он, быть может, и готов со стойкостью встретить и с невозмутимостью вынести всякое бедствие, могущее с ним приключиться, однако же, он предпочел бы, чтобы этого с ним не произошло, и делает для этого все, что может. И он готов к обоим видам зла таким образом, что насколько оно в нем есть, он желает один вид, а другой избегает; и если с ним приключается то, чего он избегает, то он выносит его благожелательно (uolens ferat), раз то, чего он желал, не смогло произойти. Следовательно, он выдерживает его, чтобы не быть раздавленным, но он не желал бы, чтоб на него давили. Но как же тогда [можно сказать, что] он живет, как желает? Не так ли это потому, что он стоек в своем желании перенести то, чего бы он желал не переносить? Значит, он желает только то, что может, поскольку он не может того, что желает. Вот это и есть все блаженство (уж не знаю, плакать или смеяться) смертных гордецов, кичащихся тем, что они живут, как желают, ибо они с желанием и терпением сносят то, чего они не желают, чтоб с ними произошло. Ибо это–то, говорят они, о чем мудро заметил Теренций: «Раз, однако, невозможно быть тому, чего желаешь, так желай того, что может быть». Кто же будет отрицать, что это точно сказано? Но этот совет был дан жалкому [человеку], дабы он не был еще более жалким. Однако слова «невозможно быть тому, чего желаешь» в отношении блаженного, каковым желает быть каждый, неправильны и неверны. Ибо, если [человек] блажен, он может быть всем, чем пожелает, ибо он не желает того, чего не может. Но такая жизнь не достижима в нашей смертности, и ее не будет, если не будет бессмертия. А если последнее никак не может быть дано человеку, то и достижение блаженства есть нечто тщетное, ибо его не может быть вне бессмертия.
11. Следовательно, поскольку люди желают быть блаженными, постольку если они воистину этого желают, они, конечно же, желают быть бессмертными. Наконец, будучи спрошенными по поводу бессмертия, все, как и в случае блаженства, ответят, что они желают быть таковыми. Однако всякое блаженство (каковое скорее зовется таковым, нежели есть таковое [на самом деле]), которое ищется в этой жизни, лишь воображаемое, если нет чаяния достичь бессмертия, без какового не может быть истинного блаженства И, разумеется, блаженно живет лишь тот, кто (как мы уже сказали выше и, достаточно обосновав, утвердили) живет так, как желает, и [при этом] не желает чего–либо дурного. Но если человеческая природа по Божиему дарованию восприимчива к бессмертию, то никто не желает его дурным образом. Если же она не может воспринять его, то она не может воспринять и блаженство. Ибо для того, чтобы человек жил блаженно, необходимо, чтобы он [вообще] жил. Ведь если его как мертвого покинет жизнь [вообще], как может остаться в нем жизнь блаженная? Когда же жизнь покидает его, то она, несомненно, покидает его или нежелающим (nо1ntе), [чтоб она покидала], или желающим (uо1еntеm), или ни тем и ни другим (nеutrum). Если как нежелающего, каким же образом может быть блаженной жизнь, которая пребывает в желании [человека], но не в его власти? И если не может быть блаженным человек, желающий что–либо, но не имеющий этого, то насколько же менее блаженным является тот, которого против его воли покидает не честь, ни имение, ни какой–либо иной предмет, но сама блаженная жизнь, ибо у него не будет [вообще] никакой жизни? И хотя поэтому [у него] не остается ни какого чувства (sensus), посредством которого [его жизнь] определялась бы как жалкая (ибо блаженная жизнь отошла, поскольку отошла жизнь [вообще]), все же он жалок, пока он чувствует, потому что он знает, что угасает то, по причине чего он любит все остальное, и то, что он любит превыше всего остального. Следовательно, жизнь не может быть блаженной и [вместе с тем] покидать [человека] против его воли, потому что никто не становится блаженным против своей воли. Поэтому насколько же более жалким делает человека жизнь, покидая его против его воли, когда она [уже] делала его жалким, если была дана ему против его воли! Но, даже если она покидает его по его же желанию, все равно как можно было бы назвать блаженной жизнь, которую желал бы утратить ее обладатель? [Значит], остается лишь то, чтобы сказали, что ни того, ни другого нет в душе блаженного [человека], [т. е. что], когда в смерти жизнь вообще покидает блаженного человека, то блаженная жизнь покидает его ни против его желания, ни согласно его желанию, ибо он со спокойным сердцем готов выдержать любой исход. Однако не является блаженной жизнью та, которая такова, что недостойна любви того, кого она делает блаженным. Ибо каким же образом возможно считать блаженной ту жизнь, которую не любит блаженный [человек]? Или каким же образом любится то, что воспринимается безразлично ([например, когда считают безразличным], будет ли оно процветать или погибнет)? Только таким, что добродетели, которые мы любим по причине одного блаженства, дерзнут убедить нас в том, что мы не любим блаженство. Ибо если бы они это сделали, то мы б, конечно же, перестали любить сами добродетели, поскольку бы мы не любили то, по единственной причине чего мы любили их. И, наконец, каким образом сможет быть истинным это столь хорошо известное, столь испытанное, столь ясное, столь достоверное суждение о том, что все люди желают быть блаженными, если те, кто уже блажен, сами ни желают, ни не желают быть блаженными? Если [все же] они желают [быть блаженными], как того требует истина, как к тому понуждает природа, в которую это было вложено высшим благом и неизменно блаженным Творцом, [так вот], если те, кто блажен, [все же] желают быть блаженными, они, конечно же, не желают не быть блаженными. Если же они не желают не быть блаженными, то несомненно, что они не желают, чтобы их блаженство истощилось и прешло. И они не могут быть блаженными, если только они не живы, следовательно, они не желают, чтобы прешла их жизнь. Значит, бессмертными желают быть все, кто или [уже] блажен, или стремится быть блаженным. Но тот, у кого нет того, чего он желает, не живет блаженно. Значит, жизнь никоим образом не сможет быть истинно блаженной, если она не будет вечной.
12. Может ли человеческая природа получить то, что лишь представляется желаемым, — вопрос весьма значительный. Но если присутствует вера, которая присуща тем, кому Иисус дал власть быть чадами Божиими, то нет никакого вопроса. Ибо среди пытавшихся посредством человеческих рассуждений выяснить это лишь те немногие, что одарены способностями, наделены большим досугом, обучены утонченным наукам, смогли дойти до исследования бессмертности лишь одной души. Но даже у души они не обнаружили блаженной жизни, которая была бы непременной, т. е. истинной. Ибо они говорили, что после блаженства она возвращается к бедствиям этой жизни. Те же из них, кто стыдился мнить подобным образом и помещал очищенную душу в предвечном блаженстве без тела, высказывали такое суждение об исходной вечности мира, чтобы опровергнуть то суждение о душе (показывать это здесь было бы слишком долгим, впрочем, насколько мне представляется, мы достаточно это изложили в двенадцатой книге «О Граде Божием»). Но наша вера не посредством человеческого рассуждения, а на основании Божественного авторитета обещает, что весь человек, каковой, конечно же, состоит из души и тела, будет бессмертен, а поэтому и блажен. И потому, когда в Евангелии было сказано, что Иисус дал власть быть чадами Божиими тем, кто принял Его, и было кратко объяснено, что «приняли Его» означает «уверовали во имя Его», а также было добавлено, каким образом им надлежало быть чадами Божиими, ибо они «не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились», дабы та немощь людей, каковую мы видим и в каковую мы облачены, не лишила бы нас упования на столь превосходное состояние, тотчас же было присовокуплено: «И Слово стало плотью, и обитало с нами»; чтобы, напротив, можно было убедиться в том, что кажется невероятным. Ибо если [Тот, Кто] по природе Своей Сын Божий, по милосердию Своему соделался Сыном Человеческим ради сынов человеческих (ибо это то, что [говорится словами] «И Слово стало плотью, и обитало с нами», т. е. с людьми), насколько же более вероятно то, что те, кто по своей природе сыны человеческие, милостью Божией (gratia dei) соделаются чадами Божиими и будут обитать в Боге, в Ком одном и от Кого одного блаженные могут соделаться соучастниками Его бессмертия? Ради того, чтобы мы убедились в этом, Сын Божий и соделался соучастником нашей смертности.
13. Тех, кто говорит: «Неужели у Бога не было никакого другого способа освободить человека от немощи этой смертности, как желать, чтобы Единородный Сын Божий, совечный Ему, стал человеком, облачившись в человеческую душу и плоть, и соделавшись смертным, дабы претерпеть смерть?»; мало опровергнуть, утверждая так, что тот способ, которым Бог соизволяет освободить нас через Посредника между Богом и людьми, Человека Иисуса Христа, благ и соответствует Божественному достоинству. Мы также должны показать, правда, не то, что не было никакого другого возможного способа у Бога, чьей власти равным образом подчинено все, а то что как не было, так и не должно было быть другого более подходящего способа исцеления нашей немощи. Ибо что же [еще] было столь необходимым для возведения нашей надежды и для освобождения умов смертных, низвергнутых состоянием самой смертности, от отчаяния в бессмертии, как не показать нам, насколько Бог ценил нас и насколько Он любил нас? И какое же [еще] есть тому более очевидное и ясное доказательство, нежели то, что Сын Божий, неизменно благой, пребывающий в Себе Тем, Чем Он был, и воспринявший от нас и ради нас то, чем Он не был, не утратив Свою природу, и соизволив соучаствовать в нас, сначала принял на Себя наши грехи, [Сам], не совершив никакого греха, и с незаслуженной [нами] щедростью наделил Своими дарами нас, уже уверовавших, насколько любит нас Бог, и уже вознадеявшихся на то, в чем отчаивались, [нас], не имеющих никаких благих заслуг, но, напротив, лишь имеющих прежние прегрешения?
14. Ведь и то, что называется нашими заслугами, суть дары Его. Ибо для того, чтобы вера действовала любовью (Гал. 5:6), «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). А Он был дан тогда, когда Иисус был прославлен воскресением. Ибо тогда Он пообещал, что Он Сам пошлет Его, и Он послал Его, потому что тогда Он, как написано, а прежде предсказано, «восшед, пленил плен и дал дары человекам» (Еф. 4:8; Пс. 67:19). Дары эти суть заслуги наши, посредством которых мы достигаем высшее благо бессмертного блаженства. «Но Бог, — говорит апостол, — Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасаемся Им от гнева» (Рим. 5:8–9). К тому он добавляет и говорит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его» (Рим. 5:10). Тех, кого он сначала назвал грешниками, затем он называет врагами Бога. И о тех, о ком он сначала говорит как об оправданных Кровью его, он затем говорит как о примирившихся смертью Сына, о тех же, о ком он сначала говорит, как о спасенных Им от гнева, он затем говорит как о спасенных жизнью Его. Следовательно, прежде [обретения] той благодати мы были не просто грешниками, но таковыми, что были врагами Бога. Впрочем, тот же самый апостол выше назвал нас, грешников и врагов Бога, двумя подобными именами (одним — как бы щадящим, другим — ясным и беспощадным), сказав: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых» (Рим. 5:6). Он нарек нечестивыми тех же, что и немощных. Немощь кажется чем–то незначительным (lеuе), но иногда она такова, что именуется нечестью. Однако, если бы она не была немощью, она бы не нуждалась во врачевателе, который по–еврейски — Иисус, по–гречески — Σωτηζ, по–нашему же — Спаситель (salutor). Прежде в латыни этого слова не было, хотя она могла его иметь, ибо смогла, когда пожелала. И это предшествующее суждение апостола, в котором он говорит: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых», находится в связи с двумя последующими, в одном из которых он говорит о грешниках, в другом — о врагах Бога, как если бы он соотносил их по раздельности: грешников — с немощными, врагов Бога — с нечестивыми.
15. Но что же значит «оправданы Кровью Его»? Что за сила в Его Крови, скажите мне, что Ею оправдываются верующие в Него? И что значит «примирились с Богом смертью Сына Его»? Неужели, гневаясь на нас, Бог увидел смерть сына Своего за нас и расположился к нам? Неужели Сын Его был уже до такой степени расположен к нам, что Он даже соблаговолил умереть за нас; а Отец гневался до такой степени, что не мог расположиться к нам, пока Сын не умрет за нас? Что же означает то, что в другом месте говорит все тот же учитель языков: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31–32). Неужели если бы Отец уже не был [к нам] расположен, Он предал бы Своего Сына, не щадя ради нас? Не кажется ли, что последнее суждение противоречит предшествующему? В первом Сын умирает за нас, и Бог примиряется с нами смертью Своего Сына. Во втором же получается, что Бог любил нас и раньше, и потому Он Сам не щадит ради нас Своего Сына, [т. е. что] Он Сам предает Его на смерть ради нас. Но я вижу, что Отец и прежде любил нас, не только прежде того, как Сын умер за нас, но [даже] прежде того, как Он сотворил мир, о чем свидетельствует сам апостол, говоря: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. 1:4). Но ведь и Сын, Которого не пощадил Отец, не был предан ради нас как бы по принуждению, о Ком [апостол говорит, что он живет верою в Сына Божия], «возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). Следовательно, Отец и Сын вместе, а [также] и Дух Обоих, производят все равным и согласным образом. И все же мы оправданы Кровью Сына, и примирились с Богом смертью Сына Его. И как смогу, здесь же я объясню, насколько покажется достаточным, каким образом это было сделано.
16. Правосудием Божиим род человеческий был предан в определенную власть дьявола, причем грех первого человека изначальным образом перешел на оба пола вследствие их рождения посредством совокупления. Этот долг первых родителей был вменен в вину всему их потомству. Впервые об этом предании говорится в книге Бытия, где змею было сказано: «Будешь есть прах» (Быт. 3:14), а человеку: «Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). В словах «в прах возвратишься» предвозвещается смерть тела, ибо он ее не испытал бы, если бы пребывал таким, каким был сотворен; в словах же «прах ты», обращенных к нему как живущему, показывается, что весь человек изменился к худшему. Ибо слова «прах ты» означают: «Мой Дух не будет пребывать в этих людях, потому что они плоть» (Быт. 6:3). Таким образом, было показано, что человек был предан тому, о ком было сказано: «Будешь есть прах». Но апостол сообщает об этом яснее там, где он говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2:1–3). Сыны противления — это неверные (infideles). И кто же не есть таковой прежде, чем стать верным (fidelis)? Поэтому все люди изначально подчинены князю, господствующему в воздухе, который действует в сынах противления. То, что я высказал словом «изначально», апостол, говоря о себе и прочих, высказывает выражением «по природе», а именно, по природе искаженной грехом, а не в соответствии с сотворенной природой до грехопадения. Но то, что Бог предал человека во власть дьявола, следует понимать не тем образом, что якобы Бог [Сам] сделал это или приказал сделать это, но тем, что Он лишь попустил [это], причем справедливо. Ибо когда Бог покидал грешника, туда устремлялся творец (аuсtоr) греха. Бог, однако, покидал Свое творение не так, чтоб [уже] не являть Себя ему как Бога созидающего, животворящего и предоставляющего злым не только мучительные наказания (роеnаliа mаlа), но также и многие блага. Ибо во гневе Он не затворил щедроты Свои (Пс. 76:10). И когда Он попустил человеку быть во власти дьявола, Он не отпустил его [прочь] от закона Своего, ибо сам дьявол не отчужден от власти Всемогущего, как и от Его благости. Ибо от кого же злобные ангелы имеют свое бытие, каким бы оно ни было, как не от Того, Кто все животворит? Следовательно, если попущение грехов праведным гневом Божиим подчинило человека дьяволу, то, разумеется, отпущение грехов благосклонным примирением Божиим избавляет человека от дьявола.
17. Однако дьявол должен быть преодолен не властью Божией, но праведностью. Ведь что есть более властное, нежели Вседержитель? Или власть чего тварного может быть сопоставлена с властью Творца? Но поскольку дьявол по причине своей превратности был сотворен любителем (amator) власти, а также тем, кто пренебрегает и пытается опровергнуть праведность (ибо и люди настолько подражают ему, насколько они стремятся заполучить власть, пренебрегая или даже ненавидя праведность, и насколько они радуются ее получению и воспламеняются страстью к ней), постольку Богу было угодно, чтобы ради избавления человека от власти дьявола [сам] дьявол был одолен не властью, но праведностью, и чтобы люди, подражающие Христу, не властью, но праведностью пытались одолеть дьявола. Не потому, что следует избегать власть, как если бы она была чем–то дурным, но потому, что следует соблюсти порядок, по которому праведность первая. Ибо сколькой же может быть власть смертных? Так пусть же смертные держатся праведности. Власть же будет дана бессмертным. Ведь в сравнении с властью бессмертных, какой бы великой ни была власть тех людей, которые зовутся власть предержащими на [этой] земле, власть смертных оказывается смехотворной немощью; и там, где нечестивые кажутся наиболее властными, для грешника вырывается яма. Праведник же говорит в своей песне: «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма! Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем» (Пс. 93:12–15). Итак, в этом времени, в котором откладывается власть народа Божиего, «не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего», какими бы суровыми и жестокими ни были страдания в его смиренности и немощи, и к правде, которой держатся в своей немощи благочестивые, возвратится суд, т. е. праведные получат власть судить. [Все] это сохранится за праведными в конце, когда власть своим порядком последует за праведностью, идущей впереди. Ибо власть, присоединенная к праведности, или праведность, сопутствующая власти, создает судебную власть. Но праведность принадлежит благой воле, отчего по рождению Христа ангелами было сказано: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение»; власть же должна следовать за праведностью, а не предшествовать; поэтому власть полагается как следующее (in rebus secundis), т. е. как счастье (дело в том, что выражение res secundae, кроме своего буквального значения (следующее; то, что следует), означает также «счастье»), ибо «следующее» есть производное от «следовать». Ибо поскольку блаженным делают [человека] две вещи (как мы рассмотрели выше), [т. е.] желать благое и мочь [или иметь власть делать] то, чего желаешь, то не должно быть места тому извращению (о чем было замечено в том же рассмотрении), состоящему в том, что человек из двух вещей, делающих его блаженным, выбирает [только] власть делать то, что он желает, и пренебрегает желанием делать то, что следует, хотя сначала он должен иметь благую волю, а уж затем великую власть. Так, благая воля должна быть очищена от пороков, одолевающих человека, из–за которых он одолевается настолько, что желает дурного. [Ибо] тогда каким же образом его воля будет благой? Значит, [конечно же], следует желать, чтобы имелась власть, однако [эта] власть [должна быть направлена] против пороков. [Обычно же] люди желают иметь власть не для того, чтобы победить пороки, а для того, чтобы побеждать других [людей]. И зачем, как не затем, чтобы ложно побеждать, в действительности же побеждаясь, и быть победителями не по истине, а во мнении? Так пусть человек желает быть благоразумным, сильным, умеренным, праведным; и пусть он желает иметь власть [над собой], чтобы быть таковым воистину; и пусть в себе самом он ищет эту власть (как ни удивительно) против себя самого ради себя самого. И пусть он не перестает желать и терпеливо ожидает всего того, чего он желает благим образом, но не имеет власти [иметь], как то: бессмертие и истинное и полное счастье.
18. Но какова же праведность, которой побеждается дьявол? Какова же еще, как не праведность Иисуса Христа? Но каким же образом он был побежден? Ведь хотя он не нашел в Нем ничего достойного смерти, он все же убил Его. И, конечно же, справедливо, что те, кого он удерживал как должников, должны освободиться верою в Того, Кого он убил безо всякого долгу. Ведь это есть то, что, как сказано, мы оправдаемся Кровью Христа (Рим. 5:9). Ибо так была пролита эта невинная кровь во отпущение наших грехов. Отчего в псалмах Он называет Себя «между мертвыми свободным» (Пс. 87:6). Ибо только Он, будучи мертвым, свободен от долга смерти. Сюда же относится и то, что говорится в другом псалме: «Я искупил то, чего не присваивал» (Пс. 87:5), причем под присвоенным здесь имеется в виду грех, [т. е.] то, что присваивается недозволенно. Об этом же, как мы читаем в Евангелии, говорит Он Сам, пребывая во плоти: «Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30), т. е. никакого греха; но Он добавляет: «Чтобы мир знал, что я люблю Отца и, как заповедовал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда» (Ин. 14:31). И отсюда Он переходит к страстям [Своим] затем, чтобы Он мог искупить ради нас, должников, то, чего Он не был должен. Неужели дьявол не был бы побежден по этому справедливейшему праву, если бы Христос пожелал действовать по отношению к нему не посредством праведности, а власти? Он, однако, отложил то, что было в Его власти, затем, чтобы сначала действовать так, как следует. Поэтому было необходимым, чтоб Он был человеком и Богом. Ибо если бы Он не был человеком, Он не мог бы быть убит, а если бы Он не был Богом, то поверили бы не в то, что Он не желал того, что было в Его власти, но в то, что в Его власти не было того, чего Он желал, и считали бы мы не то, что Он предпочел праведность власти, но то, что Ему не хватало власти. И вот Он пострадал за нас, ибо Он был человек; но если бы Он не желал этого, то в Его власти было бы не страдать, ибо Он — Бог. Но и в уничижении более приемлемой сделалась праведность, ибо в Божественности власть такова, что если бы она не желала, то могла бы и не претерпевать уничижения. И, таким образом, Тем, Кто умер, будучи столь властным, нам, смертным и немощным, была препоручена праведность и обещана власть. Ибо одно из двух он сделал, умерев, другое — воскреснув. Ибо что же есть более праведное, нежели дойти до крестной смерти за праведность? И что может быть более властным, нежели восстать из мертвых и вознестись на небо в той же самой плоти, в каковой Он был убит? Итак, Он победил дьявола сначала праведностью, а затем властью, а именно: праведностью — потому что не имел никакого греха, но был убит им неправеднейшим образом, властью же — потому что он, умерши, вновь ожил, дабы уже никогда не умереть (Рим. 6:9). Но Он победил бы дьявола властью, даже если бы им Он не мог быть убит, хотя побеждать саму смерть воскресением является признаком большей власти, нежели, живя, избегать ее. Однако то, что мы оправдываемся Кровью Христа, когда посредством отпущения грехов избавляемся от власти дьявола, имеет другую причину. Эта причина заключается в том, что Христос побеждает дьявола не властью, но праведностью. Ведь не оттого же Христос был распят, что обладал бессмертной властью, а оттого, что принял на Себя от смертной плоти немощь, о каковой апостол все же говорит: «Немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1:25).
19. Таким образом, не трудно увидеть, что дьявол был побежден [тогда], когда Тот, Кто был им убит, воскрес. Видеть же, что дьявол был побежден [тогда], когда он сам себе казался победителем, т. е. когда был убит Христос, есть нечто большее, нечто, относящееся к более проницательному пониманию. Ибо тогда во отпущение грехов наших излилась та Кровь, которая была кровью Того, Кто был совершенно безо всякого греха, затем, чтобы чрез Того, Кто, не будучи виновным в каком–либо грехе, незаслуженно претерпел смертное наказание, дьявол заслуженно отпустил тех, кого он заслужено удерживал как виновных в грехе и кого он связал состоянием смерти. Эта праведность есть то, чем был связан и побежден сильный, для того, чтобы было возможным расхитить его «сосуды» (uasa eius) (Марк. 3:27), каковые у него и его ангелов были сосудами гнева, но которые могли бы быть обращены в сосуды милосердия (Рим. 9:22, 23). Ведь, как говорит апостол Павел, следующие слова Самого Господа Иисуса Христа прозвучали с неба, когда он был впервые призван, и среди того остального, что он слышал, он говорит об этом как сказанном ему так: «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:16–18). Поэтому тот же самый апостол побуждал верующих благодарить Бога Отца как «избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение грехов» (Колос. 1:13–14). В этом искуплении Кровь Христа была как бы платой за нас, приняв которую дьявол не обогатился, но связался так, чтобы мы освободились от его пут, и так, чтобы дьявол не мог увлечь [вместе с собой] к погибели второй и вечной смерти ни одного из тех, кого Христос, свободный от всякого долга, искупил, пролив, не будучи должным (indebite) Свою Кровь; затем, чтобы те, кто принадлежит ко Христовой благодати, [т. е. те] предузнанные и предопределенные (praecogniti et praedestinat) и избранные [еще] до сотворения мира, умирали лишь настолько, насколько умер за нас Сам Христос, т. е. смертью только плоти, но не духа.
20. Ибо хотя смерть плоти изначальным образом возникла из греха первого человека, все же благое использование ее явилось причиной возникновения славнейших свидетелей [Христовых]. Поэтому не только смерть, но все зло этого века, все страдания и трудности людей (хотя они происходят по причине грехов и, прежде всего, первородного греха, отчего сама жизнь оказалась связанной путами смерти) все же должны были остаться и по отпущению грехов, против каковых человек боролся бы ради истины, и посредством каковых испытывалась бы добродетель верных, чтобы новый человек через Новый Завет, пребывая во зле века этого, подготовился бы к новому веку, с мудростью снося свое жалкое состояние, которое было заслужено этой проклятой жизнью; благоразумно радуясь, ибо оно закончится, и ожидая с верой и терпением блаженства, которым будущая жизнь как освобожденная будет владеть бесконечно. Ибо дьяволу, изгнанному из своих владений и из сердец верных, в проклятии и неверии каковых он царил, сам, впрочем, будучи проклятым, лишь настолько позволяется противиться в меру состояния этой смертности, насколько Бог сочтет это выгодным для них, о чем и возвещает Святое Писание устами апостола: «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). То же зло, которое благочестиво сносят верные, способствует или исправлению грехов, или испытанию и проверке праведности, или выявлению жалкого состояния этой жизни для того, чтобы ту [жизнь], в которой будет истинное и непреходящее блаженство, желали более страстно, а искали более ревностно. По поводу этого сохраняющегося зла и говорит апостол: «Знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу; ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:28–30). Никто из тех предопределенных не сгинет со дьяволом; никто не останется под властью дьявола до смерти. А затем следует то, что я уже выше приводил: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31–32).
21. Так почему же тогда не должно было быть смерти Христа? Или, пожалуй, почему сама смерть не должна была быть выбрана из всех других ([в итоге] не принятых во внимание) бесчисленных способов, которыми бы Всемогущий мог воспользоваться для нашего освобождения, ведь ничего от Его Божественности в смерти ни уменьшилось, ни претерпело изменения, и от воспринятой [Сыном] человечности людям была оказана услуга, [состоящая в том ] что предвечный Сын Божий и Он же Сын Человеческий претерпел незаслуженную временную смерть, чтобы посредством нее освободить их от заслуженной вечной смерти? Дьявол удерживал нас в нашем грехе и посредством этого укоренял нас в смерти. Отпустил же их Тот, Кто не имел Своих и Кто был приведен к смерти дьяволом незаслуженно. Кровь же Его имела такую цену, что тот, кто убил Христа незаслуженно на определенное время (ad tempus), не может задержать в заслуженной вечной смерти никого из тех, кто облачился во Христа (Christo indutum). «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасаемся Им от гнева» (Рим. 5:8–9). В словах апостола «оправданы Кровью Его» «оправданы», очевидно, означает то, что мы освобождены от всех грехов; освобождены же мы от всех грехов потому, что за нас был убит Сын Божий, у Которого не было ни одного греха. В словах же «спасаемся Им от гнева» апостол , конечно же, имеет в виду гнев Божий, который есть не что иное, как справедливое наказание. Ибо гнев Божий не есть возбуждение души (как у человека); это есть гнев Того, Кому Святое Писание в другом месте говорит: «Обладая силою, Ты судишь снисходительно» (Прем. 12:18). Если, следовательно, справедливое Божественное наказание получило такое название, то что же еще следует понимать под примирением с Богом, как не то, что такой гнев заканчивается? Мы же были врагами Бога только тем образом, каким грехи являются врагами праведности. Когда же грехи отпущены, такая вражда заканчивается, и с Праведным примиряются те, кого Он Сам оправдывает. И все же Он любил нас, несомненно, даже врагами, ибо Он «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас», когда мы были еще врагами. Значит, апостол правильно сказал сначала то, что «если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» (посредством каковой свершилось то отпущение грехов); а затем то, что «тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». [Итак] мы, примирившись смертью, спасаемся жизнью. Ибо кто же сомневается в том, что Он отдаст свою жизнь Своим возлюбленным (amicis), ради которых, когда они были врагами, Он отдал Свою смерть? «И не довольно сего», — говорит апостол, — «но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение» (Рим. 5:11). «И не довольно сего», сказал он, что «мы спасаемся», «но и хвалимся», но не собой, а Богом, и не чрез себя, а «чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение», в соответствии с тем, что мы рассмотрели выше. Затем апостол добавляет: «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все в нем согрешили» (Рим. 5:12); и далее, где апостольское рассмотрение касается двух людей. Первый из них Адам, чрез грех и смерть которого мы, его потомки, связаны как бы наследственным злом. Другой же [человек] — второй Адам, Который не есть только человек, но также и Бог. Посредством того, что Он заплатил за нас (хотя и не был должен), мы освободились от долгов как своих отцов, так и своих собственных. Наконец, как по причине того [человека] дьявол удерживал всех рожденных через растлевающее плотское совокупление, так по причине Этого [Человека] является справедливым, чтобы дьявол отпустил всех возрожденных через непорочную духовную благодать.
22. В воплощении Христа имеется много другого, смущающего гордецов, что [тем не менее] следует рассматривать и мыслить спасительным образом (salubriter). Одно из того есть то, что человеку было показано, какое место он занимает среди того, что сотворил Бог. Ибо человеческая природа смогла таким образом соединиться с Богом, что возникла единая личность из двух субстанций (ex duabus substantiis fieret una persona), а тем самым даже из трех: Бога, души и плоти. Так что те гордые злобные духи, которые в целях обмана, но под видом помощи, пытаются встрять как посредники, не смеют поставить себя выше человека оттого, что у них нет плоти, и в особенности потому, что [Бог] счел достойным умереть в той же плоти, дабы они, оттого, что кажутся бессмертными, не смогли убедить, чтобы их почитали как богов. И [опять же] так что [теперь] благодать Божия сообщается нам в человеке Христе без каких–либо предварительных заслуг, ибо даже Он Сам не по каким–либо предварительным заслугам достиг того, что в таком единстве соединился с истинным Богом и стал Сыном Бога, одной с Ним Личностью (una cum illo persona filius dei fieret); но с того [времени], как Он начал быть человеком, Он также и Бог, отчего и сказано: «И Слово стало плотью» (Ин. 1:14). Кроме того, [теперь] человеческая гордыня, которая является главным препятствием к тому, чтобы человек прилеплялся к Богу, может быть изобличена и исцелена через столькое смирение Бога. [Благодаря воплощению Бога] человек также узнает, насколько далеко отступил Он от Бога, и то, что ему служит в качестве целительного страдания, когда он возвращается посредством Такого Посредника, Который как Бог содействует людям (subuenit) с помощью Своей Божественности, а как человек согласуется (conuenit) с ними Своей немощью. Ибо какой же больший пример послушания может предоставлен нам, погибшим через непослушание, нежели Сам Сын, послушный Богу Отцу, «даже до смерти, и смерти крестной» (Филип. 2. 8)? И в чем мы могли бы лучше увидеть награду за это послушание, как не в плоти Такого Посредника, которая воскресла к жизни вечной? К справедливости и благости Творца относится также и то, что дьявол был преодолен той же самой разумной тварью, [прежней] победой над которой он упивался, и посредством Того, Кто происходил из того же самого рода, что был целиком удерживаемым дьяволом по причине изначального падения одного.
23. Ибо, конечно же, Бог мог из другого рода принять на Себя человека, в котором Он был бы Посредником между Богом и человеком, а не из рода того Адама, который своим грехом связал весь род человеческий, ведь того, кого Он сотворил первым, Он сотворил не из чьего–то рода. Следовательно, Он мог таким образом или каким бы ни пожелал, сотворить кого–то еще, посредством которого мог бы быть побежден победитель первого. Но Бог счел лучшим принять на Себя человека, посредством кого Он мог бы победить врага рода человеческого, из того самого рода, который был побежден [дьяволом]. Но все же Он сделал так, чтобы Тот родился от Девы, чье зачатие было бы от Духа, а не от плоти, и ему должна была предшествовать вера, а не похоть. И не было [в этом зачатии] плотского вожделения, посредством которого сеются и зачинаются те, что влекут [за собой] первородный грех. [Нет] святое девство было оплодотворено верою, а не соитием, ибо похоть была предельно удалена так, чтобы то, что должно было родиться от потомства первого человека, воспроизводило только род, но не вину. Ибо произведена была не природа, растленная сопричастностью к преступлению, но единственное лекарство от всякого такого тлена. Был рожден, говорю я, Человек, не имевший и не могущий заиметь какой–либо грех, чтобы через Него возродились, освобождаясь от греха, те, кто не мог родиться без греха. Ибо хотя супружеское целомудрие благим образом использует вожделение плоти, заключенное в наших детородных членах, все же последнее является непроизвольным влечением, что доказывает либо то, что его вообще не могло быть в раю прежде греха, либо то, что если оно и было, то оно не было таковым, чтобы когда–либо не быть согласным воле. Теперь же мы ощущаем его таковым, что, противясь закону ума, оно побуждает к совокуплению, даже если не преследуется цель продолжения рода. Если ему уступают, его удовлетворяют, совершая грех; если же ему не уступают, то обуздывают несогласием. [Однако] кто же сомневается в том, что ни первое, ни второе не было свойственно раю прежде греха? Ведь тогда ни благочестие то не делало чего–то непристойного, ни счастье то не страдало от чего–то беспокоящего. Таким образом, было необходимым, чтобы не было совершенно никакого плотского вожделения, когда Дева зачинала Того, в Ком творцу смерти было суждено не найти ничего достойного смерти, и все же убить Его затем, чтобы смертью его победил Творец жизни. Победитель первого Адама и [тот, кто] удерживает род человеческий, [становится] побежденным вторым Адамом и [тем, кто] упускает род христианский, освобожденный из [всего] рода человеческого от преступления человеческого посредством Того, Кто не был причастен к преступлению, хотя Он из [того же] рода. Так лукавый был побежден тем родом, который он побеждал посредством преступления. И это было совершено так, чтобы человек не превозносился, но чтобы хвалящийся хвалился о Господе (2 Кор. 10:17). Ибо тот, кто был побежден, был только человек; и потому он был побежден, что в гордыне своей возжелал быть Богом. Тот же, Кто победил, был и человек, и Бог; и потому Он, рожденный от Девы, победил так, что Бог не стал управлять Этим Человеком, как другими святыми, но со смирением нес Его. Всех этих даров Божиих, и каких бы то ни было еще (что сейчас для нас по данному поводу исследовать и обсуждать слишком долго), не было бы вовсе, если бы Слово не стало плотью.
24. Все же то, что ради нас сотворило и совершило во времени и пространстве Слово, ставшее плотью, в соответствии с тем, что мы предприняли показать, относится не к мудрости (ad sapientiam), но к знанию (ad scientiam). Но поскольку [Само] Слово пребывает вне времени и пространства, Оно совечно Отцу, и Оно все есть целое во всяческом (ubique totum). И если кто, насколько может, стал бы говорить истинным образом об Этом Слове, то его речь была бы речью мудростью. А потому ставшее плотью Слово, Которое есть Иисус Христос, заключает в Себе сокровища как мудрости, так и знания. Ведь апостол, обращаясь к Колоссянам, говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и знания» (Колос, 2:1–3). Кто может знать, до какой степени познал апостол эти сокровища, во сколько из них он проник, и до сколького в них он достиг? В соответствии же с тем, что сказано: «Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом» (1 Кор. 12:7–8) (если они различаются между собой так, что мудрость относится к Божественному, а знание — к человеческому) я признаю, что во Христе есть и то, и другое, а вместе со мной и все верные Его. Когда же я читаю: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели Славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14), я понимаю под Словом истинного Сына Божиего, а под плотью я признаю истинного Сына Человеческого, и Оба вместе соединены в одну Личность Бога и человека посредством невыразимой щедрости благодати. Если же мы отнесли бы благодать к знанию, а истину — к мудрости, то, я думаю, мы не разошлись бы с тем различением этих двух [определений], которое мы провели. Ибо среди того, что возникает во времени, наивысшее значение имеет то, что человек соединился с Богом в единство личности. Однако же в вечном высшая истина верно приписывается Слову Божиему. Но то, что То же Самое есть Единородный от Отца, полный благодати и истины, было содеяно затем, чтобы Он Сам в том, что совершено ради нас во времени, был Тем же Самым, ради Кого мы очищаемся той же верой, дабы мы могли постоянно созерцать Его в вечном. Те же выдающиеся языческие философы, которые могли постигать невидимое Бога посредством того мыслительного, что было сотворено, все же, как сказано о них, «заменили истину Божию ложью» (Рим. 1:25), ибо они философствовали без Посредника, т. е. без человека Христа, Которого они не считали ни должным прийти согласно пророкам, ни пришедшим согласно апостолам. Ибо они, будучи помещенными в низшее, вынуждены были искать какие–либо средства, с помощью которых они бы могли достигать того возвышенного, которое они понимали; и, таким образом, они попали во власть лукавых демонов, отчего свершилось то, что они «славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим. 1:23). Ибо в этих формах они также водружали и почитали идолов. Итак, Христос есть наше знание, и Тот же Самый Христос есть также наша мудрость. Он Сам влагает в нас веру в отношении временного, и Он Сам выявляет истину о предвечном. Его же посредством мы продвигаемся к Нему Самому, стремясь через знание к мудрости; и вместе с тем мы не отступаем от Того же Самого Христа, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и знания». Но сейчас мы говорим о знании, затем же поговорим и о мудрости, насколько Он Сам [нас] сподобит. Но да не будем мы воспринимать эти определения так, как если бы было недозволенно говорить или о мудрости в человеческом, или о знании в Божественном. Ибо в более свободном языковом употреблении и то, и другое может быть названо мудростью, и то, и другое — знанием. Однако же апостол никоим образом не сказал бы [тогда], что одному дается слово мудрости, а другому — слово знания, если бы каждое из этих определений не называлось бы собственным отдельным именем, о различии каковых мы здесь и рассуждаем.
25. Теперь же давайте посмотрим, каков результат нашего пространного рассуждения, к чему оно заключило, до чего дошло. Всем людям свойственно желать быть блаженными, но все же не у всех есть вера, которой очищается сердце для того, чтобы достигнуть блаженства. Получается, что посредством веры, которую желают [иметь] не все, мы должны стремиться к блаженству, которого никто не может не желать. Все видят в своем сердце, что желают быть блаженными, и единодушие человеческой природы по этому поводу таково, что тот человек, который заключает об этом от своей души к душе другого, не ошибается. Одним словом, мы знаем, что все этого желают. Но многие отчаиваются в том, что они смогут быть бессмертными, тогда как другим образом никто не может быть таковым, каковым все желают быть, т. е. блаженным. Впрочем, они желали бы быть бессмертными, если бы могли, но чрез неверие в то, что они могут, они не живут так, как могли бы. Следовательно, вера необходима для того, чтобы мы добивались блаженства во всем благом, что есть в человеческой природе, т. е. в душе и теле. Но та же самая вера состоит в том, чтобы определяться Христом, Который во плоти воскрес из мертвых, дабы не умирать в последующем. Эта же вера утверждает, что никто не может освободиться от власти дьявола посредством отпущения грехов, как только через Него; а также то, что жизнь, определенная дьяволом, необходимым образом является непрестанно жалкой, так что ее скорее следовало бы называть смертью, а не жизнью. Я рассуждал об этом и в этой книге, насколько позволяло время, хотя уже в четвертой книге этого труда я многое сказал по этому поводу, но там — с одной целью, здесь — с другой, а именно: там для того, чтобы показать почему и как был послан Христос, когда пришла полнота времени (Гал. 4:4), из–за тех, кто говорит, что Пославший и Посланный не могут быть равными по природе; здесь же для того, чтобы провести различие между деятельным знанием (actium scientiam) и созерцательной мудростью (contemplatiua sapientia).
26. Ибо мы желали, как бы постепенно восходя, обнаружить во внутреннем человеке, как в его знании, так и в его мудрости, некоторую троицу своего рода, как прежде мы искали во внешнем человеке; дабы посредством ума, ставшего более искусным в низших предметах, мы (если это все же для нас возможно) пришли к тому, чтобы сообразно нашей мере видеть «как бы зеркалом, как в загадке» (1 Кор. 13:12) Ту Троицу, Которая есть Бог. Итак, когда кто–либо препоручил памяти слова своей веры только лишь в том, как они звучат, т. е. не зная того, что они означают (что имеет обыкновение быть, когда те, что не знают по–гречески, удерживают в памяти греческие слова или когда подобное происходит с латинскими или какими–либо из другого языка, которого они не знают), не имеет ли он в своей душе некоторой троицы? Ведь, во–первых, в его памяти присутствуют звуки этих слов, даже когда он их не представляет; во–вторых, взор его воспоминания воображается ими, когда он представляет их; и [в–третьих, его] воля как вспоминающего и представляющего соединяет первое и второе. Однако мы бы никоим образом не сказали того, что человек, действуя так, действует в соответствии с троицей человека внутреннего, но скорее — внешнего, ибо он помнит и, когда желает, внимает (насколько желает) только то, что относится к телесному ощущению, которое называется слухом; и в подобного рода представлении он имеет дело ни с чем иным, как с образами телесного, т. е. звуков. Но если он удерживает и вспоминает то, что эти слова обозначают, то тогда на самом деле здесь имеет место быть нечто от внутреннего человека. Впрочем, еще нельзя говорить или считать, что он живет в соответствии с троицей внутреннего человека, если он не любит то, что [этими словами] возвещается, предписывается, обещается. Ибо он также может удерживать и представлять их для того, чтобы, считая их ложными, попытаться их опровергнуть. Следовательно, хотя та воля, что соединяет здесь то, что удерживалось в памяти, и то, что запечатлелось из нее во взоре представления, конечно же, и осуществляет некую троицу, ибо она сама есть третья, все же человек не живет в соответствии с нею, поскольку то, что им представляется, кажется ему как бы ложным. Когда же [все это] считается истинным и любится все, что должно быть там любимым, тогда человек живет в соответствии с троицей человека внутреннего, ибо всякий живет в соответствии с тем, что он любит. Но как же можно любить то, чего не знают, и во что только верят? Этот вопрос уже был рассмотрен в предыдущих книгах, и было выяснено, что никто не любит то, чего он совсем не знает, а когда неизвестное называется любимым, то его любят [исходя] из того, что знают. Теперь же мы заключаем эту книгу, увещевая, чтобы праведный жил верою (Рим. 1:17), верою, действующей любовью (Гал. 5:6), таким образом, чтобы также и сами добродетели, посредством которых живут благоразумно, мужественно, умеренно, праведно, все соотносились с той же самой верой, ибо иначе добродетели не могли бы быть истинными. И все же добродетели в этой жизни не являются значительными настолько, чтобы когда–либо могло не быть необходимым прощение того или иного греха, которое происходит лишь посредством Того, Кто Своей собственной Кровью одолел князя грешников. И какие бы мысли, [обоснованные] этой верой и такой жизнью, ни наличествовали в душе верного человека, когда они удерживаются в памяти, усматриваются в воспоминании и довлеют воле, они отражают троицу своего рода. Но образа Божиего, о каковом с Его же помощью мы поговорим позднее, еще нет в этой троице. Последнее станет более ясным, когда мы покажем, где Он [может быть обнаружен], чего читателю надлежит ожидать в следующей книге.
КНИГА 14
(В ней говорится об истинной мудрости человека как отличенной от знания, т. е. о том, что образ Божий, каковым является человек по своему уму, не обнаруживается в памяти, понимании и любви, когда они имеют своим предметом временное, а не вечное; и показывается, что эта мудрость достигается тогда, когда человеческий ум обновляется познанием Бога по образу Создавшего человека, т. е. по Его образу, и каковой таким образом постигает Премудрость, в которой — созерцание вечного)
1. Теперь же нам надлежит рассуждать о мудрости; не о Той Премудрости Божией, Каковая, несомненно, есть Бог (ибо Премудростью Божией называется Его Единородный Сын), но о мудрости человеческой, хотя и об истинной, которая сообразна Богу, и есть истинное и главное почитание Его, каковая по–гречески называется одним именем — θεοσεβεια. Когда это [греческое] имя захотели перевести [на наш язык] также одним именем, то, как мы уже упоминали, его назвали благочестием (pietatem), хотя в греческом употреблении благочестие — это ευσεβεια. Но поскольку слово θεοσεβεια не может быть совершенным образом переведено одним словом, его лучше перевести двумя словами как «почитание Бога» (Dei cultus). То, что это–мудрость человека, как–мы уже установили в двенадцатой книге этого труда, определяется авторитетом Святого Писания в книге раба Божиего Иова, в которой мы читаем, что Премудрость Божия сказала человеку: «Вот, благочестие (pietas) есть истинная премудрость, и удаление от зла — знание» (Иов. 28:28), или, как иные переводят греческое слово επιστημη, — наука (disciplina), которое, конечно же, происходит от глагола «учить» (discendo), отчего его можно перевести и как «знание», ведь всякая вещь изучается для того, чтобы знать ее. Правда, слово «наука» часто употребляется в другом значении, когда кто–либо страдает за свои грехи затем, чтобы исправиться. Именно в этом значении оно употребляется в Послании к Евреям: «Есть ли какой сын, которого бы не научал (del disciplinam) отец» (Евр. 12:7). И с еще большей ясностью — в том же самом [Послании]: «Всякая наука в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через нее доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11). Итак, Сам Бог есть высшая Премудрость; почитание же Бога есть мудрость человека, о которой мы сейчас и говорим. Ибо «мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3:19). Значит, [именно] в отношении мудрости, которая есть почитание Бога, Святое Писание говорит: «Множество мудрых–спасение миру» (Прем. 6:26).
2. Но что же нам делать, если рассуждать о мудрости свойственно [только] мудрым? Неужели мы дерзнем прямо признать своим занятием мудрость, дабы наши рассуждения о ней не были бесстыдством? Но разве не показателен для нас пример Пифагора, который, не осмелившись признать себя мудрым, говорил о том, что он лишь философ, т. е. любитель мудрости? (Ведь отсюда возникло имя, которое затем настолько оказалось по нраву потомкам, что сколь великим ни было бы учение о том, что относится к мудрости, всякий, кто, казалось бы, отличался [им] перед самим собой или перед другими, назывался не иначе, как философом.) Или же потому ни один их таких людей не осмеливался признать себя мудрым, что они считали мудрым лишь того, кто совершенно без греха? Но так не считает наше Писание, ибо говорит: «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя» (Притч. 11:8). Ибо, конечно же, мы считаем необходимым обличать того, кого считаем грешником. Но я, впрочем, не осмеливаюсь признавать себя мудрым и в этом смысле. Мне же довольно и того, чтобы рассуждать о мудрости, что относится к делу философа, т. е. любителя мудрости, чего никто не может отрицать. Ибо те, кто признает себя скорее любителем мудрости, нежели мудрым, не отказывались от того, чтобы рассуждать о ней.
3. Рассуждая о мудрости, они определяли ее следующим образом: «Мудрость — это знание о человеческом и божественном». Поэтому я также упомянул в предыдущей книге о том, что познание как того, так и другого, т. е. как божественного, так и человеческого, может называться как мудростью, так и знанием. Однако в соответствии с тем различием, которое провел апостол, говоря о том, что одному дается слово мудрости, а другому слово знания (1 Кор. 12:8), это определение должно быть разделено так, чтобы мудростью собственно называлось знание божественного, а знание человеческого получило бы имя знания собственно. О последнем я рассуждал в тринадцатой книге, относя к нему, конечно же, не все, что может знать человек о человеческом, ибо в том большая часть — излишнее пустословие и вредоносное любопытство, а только то, чем зарождается, питается, утверждается и укрепляется спасительная вера, ведущая к истинному блаженству. Но большинство верующих не сильны этим знанием, хотя они большей частью сильны самой верой. Ибо одно дело — знать только то, чему человек должен верить для того, чтобы достичь блаженной жизни, каковая есть не иначе, как вечная; и другое дело — знать, каким образом одно и то же, что как мы видим, апостол называет именем знания собственно, может поддержать благочестивых и утвердиться против нечестивых. Когда я прежде говорил об этом [знании], я заботился в основном о том, чтобы рассказать о самой вере, сначала вкратце проводя различие между вечным и временным для того, чтобы рассуждать о временном. Но, оставляя рассмотрение [того, что касается] вечного для этой книги, я показал, что вера по отношению к вечному сама есть [нечто] временное и обитает во времени в сердцах верующих, хотя она и необходима для того, чтобы достичь самого вечного. Я также говорил о том, что вера касательно временного, которое ради нас создал и претерпел Предвечный, будучи человеком, какового Он нес во времени и привел к вечности, способствует также к тому же достижению вечного. [Я говорил и о том, что] сами добродетели, посредством которых в этой временной смертности живут благоразумно, мужественно, умеренно и праведно, не являются истинными добродетелями, если они не соотнесены с той самой верой, которая хотя и временна, все же приводит к вечному.
4. Вот почему, поскольку, как сказано: «Водворяясь в теле, мы удалены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:6–7), постольку, разумеется, пока праведный живет верою (Рим. 1:17), хотя бы он и жил в соответствии с внутренним человеком, и, устремляясь к вечному, пытался посредством той самой временной веры достичь истины, все же, держась, созерцая и любя ту самую временную веру, он еще не достигает той троицы, которую можно было бы назвать образом Божиим; иначе бы то, чему следовало заключаться в вечном, оказалось заключенным во временном. Ибо когда человеческий ум видит свою веру, посредством которой он видит то, чего не видит, он не видит ничего предвечного. Ведь не всегда быть тому, чего, конечно же, не будет тогда, когда то странствие (peregrinatione), из–за которого мы отстранены (peregrinamur) от Господа таким образом, что мы с необходимостью ходим верою, будет закончено, и наступит то видение, в котором мы увидим «лицом к лицу» (1 Кор. 13:12). Таким же образом [сейчас], поскольку мы все же верим, хотя и не видим, мы сможем заслужить того, чтобы видеть, и возрадоваться тому, что мы были приведены верою к видению. Ибо тогда уже не будет веры, посредством которой верят в то, чего не видят, но — видение, посредством которого видят то, во что [когда–то] верили. Следовательно, хотя и тогда мы будем помнить об этой свершившейся смертной жизни и вновь возвращать к памяти то, что мы некогда верили в то, чего не видели, [все же] та вера будет рассматриваться как прошедшее и свершившееся, а не как настоящее и вечно пребывающее. Потому и та троица, которая ныне заключается в памятовании, рассмотрении и в почитании той самой веры как настоящей и пребывающей, тогда будет осознана как свершившаяся, прошедшая и [более] не пребывающая. Но из этого можно заключить то, что если та троица и есть образ Божий, то его самого следует считать не вечно сущим, а преходящим.
Но не дай то Бог, чтобы мы считали, будто в то время, как природа души бессмертна и никогда не прекращает свое бытие с того начала, как она была сотворена, то, что есть в ней наилучшего, не пребывает [в ней] в ее бессмертии. [Ибо] что же есть лучшего в ее сотворенной природе, нежели то, что она создана по образу своего Творца? Значит, то, что следовало бы называть образом Божиим, мы должны искать не в хранении, созерцании и почитании веры, каковая будет не всегда, а в том, что пребудет всегда.
5. Но не следует ли нам рассмотреть несколько более внимательно и обстоятельно, таково ли положение дела? Ибо могут сказать, что эта троица не преходит даже тогда, когда уже прешла сама вера, поскольку, каким образом мы ныне удерживаем ее памятью, различаем мыслью и любим волей, таким же образом и тогда, когда мы будем хранить в памяти и вспоминать то, что она у нас была, и объединять первое и второе третьим, [т. е.] волей, та же самая троица пребудет (ибо если бы она, преходя, не оставила в нас никакого следа, то, разумеется, в нашей памяти от нее не осталось бы ничего, к чему бы мы могли возвратиться, вспоминая ее как прошедшую и связывая первые два намерением третьей; и что должно было бы быть в памяти, хотя бы мы и не мыслили этого, и что должно было бы воображаться, когда бы мы представляли это). Но тот, кто так говорит, не осознает, что когда мы удерживаем, видим и любим настоящую веру, мы имеем дело с одной — ныне сущей — троицей; а когда мы будем усматривать посредством воспоминания не саму веру, а как бы воображаемый след ее, сохранившийся в памяти, и будем объединять волей как третьей эти первые два, т. е. то, что было в памяти удерживающего, и то, что запечатлевается во взоре вспоминающего, тогда мы будем иметь дело с другой — будущей — троицей. Чтобы понять это, возьмем пример из области телесного, о каковом мы довольно говорили в одиннадцатой книге. Ведь восходя от низшего к высшему или проникая из внешнего во внутреннее, мы сначала обнаруживаем троицу в видимом теле и во взоре видящего, который, когда он видит тело, воображается им, и в направленности воли, объединяющей обоих. Будем считать подобием этой троице следующее: вера, которая, сейчас присущая нам, словно то тело в пространстве, заключена в нашей памяти, из которой представление вспоминающего воображается таким образом, каким взор видящего — от того тела; к этим двум, дабы исполнилась троица, причисляется в качестве третьей воля, которая связывает и соединяет веру, заключенную в памяти, и ее некоторое запечатленное отражение в созерцании вспоминающего. [Ведь точно] так же в той троице телесного видения образ (formam) видимого тела и воображение (conformationem), возникающее во взоре воспринимающего, объединяются направленностью воли. Теперь представим, что воспринимавшееся тело, разложившись, исчезло, и что от него нигде ничего не осталось, к видению чего мог бы возвратиться взор. Но должны ли мы тогда сказать, что поскольку образ телесной вещи, уже прекратившей [свое существование] и [таким образом] прошедшей, пребывает в памяти, из которой воображается взгляд представляющего (cogitantis obtutus), а первые два объединяются волей как третьей, постольку это та же самая троица, которой была та, когда созерцался вид тела, наличествовавшего в пространстве? Конечно же, нет, так как это — совсем иная [троица]. Ибо одна — внешняя, другая — внутренняя; ту, несомненно, произвел вид наличного тела, эту же — образ прошедшего. Таким образом, и в том, о чем мы сейчас говорим, и ради чего мы сочли необходимым привести этот пример, вера, которая и ныне в нашей душе, пока она удерживается, созерцается и любится, производит некоторого рода троицу, подобно тому телу в пространстве. Но той троицы не будет, когда не будет той веры в душе так же, как и того тела в пространстве. Та же, что тогда будет, когда мы будем в себе вспоминать прежнюю как бывшую, но [уже] не сущую, будет, разумеется, иной. Ибо та, что есть ныне, производится самой настоящей вещью, прикрепленной к душе верующего; та же, что будет тогда, будет производиться образом прошедшей вещи, оставшимся в памяти вспоминающего.
6. Итак, та троица, которая сейчас не есть образ Божий, не будет им и тогда, как не является тем образом Божиим и та, которой тогда [уже] не будет. [Однако же] в душе человека, т. е. в разумной или понимающей (rationali siue intellectuali) [душе], мы должны обнаружить тот образ Творца, который бессмертным образом присущ ее бессмертию. Ведь поскольку о бессмертии души говорится лишь в определенной мере (ибо и у души есть своя смерть, когда ей не достает блаженной жизни, которую должно считать истинной жизнью души, тогда как бессмертной она называется потому, что она никогда не перестает жить некоторой жизнью, какой бы она ни была, даже тогда, когда она наиболее жалкая), постольку хотя разум или понимание (ratio uel intellectus) оказывается в ней то усыпленным, то слабым, то великим, [все же] душа человеческая никогда не есть какая–либо иная, как только разумная и понимающая. А потому, если она создана по образу Божиему для того, чтобы познавать и созерцать Бога, то, начиная с того, как стала существовать столь великая и удивительная природа, она всегда была тем образом, будь то истертым настолько, что почти никаким, или же [наоборот] ясным и прекрасным. Так, сожалея об искажении его великолепия, Божественное Писание говорит: «Хотя человек ходит в образе (in imagine), напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38:7). Итак, Писание не приписывало бы суету образу Божиему, если бы этот образ не был обезображен (deformem) [в человеке]. Однако здесь достаточно показывается, что такое искажение не означает отнятия того, что есть образ, ибо сказано: «Хотя человек ходит в образе». Вот почему это суждение может быть прочитано [одинаково] истинным образом с обеих сторон, т. е. и тогда, когда говорится: «Хотя человек ходит в образе, напрасно он суетится», и тогда, когда говорится: «Хотя человек суетится напрасно, он все же ходит в образе». Ибо хотя природа души велика, она все же может быть испорчена, потому что она не есть [нечто] высшее. И хотя она может быть испорчена, потому что она не есть [нечто] высшее, все же природа души велика, потому что она способна и может быть причастницей высшей природы. Так давайте искать в этом образе Божием определенную троицу своего рода, и да поможет нам Тот, Кто создал нас по Своему образу. Ибо ни как иначе не можем мы благополучно изыскивать и находить что–либо сообразно мудрости, которая от Него. И если читатель может удержать в памяти и воспроизвести то, что мы говорили о душе и уме в предыдущих книгах и, прежде всего, в десятой, или же вновь разобрать те места, в которых об этом написано, то ему не понадобится более пространное рассуждение по поводу исследования этого столь важного предмета.
7. В десятой книге среди прочего мы говорили о том, что человеческий ум знает самого себя. Ибо ум не знает ничего настолько, насколько [он знает] то, что есть у него в наличии; а для ума ничто так не налично, как он сам. Для того, чтобы доказать это с наибольшей убедительностью, мы приводили и другие свидетельства, насколько нам казалось необходимым. Но что же мы тогда должны сказать об уме ребенка, пока еще столь слабом и погруженном в столь великое невежество, что ум человека, который что–то знает, содрогается от мрака такого ума? Неужели нам надлежит верить, что он также знает самого себя, но что, будучи излишне сосредоточенным на том, что он начал воспринимать через телесное ощущение с тем большим удовольствием, чем новее то, что воспринимается, он не может не знать самого себя, но не может мыслить самого себя? О том, с какой сосредоточенностью он устремлен к тому чувственному, которое вне нас, можно заключить из одного того, что он настолько охоч до этого [чувственного] света, что если кто–либо по небрежению или незнанию того, что может произойти, поместит ночью свет там, где положен ребенок, с той стороны, куда могут быть направлены глаза лежащего [ребенка] (при том, что он не может отвернуть шею), то его взор настолько приковывается [к этому свету], что, как нам известно, иные от этого становятся косоглазыми, поскольку глаза удерживают тот образ, который привычка некоторым образом внедряет в них, [еще слабых и неокрепших]. И в других телесных ощущениях души младенцев, насколько позволяет им их возраст, настолько как бы сокращают себя [своей] склонностью [к ним], что они неистово ненавидят или желают только то, что через тело возбуждает [у них] неудовольствие или приязнь. О своем же внутреннем они не задумываются, причем невозможно увещевать их сделать это, ибо они пока еще не внимают доводам увещевания, поскольку в увещеваниях основное место занимают слова, каковых они, как и другое, не знают. Впрочем, в той же самой книге мы уже показали, что одно дело — не знать себя, и другое — не думать о себе.
8. Но давайте оставим этот возраст, который не может быть вопрошен о том, что в нем происходит; мы же уже весьма подзабыли о том. Да будет нам довольно того, чтобы мы были уверены, что когда человек станет способным задумываться о природе своей души и находить то, что истинно, он нигде не сможет ее обнаружить, как только в себе самом. И он обнаружит не то, что он не знал, а то, о чем он не задумывался. Ибо что же мы знаем, если мы не знаем того, что есть в нашем [собственном] уме (ведь все, что мы знаем, мы не можем знать иначе, как посредством ума)?
Такова, однако, сила мысли, что сам ум не может видеть самого себя, если только не думает о себе, а поэтому во взоре ума нет ничего, что не мыслилось бы, так что сам ум, посредством которого мыслится все, что мыслится, не может быть предметом своего взора, если только он не мыслит себя самого. Правда, я не могу понять, каким же образом он не есть в своем [собственном] взоре, когда он не думает о самом себе, в то время, как он никогда не может быть без себя самого (как будто он сам есть нечто одно, а его взор — нечто другое)? Ведь не зря же это говорится и о телесном глазе. Ибо сам глаз укоренен в теле в своем месте, а его взор устремляется к тому, что вне его, и простирается вплоть до звездных высей. И глаза также нет в его собственном взоре, поскольку он не видит самого себя, разве что в зеркале, о чем мы уже говорили. Но это то, чего, конечно же, не происходит, когда ум, думая о себе, делает себя предметом своего взора. Неужели тогда, когда он взирает на себя в мысли, он одною своею частью видит свою другую часть подобно тому, как мы взираем на одни наши члены, которые могут быть предметом нашего взора, посредством других наших членов, т. е. глаз? Но что же более абсурдное можно сказать или подумать? Ибо чем же ум увлекается, как не самим собой? И где же он полагается, как не пред самим собой, дабы быть предметом своего собственного взора? Следовательно, его не будет там, где он был, когда он не был в своем собственном взоре, поскольку, будучи положенным в одном, он был перенесен из другого. Но если он перемещался для того, чтобы быть во взоре, где же ему пребывать, чтобы взирать? Или же он как бы удваивается, так что [он одновременно] есть и там, и сям, т. е. там, где он может взирать, и там, где он может быть во взоре; так, что бы в себе он мог быть зрящим, а пред собой — зримым? Если бы мы вопросили истину, то она бы не сообщила нам ни о чем таком, поскольку когда мы мыслим таким образом, мы мыслим не что иное, как выдуманные образы тел; и в том, что ум не таков, уверены лишь немногие умы, которые могут вопросить истину об этом. Следовательно, [нам] остается лишь [сказать], что его взор есть нечто, относящееся к его природе, и когда он думает о себе, он соотносится с ним посредством бестелесного обращения, а не посредством пространства. Когда же он о себе не думает, то тогда он, и вправду, не есть предмет своего взора, и взгляд (obtutus) [ума] не воображается самим собой, хотя он знает самого себя, будучи для себя как бы воспоминанием о себе. Подобным образом обстоит дело с человеком, сведущим во многих науках: то, что он знает, хранится в его памяти, но во взоре его ума есть только то, о чем он думает; остальное же сокрыто в некотором тайном знании, которое называется памятью. И для того, чтобы определилась троица, мы полагали в памяти то, чем бы воображался взгляд представлящего (cogitantis obtutus); [затем мы брали] воображение (conformationem) [или просто] образ (imaginem), запечатлеваемый из памяти, [и, наконец] любовь или волю, соединяющую первые два. Итак, когда ум взирает на себя мыслью, он понимает и познает себя; он, таким образом, порождает свое собственное понимание и познание. Ибо бестелесное понимается, когда является предметом взора, а познается, когда понимается. Однако ум, когда он, думая о себе как о понятом, зрит себя, порождает то знание свое не так, как будто прежде он был неизвестен самому себе; [нет] он был известен самому себе так, каким образом известны те предметы, что содержатся в памяти, хотя бы о них и не думали (ведь мы считаем, что человек знает буквы даже тогда, когда думает не о них, а о других предметах). И эти два — порождающий и порожденный — соединяются любовью как третьей, которая есть не что иное, как воля, желающая наслаждаться или наслаждающаяся чем–либо. Поэтому мы считали возможным внушить мысль о троице ума посредством этих трех имен: памяти, понимания, воли (memoria, intellegentia, uoluntate).
9. Но поскольку ум помнит о себе всегда, и всегда понимает и любит себя, хотя он не всегда думает о себе как об отличном от того, что не есть он сам (о чем мы говорили ближе к концу той же самой десятой книги), постольку следует спросить, каким же образом понимание (intellectus) относится к мышлению (cogitationem), а знание (notitia) обо всем том, что есть в уме, даже когда сам ум не является предметом мысли, считается относящимся только к памяти. Ведь если это так, то в уме не было этих трех, т. е. памяти о себе, понимания себя и любви к себе; и он только помнил себя, а уж затем, когда он начал думать о себе, он стал себя понимать и любить.
Вот почему давайте с большим вниманием рассмотрим приведенный нами пример, посредством которого мы показали, что не знать чего–либо есть одно, а не мыслить — другое; и что может статься так, что человек будет знать то, чего он не мыслит, когда он думает о чем–либо другом. Так, когда человек, сведущий в двух или больше науках, думает об одной из них, все же знает другую или другие, хотя он и не думает о них. Но будет ли правильным сказать [следующее]: «Этот человек знает музыку, но поскольку он сейчас о ней не думает, он ее не понимает; зато он сейчас понимает геометрию, поскольку он сейчас думает о ней»? Насколько [мне] представляется, это суждение нелепо. А что если бы мы сказали: «Этот человек знает музыку, но поскольку он сейчас о ней не думает, он ее не любит; он любит сейчас геометрию, так как сейчас он думает о ней»? Не нелепо ли это в той же степени? Но [при том] было бы совершенно правильным, если бы мы сказали: «Тот человек, которого ты [сейчас] видишь рассуждающим о геометрии, также прекрасно осведомлен и в музыке, ибо он помнит эту науку, а также понимает и любит ее; но хотя он знает и любит ее, он сейчас не думает о ней, ибо сейчас он думает о геометрии, о каковой и рассуждает». Это является напоминанием нам о том, что в тайниках нашего ума есть некоторое знание об определенных предметах, и что когда мы думаем о них, они некоторым образом выступают вперед и, как бы открывшись, помещаются во взор ума. Ибо тогда ум обнаруживает, что он и помнит, и любит самого себя, даже если он не думает о себе, когда он думает о чем–либо еще. Что же касается того, о чем мы долго не думали, и [уже] не способны думать, если только нам не напомнят, то здесь, я не знаю, каким удивительным образом (если позволительно так сказать), мы не знаем, что знаем. В конце концов, напоминающий правильно говорит тому, кому он напоминает: «Ты знаешь это. Но ты не знаешь, что знаешь; я напомню тебе, и ты обнаружишь, что ты знаешь то, что, как ты думал, ты не знаешь». То же воздействие оказывают и сочинения, написанные о тех предметах, истинность которых обнаруживает читатель, ведомый разумом; не тех, в истинность которых он верит, полагаясь на того, кто написал о них, что имеет место быть в случае [какой–либо] истории, а тех, истинность которых обнаруживает сам читатель, будь то в себе самом, или же в самой истине, которая есть свет ума. Тот же, кто [даже] по напоминанию не способен созерцать их из–за слепоты свого сердца, погружен во мрак невежества и удивительнейшим образом нуждается в содействии Божества, дабы смочь достичь истинной мудрости.
10. Поэтому–то я и хотел привести какое–нибудь свидетельство касательно мышления для того, чтобы было возможным показать, каким образом взор вспоминающего воображается тем, что содержится в памяти, и [каким образом] когда человек мыслит, порождается такое нечто, каковое [уже] было в нем, когда он прежде того, как помыслить, вспоминал его; ведь легче распознается то, что возникает в определенные промежутки времени, и в чем родитель по времени предшествует детищу. Ибо если мы сами соотнесемся с внутренней памятью ума, посредством которой он помнит самого себя, и с внутренним пониманием, посредством которого он понимает самого себя, и с внутренней волей, посредством которой он любит самого себя; [и если мы согласны с тем, что] эти три всегда пребывают и пребывали вместе с тех пор, как они [вообще] начали быть, вне зависимости от того, были ли они предметом мысли или нет; то нам представится, что образ Той Троицы принадлежит только памяти. Но поскольку в данном случае слово не может быть без мысли (ибо мы мыслим все, что говорим, и даже то внутреннее слово, которое не принадлежит к [какому–либо отдельному] языку какого–либо народа), этот образ познается скорее в трех, [нежели в одной памяти], а именно: в памяти, понимании и воле. Здесь я называю пониманием то, посредством чего мы, мысля, понимаем, т. е. когда наше мышление воображается по обнаружению того, что было налично в памяти, но не мыслилось. Волей же или любовью, или почитанием (uoluntatem siue amorem uel dilectionem) я называю то, что соединяет того отпрыска и родителя, и некоторым образом является общим обоим. В одиннадцатой книге отсюда посредством того, что относится к области внешней чувственности и видимо телесными глазами, я подгонял медлительность читателей, а затем вместе с ними я приступал к той способности внутреннего человека, с помощью которой он рассуждает о временном, но [при этом] я различал в ней ту господствующую силу, с помощью каковой созерцается вечное. Я обсуждал этот вопрос в двух книгах. В двенадцатой я разделил их [таким образом, что] одна из них рассматривалась как высшая, другая — как низшая, причем низшая должна была подчиняться высшей. В тринадцатой же я — по возможности кратко и справедливо — рассуждал об обязанности низшей, которая состоит в знании спасительных для человека вещей, [необходимых] затем, чтобы в этой временной жизни действовать так, чтобы достичь вечного. Заключая же столь сжатым образом в одну книгу то, что является столь сложным и пространным, а также столь известным, благодаря столь многим и значительным изысканиям столь многих и великих [людей], я показал, что и там есть троица, но, однако же, пока еще не та, которую надлежит называть образом Божиим.
11. Теперь же мы достигли того рассуждения, в котором мы предприняли рассмотреть главнейшую часть человеческого ума, посредством которой он знает или может знать Бога, затем, чтобы мы смогли обнаружить в ней образ Божий. Ибо хотя природа человеческого ума не та, что природа Бога, все же образ той природы, лучше каковой нет никакой природы, должно искать и обнаруживать у нас в том, лучше чего наша природа ничего не имеет. Но сначала ум должен быть рассмотрен сам по себе прежде, чем он становится причастником Бога, и в нем должно обнаружить образ Божий. Ибо мы сказали, что хотя [в человеке] образ Божий из–за утраты причастия Богу обветшал и истерся, он все же еще пребывает в нем. Ведь ум именно потому есть образ Его, что он способен на постижение Бога и на то, чтобы быть Его причастником. Столь великое благо не возможно иначе, как посредством того, что он есть образ Божий. Итак, ум помнит о себе, понимает себя, любит себя. Если мы распознаем это, мы распознаем троицу, впрочем, не Бога, но уже сам образ Божий. Память [здесь] не воспринимает извне то, что ей надлежит удерживать; понимание (intellectus) не обнаруживает (подобно телесным глазам) вовне то, что ему надлежит созерцать; и воля [здесь] соединяет первые два не вовне, как она соединяет телесную форму и то, что производится от нее во взоре созерцающего. И мышление, обратившись, [здесь] не обнаруживает вовне образа видимой вещи, который был некоторым образом восхищен и закреплен в памяти, из каковой воображался взгляд вспоминающего, притом, что воля как третья соединяла первые два. Последнее, как мы показали, имело место быть в тех троицах, которые обнаруживались в телесных вещах, или в тех, которые были извлечены вовнутрь из тел посредством телесного ощущения. (О всех этих троицах мы рассуждали в одиннадцатой книге.) И не таково здесь положение дел, каковым оно было или казалось быть, когда мы рассматривали то знание, которое выражалось в действиях человека внутреннего, и которое следовало отличать от мудрости; ибо то, что относится к этому знанию, является для души или как бы привходящим, будучи либо привнесенным туда историческим познанием (например, деяния и речения, производимые и преходящие во времени), либо укоренившимся в природе вещей в соответствующих областях; или, не бывши прежде, возникающим в самом человеке, будь то по наставлению других, или же по собственному размышлению (как, например, вера, о которой мы много говорили в тринадцатой книге; или как добродетели, с помощью каковых, если они истинны, в этой смертной жизни живут настолько благим образом, чтобы жить блаженно в том бессмертии, что обещано волею Божией). То и что бы то ни было того же рода имеет свой порядок во времени, в котором с большей легкостью нам представлялась троица памяти, видения и любви. Ведь кое–что из того предупреждает познание научающихся, ибо является могущим быть познанным и прежде того, как начало познаваться и порождает у научающихся познание самих себя. То, [о чем мы говорим], либо существует в своем месте, либо уже прошло во времени; хотя то, что прошло, есть не само по себе, а лишь в своих знаках, увидев или услышав каковые, мы познаем, что оно было и прешло. Эти знаки либо расположены в пространстве, как, например, памятники мертвым или что–либо подобное, либо в [таком] сочинении, достойном доверия, каковым, например, является всякая серьезная история, имеющая характер достоверного авторитета. [Наконец], они могут находиться в душах тех, кто уже знает их (ведь то, что им известно, конечно же, может быть известным и другим, чье знание оно предупреждает, но эти другие могут познать его, будучи наставленными теми, кто уже знает о том). Даже когда всему тому научаются, оно образует некоторую троицу своим видом, который был познаваем и до того, как познавался, затем присоединением к нему познания научающегося, которое начинает существовать тогда, когда тому научаются, а также волей как третьей, которая соединяет первые два. Когда же то уже было познано, то в самой душе, пока оно вспоминается, возникает другая, уже более внутренняя, троица: из тех образов, которые, будучи изученными, запечатлелись в памяти; из представления вспоминающего, обращенного к ним и воображенного ими; и [наконец] из воли, которая как третья сочетает первые две [составляющих]. Но то, что возникает в душе, в которой того прежде не было (как, например, вера и другое того же рода), хотя и представляется привходящим, так как прививается наставлением, все же расположено и свершено не вовне (как, например, то, во что верят), но вообще начало быть только внутри, в душе. Ибо вера есть не то, во что верят, но то, чем верят; так что первое — предмет веры, а второе — созерцания. Однако, поскольку оно начало быть в душе, каковая уже была душой и прежде того, как оно начало быть в ней, постольку оно кажется чем–то привходящим и будет считаться прошедшим, когда с появлением вида оно само перестанет быть. Теперь оно, будучи удержанным, увиденным и полюбившимся, посредством своего присутствия образует троицу иную, нежели та, которую оно будет образовывать тогда посредством некоторого следа себя самого, который оно, проходя, оставит в памяти, как уже было сказано выше.
12. Однако спрашивается, когда добродетели, посредством которых в этой смертной жизни живут благим образом, приведут нас к вечному, не перестанут ли тогда существовать и они, ибо они также начали быть в душе, которая была душой и прежде, когда была без них. Ибо иным казалось именно так, и в отношении трех — благоразумности, мужества и умеренности — сказанное представляется имеющим основание. Но что касается праведности, то она бессмертна, и она скорее усовершится в нас, нежели перестанет быть. Все же Туллий, великий оратор, в своем диалоге «Гортензий», рассуждая о всех четырех, говорит: «Если бы нам, когда мы перейдем от этой жизни, было позволено обитать в бессмертной вечности на островах блаженных (как гласит предание), то там, где не было бы судов, какая бы нужда была нам в красноречии или [вообще] в самих добродетелях. Ибо мы не имели бы нужды в мужестве, когда бы нам не предстояло страдание или опасность; ни в праведности, когда бы не было ничего чужого, что бы желалось; ни в умеренности, сдерживающей страсти, ибо не было бы ни одной; и не имели бы нужды в благоразумии, когда бы нам не предстояло какого–либо выбора между добром и злом. Итак, мы были бы блаженны одним познанием и знанием природы, сообразно каковой одной даже жизнь богов считается счастливой. Из этого можно понять, что все остальное относится к необходимости, и лишь это одно — к [свободной] воле». Так, тот великий оратор, отзываясь с похвалой о философии и вспоминая то, что он воспринял от философов, а также яснейшим и прекраснейшим образом излагая это, сказал, что все те четыре добродетели необходимы только в этой жизни, которая, как мы видим, полна бедствий и ошибок, но что ни в одной из них не будет нужды, когда мы перейдем от этой жизни, если нам будет позволено жить там, где жизнь блаженна, и что благие души блаженны только познанием и знанием, т. е. созерцанием природы, лучше и любимей которой нет ничего, ибо это та природа, что сотворила и установила все остальные. Но если праведность является подданной правления этой природы, тогда она совершенно бессмертна и не прекратит свое существование в том блаженстве, но будет таковой и столькой, что не возможно быть более совершенной и великой. Быть может, так же и другие три добродетели: благоразумие — без какой–либо опасности ошибки; мужество — без страдания от переносимых бед; умеренность — без противодействия со стороны страстей — [так вот, быть может, все эти добродетели] пребудут в том состоянии счастья таким образом, что благоразумие никогда не предпочтет или не посчитает равным какое–либо благо Богу; делом мужества будет прилепляться к Нему крепчайшим образом; делом умеренности — наслаждаться без какого–либо вредоносного изнеможения. Но что касается того, что сейчас дело праведности — приходить на помощь несчастным, дело благоразумия — предупреждать козни, дело мужества — претерпевать страдания, дело умеренности — сдерживать превратные удовольствия, то всего этого существовать не будет там, где совсем не будет никакого зла. А потому те труды добродетелей, которые необходимы в этой смертной жизни, как вера, к которой их следует относить, будут считаться как нечто прошедшее. И сейчас, когда мы удерживаем, видим и любим их как настоящих, они образуют одну троицу; другую же они образуют тогда, когда посредством их следов определенного рода, которые они, проходя, оставят в памяти, мы обнаружим, что они [когда–то] существовали, но больше не существуют. Ибо и тогда будет троица, когда хоть какой–нибудь подобный след будет сохраняться в памяти, правдиво распознаваться, и эти первые два будут объединяться волей как третьей.
13. В знании всего того временного, что мы упоминали, есть [вообще] познаваемое (cognoscibila), которое по времени предшествует познанию его, подобно тому, как есть [вообще] ощущаемое (sensibilia), каковое уже было в вещах прежде, чем они познавались, или всему тому, что познается посредством истории. Впрочем, есть и то, что начало быть одновременно [с познанием его], подобно тому, как если бы что–то видимое, которого совсем не было прежде, возникло пред нашими глазами, [и поэтому] конечно же, не предшествует нашему познанию его; или как если бы что–либо прозвучало в присутствии слушателя, так что, разумеется, звук и его слуховое восприятие начинаются и прекращаются одновременно. Однако является ли познаваемое вообще предшествующим во времени или же возникающим одновременно [с познанием], [все равно] оно порождает познание, а не познание порождает его. Но когда по совершению познания мы вновь, вспоминая, обращаемся к тому, что мы познали и что находится в памяти, тогда для всякого очевидно, что удержание в памяти есть во времени предшествующее видению в воспоминании и сочетанию того и другого волей как третьей. Впрочем, не так в уме. Ибо ум не есть нечто привходящее в самого себя, как если бы в себя самого как уже бывшего откуда–то еще вошло то же самое как еще не бывшее; или как если бы в самом себе как уже бывшем, не входя откуда бы то ни было еще, родилось то же самое как еще не бывшее. Так, например, в уме как уже бывшем возникает вера как еще не бывшая. И он не видит самого себя посредством воспоминания самого себя словно помещенным в свою память после познания самого же себя, как если бы его не было там прежде, чем он стал познавать самого себя, ибо, разумеется, начиная с того, как он стал быть, он никогда не переставал помнить, понимать и любить себя, что мы уже показали. А потому, когда он обращается к самому себе в мышлении, возникает троица, в которой уже можно различить слово. Ибо оно образуется самим мышлением, а воля соединяет их обоих. Следовательно, здесь более, [чем прежде], надлежит [нам] признавать тот образ, который мы ищем.
14. Но кто–нибудь может сказать: «То не память, посредством чего считается, что ум, всегда настоящий для себя самого, помнит себя самого, ибо память занимается прошедшим, а не настоящим». Ведь есть те (среди кого и Цицерон), кто, рассуждая о добродетелях, разделил благоразумие на те три [составляющие] — память, понимание и провидение (memoriam, intellegentiam, prouidentiam), относя память к прошедшему, понимание — к настоящему, провидение — к будущему; [причем], последнее считается ими определенным (certam) лишь для предвидящих будущее. Предвидение не является человеческой способностью, если только она не дается свыше, как пророкам. Поэтому Писание в книге Премудрости говорит о человеке: «Помышления смертных нетверды, и мысли наши неопределенны (incertae)» (Прем. 11:14). Но память о прошедшем и понимание настоящего определенны (настоящего, разумеется, бестелесного, ибо телесное является настоящим для взора телесных глаз). Но пусть тот, кто говорит, что памяти о настоящем не бывает, обратит внимание на то, каким образом говорилось в самих мирских сочинениях, в которых было больше заботы о безупречности словесов, нежели об истине вещей: «Улисс не вынес такого, Верным себе и в этой беде итакиец остался». Ибо когда Вергилий сказал, что Улисс остался верен себе, что еще он имел в виду, как не то, что он помнил себя? Поскольку же он был настоящим для самого себя, постольку он мог помнить себя только при том условии, что память относится к вещам настоящим. Вот почему, каким образом в прошедшем памятью называется то, посредством чего становится возможным вспоминать и помнить его, таким же образом и в настоящем, каковым является ум для самого себя, надлежало бы называть памятью то, посредством чего ум является наличным для самого себя так, что он может пониматься своим собственным мышлением, и эти два — соединяться любовью.
15. Итак, эта троица ума не потому есть образ Божий, что ум помнит, понимает и любит себя, но потому, что он также может помнить, понимать и любить Того, Кем он был сотворен. Делая это, он сам становится мудрым. Если же он этого не делает, то даже когда он помнит, понимает и любит себя, он глуп. Так, пусть же он помнит о Боге, по образу Которого он был сотворен, и пусть он Его понимает и любит. Короче говоря, пусть он почитает несотворенного Бога, Который сотворил его способным постигать Его и быть Его причастником, почему и сказано: «Вот, почитание Бога есть истинная премудрость» (Иов. 28:28). [Ибо тогда] он будет мудрым не своим собственным светом, но причастием к Тому высшему Свету; и в чем он будет вечен, в том он будет царствовать в блаженстве. Ведь мудрость человеческая называется таковой потому, что она также и Божия Премудрость. Ибо только тогда она истинна; если же она человеческая, то она суетна. Однако же не такова Премудрость Божия, Которой премудр Бог. Ибо Он премудр не причастием Себе, как мудр ум причастием Богу. Но поскольку даже праведностью Божией называется не только та, которой Он Сам праведен, но также и та, которую Он дает человеку, когда оправдывает нечестивого, сообщая о каковой, апостол Павел говорит по поводу некоторых: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» (Рим. 10:3), постольку по поводу иных также можно сказать: «Не разумея Премудрости Божией и усиливаясь поставить собственную мудрость, они не покорились Премудрости Божией».
16. Итак, есть природа несотворенная, которая сотворила все остальные, великие и малые, и она, несомненно, превосходит те, что сотворила, а поэтому также и ту, о которой мы говорим, т. е. разумную и понимающую (rationali et intellectuali) [природу], каковой является ум человека, сотворенный по образу Того, Кто его создал. И эта природа, превосходящая остальные, есть Бог. Впрочем, говорится, что «Он и недалеко от каждого из нас», и [при этом] добавляется: «Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17:27–28). Если бы это было сказано в отношении тела, то это можно было бы понять как сказанное об этом телесном мире. Ибо и в отношении тела мы Им живем, и движемся, и существуем. Поэтому в отношении ума, который был создан по образу Его, эти слова должны истолковываться некоторым более превосходным образом, т. е. не чувственным, а умопостигаемым. Ибо что же есть, чего нет в Нем, о Ком говорит Божественное Писание: «Ибо всё из Него, Им и в Нем» (Рим. 11:36)? Итак, если все в Нем, то чем же может жить то, что живет; двигаться то, что движется; как не Тем, в Ком оно? Однако же все пребывает с Ним не таким образом, как было сказано Ему: «Я всегда с Тобою» (Пс. 72:23); и Он не есть со всем тем образом, каким мы говорим: «Господь с вами». Для человека поэтому было бы великим несчастьем не быть с Тем, без Кого он не может быть. Ибо, несомненно, он не без Того, в Ком он; но все же если он не помнит, не понимает и не любит Его, он не с Ним. Когда же кто–либо совершенно забывает что–либо, ему, конечно же, невозможно напомнить об этом.
17. Ради этого давайте возьмем пример из области видимых вещей. [Так] кто–то, кого ты не узнаешь, говорит тебе: «Ты знаешь меня»; и для того, чтобы напомнить, говорит тебе, где, когда и как он стал [тебе] знакомым. Если же после приведения всех знаков, посредством которых ты мог бы вернуться к памяти, ты [все же] не узнаешь, то ты забыл уже настолько, что все то знание совершенно стерлось из твоей души; и не остается ничего, как либо поверить тому, кто говорит, что когда–то ты его знал, либо не делать этого, если тот, кто говорит, не кажется тебе достойным доверия. Но если ты вспоминаешь, то ты само собой возвращаешься к своей памяти, и обнаруживаешь в ней то, что было не совсем стерто забвением. Давайте же вернемся к тому, ради чего мы приводили пример из области человеческого общения. Посреди прочего в девятом псалме говорится: «Да обратятся нечестивые в ад, — все народы, забывающие Бога» (Пс. 9:18). Далее же в двадцать первом псалме сказано: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли» (Пс. 21:28). Следовательно, те народы не настолько забыли Бога, чтобы по напоминанию о Нем не вспомнить Его. Забыв же Бога (словно забыв свою собственную жизнь), они были обращены к смерти, т. е. к преисподней. Но по напоминанию они обращаются к Господу, как если бы оживали вновь, вспоминая свою жизнь, в забвении о каковой они пребывали. О том же мы читаем и в девяносто [третьем] псалме: «Образумьтесь, бессмысленные люди! Когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли?» и прочее (Пс. 93:8–9). Ибо это сказано тем, кто, не понимая Бога, говорил о Нем всуе.
18. Впрочем, среди Божественных речений мы обнаруживаем множество свидетельств о любви к Богу. Ибо в ней соответственно мыслятся и те два, поскольку никто не любит то, чего не помнит или чего совершенно не знает. А потому наиболее известная и основная заповедь такова: «Люби Бога, Господа твоего» (Втор. 6:5). Таким образом, ум человеческий устроен так, что он всегда помнит, понимает и любит себя. Но поскольку тот, кто ненавидит кого–либо, стремится ему навредить, постольку не без оснований говорится, что ум человеческий, который вредит самому себе, ненавидит самого себя. Ибо пока он не считает, что желаемое им вредит ему, он желает себе зла, не зная того, но все же он желает себе зла, когда он желает того, что вредит ему. Потому и говорится: «любящий неправду, ненавидит свою душу» (Пс. 10:5). Следовательно, тот, кто знает, как любить самого себя, любит и Бога. Но все же вполне уместно говорится, что тот, кто не любит Бога, даже если любит самого себя (что вложено в человека естественным образом), ненавидит самого себя, поскольку он делает то, что ему противно, и преследует самого себя, как если бы он был своим собственным врагом. И совершается ужасающая ошибка: всякий хочет себе выгоды, но многие свершают лишь то, что является пагубнейшим для них. [Так] поэт, описывая подобную болезнь животных, разрывавших расторгнутые члены обнаженными зубами, говорит: «О, боги, благо пошлите благим, врагам лишь такое безумье». Почему же еще, он назвал ту болезнь безумьем (хотя она была болезнью тела), как не потому, что в то время, как всякое животное склоняется по своей природе к тому, чтобы сохранять себя, насколько возможно, та болезнь была таковой, что животные разрывали те свои члены, каковые они желали бы иметь здоровыми? Когда же ум любит Бога и, как было сказано, соответственно помнит и понимает Его, тогда [становится ясным, что] ему справедливо предписывается любить ближнего своего, как самого себя. Ибо он любит себя не превратно, но правильно тогда, когда любит Бога, причастием к Которому тот образ не просто есть, но также обновляется из ветхости; преображается из [прежнего] безобразия (ex deformitate reformatur); делается блаженным из [прежнего] несчастья. Ибо хотя он любит себя так, что если бы ему было предложено [выбрать одно] из двух, то он бы предпочел потерять все, что он любит меньше себя, тому, чтобы погибнуть, все же оставив Того, Кто свыше, и с помощью Кого одного он мог бы сохранять свою силу и наслаждаться Им как своим светом (о Ком воспевается в псалме: «Силу мою Тобою сохраню» (Пс. 58:10), а также: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались» (Пс. 33:6), он соделался столь немощным и мрачным, что из–за страстей, каковых не способен одолеть, и заблуждений, из каковых не знает выхода, он соскользнул также и от себя к тому, что не есть он сам и над чем он сам возвышается. А потому, раскаявшись по Божиему призрению, он восклицает в псалме: «Оставила меня сила моя, и свет очей моих, — и того нет у меня» (Пс. 37:11).
19. Однако же и в столь великом зле немощи и заблуждения он не мог утратить то, что у него от природы: помнить, понимать и любить себя. По этой причине то, что я упомянул выше, может быть с полным основанием сказано так: «Хотя человек ходит в образе, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то». Ибо почему же он собирает, как не потому, что его покинула его сила, посредством каковой он, имея Бога, не нуждался бы ни в чем? И почему он не знает, кому он собирает, как не потому, что свет глаз его не с ним? Поэтому он и не видит того, что говорит Истина: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12:20). Однако же, поскольку даже такой человек ходит в образе, а ум помнит, понимает и любит себя, постольку (если бы ему было очевидно, что он не может иметь и то, и другое, но позволяется выбрать только одно из двух, а другое потерять, т. е. либо те сокровища, что он собирал, либо ум, [спрашивается] кто же до такой степени не имеет ума, чтобы предпочитать сокровища уму? Ибо сокровища обычно ниспровергают ум, ум же, который не ниспровергается сокровищами, может жить вольготно безо всяких сокровищ. Но кто же сможет обладать сокровищами без посредства ума? Ведь если ребенок, рожденный сколь угодно богатым и являясь господином всего, что его по праву, еще не владеет ничем, пока его ум не проснулся, то каким же образом может чем–либо обладать тот, кто лишен ума? Так к чему же я говорю о сокровищах, каковые, а не ум, предпочел бы утратить всякий (если бы был предоставлен подобный выбор), когда нет ни одного, кто предпочел бы их; нет ни одного, кто хотя бы счел равными их телесным глазам, посредством которых не какой–нибудь один человек владеет золотом, но всякий владеет небом? Ведь всякий посредством телесных глаз владеет всем, что желает видеть. И кто же тогда тот, кто, не будучи способным удержать и то, и другое, а также будучи вынужденным утратить одно из двух, не предпочел бы скорее утратить сокровища, нежели глаза? И, однако же, если бы с подобным условием спрашивалось, предпочел ли бы он утратить зрение или ум, то кто бы не узрел умом, что ему предпочтительнее утратить глаза, нежели ум? Ибо ум без глаз плоти остается умом человека, глаза же плоти без ума становятся глазами животного. И кто же не предпочел бы быть человеком, хотя бы и слепым плотью, тому, чтобы быть животным, хотя бы и зрячим?
20. Я [уже достаточно] сказал для того, чтобы даже более медлительные [умом], до чьих глаз или ушей дошло это сочинение, были, хотя бы и вкратце, наставлены мной по поводу того, насколько ум любит самого себя, даже немощного и заблуждающегося, ибо он любит и преследует то, что ниже его. И он не мог бы любить самого себя, если бы он совсем не знал себя, т. е. если бы он не помнил и не понимал себя. Посредством этого образа Божиего в себе он столь могуч, что способен прилепляться к Тому, Чьим образом он является. Ибо он занимает такое место в порядке сущностей, а не пространства, что выше его только Он. В конце концов, когда он совсем прилепится к Нему, он будет одним духом [с Господом], о чем свидетельствует апостол, говоря. «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 17:17). При этом он приступает к причастию природе, истине и блаженству Его, а не прирастает природой, истиной и блаженством самого себя. Когда же он счастливым образом прилепится к той природе, он будет пребывать в ней неизменным, и он увидит неизменным все, что видит. Тогда, как обещает Божественное Писание, его желание насытится благами (Пс. 102:5), благами неизменными, Самой Троицей Богом, образ Которой он есть. Но дабы он в чем–либо не был затем нарушен, он будет укрываться под покровом лица Его (Пс. 30:21) и исполняться стольким богатством, что он уже никогда не получит удовольствия от греха. Однако теперь, когда он видит самого себя, он видит то, что не есть неизменное.
21. В том он, конечно, не сомневается, поскольку он жалок и желает быть блаженным; и он надеется в возможность стать таковым ни по какой другой причине, как только потому, что он изменчив. Ибо если бы он не был изменчив, он не мог бы стать из блаженного жалким так же, как из жалкого — блаженным. И что же могло сделать его жалким под властью всемогущего и благого Бога, как не его грех и праведность его Господа? И что же его может сделать блаженным, как не его заслуги и награда Господа его? Но и его заслуги суть благодать Его, Чьей наградой будет его блаженство. Ибо он не может сообщить самому себе праведность, которую он утратил. Ведь он получил ее, когда человек создавался, и, конечно же, потерял ее, согрешив. Следовательно, он получает праведность затем, чтобы ее посредством заслужить блаженство Поэтому апостол справедливо замечает ему, как если бы он начинал гордиться своей благостью: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4:7). Когда же он, получивши Духа Его, благим образом вспоминает Господа своего, тогда он чувствует, что именно потому, что он научен внутренним наставлением, он может подняться не иначе, как посредством Его безвозмездного воздействия, [а также] что он смог пасть не иначе, как посредством своего произвольного отложения. Но, конечно, он не вспоминает своего блаженства; ибо оно было, но не есть, и совершенно забыто, а потому ему невозможно напомнить о нем. Впрочем, он верит тому, что достойнейшее доверия Божественное Писание рассказывает через Его пророков о том блаженстве и о райском благоденствии, и что Оно сообщает о том первом благе и зле человека посредством исторического предания. И он вспоминает о своем Господе Боге. Ибо Он всегда есть, а не так, что Он был, а [теперь] не есть, и не так, что Он [теперь] есть, но [когда–то] не был; но поскольку Он пребудет всегда, постольку же Он и пребывал всегда. И Он пребывает целым повсюду, а потому он Им живет и движется, и существует. Потому же он может вспомнить Его. Не потому, что он вспоминает то, что он знал Его в Адаме или где бы то ни было еще прежде жизни в этом теле, или когда он был впервые сотворен для вложения в это тело, ибо он не помнит совершенно ничего из всего того, поскольку все это было истерто забвением. Но ему напоминается, что он может обратиться к Господу, как к тому свету, которым некоторым образом затрагивался и он, даже когда отвращался от Него. Ибо благодаря тому даже нечестивые думают о вечности, а также во многом справедливо осуждают одно и одобряют другое в человеческих нравах. Но на основании каких же правил они судят, как не тех, посредством которых они видят, каким образом каждый должен жить, даже если сами они не живут таким образом. Но где же они видят эти правила? Ведь не видят же они их в своей природе, поскольку, несомненно, эти правила видятся умом, а их умы, как известно, изменчивы. Всякий же, кто мог увидеть эти правила, видел их неизменными; но не в образе своего ума, ибо они суть правила праведности, а их умы, как известно, неправедны. Но где же записаны эти правила, в которых даже неправедный узнает то, что есть праведное, и в которых он распознает, то, что надлежит иметь, хотя он и не имеет этого? Итак, где же они записаны, как не в книге Того Света, Который называется Истиной, откуда списывается всякий справедливый закон, который затем передается (не перенесением, но как бы запечатлением) в сердце человека, творящего справедливость, подобно тому, как образ кольца, запечатлеваясь, передается воску и [при этом] не оставляет кольцо? Тот же, кто не творит [справедливость], но все же видит, что он должен делать, является тем, кто отвращен от Того Света, но все же затрагивается Им. Тот же, кто даже не видит, каким образом он должен жить, прегрешает более простительным образом, поскольку он не является преступником известного ему закона. Но даже последний иной раз затрагивается блистанием вездесущей истины, когда он, будучи наставленным, начинает сознавать.
22. Те же, кто по напоминанию обращаются к Господу от того безобразия, в котором они вследствие своих мирских (saeculares) страстей были сообразны этому веку (saeculo), преображаются из него, внимая апостолу, который, говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2), затем, чтобы тот образ преобразился Тем, Кем он был образован. Ибо тот образ не может преобразовать себя сам подобно тому, как он себя сам обезобразил. Также и в другом месте апостол говорит [о необходимости] «обновиться духом ума» и «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:23, 24). Выражение «созданный по Богу» означает то же, что и сказанные в другом месте слова «по образу Божию» (Быт. 1:27). Но, согрешив, он утратил праведность и святость истины, отчего тот образ сделался безобразным и выцветшим (deformis et decolor), но он может вновь обрести ее, если преобразится и обновится. Что же касается слов «духом ума», то апостол [разумеется] не желал, чтобы здесь мыслилось два [разных] предмета, как будто одно есть дух, а другое — дух ума; но [он сказал так] лишь потому, что всякий ум есть дух, но не всякий дух — ум. Ибо [к слову] есть Дух, Который — Бог, и Который не может обновиться, потому что Он не может обветшать. О духе в человеке говорится также как о том, что не есть ум, духу которого принадлежат воображения, являющиеся подобиями тел, о чем и говорил апостол Коринфянам, когда он сказал: «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, мой ум остается без плода» (1 Кор. 14:14). Он имеет в виду то, о чем говорится без понимания; ведь то даже не может быть сказано, если образы звучащих слов не предшествуют в сознании духа устному озвучиванию. Ведь и душа человека называется духом, отчего в Евангелии [и говорится об Иисусе]: «И, преклонив главу, предал дух» (Ин. 19:30). Этим обозначается смерть тела по выхождению души. Говорится даже о духе животных, о чем написано в книге Соломона, или Экклезиаста, где со всей очевидностью сказано: «Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» (Еккл. 3:21). Об этом написано также и в книге Бытия, где сказано, что из–за потопа «все, что имело дыхание духа жизни» (Быт. 7:22) умерло. Духом называется даже ветер, т. е. нечто совершенно телесное, по поводу чего в псалме говорится: «Огонь и град, снег и туман, дух бури» (Пс. 148:8). Итак, слово «дух» имеет много значений; и апостол под выражением «дух ума» имел в виду тот дух, который называется умом. Подобным образом тот же самый апостол также говорит о совлечении «тела плоти» (Колос. 2:11). Он [разумеется, и в этот раз] не желал, чтобы здесь мыслилось два [разных] предмета, как будто одно есть плоть, а другое — тело плоти; но [он сказал так] лишь потому, что тело является названием многих предметов, у которых нет плоти (ибо помимо плоти есть много тел небесных и земных), тогда как он под выражением «плоть тела» имел в виду тело, которое есть плоть. Следовательно, таким же образом выражение «дух ума» означает тот дух, который есть ум. В другом же месте он даже с еще большей определенностью был назван образом, и то же самое здесь предварялось другими словами: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Колос. 2:9–10). Значит, то, что в одном месте мы читаем об облечении в нового человека как «созданного по Богу», есть то же, что в другом месте читается об облечении в нового человека как того, «который обновляется в познании по образу Создавшего его». Там он сказал «по Богу», здесь же — «по образу Создавшего его». Но вместо того, чтобы сказать [затем] «в праведности и святости истины», он то же сказал здесь [словами] «в познании Бога». Следовательно, это обновление и преображение ума происходит по Богу или по образу Бога. «По Богу» было сказано потому, чтобы не подумали, будто это происходит по твари; а «по образу Бога» — потому, чтобы можно было понять, что это обновление происходит в том, что есть образ Божий, т. е. в уме. Таким же образом мы называем мертвым по телу, но не по духу, того, кто, будучи верным и праведным, отходит от [жизни] тела. Ибо что мы имеем в виду, говоря «мертвый по телу», как не «мертвый телом» или «мертвый в теле», но не «мертвый душой» или «мертвый в душе»? Или если мы говорим «красивый по телу» или же «сильный по телу, но не по душе», что мы имеем в виду, как не то, когда говорим «красивый или сильный телом, но не душой»? И подобных примеров не счесть. Так давайте же не будем понимать слова «по образу Создавшего его» так, как будто образ, по которому обновляются, не тот, который обновляется.
23. Разумеется, это обновление происходит не в одно мгновение самого обращения, как происходит то обновление в крещении через отпущение всех грехов, ибо не остается ни одного наималейшего греха, который бы не был отпущен. Однако каким образом одно дело — быть свободным от лихорадки, и другое — выздороветь от той немощи, которая от нее произошла; и также [каким образом] одно дело — извлечь из тела вонзенное оружие, и другое — исцелить успешным лечением рану, причиненную им; таким же образом первое лечение состоит в том, чтобы устранить причину недуга, что производится прощением всех грехов, а второе состоит в том, чтобы исцелить сам недуг, что происходит постепенным продвижением в обновлении того образа. И то, и другое показывается в псалме, в котором читаем: «Он прощает все беззакония твои» (что происходит в крещении); и далее: «исцеляет все недуги твои» (Пс. 102:3) (что происходит посредством ежедневного приближения, когда обновляется тот образ). По этому поводу со всей ясностью сказал апостол: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Обновляется же он в познании Бога, т. е. в праведности и святости истины, как свидетельствует апостол, о чем и я упомянул. Следовательно, тот, кто со дня на день обновляется продвижением в знании Бога, а также в праведности и святости истины, переносит свою любовь от временного к вечному, от видимого к умопостигаемому, от плотского к духовному, а также настойчиво продвигается, обуздывая и умаляя страсть к низшему и связывая себя любовью с высшим. [Однако на этом пути] он может продвинуться лишь настолько, насколько ему способствует Божия воля, ибо, как говорит Господь: «Без меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Когда же последний день этой жизни застанет человека в этом продвижении и приближении держащимся веры в Посредника, [тогда] он будет встречен святыми ангелами для того, чтобы привести его к Богу, Которого он почитал, и для того, чтобы Бог его усовершил. [И тогда] в конце века сего он получит нетленное тело, не в наказание, но во славу. Ибо тогда в том образе свершится уподобление Богу, когда свершится видение Бога. Об этом и говорит апостол: «Теперь мы видим как бы зеркалом, как в загадке, тогда же лицом к лицу» (1 Кор. 13:12). А также: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы во славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Это то, что происходит со дня на день с продвигающимися во благе.
24. Но апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божий; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). Отсюда ясно, что полное подобие Ему в том образе Божием произойдет тогда, когда он будет вполне созерцать Бога, что, похоже, также имеется в виду апостолом Иоанном в отношении бессмертия тела. Ибо и в этом мы будем подобны Богу, но только Сыну, ибо только Он в Троице воспринял тело, в котором Он, умерев, воскрес, и которое вознес на небо. Ведь и оно считается тем образом Сына Божия, по которому [тогда], как Он [сейчас], мы будем иметь бессмертное тело, соделавшись в том сообразными не образу Отца или Святого Духа, но только Сына, ибо только о Нем мы читаем и воспринимаем здравою верою: «И Слово стало плотью» (Ин. 1:14). Поэтому апостол [Павел] говорит: «Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями» (Рим. 8:29). Первородным, конечно же, из мертвых, согласно тому же апостолу (Колос. 1:18), смертью Которого Его тело было рассеяно в уничижении, а воскресло во славе (1 Кор. 15:43). В соответствии с образом Сына, с которым мы сообразуемся телом через бессмертие, мы также делаем то, о чем говорит тот же самый апостол: «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15:49), затем, чтобы мы, будучи по Адаму смертными, непоколебимо держались истинной веры и надежного упования в то, что мы будем бессмертными по Христу. Ибо так мы можем и теперь [уже] носить тот образ, хотя пока еще не в видении, а в вере, не в действительности, но в уповании. Ибо апостол, сказав это, говорил о воскресении тела.
25. Что же касается того образа, о котором сказано: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26), мы верим и, насколько смогли исследовать, понимаем, что человек был сотворен по образу Троицы, ибо сказано не по «Моему» или «Твоему» [образу]. А потому в соответствии с тем образом следует понимать и то, что говорит апостол Иоанн: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть», ибо он говорил о Том, о Ком сказал: «Мы теперь дети Божий» (1 Ин. 3:2). Бессмертие же плоти совершится в то мгновение воскресения, о котором говорит апостол Павел: «Вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:52). Ибо в то самое мгновение ока до суда воскреснет в силе, нетленности и славе духовное тело (corpus spirituales), которое, пока оставаясь телом души (corpus animate), сеется в немощи, тленности и уничижении. Образ же, который со дня на день обновляется духом ума в познании Бога не внешним, но внутренним образом, усовершится видением, которое тогда — после суда — будет лицом к лицу, сейчас же оно происходит как бы «зеркалом, как в загадке». В связи с эти преуспеянием и надлежит понимать сказанное: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Ибо этот дар будет дан нам тогда, когда будет сказано: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам» (Мф. 25:34). Ибо тогда нечестивец будет устранен так, что не будет взирать на величие Господа (Ис. 26:10), когда те, что слева, пойдут в муку вечную, а те, что справа, — в жизнь вечную (Мф. 25:46); «Сия же», как говорит Истина, «есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого истинного бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
26. Эта созерцательная мудрость, которая в Священном Писании, как я полагаю, как мудрость собственно отлична от знания, относится только к человеку. Однако она у него лишь от Того, причастием Кому разумный и понимающий ум (mens rationalis et intellectualis) может стать действительно мудрым. [Так вот об этой мудрости] и говорит Цицерон в конце диалога «Гортензий»: «Мы, размышляя об этом день и ночь и заостряя (acuentibus) свое понимание, которое есть взор ума (mentis acies), а также бдя, как бы он не притупился; т. е. живя философией, [мы] преисполнены надеждой, что если наше суждение и мудрствование (quod sentimus et sapimus) смертно и преходяще, то [все же], когда мы выполним наше человеческое предназначение, наш закат будет приятным, а не тягостным угасанием, и как бы отдохновением от жизни; или же если, как представлялось древним философам, величайшим и славнейшим, мы имеем вечные и божественные души, то мы должны считать, что чем больше они будут пребывать в своем движении, т. е. в разуме и в стремлении к исследованию, и чем меньше они будут смешивать и связывать себя с пороками и заблуждениями людей, тем более легким будет их восхождение и возвращение на небо». Наконец, он прибавляет само заключение, в котором, заканчивая свое рассуждение, повторяет: «Итак, чтобы в конце концов завершить свою речь, [нам следует сказать, что], если мы желаем угаснуть безмятежно, преуспев в тех занятиях, или же если [нам предстоит] без промедления переселиться из этого в несомненно лучшее местопребывание, мы должны прилагать к тому все свои труды и старания». Здесь я удивляюсь тому, что человек столького дарования обещает людям, живущим философией, делающей их через созерцание истины блаженными, «приятный закат», «если наше суждение и мудрствование смертно и преходяще», как будто то, что мы не любили и, даже более того, нестерпимо ненавидели, умрет или погибнет так, чтобы его закат был нам приятен. В действительности же данное соображение он позаимствовал не у философов, о которых отзывается с великой похвалой. Оно, [скорее], отдает Новой Академией, от которой он воспринял учение о сомнении даже в очевиднейшем. От философов же, которых он сам признает величайшими и славнейшими, он воспринял то, что души являются вечными. Поскольку этой жизни наступит предел, постольку высказанное побуждение вполне подобающим образом поднимает вечные души к тому, чтоб они могли обнаружиться «в своем движении, т. е. в разуме и в стремлении к исследованию», и чтоб они могли меньше «смешивать и связывать себя с пороками и заблуждениями людей», дабы их возвращение к Богу было более легким. Но того движения, состоящего в любви и исследовании истины, не довольно для несчастных, т. е. для смертных, имеющих лишь только этот разум без веры в Посредника. [Это и есть то] что я, насколько мог, старался показать в предыдущих книгах этого труда, в особенности в четвертой и в тринадцатой.
КНИГА 15
(В ней, во–первых, дается краткое изложение содержания предшествующих четырнадцати книг. Во–вторых, говорится о необходимости исследовать Троицу, Которая есть Бог, в самом вечном, бестелесном и неизменном, в совершенном созерцании которого нам обещана блаженная жизнь. В–третьих, однако, утверждается, что ныне вышняя Троица может быть видима нами только «как бы зеркалом, как в загадке», поскольку в образе Божием, каковым мы являемся, Она может созерцаться лишь как в подобии, неясном и с трудом различимом, отчего эта книга заключается не рассуждением, но молитвой)
1. Желая наставить читателя в том, что сотворено, затем, чтобы он [его посредством] познавал Того, Кем оно сотворено, мы достигли Его образа, который есть человек, [а именно, человек] в том его [определении], которым он превосходит всех остальных живых существ, т. е. разумом или пониманием (ratione uel intellegentia); и все то, что может быть еще сказано о душе разумной и рассудительной, относится к тому, что называется умом или разумной душой (mens uel animus). Ибо последним именем некоторые латинские авторы в соответствии с их собственной манерой выражения отличают то, что выделяется в человеке и чего нет в животных, от души (anima), которая присуща также и животным. Если же мы будем искать что–либо истинное [из того, что] выше этой природы, то это будет Бог, природа не сотворенная, но творящая. И мы должны, если возможно, показать не только верующим посредством авторитета Божественного Писания, но и понимающим посредством некоторого разумного обоснования то, является ли она Троицей. То же, что я сказал «если возможно», проявит лучшим образом себя само, когда мы начнем наше рассуждение.
2. Ибо Сам Бог, Которого мы ищем, будет, как я надеюсь, способствовать нам, дабы труд наш не был бесплодным, и чтобы мы поняли, почему в святом псалме сказано: «Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Пс. 104:3–4). Но ведь то, что всегда ищется, похоже, никогда не находится; и каким же образом тогда сердце ищущих, если они не могут найти то, что ищут, будет веселиться, а не, наоборот, печалиться? Ибо в псалме говорится о сердце ищущих, а не находящих Господа. И все же пророк Исайя свидетельствует о том, что тот, кто ищет, может найти Господа Бога, ибо говорит: «Ищите Господа, и как только найдете Его, призывайте Его; когда же приблизится Он, да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник — помыслы свои» (Ис. 55:6–7). Но если Он может быть найден, почему же тогда сказано: «ищите лица Его всегда». Но, быть может, Его следует искать даже найденного? Ведь таким образом следует разыскивать непостижимое, дабы не было сочтено, что ничего не найдено, когда было обнаружено, насколько непостижимо то, что искали. Но почему же тогда ищущий ищет таким образом то, что ищет, если постигает, что оно непостижимо, как не потому, что он не должен прекращать [поиск], пока он продвигается в самом исследовании непостижимого, и становится все лучше и лучше в поиске столь великого блага, каковое как ищется затем, чтобы быть найденным, так и находится затем, чтобы быть искомым? Ибо Он ищется затем, чтобы быть найденным более приятным образом, и находится затем, чтобы быть искомым с большей страстью. Именно так воспринимаются слова Премудрости, сказанные в книге Экклезиаста: «Едящие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать» (Сир. 24:23). Ибо они едят и пьют, потому что находят, и потому алчут и жаждут, что все еще ищут. Вера ищет, разумение находит, отчего пророк и говорит: «Если не уверуете, не уразумеете» (Ис. 7:9). И опять–таки разумение все еще ищет Того, Кого оно находит, [ибо] как поется в святом псалме: «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Пс. 13:2). Следовательно, человек должен иметь разумение затем, чтобы искать Бога.
3. Мы потому довольно задержались в том, что сотворил Бог, чтобы мог быть познан Он Сам посредством того, что Он сотворил. Ибо невидимое Его от создания мира чрез рассматривание творений видимы (Рим. 1:20). А потому в книге Премудрости обличаются те люди, «у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их, ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их» (Прем. 13:1–5). Я потому привел эти слова из книги Премудрости, чтобы никто из верующих не подумал, будто бы, пока я не достиг человеческого ума, я сначала напрасно и тщетно искал в творении (как бы постепенно посредством определенных троиц своего рода) признаки Той высшей Троицы, Которую мы ищем, когда ищем Бога.
4. Но поскольку нужды нашего рассмотрения и рассуждения заставили нас сказать в предыдущих четырнадцати книгах много того, что мы не способны охватить сразу одним взглядом так, чтобы быстро соотнести в мысли это с тем, что мы желаем постичь, [постольку] я с Божьей помощью, и насколько смогу, постараюсь вкратце и без обсуждений свести вместе все, к чему я посредством рассуждений заключал в отдельных книгах, и сделать это предметом как бы одного взгляда ума не тем образом, каким мы убеждались в каждом отдельном случае, но так, чтобы [его предметом] было то, в чем мы убеждались затем, чтобы последующее не было отделено от предшествующего настолько, что рассмотрение последующего стало бы причиной забвения предшествующего, или чтобы, если это забвение совершилось, то, что забылось, могло быстро вспомниться при повтором прочтении.
5. В первой книге в соответствии со Святым Писанием было показано единство и равенство Той высшей Троицы. Во второй, третьей и четвертой — то же самое, разве что в [этих] трех книгах с особым тщанием рассматривался вопрос о послании Сына и Святого Духа, и было показано, что Посланный не меньше Пославшего потому, что Один посылается, а Другой посылает, поскольку Троица, которая во всем равна и одинакова по своей неизменной, невидимой и вездесущей природе, действует нераздельным образом. В пятой же из–за тех, кто считает, что сущность Отца и Сына не является одной и той же потому, что все, что высказывается о Боге, высказывается по сущности, и поэтому утверждает, что рождать и рождаться или быть рожденным и нерожденным, являясь различными [определениями], суть различные сущности, показывается, что не все, что высказывается о Боге, высказывается по сущности, (когда, например, Он называется благим и великим, и каким бы ни было еще то, каковым Он называется Сам по Себе), но что [некоторые определения] высказываются также и относительно, т. е. не по Самому Себе, а по чему–то, что Он Сам не есть (когда, например, Он называется Отцом в отношении Сына, или Господом по отношении к творению, служащему Ему); отчего если что–либо [высказываемое] относительно, т. е. по чему–то, что Он Сам не есть, высказывается также и сообразно со временем, как то: «Господи, Ты нам прибежище» (Пс. 89:1), в Него не привходит ничего, из–за чего бы Он изменился, и Сам Он остается по Своей природе или сущности совершенно неизменным. В шестой книге вопрос о том, каким образом апостольскими устами Христос назван Божией силой и Божией премудростью (1 Кор. 1:24), обсуждается так, что откладывается более тщательное рассмотрение того, не является ли Тот, от Кого рожден Христос, самой премудростью, но только Отцом Своей премудрости, или же премудрость [сама] родила премудрость. Но что бы из того ни было, в той книге также выясняется равенство Троицы, и то, что Бог не тройственный, но Троица; а также и то, что Отец и Сын не суть нечто как бы двойное по отношению к одному Святому Духу, поскольку [в Троице] трое не есть нечто большее, нежели один из Них. Мы также обсудили, каким образом возможно понимать то, что говорит епископ Иларий: «Вечность (aeternitas) — в Отце, вид (species) — в образе (in imagine), польза (usus) — в даре (in munere)». В седьмой разъясняется отложенный вопрос о том, каким образом Бог, родивший Сына, является не только Отцом Своей силы и премудрости, но и Сам есть сила и премудрость, и также Святой Дух [есть то же]; [причем], Они вместе все же не суть три силы и три премудрости, но одна сила и одна премудрость, как один Бог и одна сущность. Далее же спрашивалось, каким образом говорится об одной сущности и трех лицах (una essential, tres personae) или (как говорят иные греки) — об одной сущности и трех субстанциях (una essential tres substantiae); и было обнаружено, что по речевой необходимости (elocutionis necessitate) говорится так, чтобы называлось какое–нибудь одно имя, когда спрашивается, что суть Трое, Которых мы воистину исповедуем как Трех, а именно: Отца, Сына и Святого Духа. В восьмой книге с помощью приведенного обоснования понимающим [людям] становится ясным, что в сущности Истины не только Отец не больше Сына, но и Оба вместе Они не суть нечто большее, нежели один Святой Дух; и что любые два в Этой Троице не суть нечто большее, нежели один; и что все трое вместе не суть нечто большее, нежели каждый по отдельности. Затем я напомнил, что посредством истины, которая созерцается пониманием, посредством высшего блага, которым существует всякое благо, посредством праведности, ради которой любится праведная душа даже пока еще неправедной душой, и, [наконец], посредством любви, которая в Святом Писании названа Богом (I Ин. 4:16), и через каковую для понимающих [людей] начинает быть различимой хоть какая–то троица любящего, любимого и любви; понимается, насколько возможно, не только бестелесная природа, но даже и неизменная, которая есть Бог. В девятой наше рассуждение достигает образа Божиего, который есть человек по своему уму, и в нем обнаруживается определенная троица, а именно, ума, знания, которым он себя знает, и любви, которой он любит себя и свое знание; показывается также, что эти трое суть равные между собой и имеют одну сущность. В десятой книге то же самое рассматривается с большим тщанием и точностью и сводится к тому, что мы обнаруживаем в уме более явную троицу, состоящую в памяти, понимании и воле. Но поскольку выяснилось и то, что хотя ум никогда бы не мог быть таким образом, чтоб он не помнил, не понимал и не любил себя, [все же] он не всегда думает о самом себе, и когда он не думает о себе, он не отличает себя одной и той же мыслью от телесного; постольку рассуждение о Троице, образом Каковой он является, было отложено затем, чтобы в самом видимом телесном обнаружилась троица, и чтобы в нем более надлежащим образом поупражнялось внимание читателя. Итак, в одиннадцатой было выбрано ощущение зрения, в котором обнаруживалось бы то, что могло бы, разумеется, быть признанным и в других четырех телесных ощущениях; и, таким образом, троица внешнего человека сначала проявлялась в том, что воспринимается извне, а именно, из видимого тела и формы, которая запечатлевается от него во взоре воспринимающего, а также в направленности воли, соединяющей первые два. Однако выяснилось, что эти трое между собою не равны и не имеют одну и ту же сущность. Затем в самой душе была обнаружена иная троица, как бы введенная внутрь (uelut introducta) из того, что было воспринято извне; [в ней] те же самые три [определения] оказались имеющими одну и ту же сущность: образ тела, который пребывает в памяти, его воображение, [которое возникает тогда], когда к нему обращается взор представляющего, и направленность воли, соединяющей первые два. Но было выяснено, что эта троица принадлежит внешнему человеку потому, что она была привнесена из телесного, которое ощущается извне. В двенадцатой книге мы сочли должным отличить мудрость от знания, а также искать сначала в том, что называется знанием собственно, некоторую троицу своего рода (как низшую), каковая, хотя и относится уже к внутреннему человеку, все же еще не должна ни называться, ни считаться образом Божиим. И это обсуждается в тринадцатой книге при посредстве христианской веры. В четырнадцатой говорится об истинной мудрости человека, которая дается ему Божией милостью в самом причастии человека Богу, и которая отличена от знания. И наше рассуждение достигло того, что была выявлена троица в образе Божием, который есть человек по своему уму, каковой обновляется познанием Бога по образу Создавшего человека, [т. е.] по Его образу, и каковой таким образом постигает мудрость, в которой — созерцание вечного.
6. Теперь же давайте исследовать Троицу, Которая есть Бог, в самом вечном, бестелесном и неизменном, в совершенном созерцании которого нам обещана блаженная жизнь, которая может быть только вечной. Ибо то, что Бог есть, возвещает не только авторитет Божественного Писания; но все окружающее нас, к чему относимся также и мы, сама вселенская природа вещей провозглашает то, что у нее есть превосходящий ее Творец, который снабдил нас умом и естественным разумом (mentem rationemque naturalem), посредством чего мы могли бы видеть, что следует предпочитать живое неживому; наделенное ощущением тому, что не ощущает; понимающее тому, что не понимает; бессмертное смертному; мощное немощному; праведное неправедному; прекрасное безобразному; благое злому; нетленное тленному; неизменное изменчивому; невидимое видимому; бестелесное телесному; блаженное жалкому. А потому, поскольку мы, несомненно, ставим Творца выше сотворенного, постольку нам с необходимостью следует признать, что Он живет, ощущает и понимает высшим образом, и то, что Он не может умереть, стать тленным или измениться, а также то, что Он не есть тело, но дух, из всех [духов] наиболее могущественный, праведный, прекрасный, благой и блаженный.
7. Но все то, что я сказал, и всякое другое из того же рода выражений, что представляется достойным того, чтобы быть сказанным о Боге, подобает как всецелой Троице, которая есть единый Бог, так и каждому отдельному Лицу в Этой Троице. Ибо кто осмелится сказать о едином Боге, Который есть Сама Троица, или же [по раздельности] об Отце или Сыне, или Святом Духе, то, что Он или не живет, или не ощущает, или не понимает; или же то, что в той природе, по которой Они равны между Собой, Один из Них или смертен, или тленен, или изменчив, или телесен? Или есть тот, кто будет отрицать, что всякий из Них всемогущ, праведнейший, прекраснейший, лучший, блаженнейший? Но если все то и тому подобное может быть высказано как о самой Троице, так и о каждом отдельном Лице Троицы, где или каким образом проявиться Троице? Однако, давайте сначала сведем все это множество [определений] к небольшому числу. Ведь то, что в Боге называется жизнью, есть сама сущность и природа Его. Следовательно, Бог не живет иначе, как только той жизнью, которая есть Он Сам по отношению к Самому Себе. И эта жизнь не такова, каковая присуща дереву, ибо в ней нет ни понимания, ни ощущения. И она не такова, каковая присуща животному, ибо хотя жизнь животного и обладает пятью ощущениями, [все же] в ней нет понимания. Та же жизнь, которая есть Бог, все ощущает и понимает, и ощущает посредством ума, а не тела, поскольку Бог есть дух (Ин. 4:24). И ощущает Бог не через тело, как животные, которые имеют тела, ибо Бог не состоит из души и тела. Поэтому Его простая (simplex) природа ощущает так же, как понимает, и понимает так же, как ощущает; и ощущение (sensus) у него есть то же, что и понимание (intellectus). И о Нем нельзя сказать так, будто Он когда–то прекратит или начал быть, ибо Он бессмертен. А [потому] о Нем не напрасно сказано, что Он есть «единый, имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16). Ведь бессмертием воистину является бессмертие того, в чьей природе нет никакого изменения. Его же также и истинная вечность, посредством каковой Он есть неизменный Бог, без начала и конца, и соответственно нетленный. Следовательно, одно и то же — называть ли Бога вечным или бессмертным, или нетленным, или неизменным; и то же самое, когда Он называется живым и понимающим, что, конечно же, означает «премудрый». Ибо Он не получал премудрости, поскольку премудр, но Он Сам есть премудрость. И она же есть [Его] жизнь, и она же — [Его] сила, или мощь, она же — красота, посредством чего Он определяется как всемогущий и наипрекраснейший. Ибо что есть более могущественного и более прекрасного, нежели Премудрость, которая «распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу» (Прем. 8:1)? Но неужели благость и праведность в природе Божией различаются между собой так, как различаются они в его действиях, как если бы они были двумя различными качествами Бога: одно–благостью, другое — праведностью? Конечно же, нет. Но то, что есть праведность, есть сама благость; а то, что есть благость, есть само блаженство. И потому Бог называется бестелесным или нетелесным, что Он считается или мыслится духом, а не телом.
8. Далее, если бы мы сказали: «Вечный, бессмертный, нетленный, неизменный, живой, мудрый, сильный, прекрасный, праведный, благой, блаженный, дух», лишь самое последнее из этих [определений] казалось бы обозначающим сущность; остальные же [казались бы] качествами этой сущности. Однако это не так в той невыразимой и простой природе. Ибо что бы в ней ни казалось обозначающим качество, должно понимать как обозначающее субстанцию или сущность (substantiam uel essentiam). И да не подумаем мы, будто [определение] духа высказывается о Боге по сущности, а благо — по качеству, поскольку оба определения высказываются по сущности. И так же все остальное, что мы упомянули, и о чем мы уже немало говорили в предыдущих книгах. Итак, давайте же выберем какое–либо одно из первых четырех [определений], перечисленных и распределенных нами (дабы наше внимание не отвлекалось [всем] множеством), т. е. из «вечного, бессмертного, нетленного, неизменного», поскольку, как мы показали, эти четыре обозначают одно; и пусть это [одно] будет, пожалуй, тем, что высказано первым, т. е. «вечным». Давайте проделаем то же самое и в отношении последующих четырех, т. е. «живого, мудрого, сильного, прекрасного». И поскольку жизнь присуща также и животному, которому не присуща мудрость, а другие два, т. е. мудрый и сильный, соотносятся в человеке между собой таким образом, что Святое Писание говорит: «Лучше быть мудрым, нежели сильным» (Прем. 6:1), [причем], красивыми также называются и тела, постольку из тех четырех, что мы выбрали, давайте выберем [определение] «мудрый». Правда, в Боге эти четыре [определения] нельзя назвать неравными, ибо хотя они и суть четыре имени, но все же одна и та же вещь. Что же касается третьих и последних четырех [определений], то хотя в Боге быть праведным есть то же, что быть благим и блаженным, а быть духом есть то же, что быть праведным, благим и блаженным, все же поскольку в людях дух может не быть блаженным, постольку праведный и благой [человек] может пока еще не быть блаженным; но тот, кто блажен, является, разумеется, и праведным, и благим, и духом. [Следовательно], давайте лучше выберем то [одно], которое не может быть в людях без других трех, т. е. «блаженный».
9. Итак, когда мы говорим: «Вечный, мудрый, блаженный», неужели эти три суть Троица, Которая есть Бог? Итак, мы свели те двенадцать [определений] к трем. Но, быть может, таким образом мы можем свести и эти три к какому–то одному из них. Ибо если в природе Бога премудрость и сила, или жизнь и премудрость есть одно и то же, почему в природе Бога не может быть одним и тем же вечность и премудрость, или блаженство и премудрость? А потому, поскольку не было различия в том, говорили бы мы о тех двенадцати или об этих трех, когда мы сводили множество к небольшому числу, постольку нет разницы и в том, говорим ли мы об этих трех или же о том одном, к единственности которого, как мы показали, могут быть сведены подобным образом остальные два [из трех]. Но какой же способ рассуждения, какая же сила и мощь понимания, какая живость разума, какая проницательность мысли (об остальном умолчу) могла бы показать, каким образом то одно, что Бог называется Премудростью, есть Троица? Ибо Бог не получает мудрость от кого бы то ни было, как мы получаем ее от Него, но Он Сам есть Своя мудрость. Ибо Его мудрость не есть одно, а сущность — другое, поскольку для Него быть есть то же, что быть Премудростью. Ведь Святое Писание называет Христа Божией силой и Божией премудростью (1 Кор. 1:24). Но в седьмой книге мы обсуждали, каким образом это должно пониматься так, чтобы Сын не казался делающим Отца мудрым; и наше рассуждение пришло к тому, что Сын также является Премудростью Премудрости, как Он является Светом от Света, Богом от Бога. И мы также обнаружили, что и Святой Дух не может быть чем–то иным, нежели тем, что Он Сам есть Премудрость. И все Они суть одна премудрость, как и один Бог, одна сущность. Каким же образом надлежит нам понимать, что Премудрость, которая есть Бог, является Троицей? Я говорю не о том, каким образом нам этому верить (ибо для верующих это не является вопросом). Но если мы каким–либо путем можем посредством понимания узреть то, во что верим, [то спрашивается] что это за путь?
10. Ибо если мы будем вспоминать, в какой из прежних книг Троица начала являться нашему пониманию, то это будет восьмая книга. Ведь именно в ней мы, насколько могли, пытались, рассуждая, возвысить устремление ума к пониманию той неизменной природы, превосходящей все, которой наш ум не является. Но мы все же всматривались в нее как сущую недалеко от нас, хотя и над нами, но не [пространственным] положением, а своим внушающим благоговение удивительным превосходством таким образом, чтоб она казалась сущей с нами посредством своего настоящего света. Однако в нем нам еще не было явлено никакой троицы, поскольку в том сиянии мы не удерживали устойчивым взор ума в целях ее отыскания; мы могли различить ее только тем, что она не была чем–то вещественным, в отношении какового следует полагать, что величина двух ли трех больше одного. Однако, когда наше рассмотрение дошло до любви, которая в святом Писании названа Богом (Ин. 4:16), тогда начала понемногу проявляться троица, а именно, троица любящего, любимого и любви. Но поскольку тот невыразимый свет отражал (reuerbarabat) наш взгляд, и некоторым образом изобличалось то, что немощь нашего ума не способна соизмериться с ним, постольку с целью восстановления сил труждающегося внимания мы отступали к прежде начатому, и распределенному, а также как бы более привычному рассмотрению самого нашего ума, сообразно каковому человек сотворен по образу Божиему (Быт. 1:27). И затем, чтобы мы могли видеть невидимое Бога через рассматривание созданного (Рим. 1:20), мы задержались с девятой по четырнадцатую книгу на творении, каковым являемся мы сами. И вот теперь, поупражняв понимание в низшем, насколько было необходимым, или, быть может, больше, чем было необходимым, мы желаем, но не можем подняться созерцанием к высшей Троице, Которая есть Бог. Ибо так, как мы зрим очевидные троицы, будь то те, что производятся вовне телесным, или когда мыслятся те же самые, будучи ощущаемыми извне; или когда те, что, возникая в душе и не относясь к телесному ощущению, как, например, верования или добродетели, являющиеся знанием того, как следует жить, различаются разумом со всей ясностью и удерживаются в знании; или когда сам ум, посредством которого мы знаем все, о чем мы говорим, что мы знаем воистину, познается самим собой или мыслит о самом себе; или же когда ум созерцает что–либо вечное и неизменное, чем он сам не является; так вот, тем же образом, каким мы во всех этих [случаях] зрим очевидные троицы, поскольку они возникают или есть в нас, когда мы вспоминаем, созерцаем или желаем нечто такое, зрим ли мы также и Ту Троицу Бога, поскольку и в этом случае мы, понимая, созерцаем как бы Произносящего [Слово] и Само Слово Его, т. е. Отца и Сына, а также исходящую любовь, общую Обоим, т. е. Святого Духа? Или же тогда, как мы скорее зрим, нежели верим в те троицы, которые относятся к нашим ощущениям или душе, мы скорее верим в то, что Бог — Троица, нежели зрим это? Но если это так, то тогда, разумеется, или мы совсем не видим невидимое Бога через рассматривание созданного, или же если мы что–то видим, мы не видим в нем Троицы; а [значит] есть то, что видится, и есть то, во что безо всякого видения надлежит верить. Так, восьмая книга показала нам, что мы созерцаем неизменное благо, каковым не являемся; четырнадцатая же напомнила нам о том, когда мы говорили о мудрости, каковую человек имеет от Бога. Но почему же тогда в ней нам не признать Троицы? Или та Премудрость, каковой считается Бог, не понимает и не любит себя? Кто же такое сказал бы? Или есть тот, кто не видит, что там, где нет знания, нет и мудрости? Или же нам надлежит полагать, что Премудрость, которая есть Бог, знает иное, но не знает себя или любит иное, но не любит себя? Но говорить или верить таким образом является глупым и нечестивым. Так, значит, Троица, т. е. Премудрость, есть и знание себя, и любовь к себе. Ибо так мы обнаруживаем троицу и в человеке, т. е. в уме, знании, которым он себя знает, и в любви, которой он себя любит.
11. Но эти три [определения] суть в человеке таким образом, что они не суть сам человек. Ибо человек, как определяли его древние, есть разумное смертное животное (animal rationale mortale). Следовательно, эти три [определения, хотя и] являются основными в человеке, [однако же] сами не суть человек. И одно лицо, т. е. всякий отдельный человек, имеет их в своем уме, или иначе [просто] имеет ум. Но если даже мы определяем человека так, что говорим: «Человек есть разумная сущность (substantia rationales), состоящая из души и тела», то [все же] нет никакого сомнения в том, что человек имеет душу, которая не есть тело, и имеет тело, которое не есть душа. А потому эти трое не суть человек, хотя относятся к человеку, или суть в человеке. Ведь также если мы будем думать об одной душе в отвлечении от тела, то ум есть нечто, относящееся к ней, как бы глава или глаз, или зрак (facies) ее, но перечисленное не следует понимать как тела. Следовательно, ум не есть душа, и в душе умом называется нечто превосходное. Так, неужели мы можем сказать, что в Боге Троица есть таким образом, что Она есть нечто относящееся к Богу, но не есть Сам Бог? Вот почему всякий отдельный человек, каковой называется образом Божиим не по тому всему, что относится к его природе, но только по своему уму, есть одно лицо и образ Троицы в уме. И нет ничего, что относилось бы к природе Божией, но не относилось бы к Той Троице; и Три Лица имеют одну сущность не так, как всякий отдельный человек есть одно лицо.
12. И подобно этому есть большая разница и в том, что, когда мы говорим об уме в человеке, а также его знании и любви или же о его памяти, понимании и воле, мы ничего не помним об уме иначе, как посредством памяти; не понимаем иначе, как посредством понимания; не любим иначе, как посредством воли. Но кто же осмелится сказать, что в Той Троице Отец не понимает ни Себя, ни Сына, ни Святого Духа иначе, как посредством Сына, или не любит иначе, как посредством Святого Духа; и что Он не помнит ни Себя, ни Сына, ни Святого Духа иначе, как только посредством Самого Себя; и что таким же образом Сын не помнит ни Себя, ни Отца иначе, как посредством Отца, и что Он не любит иначе, как посредством Святого Духа; а также что Он не понимает ни Себя, ни Отца, ни Святого Духа, иначе, как посредством Самого Себя; и, [наконец], что подобным же образом Святой Дух помнит Отца, Сына и Себя лишь посредством Отца; и что понимает Он Отца, Сына и Самого Себя лишь посредством Сына, но не любит ни Самого Себя, ни Отца, ни Сына, иначе, как посредством Самого Себя, как если бы Отец был памятью Самого Себя, Сына и Святого Духа, Сын же — пониманием Самого Себя, Отца и Святого Духа, а Святой Дух — любовью к Самому Себе, Отцу и Сыну? Так, кто же возомнит так, чтобы полагать или утверждать подобное в отношении Той Троицы? Ибо если бы [мы сказали, что] в Ней один лишь Сын понимает за Себя, Отца и Святого Духа, то мы бы вернулись к той нелепости, согласно которой Отец является премудрым не Сам по Себе, а от Сына; и [согласно каковой выходит] что не Премудрость родила Премудрость, но что Отец называется премудрым той Премудростью, которую родил. Ведь там, где нет понимания, нет и мудрости, а потому если Отец не понимает Самого Себя за Самого Себя, но Сын понимает за Отца, то, разумеется, Сын делает Отца премудрым. Однако, если для Бога быть есть то же, что быть премудрым, и если для Него сущность есть то же, что Премудрость, тогда не Сын — от Отца, что истинно, но, пожалуй, Отец от Сына имеет сущность, что совершенно нелепо и ложно. Но эту нелепость мы со всей определенностью обсудили, обличили и отбросили в седьмой книге. Поэтому Бог Отец является премудрым Той Премудростью, посредством каковой Он Сам есть Своя Премудрость, и Сын является Премудростью Отца от Премудрости, которая есть Отец, от Кого рожден Сын. Вот почему соответственно Отец также и понимает тем пониманием, посредством какового Он есть Свое понимание, ибо не может быть мудрым тот, кто не понимает; Сын же есть понимание Отца, рожденный от понимания, которое есть Отец. И то же самое вполне уместно можно сказать и о памяти. Ибо каким образом может быть мудрым тот, кто ничего не помнит или не помнит себя? Значит, поскольку Отец есть премудрость, и Сын — Премудрость, постольку как Отец помнит Самого Себя, так и Сын помнит Самого Себя; и как Отец помнит Себя Самого и Сына не памятью Сына, но Своей памятью, так и Сын помнит Себя Самого и Отца не памятью Отца, но Своей памятью. И кто также скажет, что там, где нет любви, есть мудрость? От чего мы заключаем, что Отец есть таким же образом Своя любовь, каким образом Он есть Свое понимание и своя память. Следовательно, эти три, т. е. память, понимание и любовь или воля, в той высшей и неизменной сущности, которая есть Бог, суть не Отец, Сын и Святой Дух, но только Отец. Поскольку же и Сын есть также Премудрость, рожденная от Премудрости, постольку каким образом ни Отец, ни Сын не понимают за Него, но Он Сам за Себя Самого, таким же образом ни Отец не помнит за Него, ни Святой Дух не любит за Него, но Он Сам за Себя Самого. Ибо Он Сам есть Своя память, Свое понимание, Своя любовь; но то, что Он есть, Он имеет от Отца, от Которого рожден. Поскольку же Святой Дух есть также Премудрость, исходящая от Премудрости, постольку Он не имеет Отца как память, Сына — как понимание, и Себя — как любовь; ибо Он не был бы Премудростью, если бы одно [Лицо] помнило бы за Него, а другое — понимало бы за Него, тогда как Он лишь любил бы за Себя Самого. Он Сам имеет [все] эти три [определения], и имеет их таким образом, что Он Сам есть они же. Однако же, то, что Он есть, есть от Того, от Кого Он исходит.
13. Так кто же из людей может постичь ту Премудрость, которой Бог знает все таким образом, что в Ней ни то, что называется прошедшим, не является прошедшим, ни то, что называется будущим, не ожидается как грядущее, как если бы оно отсутствовало, но и прошедшее, и будущее суть настоящее вместе с [самим] настоящим, ни то, что мыслится отдельно так, что сознание переходит мыслью от одного к другому, не мыслится иначе, как в едином взоре, в котором оно все наличествует одновременно; так вот, кто из людей, спрашиваю я, может постичь ту Премудрость (а так же то Благоразумие и то Знание), если мы не можем постичь даже нашу? Ведь как–то мы можем созерцать то, что присутствует для наших ощущений или понимания, то же, что присутствовало [когда–то], но отсутствует [теперь], не будучи забытым, мы знаем посредством памяти. И мы заключаем не от будущего к прошедшему, но от прошедшего к будущему, [причем мы делаем это] посредством шаткого познания (non tamen firma cognitione). Впрочем, у нас есть некоторые мысли, относящиеся к ближайшему будущему, которые мы предусматриваем (prospicimus) с большей ясностью и определенностью, [причем] мы делаем это (когда и насколько способны сделать это) посредством памяти, хотя память кажется имеющей отношение не к будущему, а к прошедшему. В этом можно удостовериться на примере тех стихов или песен, порядок слов в которых мы воспроизводим памятью; ибо мы, конечно же, не смогли бы их произнести, если бы не предвидели (praeuideremus) мыслью то, что следует. И все же не провидение (prouidentia), но память сделала так, чтоб мы предвидели. Ведь пока не закончится все то, что мы говорим или поем, не произносится ничего, чтобы не было провидено и предусмотрено (prouisum prospectumque). И все же, когда мы делаем это, то считается, что мы поем или говорим не посредством провидения, но памяти. И того, кто оказывается более способным в произнесении многого, обычно считают таковым не благодаря [его способности к] провидению, но памяти. Мы знаем и совершенно уверены, что это происходит в душе или посредством души. Однако каким же образом это происходит? Чем более внимательно мы желаем исследовать это, тем более нам не хватает слов, и тем более ослабевает наше намерение, как только мы достигаем чего–то ясного в понимании, хотя и не в языке. Но можем ли мы при всей немощи ума нашего постичь то, что Божественное провидение есть то же, что Его память и понимание, и что, мысля, Он зрит все не по отдельности, а охватывает все одним вечным, неизменным и невыразимым видением? При таком затруднении и тяжком положении хочется воззвать к живому Богу: «Дивно для меня видение Твое, — высоко, не могу постигнуть его» (Пс. 138:6). Ибо я, исходя из себя самого, понимаю, что Твое знание, посредством какового Ты меня создал, дивно и непостижимо, ведь я не способен постичь даже себя самого, кого Ты создал. И все же «в мыслях моих возгорелся огонь» (Пс. 38:4) для того, чтобы я искал лица Его всегда (Пс. 104:4).
14. Я знаю, что мудрость является бестелесной сущностью, и что она есть свет, посредством которого видится то, что не видится плотскими глазами. Но все же муж столь великой духовности говорит: «Теперь мы видим как бы зеркалом, как в загадке, тогда же лицом к лицу» (1 Кор. 8:12). Если же мы зададимся вопросом о том, что и какого рода есть то зеркало, то само собой нам на ум придет то, что через зеркало мы воспринимаем только образ. И это есть то, что мы пытались сделать затем, чтобы посредством того образа, которым мы являемся, мы хоть как–нибудь, «как бы зеркалом, как в загадке», могли видеть Того, Кем мы сотворены. Это обозначается также и тем, что говорит апостол: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы во славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Он сказал о том, что мы, взирая (speculantes), видим как в зеркале (per speculum uidentes), а не просматриваем как бы со смотровой башни (de specula prospicientes). В греческом оригинале, с какового переведено на латынь это послание апостола, нет места для сомнения в том. Ибо в греческом языке слово «зеркало» (speculum), т. е. «то, в чем видны образы вещей», по своему звучанию совершенно отлично от слова «смотровая башня» (specula), т. е. от «того, с высоты чего мы зрим гораздо дальше». Вполне ясно и то, что апостол, сказав «взирая на славу Господню», производил слово «взирая» (speculantes) от слова «зеркало» (ah speculo), а не от «смотровой башни» (аb specula). Что же касается слов «преображаемся в тот же образ», то здесь он, конечно же, имел в виду образ Божий; а называя его «тот же», он имел в виду тот образ, на который мы взираем, ибо тот же самый образ есть и слава Божия, о чем он говорит в другом месте: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия» (1 Кор. 11:7) (это суждение мы рассматривали в двенадцатой книге). Следовательно, под словом «преображаемся» он имеет в виду то, что наш образ заменяется другим образом, и что мы переходим от образа темного к образу светлому. Ибо и темный образ есть образ Божий, а как образ он, разумеется, есть также и слава, в чем мы сотворены превосходящими остальных животных. Ибо слова «муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия» сказаны именно о самой человеческой природе. Эта природа, превосходнейшая в сотворенном, преображается из обезображенного образа (a deformi forma) в образ прекраснейший (in formam formosam), когда она в своем нечестии оправдывается Своим Создателем. Ибо чем более в самом нечестии порок заслуживает осуждения, тем больше сама природа заслуживает похвалы. А потому он и добавил слова «от славы во славу», что означает: «от славы творения во славу оправдания». Правда, слова «от славы во славу» могут быть поняты и другим образом, например: «от славы веры (fidei) во славу видения (speciei)»; «от славы, посредством каковой мы дети Божий, во славу, посредством каковой мы будем подобны Ему», «потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). То же, что он заключил словами «как от Господня Духа», показывает, что благодатью Божией нам дается столь желательное благо преображения.
15. Сказанное относилось к словам апостола о том, что мы видим теперь «как бы зеркалом». Поскольку же он добавил: «как в загадке»; постольку последнее остается неясным для тех многих, кто не знаком с сочинениями, в каковых излагается учение об образах речи, которые греки называют «тропами» Мы в латыни также используем это греческое слово. Ибо как более обычным [теперь] для нас является слово «схема» (schema), а не «очертание» (figura), так же более обычным [теперь в отношении речи] является слово «троп», а не «образ». И крайне трудно и непривычно выражать на латыни название каждого образа, или тропа так, чтобы находилось точное соответствие каждому. Поэтому некоторые наши переводчики, не желая использовать греческое выражение, передали слова апостола «В этом есть аллегория» (Гал. 9:24) посредством перифразы «В этом есть то, посредством чего обозначается другое». Но есть несколько видов этого тропа, т. е. аллегории, и среди них есть также и тот, что называется «загадкой» (aenigma). Впрочем, необходимо, чтобы определение самого родового имени охватывало все его виды. Значит, каким образом всякая лошадь есть животное, но не всякое животное — лошадь, таким же образом всякая загадка — аллегория, но не всякая аллегория — загадка. Так, что же такое аллегория, как не такой троп, в каковом одно понимается посредством другого? Как раз этот вид тропа используется в следующих словах из послания к Фессалоникийцам: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся» (Фес. 5:6–8). Но эта аллегория не есть загадка. Ведь ее смысл не является очевидным лишь для совсем недалеких. Загадка же, если выражаться кратко, представляет собой неясную аллегорию, например: «У пиявки было три дочери» (Притч. 30:15) и тому подобное. Так, там, где апостол говорит об аллегории, он обнаруживает ее не в словах, но в содеянном; ибо он показал, что два Завета следует понимать посредством двух сыновей Авраама, одного, рожденного от рабыни, а другого — от свободной, о чем бы не говорилось, если бы не содеялось. Но прежде, чем это было объяснено, оно оставалось неясным. А потому такая аллегория (что является родовым именем) может быть названа загадкой (что есть видовое имя).
16. Но поскольку не только те, кому не известны сочинения, освещающие учение о тропах, спрашивают о том, почему апостол сказал, что теперь мы видим как в загадке, но также и те, что знают их, но желают знать то, что есть та загадка, посредством каковой мы видим, постольку должно быть найдено единое суждение, покрывающее обе стороны вопроса, а именно: почему говорится, во–первых, «Теперь мы видим как бы зеркалом», а во–вторых, «как в загадке». Ведь когда эти стороны произносятся как целое, получается нечто единое: «Теперь мы видим как бы зеркалом, как в загадке». Итак, насколько мне представляется, каким образом он желал обозначить словом «зеркало» образ, таким же образом словом «загадка» — какое угодно подобие, хотя бы и неясное, и с трудом различимое. Значит, поскольку словами «зеркало» и «загадка» апостолом может обозначаться любое подобие, которое подходит для понимания Бога в той мере, в какой Он может быть понят, постольку все же нет ничего более подходящего, нежели то, что не зря называется Его образом. Так пусть никто не удивляется тому, что мы стремимся видеть любым образом и даже тем, который предоставлен нам в этой жизни, т. е. «как бы зеркалом, как в загадке». Ибо не прозвучало бы слово «загадка» в том, в чем была бы легкость видения. Но еще большей загадкой является то, что мы не видим того, чего мы не можем не видеть. Ибо кто же не видит своей собственной мысли? И, однако, кто же видит свою собственную мысль (я говорю не о плотском, но о внутреннем зрении)? [Итак], кто не видит ее, и кто ее видит? Ибо мысль есть некоторое видение души (является ли наличным для нее то, что видится также и телесными глазами или воспринимается другими чувствами, или же не является, но их подобия различаются мыслью; или же нет ничего из того, но лишь мыслится то, что не есть ни телесное, ни подобие телесного, как, например, добродетели или пороки, или как, например, мыслится, наконец, сама мысль; или же — то, что передается посредством наук или свободных искусств; или же мыслятся высшие причины и основания всех вещей в их неизменной природе; или же мыслится дурное, суетное и ложное, будь то при несогласии чувства, или же заблуждающемся сочувствии).
17. Теперь давайте поговорим о том, что мы считаем нам известным, и о чем мы осведомлены даже тогда, когда не думаем об этом. Нужно выяснить, относится ли то к созерцательному знанию, каковое, как я показал, следует называть собственно мудростью, или же к деятельному знанию как собственно знанию. Ведь оба эти вида знания относятся к уму и суть единый образ Божий, правда, когда мы рассматриваем низший из них отличительным и отдельным образом, тогда его не следует называть образом Божиим, хотя и в нем обнаруживается некоторое подобие Той Троицы, что было показано нами в тринадцатой книге. Но теперь мы говорим о всем человеческом знании в целом, каковое охватывает все известное нам, являющееся, разумеется, истинным, ибо иначе оно не было бы нам известным. Ведь никто не знает ложного, если только не известно, что оно ложно. Ибо если кто либо это знает, то он знает истинное, поскольку истинно то, что оно ложно. Итак, мы рассуждаем теперь о том, что мы считаем известным, и о чем мы осведомлены, даже если мы не думаем об этом. Впрочем, если бы мы пожелали сказать об этом, то мы не смогли бы это сделать, не думая о нем. Ибо даже если не звучат слова, тот, кто думает, проговаривает в своем сердце. Об этом–то и сказано в книге Премудрости: «Неправо умствующие говорили сами в себе» (Прем. 2:1). Смысл слов «говорили сами в себе» объясняется тем, что о них говорится как об умствующих. Нечто подобное этому обнаруживается в Евангелии, когда говорится, что некоторые из книжников, услышав, что Господь сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», «сказали сами в себе: Он богохульствует». Ибо что же означает, что они «сказали сами в себе», как не то, что они помыслили? И далее: «Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Мф. 9:2–4). Это мы находим у Матфея. Лука же передает то же самое таким образом: «Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, Который богохульствует? Кто может прощать грех, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших?» (Лк. 5:21–22). Итак, каким образом в книге Премудрости говорится «умствующие говорили в себе», таким же образом здесь сказано «начали рассуждать, говоря». Ибо и там, и здесь показывается, что они говорили в себе, в своем сердце, т. е. говорили в помышлении. Ведь они говорили в себе, и было им сказано: «Что вы помышляете?». Так же и Сам Господь говорит о том богатом человеке, у которого был хороший урожай в поле: «И он рассуждал сам с собою» (Лк. 12:16–17).
18. Следовательно, некоторые речения являются помыслами сердца, у какового есть также и уста, как показывает Сам Господь, когда Он говорит: «Не то, что входит в уста оскверняет человека; но то, что исходит из уст оскверняет человека» (Мф. 15:11). В одном суждении Он охватил оба имеющихся у человека вида, один из которых — телесные уста, другой вид — уста сердца. Ибо книжники и фарисеи, конечно же, считали, что человек оскверняется тем, что входит в уста телесные, тогда как Господь сказал, что человек оскверняется тем, что исходит из уст сердца. Таким образом, Он сам объяснил то, что Он сказал. Ведь немного позднее Он говорит о том же Своим ученикам: «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон?» (Мф. 15:17). Здесь Он со всей очевидностью указал на уста телесные. Однако же в том, что затем следует, он говорит об устах сердца: «А исходящие из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека; ибо из сердца исходят злые помыслы» и прочее (Мф. 15:18–19). Что же может быть яснее этого определения? И все же оттого, что мы называем мысли речениями сердца, еще не следует, что они, будучи истинными, не являются также видениями, происходящими из видений знания. Ибо когда они возникают извне посредством тела, одно есть речь, другое — видение. Когда же мы мыслим внутренним образом, то обе стороны суть одно. Так же слух и видение являются двумя различными вещами в области телесных ощущений, но в душе видеть не есть одно, а слух — другое. Поэтому хотя речь извне не видится, но слышится, все же Святое Евангелие говорит о том, что внутренние речения, т. е. помыслы, были увидены, а не услышаны: «Сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их…». Итак, Он видел, что они говорили. Ибо Своей собственной мыслью Он видел мысли тех, кто считал, что их помыслы могут видеть только они сами.
19. Значит, всякий, кто может понять слово, не только прежде, чем оно прозвучит, но также прежде, чем образы его звуков будут продуманы в душе (ибо оно есть то, что не принадлежит ни к одному языку из тех, что называются языками народов, среди каковых и наша латынь), так вот, всякий, говорю я, кто может понять его, теперь может видеть как бы тем зеркалом, как в той загадке некоторое подобие Того Слова, о Котором сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Ибо когда мы говорим истинное, т. е. когда мы говорим то, что знаем, тогда с необходимостью из самого знания, хранимого нашей памятью, рождается слово, каковое того же самого рода, что и то знание, из которого оно рождается. Ибо мысль, образуемая тем, что мы знаем, есть слово, которое мы произносим в сердце; и это слово не принадлежит ни греческому, ни латинскому, ни какому–либо другому языку. Но когда требуется, чтоб оно дошло до знания тех, кому мы говорим, прилагается некоторый знак для того, чтоб его обозначить. Затем, чтобы слово, которое мы вынашиваем в уме, сообщилось телесным ощущениям посредством телесных знаков, в основном используется звук, иногда же — кивок (первое — для ушей, второе — для глаз). Ведь что означает кивать, как не высказываться зримым образом? И в Святом Писании имеется суждение тому во свидетельство, ибо в Евангелии от Иоанна мы читаем: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр кивнул, чтобы спросил, кто это, о ком говорит» (Ин. 13:21–24). Так, он кивком высказал то, что не осмелился высказать вслух. Но мы производим такого рода телесные знаки, будь то для ушей или же глаз тех, с которыми мы разговариваем, поскольку они присутствуют. Буквы же были придуманы для того, чтобы мы могли общаться и с теми, кто отсутствует. Но буквы являются знаками слов, тогда как сами слова в нашей речи являются знаками того, что мы мыслим.
20. Соответственно слово, звучащее извне, есть знак слова, видимого внутри; и скорее последнему подходит имя слова. Ибо то, что произносится плотскими устами, есть [как бы] голос слова, и само называется словом на основании того, для внешнего выявления которого оно используется. Ибо наше слово так становится в определенном смысле телесным голосом, используя каковой оно предстает ощущениям людей, как Слово Божие стало плотью, используя каковую, Оно само предстало ощущениям людей. И так наше слово становится телесным голосом и не изменяется, превращаясь в него, как Слово Божие стало плотью, но не изменяется (да не помыслим мы такого), превращаясь в плоть. Ибо и наше Слово стало телесным голосом, и То другое Слово стало плотью, пользуясь, но не используясь тем, чем стало, настолько, чтобы измениться, превратившись в него. Вот почему тот, кто стремится достичь какого–нибудь подобия Слову Божиему, хотя бы оно и было во многим Ему неподобным, не должен принимать в расчет наше слово, звучащее в ушах, произносится ли оно телесным голосом или же мыслится в молчании. Ведь слова всех звуковых языков могут мыслиться также и в тиши, когда, например, мы пробегаем мыслью по стихам, хотя телесные уста молчат. И не только ритмы слогов, но также и лады напевов (поскольку и то, и другое, являясь телесным, достигает телесного ощущения, которое называется слухом) посредством определенных бестелесных образов наличествуют для тех, кто их мыслит и, молча, таит в душе. Но мы должны оставить их для того, чтобы достигнуть того человеческого слова, посредством подобия какового (каким бы оно ни было) мы могли бы хоть как–нибудь, как в загадке, увидеть Слово Божие. Но теперь посредством того подобия мы стремимся хоть как–нибудь увидеть не то слово, что было сказано тому или иному пророку (и о котором говорится: «И слово Божие росло и умножалось» (Деян. 6:7); и в другом месте: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17); и еще: «Принявши от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие (каковое оно есть по истине)» (1 Фес. 2:13); ибо в Писании несть числа подобным высказываниям о слове Божием, которое через уста и сердца человеческие рассеивается в звуках многих разных языков; и оно потому называется словом Божиим, что оно передается Божественным, а не человеческим учением); а то, о Котором сказано: «И Слово было Бог»; о Котором сказано: «Все через Него начало быть»; о Котором сказано: «И Слово стало плотью» (Ин. 1:1, 3, 14); и о Котором сказано: «Источник премудрости — Слово Бога Всевышнего» (Сир. 1:5). Итак, мы должны достичь того слова человеческого, слова разумного животного, слова образа Божия, не рожденного от Бога, но сотворенного Им, которое не есть ни произносимое в звуке, ни мыслимое в подобии звука (что необходимо для слова какого–нибудь языка), но которое предшествует всем знакам, каковыми обозначается, и которое рождается из знания, пребывающего в душе, когда то самое знание проговаривается внутренним образом так, как оно есть. Ибо видение мысли совершенно подобно видению знания. Ведь когда оно высказывается посредством звука или посредством какого–либо телесного знака, оно высказывается не так, как оно есть, но так, как оно может быть увидено или услышано посредством тела. Когда же слово есть то же, что и знание, тогда оно есть истинное слово и истина, каковая ожидается от человека, ибо то, что в ней, есть и в нем, а то, чего в ней нет, нет и в нем; что и признается [словами]: «Да, да; нет, нет» (Мф. 5:37). Таким образом то подобие сотворенного образа приближается, насколько может, к тому подобию образа рожденного, в силу какового Бог Сын называется подобным во всем Отцу по сущности. И в той загадке нам следует обратить внимание также и на другое подобие Слову Божиему, а именно на то, что каким образом о Слове Божием говорится: «Все через него начало быть» (посредством чего Бог называется сотворившим все сущее через Свое Единородное Слово), таким же образом нет никакого дела человеческого, которое бы сначала не было проговорено в сердце. Отчего в Писании [мы и находим]: «Начало всякого дела — слово» (Сир. 37:20). Но в таком случае слово тогда является началом благого дела, когда оно истинно. Слово же истинно тогда, когда оно рождается из знания того, как действовать благим образом. И сюда также подходят слова: «да, да; нет, нет», так что если в том знании, каковым нам надлежит жить, мы говорим «да», то мы также говорим «да» и в слове, посредством какового нам надлежит действовать; если же «нет» — в одном, то «нет» — и в другом. Иначе бы такое слово было ложью, и оно было бы началом не правого дела, но греха. Впрочем, в том подобии нашего слова есть и подобие Слову Божиему, потому что наше слово может быть и тем, за чем не следует дело, но не может быть дела, которому бы не предшествовало слово. Точно так же Слово Божие могло быть и без того, что бы существовало творение; однако же не могло быть никакого творения, как только через То Слово, через Которое все начало быть. А потому не Бог Отец, не Святой Дух, не Сама Троица, но только Сын, Который есть Слово Божие, стал плотью (хотя Вся Троица — Создатель) затем, чтобы мы жили праведно по нашему слову, следуя и подражая Его примеру, т. е. так, чтобы ни в слове нашем, ни в созерцании, ни в действии не было никакой лжи. Но такое совершенство образа — дело будущее. Дабы это произошло, благой учитель наставляет нас христианской верой и благочестивым учением так, чтобы мы с открытым лицом, [свободным] от покрова закона, который есть тень будущего, как в зеркале, взирая на славу Господню, т. е. как бы через зеркало вглядываясь, «преображались в тот же образ от славы во славу, как от Господня Духа» (сообразно тому, что я говорил об этих словах выше).
21. Когда же тот образ обновится тем преображением до совершенства, тогда мы будем подобны Богу, поскольку мы увидим Его не как в зеркале, а как Он есть, что апостол Павел выражает словами «лицом к лицу». Однако кто же может разъяснить, насколько теперь велико неподобие в том зеркале, в той загадке, в том каком–нибудь подобии? Все же, насколько смогу, я затрону кое–что из того, чем разъясняется этот вопрос.
Сначала этот вопрос затрагивает само знание, на основании которого наша мысль сообразуется с истиной, когда мы говорим то, что знаем. Ибо спрашивается: какого рода и насколько великое знание может быть достигнуто сколь угодно сведущим и ученейшим человеком? Если мы исключим то, что приходит в душу из телесных ощущений, а именно то, столь многое из чего существует иначе, нежели представляется, так что тот, сознание которого чрезмерно одержимо правдоподобием своих представлений, кажется самому себе разумным, являясь безумным на самом деле (каковое положение было настолько преувеличено в академической философии, что она, сомневаясь во всем, стала безумствовать еще боле жалким образом); так вот, если мы исключим то, что входит в душу из телесных ощущений, сколь многое остается из того, что мы знаем таким образом, каким мы знаем, что мы живем? Ведь по поводу того мы совершенно не боимся обмануться каким–либо правдоподобием, ибо, конечно же, даже тот, кто ошибается, живет. И оно не относится к числу того видимого, что доставляется извне так, что глаз мог бы им обмануться, каким образом он обманывается, когда в воде весло кажется преломленным, а плывущим кажутся движущимися башни и множество всего другого, что существует иначе, нежели оно представляется; поскольку его нельзя воспринять посредством плотских глаз. Знание, которым мы знаем, что мы живем, является наиболее внутренним, так что академик не может сказать в его отношении: «Быть может, ты спишь, и не знаешь, что видишь во сне». Ибо кто же не знает, что виденное спящими совершенно подобно виденному бодрствующими? Но тот, кто уверен в знании своей жизни, говорит не: «Я знаю, что я бодрствую», но: «Я знаю, что я живу». Значит, спит ли он или же бодрствует, он живет. И в том знании он не может быть обманут посредством снов, ибо и спать, и видеть во снах суть определения живого человека. И академик не может сказать против того знания: «Быть может, ты безумен и не знаешь того, ибо виденное безумными совершенно подобно виденному здравомыслящими»; ибо и тот, кто безумен, живет. Отвечая же академикам, скажут не: «Я знаю, что я не безумен», но: «Я знаю, что я живу». Следовательно, тот, кто говорит, что он знает, что он живет, не может ни обманываться, ни лгать. И пусть тысяча родов того, что видится обманчивым образом, доставляется тому, кто говорит: «Я знаю, что я живу»; он не будет бояться ничего из того, поскольку и тот, кто обманывается, живет. Но если только это принадлежит человеческому знанию, то оно крайне мало числом, если только не умножается во всяком роде так, чтобы не быть только малым, но достичь бесконечного числа. Ибо тот, кто говорит: «Я знаю, что я живу», говорит, что он знает, только что–то одно. Далее, если он говорит: «Я знаю, что я знаю, что я живу», есть уже два нечто. То же, что он знает эти два, есть третье из того, что он знает. Так он может добавить и четвертое, и пятое, и неисчислимое множество, если бы его хватило на то. Но поскольку, добавляя по одному, он не может ни постичь неисчислимое число того, ни сказать того неисчислимое число раз, постольку он постигает и говорит со всей уверенностью то одно, а также то, что оно истинно и столь неисчислимо, что он не может ни постичь, ни высказать бесконечное число его. Подобным образом то же может быть замечено и в уверенной воле. Ведь разве не было бы бесстыдством человеку, говорящему: «Я желаю быть блаженным», сказать: «Быть может, ты обманываешься»? Если же он скажет: «Я знаю, что я желаю этого, и я знаю, что я знаю это», он может добавить к тем двум и то третье, что он знает те два, и то четвертое, что он знает то, что он знает те два, и так до бесконечного числа. И точно так же, если кто скажет: «Я не желаю обманываться», разве не будет истинным то, что он не желает обманываться, вне зависимости от того, обманывается ли он или нет? Но разве не было бы совершенным бесстыдством сказать ему: «Быть может, ты обманываешься», ибо в чем бы он ни обманывался, он все же не обманывается в том, что не желает обманываться. Если же он скажет, что он знает это, он добавит такое число того, что он знает, какое пожелает, и поймет, что это число бесконечно. Ибо тот, кто говорит: «Я не желаю обманываться, и я знаю, что я не желаю это, и я знаю, что я знаю это», может и здесь обнаружить бесконечное число, хотя его выражение и не было бы полным. Есть и [многое] другое из того, что может опровергнуть академиков, утверждающих, что человек не может ничего познать. Однако надо знать меру, в особенности потому, что это не есть то, что мы предприняли сделать в этом труде. По данному поводу в первое время нашего обращения нами были написаны три книги; и тот, кто их сможет и пожелает прочитать, а прочитав, поймет, уже не будет встревожен всем тем множеством доводов академиков против познаваемости истины. Ибо, поскольку есть два рода того, что познается (один — это то, что воспринимается душой посредством телесных ощущений; другой — это то, что воспринимается душой посредством себя самой), постольку те философы много разглагольствовали в опровержение [познаваемости посредством] телесных ощущений, но ни коим образом не могли подвергнуть сомнению то истинное, что душа воспринимала увереннейшим образом посредством себя самой, каковым, например, является суждение, о котором я говорил: «Я знаю, что я живу». Но не дай [также] Бог и того, чтобы мы сомневались в истинности того, что мы узнали посредством телесных ощущений. Ведь их посредством мы узнали небо и землю, а в них то, что нам известно, насколько Создавший их и нас пожелал осведомить нас. И не дай нам Бог отрицать также и то, что мы узнали по свидетельству других, ибо иначе мы бы не знали, что есть океан; мы бы не знали, что существуют земли и города, о каковых нам сообщает столь распространенная молва; мы бы не знали о людях и об их делах, о каковых мы узнали из чтения истории; мы бы не знали того, о чем откуда бы то ни было извещают и подтверждают соответствующие постоянные вестники; наконец, мы бы не знали и того, в каком месте или от каких людей мы появились [на свет], поскольку всему тому мы верим на основании свидетельств других. Если же говорить так является совершенной нелепицей, то следует признать, что не только наши собственные ощущения, но и ощущения других [людей] немало увеличили наше знание.
22. Следовательно, все это, т. е. то, что человеческая душа знает посредством себя самой, посредством ощущений своего тела, посредством свидетельств других, сохраняется, будучи заключенным в тайники памяти. Из того и рождается истинное слово, когда мы говорим то, что знаем; но это слово — прежде всякого звука и прежде всякого звукового представления. Ибо тогда слово совершенно подобно знаемому, из чего также рождается его образ, поскольку из видения знания возникает видение мысли. Оно и есть слово, не принадлежащее ни к одному языку, истинное слово об истинном, в котором нет ничего от себя, но все — от того знания, из какового оно рождается. И не важно, когда узнал его тот, кто говорит то, что знает (ибо иногда он высказывает его сразу же, как только узнал), только бы оно было истинным, т. е. возникло из того, что известно.
Но неужели Бог Отец, от Которого рождено Слово как Бог от Бога, неужели, говорю я, Бог Отец в той Премудрости, Которая есть Он Сам по отношению к Себе, узнал одно посредством своих телесных ощущений, а другое — посредством Себя Самого? Но кто же сказал бы такое, мысля Бога не разумным животным, но Тем, Кто над разумным животным (насколько Он может мыслиться теми, кто ставит Его выше всех животных и всех душ, хотя они и видят Его как бы зеркалом, как в загадке, а не лицом к лицу, как Он есть)? Но неужели Бог Отец узнал все то, что Он знает не посредством тела (ибо у Него нет тела), но Сам по Себе, откуда–то еще, от кого–то еще? Неужели для того, чтобы Он знал все то, Ему понадобились вестники или свидетели? Конечно же, нет. Ибо Его совершенство позволяет Ему Самому знать все, что Он знает. Впрочем, у Него есть вестники, т. е. ангелы, но, однако же, не для того, чтобы извещать Его о том, чего Он не знает (ибо нет ничего, чего бы Он не знал); их преимущество состоит в том, чтобы испрашивать истину о своих делах. Здесь значение слова «извещать» не то, что якобы Он Сам узнает от них, но то, что они сами от Него через посредство Его Слова [испрашивают истину] без какого–либо телесного звука. Будучи посланными к тем, к кому Он пожелал их послать, они также извещают о том, о чем Он желает; и внимая всему тому, что от Него, посредством того Слова Его, они обнаруживают в Его истине то, что им надлежит делать, т. е. что, кого и когда надлежит известить. Ведь и мы также молим Его, но, однако же, не наставляем Его по поводу того, что нам нужно. Ибо как проповедовало Слово Его: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:8). Но чтобы знать все то, Он не знакомился с ним во времени, но всегда знал наперед все будущее во времени, а значит, и то, что и когда мы будим просить у Него, и также то, кого и что Он будет или не будет выслушивать. Поэтому же [правильным будет сказать] не то, что Он знает все свое творение, как духовное, так и телесное, оттого, что оно есть, но то, что оно есть оттого, что Он его знает. Ибо Он не был несведущим в том, что Он собирался сотворить. Следовательно, Он познал его не потому, что сотворил, но [наоборот] Он сотворил его, потому, что Он знал его. И Он не знал того, что сотворил, иначе, нежели так, как Он знал тем образом, каким надлежало его сотворить; ибо ничего из того не добавилось к Его Премудрости, но Она осталась такой, какой и была, притом, что все возникало так, как ему следовало, и тогда, когда ему следовало. Так же написано и в книге Экклезиаста: «Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении» (Сир. 23:29). «Равно» значит «не иначе»; и прежде, нежели сотворено было, и по совершении Ему было все равно известно. Следовательно, наше знание далеко не подобно Его знанию. И знание Бога есть само и Его Премудрость, а Его Премудрость есть сама сущность или субстанция (essential siue substantia), потому что в удивительной простоте его природы быть премудрым и быть [вообще] не суть разное, но то, что есть быть премудрым, есть также и быть [вообще]. О чем я уже не раз говорил в предыдущих книгах. Наше же знание в большинстве своем является могущим быть как утраченным, так и вновь обретенным, потому что для нас быть не есть то же, что знать или быть премудрым, поскольку мы можем быть, даже если мы не знаем, и мы можем не быть мудрыми в том, о чем мы откуда–то узнали. А потому, как неподобно наше знание знанию Бога, так же неподобно и слово наше, каковое рождается из нашего знания, Тому слову Божиему, Которое рождено из сущности Отца. То есть Оно таково, что, как если бы я сказал, Оно рождено от знания Отца, от мудрости Отца (de patris scientia, de patris sapientia), или — более выразительно — от Отца–Знания, от Отца–Премудрости (de patre scientia, de patre sapientia).
23. Итак, Слово Божие, Единородный Сын Отца, во всем подобное и равное Отцу, Бог от Бога, Свет от Света, Премудрость от Премудрости, Сущность от Сущности есть совершенно то же, что и Отец, и все же не Отец, поскольку одно есть Сын, а другое — Отец. А потому Сын знает все, что знает Отец (хотя Его знание и бытие — от Отца), ибо в Боге знать и быть суть одно. Но поскольку бытие у Отца не от Сына, постольку и знание не от Него. Значит, как бы произнося Самого Себя, Отец родил Слово, равное Себе во всем. Ибо Он не произнес бы Себя всецело и совершенно, если бы в его Слове было нечто меньшее или большее, нежели в Нем Самом. Именно здесь в высшей степени уместны слова: «да, да; нет, нет». И, значит, Слово Это есть воистину истина, поскольку все, что есть в том знании, от которого Оно рождено, есть также и в Нем Самом, и ничего из того, чего нет в том знании, нет также и в Нем. И в Этом Слове не может быть ничего ложного, потому что Оно неизменно так, как неизменен Тот, от Кого Оно. Ведь: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (Ин. 5:19). И Он совсем не может творить [силою]; но то не немощь, а мощь, ибо Истина не может быть ложью. Следовательно, Бог Отец знает все в Самом Себе, в Своем Сыне, но в Себе Самом как Себя Самого, а в Своем Сыне как Свое Слово, Каковое есть слово о всем том, что есть в Нем Самом. Подобным же образом и Сын знает все, а именно: в Себе Самом как то, что рождено от того, что Отец знает в Себе Самом; и в Отце — как то, от чего рождено все, что знает Сын в Самом Себе. Значит, Отец и Сын знают взаимным образом, но Один, порождая, а Другой, порождаясь. И каждый из Них одновременно видит все, что есть в Их знании, в Их премудрости, в Их сущности, и не по частям или по отдельности, как будто поочередно глядя то отсюда туда, то оттуда сюда, или опять–таки то на одно, то на другое, т. е. как будто не будучи способным видеть одно, если видится другое; но, как я сказал, [каждый из Них] одновременно видит все, из чего не остается ни одного предмета, каковой не был бы виден всегда.
24. То же слово наше, не имеющее звука и не связанное с представлением о звуке, но относящееся к тому, созерцая что, мы говорим внутренним образом, не является словом какого–либо языка и оттого хоть как–то подобно в той загадке Тому Слову Божиему, Которое также есть Бог, поскольку и оно рождается из нашего знания таким же образом, каким То Слово рождено от Премудрости Божией. Так не устыдимся же осознать в той мере, в каковой это для нас возможно, насколько такое слово наше, каковое мы находим хоть как–то подобным Тому Слову, также и неподобно Ему.
Так, неужели слово наше рождается только из нашего знания? Разве мы не высказываем также и многое из того, чего не знаем? Ведь мы высказываем то, не сомневаясь в нем, но считая его истинным. И если оно, быть может, и является истинным в том самом, о чем мы говорим, оно все же неистинно в нашем слове, потому что истинным является лишь то слово, которое рождается из того, что знается. Следовательно, таким образом ложным наше слово является не тогда, когда мы лжем, но когда мы обманываемся. Когда же мы сомневаемся, наше слово является словом не того, в чем мы сомневаемся, но самого сомнения. Ибо хотя мы не знаем, является ли истинным то, в чем мы сомневаемся, мы все же знаем, что мы сомневаемся, а потому, когда мы говорим, что сомневаемся, мы высказываем истинное слово, поскольку мы говорим то, что знаем. Но что насчет того, что мы можем также и солгать? Когда мы лжем, то мы, конечно же, добровольно и осознанно высказываем ложное слово, причем истинным словом будет здесь то, что мы лжем, ибо мы это знаем. Так что когда мы признаем, что мы солгали, мы высказываем истинное слово, ибо мы высказываем то, что мы знаем; ведь мы знаем, что мы лгали. Но То Слово, Которое есть Бог и могущее больше, не может этого. Ибо Оно ничего не может творить Само от Себя, «если не увидит Отца творящего». И говорит оно не от Себя Самого, но все, что оно говорит, у Него от Отца, поскольку говорит его исключительно Отец. И великая мощь Того Слова состоит в том, что Оно не может лгать, потому что оно не может быть «то «да», то «нет»» (2 Кор. 1:18), но только «да, да; нет, нет». Слово же, что не есть истинное, и высказывать–то нельзя. И с этим я вполне согласен. Но даже если слово наше истинно и потому справедливо называется словом, разве допустимо говорить о нем как о свете от света или же о знании от знания так, как допустимо и должно говорить преимущественно о Том Слове Божием как о сущности от сущности? Отчего же так? Оттого, что у нас быть не есть то же, что знать. Ведь мы знаем много того, что живет в памяти, и умирает, будучи преданным забвению; и хотя того уже нет в нашем знании, сами мы есть, и хотя то знание само, ускользнув из души, исчезло, мы все же живем.
25. Что же касается того, что знается таким образом, что никогда не может исчезнуть, поскольку всегда налично и относится к природе самой души (как, [например], то, что мы знаем, что мы живем), и что пребывает постоянно, потому что постоянно пребывает сама душа; [так вот] что касается того и тому подобного, в чем, пожалуй, следует усматривать образ Божий, то трудно определить, каким образом, когда слово наше высказывается в мысли, может быть высказано вечное слово о том, что хотя и знается всегда, все же не всегда мыслится. Ибо для души является вечным жить, и также вечным — знать, что живет; однако для нее не является вечным думать о своей жизни или думать о знании своей жизни, поскольку как только она начинает заниматься то одним, то другим, она перестает думать о себе, хотя и не перестает знать себя. Из этого выходит так, что если в душе может быть какое–либо вечное знание, причем мышление того самого знания вечным быть не может, а [всякое] истинное и внутренне слово наше высказывается лишь при посредстве мышления, то только Бога допустимо мылить имеющим предвечное Слово, совечное Ему Самому. Разве что нам следует сказать, что сама способность мышления (поскольку то, что знается, даже когда не мыслится, все же способно быть мыслимым истинным образом) есть слово столь же вечное, сколь вечным является само знание. Но каким же образом существует слово, которое еще не вообразилось в видении мыслящего? Каким образом оно будет подобным знанию, из которого оно рождается, если у него нет образа того знания, но оно потому уже называется словом, что знание может его иметь? Ибо это — то же, как если бы было сказано, что оно уже потому должно называться словом, что оно может быть словом. Но что же есть то, что может быть словом, и потому уже достойно имени слова? Так, что же, говорю я, есть то образуемое, но еще не образованное, как не то нечто, содержащееся в нашем уме, что мы, крутя туда–сюда, подбрасываем то так, то сяк, пока мы думаем о нем то одно, го другое, в зависимости от того, как оно обнаружилось или предстало? И тогда возникает истинное слово, когда то нечто, которое, как я сказал, мы, крутя, подбрасываем то так, то сяк, достигает того, что мы знаем, чем оно и воображается, улов–ляя его совершенное подобие настолько, что каким образом что–либо знается, таким же образом и мыслится, т. е. говорится в сердце безо всякого звука, безо всякого звукового представления, каковое, разумеется, относится к какому–нибудь из языков. А потому, даже если мы согласимся (дабы не показалось, что наш спор идет об имени), что то нечто, содержащееся в нашем уме, которое может быть воображено из нашего знания, уже следует называть словом и прежде того, как оно вообразилось, потому, что оно, так сказать, уже вообразимо, кто же [тем не менее] не увидит, насколько оно неподобно Слову Божиему, Которое так пребывает в образе Божием, что Оно не было воображаемым прежде, чем быть воображенным, и что Оно никогда не было безобразным, но Само есть простой образ простым образом равный Тому, от кого Оно и Кому Оно чудесным образом совечно?
Вот почему оно так называется Словом Божиим, чтобы не называться мыслью Божией, дабы не подумали, что в Боге есть нечто прокручиваемое, которое то принимает, то воспринимает образ для того, чтобы быть словом, и которое может его утратить и вновь вращаться некоторым безобразным образом. Несомненно, хорошо знал природу слова и умел видеть силу мысли тот выдающийся оратор, сказавший в стихе: «войны результаты в мысли прокручивает» (Вергилиус), т. е. размышляет. Итак, Тот Сын Божий называется не Мыслью, но Словом Божиим. Ведь наша мысль, достигая того, что мы знаем, и тем воображаясь, является истинным словом нашим. И потому Слово Божие должно пониматься безо всякой мысли о Боге так, чтоб Оно понималось как самый простой образ, не имеющий чего–либо, что может быть вообразимым, а также безобразным. И в Святом Писании действительно говорится о мыслях Бога, но о них говорится тем же самым способом выражения, каким — и о забвении Бога, хотя этого забвения в соответствии со смыслом слов, конечно же, в Боге нет.
26. Вот почему, поскольку в той загадке было обнаружено теперь такое неподобие Богу и Слову Божиему, как прежде — некоторое подобие, постольку следует признать также и то, что даже когда мы «будем подобны Ему», т. е. когда мы «увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2) (и, конечно же, тот, кто сказал это, вне всякого сомнения знал об этом теперешнем неподобии), даже и тогда мы не будем равны Ему по природе. Ибо по природе сотворенное всегда меньше творящего. Впрочем, тогда слово наше не будет ложным, потому что мы не будем ни лгать, ни обманываться. Возможно, тогда и мысли наши не будут, прокручиваясь, переходит от одного к другому, но мы будем видеть в едином взоре все наше знание сразу. И все же, даже когда это будет, если будет, творение, которое было вообразимым, будет воображено так, что уже ничто не будет испытывать недостаток в том образе, к которому должно стремиться; но, тем не менее, его нельзя будет приравнять той простоте, в которой нет чего–либо вообразимого (formabile), которое было бы воображено или преображено (formatum uel reformatum), но только сам образ (forma), который, не будучи ни безобразным, ни воображенным (neque informis neque formata ), есть вечная и неизменная сущность (substantia).
27. Мы довольно уже сказали об Отце и Сыне, насколько мы смогли узреть как бы зеркалом, как в той загадке. Теперь же следует рассмотреть Святой Дух, насколько нам по милости Божией будет дано Его узреть. В соответствии со Святым Писанием Святой Дух есть Дух не только Отца и не только Сына, но Их Обоих; а поэтому Он внушает нам мысль о взаимной любви, которой любят друг друга Отец и Сын. Впрочем, дабы испытать нас, Божественное слово сделало так, чтобы мы с большим усердием искали то, что не является столь уж очевидным, и в глубину чего следует себя вовлечь, дабы его извлечь. Ведь не сказало же Святое Писание: «Святой Дух есть любовь». Если бы Оно так сказало, Оно бы не оставило ничего для нашего изыскания. Но Оно сказало: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16), так что остается неопределенным и требующим своего выяснения, является ли любовью Бог Отец, или же Бог Сын, или же Бог Святой Дух, или же Бог Троица. Ибо мы скажем, что Бог назван любовью не потому, что сама любовь является сущностью, достойной имени Бога, но потому, что она есть дар Божий. Подобным же образом Богу говорится: «Ты — надежда моя» (Пс. 70:5). Последнее сказано, конечно же, не потому, что наша надежда составляет сущность Бога, но потому, что она дается нам от Него Самого, о чем и читаем в другом месте: «Ибо от Него надежда моя» (Пс. 61:6). Такое [превратное] толкование легко опровергается словами самого Писания. Ибо слова «Ты — надежда моя» суть то же, что слова «Господь — упование мое» (Пс. 90:9), или слова «Бог мой, милость моя», и многое подобное. Ведь не сказано же [в том месте]: «Господь, любовь моя» или «Ты — любовь моя», «Бог, любовь моя»; но слова «Бог есть любовь» сказаны таким образом, каким сказано, что «Бог есть дух» (Ин. 4:24). Тот же, кто этого не разумеет, пусть испрашивает понимания у Бога, а не объяснения у нас, ибо мы [уже] не можем сказать что–либо более ясным образом.
28. Итак, Бог есть любовь, однако спрашивается, является ли ею Отец или Сын, или Святой Дух, или Сама Троица, потому что Она не есть три бога, но единый Бог. Но выше в этой книге я уже рассуждал о том, что Троицу, Которая есть Бог, нельзя понимать, исходя из тех трех определений, выявленных в троице нашего ума, таким образом, будто Отец есть память из этих трех, Сын–понимание, а Святой Дух — любовь. Как если бы Отец не понимал и не любил Сам за Себя, но за Него понимал Сын, а любил Святой Дух, Сам же Он только помнил за Себя и за Них; как если бы Сын не помнил и не любил Сам за Себя, но за Него помнил Отец, а любил Святой Дух, Сам же Он только понимал за Себя и за Них; и также как если бы Святой Дух не помнил и не понимал Сам за Себя, но за Него помнил Отец, а понимал Сын, Сам же Он только любил за Себя и за Них! Нет, [Ее следует понимать] скорее так, что все Они вместе и по раздельности имеют все эти три определения в Своей природе. И они не различаются в них подобно тому, как в нас память есть одно, понимание — другое, любовь — третье; и они все должны быть чем–то единым, каковое равняется всем, как Сама Премудрость; и все это должно так содержаться в природе каждого, чтобы тот, кто бы его имел, был бы тем, что он имеет, будучи неизменной простой сущностью. Итак, если все это было понято и (насколько в таких предметах нам было позволено видеть и заключать) прояснилось как истинное, то я не знаю, почему и Отец, и Сын, и Святой Дух не могут называться Любовью, и сразу все Они — единой Любовью, подобно тому, как Они называются Премудростью, и все Они сразу суть не три премудрости, но единая Премудрость. Ибо точно также и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, и все Они вместе суть единый Бог.
29. И все же не напрасно, что в Той Троице только Сын называется Словом Божиим, только Святой Дух — Даром Божим, только Отец — Тем, от Кого рождено Слово, и от Кого преимущественно исходит Святой Дух. И потому я добавил слово «преимущественно», что обнаруживается, что Святой Дух исходит также и от Сына. Но Отец также и Его дал Сыну не как уже существующему, но еще не имеющему; ибо все, что Он дал Своему единородному Слову, Он дал, породив Его. Следовательно, Он породил Его так, чтобы Этот общий Дар исходил также и от Него, и чтобы Святой Дух был Духом Обоих. И это различие внутри нераздельной Троицы следует принимать не мимоходом, но по тщательному рассмотрению. Ведь именно в соответствии с ним собственно Премудростью называется Слово Божие, хотя и Отец, и Святой Дух также являются Премудростью. Итак, если кто–либо из Них должен быть обозначен как Любовь собственно, кому же из Них это название подходит более всего, как не Святому Духу? Впрочем, [это должно мыслиться] так, чтобы в той простой и высшей природе сущность не была одним, а любовь — другим, но чтобы сама сущность была любовью, а сама любовь — сущностью, будь то в Отце или же в Сыне, или же в Святом Духе; и в то же время так, чтобы именно Святой Дух обозначался как Любовь собственно.
30. Таким же образом все свидетельства Ветхого Завета в Святом Писании обозначаются именем закона. Ибо апостол, приводя слова из пророка Исайи, в которых говорится: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему», предваряет их словами: «В законе написано» (Ис. 28:11; 1 Кор. 14:21). Господь и Сам говорит о сказанном в псалме, как о написанном в законе: «Возненавидели Меня напрасно» (Ин. 15:25; Пс. 34:19). Иногда же законом называется собственно то, что было дано через Моисея, в соответствии с тем, что сказано: «Закон и пророки» (Мф. 11:13), а также: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:40). Здесь, конечно же, законом названо собственно то, что было дано на горе Синай. И псалмы таким же образом обозначаются именем пророков, хотя в другом месте Спаситель Сам говорит: «Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24:44). В этом случае, напротив, Он хотел, чтобы имя пророков не понималось также и в связи с псалмами. Итак, закон вместе с пророками и псалмами называется законом в целом, а закон, который был дан через Моисея, называется законом собственно. Таким же образом пророки вместе с псалмами называются пророками вообще, пророками же собственно они называются без псалмов. Если бы в том, что очевидно, не следовало бы избегать пространных рассуждений, то можно было бы показать посредством многих других примеров, что многие именования вещей, употребляемые вообще, могут также прилагаться в собственном смысле. Я же говорил все это затем, дабы никто не счел, что нам не подобает называть Святого Духа любовью потому, что и Бог Отец, и Бог Сын также могут быть названы любовью.
31. Итак, каким образом мы называем исключительно Слово Божие именем Премудрости собственно, хотя вообще и Святой Дух, и Отец являются Премудростью, таким же образом Дух обозначается именем собственным Любви, хотя вообще и Отец, и Сын являются любовью. Но Слово Божие, т. е. единородный Сын Божий, назван Премудростью Божией непосредственно устами апостола, когда он сказал о Христе как о Божией силе и Божией премудрости (1 Кор. 1:24). То же, что Святой Дух назван любовью, мы обнаружим, если тщательно рассмотрим выражение апостола Иоанна, который сказав: «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога», сразу же добавил: «И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7–8). Здесь очевидно, что он назвал Богом ту любовь, которая, как он сказал, «от Бога». Следовательно, Бог от Бога есть любовь. Но поскольку и Сын рожден от Бога Отца, и Святой Дух исходит от Бога Отца, постольку здесь будет уместным спросить, кого из них мы скорее должны считать любовью, которая есть Бог. Ибо лишь один Отец является Богом так, что Он не есть от Бога, а потому любовь, которая есть Бог таким образом, что она от Бога, является или Сыном, или Святым Духом. Но после того, как апостол упомянул любовь Божию, не ту, которой мы любим Бога, но ту, которой «Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4:10) и которой Он побудил нас к тому, чтобы мы возлюбили друг друга затем, чтобы Бог пребывал в нас, потому что, как он сказал, Бог есть любовь; он сразу же продолжает, желая выразиться по тому же поводу более ясным образом: «Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего» (1 Ин. 4:13). Следовательно, Дух Святой, от Которого Он дал нам, делает так, чтобы мы пребывали в Боге, а Он — в нас; и это есть то, что делает любовь. Значит, Он есть Бог–Любовь (dues dilectio). Наконец, после того, как он повторил и сказал то же самое: «Бог есть любовь», он вслед прибавил: «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Поэтому–то он и сказал выше: «Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Следовательно, там, где мы читаем, что «Бог есть любовь», обозначается [именно] Он. Значит, когда Бог Святой Дух, исходящий от Отца, дается человеку, Он воспламеняет в нем любовь к Богу и ближнему, и Сам есть любовь. Ибо человеку неоткуда любить Бога, как только от Самого Бога. Поэтому далее и говорится: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). О том же говорит и апостол Павел: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).
32. Нет ничего более превосходного, нежели тот дар Божий. Он один разделяет сынов Царства вечного от сынов вечной погибели. Другие даяния даются также Святым Духом, но без любви от них нет никакой пользы. И, следовательно, никто не может перейти слева в одесную, если только Святой Дух не наделит того любовью к Богу и ближнему. И потому лишь Святой Дух называется даром собственно, что Он есть любовь, не имея каковой, человек, говорящий языками человеческими и ангельскими, есть медь звенящая или кимвал звучащий; и даже если кто имеет дар пророчества и знает все тайны, и имеет всякое познание и всю веру, так что может и горы переставлять, [а любви не имеет], ничто есть; и даже если кто раздаст все имение свое и отдаст тело свое на сожжение, [а любви не имеет] нет ему в том никакой пользы (1 Кор. 13:1–3). Итак, насколько же велико то благо, без какового столь великие блага никого не могут привести к вечной жизни?! Но если любовь или почитание (dilectio siue caritas) (ибо [в латыни] есть два имени для обозначения одного предмета) есть у того, кто не говорит языками, не имеет дара пророчества, не знает все тайны и не имеет всякое познание, не раздает все имение свое бедным (потому ли, что ему нечего раздавать или же потому, что этому препятствует какая–то нужда), и не отдает тело свое на сожжение (если от него не требуется претерпеть такое страдание), то она [все же] приведет его к Царству. Ведь даже вера делается полезной лишь при наличии любви, ибо хотя вера и может существовать без любви, она не может без нее приносить пользу. По этому поводу как раз и говорит апостол Павел: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6). Так он отличает эту веру от той, которой «бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Значит, Любовь, которая от Бога и Бог, есть собственно Святой Дух, Которым излилась в сердца наши любовь к Богу, посредством каковой вся Троица пребывает в нас. Вот почему Святой Дух совершенно правильно называется даром Божиим, хотя Он Сам есть Бог. И что же следует понимать под этим даром в собственном смысле, как не любовь, которая приводит к Богу и без посредства каковой ни один другой дар Божий не может привести к Богу?
33. Или следует доказать, что Святой Дух называется даром Божиим в Святом Писании? Если от меня этого ждут, то я укажу на слова Господа нашего Христа в Евангелии от Иоанна: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». И тут же евангелист добавил: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7:37–39). Потому и апостол Павел также говорит: «И все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13). Однако, спрашивается, названа ли та вода даром Божиим, который есть Святой Дух. Но каким образом мы обнаруживаем, что та вода есть Святой Дух, таким же образом мы обнаруживаем в другом месте самого Евангелия, что та вода названа даром Божиим. Ведь когда Господь заговорил с женщиной Самарянской у колодезя, сказав ей: «Дай Мне пить», а она ответила, сказав, что «Иудеи с Самарянами не общаются», то «Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя вода живая?… Иисус сказал ей в ответ: Всякий пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 6:7–11, 13–14). Итак, потому что та вода, как показал евангелист, есть Святой Дух, нет никаких сомнений в том, что Святой Дух есть дар Божий, о каковом говорит здесь Господь: «если бы ты знала дар Божий, и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у него, и Он дал бы тебе воду живую». Ведь то, о чем говорится там: «из чрева потекут реки живой воды», высказывается и здесь: «вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
34. Апостол Павел также говорит: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова», а затем, чтобы показать, что дар Христов — Святой Дух, он сразу же добавляет: «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф. 4:7–8). Ведь все знают, что Господь Иисус, по воскресению из мертвых восшедший на небо, дал Святого Духа, Которым исполнились уверовавшие и заговорили на языках всех народов. И неважно, что апостол сказал «дары», а не «дар», ибо во свидетельство он взял стих из псалма. В самом же псалме мы читаем: «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков» (Пс. 67:19). Ибо так записано в большинстве книг, и особенно греческих, и таков перевод с еврейского. Итак, апостол сказал «дары», а не «дар» так же, как и пророк. Но тогда, как пророк сказал «плен, принял дары для человеков», апостол предпочел сказать «дал дары человекам». Это было сделано так для того, чтобы достичь смысловой полноты каждого высказывания — одного пророческого, другого апостольского, ибо оба имеют Божественный авторитет. Ибо оба истинны: и то, что дал человекам, и то, что принял для человеков. Он дал человекам как глава своим членам; Он принял для человеков как, конечно же, для Своих членов, ради которых Он и воззвал с неба: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деян. 11:4); и о которых Он говорит: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Следовательно, Христос дал с неба, а принял на земле. И потому оба — пророк и апостол — сказали «дары», что через дар, который есть Святой Дух, общий всем членам Христа, разделено было множество даров, свойственных всем по раздельности. Ибо все по раздельности всех не имеют, но одни имеют эти, другие — те, хотя все имеют Дар, т. е. Святой Дух, от которого даются дары, свойственные всем по раздельности. Ведь и в другом месте по упоминанию многих даров апостол говорит: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). И то же обнаруживается в послании к Евреям, где написано: «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого» (Евр. 2:4). Поэтому, сказав: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам», апостол добавляет: «А «восшед» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он дал одним быть апостолами, другим пророками, иным евангелистами, иным пастырями и учителями» . (Так, вот потому–то и говорится о дарах, что, как он сказал в другом месте: «Все ли апостолы? Все ли пророки?» и т. д. (1 Кор. 12:29). Впрочем, к тому он добавил: «К свершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4:8–12). Оно есть дом, который, как поется в псалме, созидается после плена (Пс. 126:1), поскольку Тело Христово, т. е. дом, который называется Церковью, созидается теми, кто был избавлен от дьявола, удерживавшего их в плену. Но Тот, Кто победил дьявола, пленил тот плен. И чтобы дьявол не смог ввергнуть с собой в вечное наказание тех, кому предстоит стать членами Святой Главы, Он связал его сначала путами праведности, а затем — власти. Таким образом, сам дьявол и есть тот плен, плененный Тем, Кто восшел на высоту, дал дары человекам и принял для человеков.
35. Впрочем, апостол Петр (как мы читаем в той канонической книге, в которой записаны деяния апостолов), говоря о Христе иудеям, умилившимся сердцем и спросившим: «Что нам делать, мужи братья?», ответил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:37–38). И в той же книге мы также читаем, как Симон Маг желал дать апостолам деньги, чтобы получить от них власть, посредством которой через возложение их рук давался Дух Святой. Тот же Петр ему и ответил: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги» (Деян. 8:20). А вот что сообщает Писание в другом месте той же книги, когда Петр, возвещая и проповедуя Христа, говорит с Корнилием и с теми, кто был с ним: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников; ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога» (Деян. 10:44–46). Когда же после Петр оправдывался перед братьями, которые были в Иерусалиме, по поводу того, что он крестил необрезанных, потому, что прежде, чем они были крещены, Святой Дух сошел на них (дабы разрешить этот вопрос), то, выслушав это, они убедились в его правоте после следующих слов его: «Когда начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» (Деян. 11:15–17). В Писании есть также и много других свидетельств, единодушно подтверждающих то, что Святой Дух есть дар Божий, насколько Он дается тем, кто чрез него любит Бога. Однако было бы слишком обременительным приводить их все. Да и что может быть достаточным тем, кому недостаточно того, что мы уже сказали?
36. Поскольку теперь очевидно, что Святой Дух называется даром Божиим, постольку, конечно же, следует напомнить, чтобы, когда говорилось о даре Святого Духа, в таком роде выражения признавалось то, что высказывается в словах об обрезании «совлечением греховного тела плоти» (Колос. 2:11). Ибо как тело плоти не есть что–либо иное, нежели плоть, так и дар Святого Духа не есть что–либо иное, нежели Святой Дух. Следовательно, Он есть дар Божий постольку, поскольку Он дается тем, кому дается. Впрочем, в Себе Самом Он есть Бог, даже если бы Он не давался никому, потому что Он был Богом совечным Отцу и Сыну прежде, чем Он был дан кому–либо. И Он не меньше Их потому, что Они дают, а Он дается. Ибо Он дается как дар Божий таким образом, что Он как Бог дает самого Себя. Ведь не возможно сказать, что не владеет Собою Тот, о Ком сказано [в Евангелии]: «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8); а также у апостола (что я уже упоминал выше): «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». И отношение Даруемого и Дарующих есть отношение не подчинения, но согласия.
37. Вот почему, поскольку Святое Писание провозглашает, что Бог есть любовь, и что она от Бога, и действует в нас так, что мы пребываем в Боге, а Он — в нас, и поскольку мы знаем это, потому что Он дает нам от Духа своего, постольку Сам Дух Его есть Бог–Любовь. Наконец, если меж даров Божиих нет ничего большего любви, и если нет большего дара Божиего, нежели Дух Святой, то что же есть более последовательное, нежели [полагать] то, что Он сам и есть любовь, о каковой говорится, что она есть Бог и от Бога? И если любовь, которой Отец любит Сына, а Сын любит Отца, невыразимым образом выявляет Их сообщность, что есть более уместное, нежели то, что собственно любовью должен называться Тот, Кто есть Дух, общий Обоим? Ибо более здравым является верить и полагать, что в Той Троице не только Святой Дух есть любовь, но не зря именно Он называется любовью собственно в соответствии с тем, о чем мы уже сказали. Точно так же в Той Троице не только Он один есть Дух или Святой, ибо и Отец — Дух, и Сын — Дух, и Отец Свят, и Сын Свят, что благочестие не может подвергнуть сомнению; и, однако же, не зря именно Он называется Святым Духом. Ибо, поскольку Он общ Обоим, Он называется собственно тем, чем общи Оба. Иначе бы если в Той Троице любовью был только Святой Дух, то, разумеется, и Сын был бы Сыном не только Отца, но также и Святого Духа, ибо в бесчисленных местах [Святого Писания] Он называется единородным Сыном Бога Отца таким образом, что истинно также и то, что говорит апостол о Боге Отце как об избавившем нас от власти тьмы и введшем в царство Сына Своей любви (Колос. 1:13). Ведь не сказал же он «Своего Сына», что было бы сказанным совершенно истинным образом и что говорится часто; но он сказал «Сына Своей любви». Следовательно, если бы в Той Троице любовью был бы только Святой Дух, то Сын был бы Сыном также и Святого Духа. Но поскольку это совершенно нелепо, постольку в Той Троице любовью является не только Святой Дух, хотя собственно любовью называется именно Он в соответствии с тем, о чем я довольно говорил. Слова же «Сына Своей любви» следует понимать не иначе, как «возлюбленного Сына Своего», короче говоря, Сына Своей сущности. Ибо любовь Отца, каковая есть в Его невыразимо простой природе, есть не что иное, как сама природа и сущность Его, о чем мы уже не раз говорили, и что мы не стесняемся часто повторять. А потому слова «Сына Своей любви» не обозначают никого, за исключением Того, Кто рожден от Его сущности.
38. Вот почему нелепа диалектика Евномия, от которого возникла ересь евномианства. Ибо поскольку он не мог ни понять, ни поверить, что единородное Слово Божие, через Которое все начало быть, является Сыном Божиим по природе, т. е. рожденным от сущности Отца, постольку он утверждал, будто бы Он не является Сыном Его природы или сущности, но только Сыном воли Божией, имея в виду то, что воля, посредством каковой Он родил Сына, есть нечто привходящее в Бога, разумеется, потому, что мы иногда желаем что–то, чего мы прежде не желали, как если бы не по этой причине наша природа и считается изменчивой. Но да не приведи Господь, чтобы мы так думали о Боге. Ибо по этому поводу сказано: «Много замыслов в сердце человека, совет же Господен пребудет вовеки» (Притч. 19:21), для того, чтобы мы понимали или верили, что поскольку Бог вечен, постольку вечен и Его совет, а потому и неизменен, как и Он Сам. И то же, что говорится о замыслах, может быть совершенно верно сказано и о волях: «Много произволений в сердце человека, воля же Господня пребудет вовеки». Иные же, дабы не говорить, что единородное Слово есть Сын Совета или воли Божией, говорили, что то же самое Слово есть сам Совет или сама воля Божия. Но, как мне кажется, лучше говорить, что Совет от Совета и воля от воли, как [говорим мы], что сущность от сущности, Премудрость от Премудрости, чтобы не совершить той уже опровергнутой нелепицы, говоря, что Сын делает Отца мудрым или произволящим, будто бы в Своей сущности Отец не имеет Совета или воли. На изощреннейший вопрос еретика касательно того, по Своей ли воле или не по Своей Бог породил Сына (так что если бы было сказано «не по Своей», то из этого следовала бы совершенная нелепица, ибо получалось бы, что Бог жалок; если же — «по Своей», то из этого словно с логической неумолимостью следовало бы, что Сын является Сыном не по природе, но по воле), можно было бы дать проницательный ответ, спросив его, в свою очередь, является ли Бог Отец Богом по Своей воли или не по Своей (так что если бы еретик ответил бы «не по Своей», то из этого следовало бы, что Бог жалок, в то время, как полагать таковым Бога — безумство; а если — «по Своей», то ему бы было сказано, что тогда и Отец является Богом не по природе Своей, но по воле). Так, что же тогда осталось бы делать еретику, как не умолкнуть и осознать, что он сам себя связал путами своего неразрешимого вопроса? Но если бы в Троице следовало назвать какое–либо Лицо собственно волей, то это имя, как и любовь, более всего подходило бы к Святому Духу. Ибо что же еще есть любовь, как не воля?
39. Как мне представляется, то, что я говорил в этой книге о Святом Духе в соответствии со Святым Писанием, достаточно для тех верующих, кто уже знает, что Святой Дух — Бог, что Он–не иной сущности, что Он не меньше, нежели Отец или Сын, об истинности чего мы наставляли в предыдущих книгах в соответствии с тем же Писанием. Насколько мы были способны, мы также напомнили о творении, созданном Богом, тем, кто требует разумного рассуждения о подобных предметах, для того, чтобы они, насколько могли, созерцали и понимали невидимое Его посредством сотворенного и в особенности посредством разумного и понимающего творения, созданного по образу Бога, через каковое словно как в зеркале, насколько возможно и если возможно, они различали бы в нашей памяти, понимании и воли Бога Троицу. Всякий, кто способен увидеть в своем уме эти три вложенные волей Божией определения и с живостью осознать, насколько велико то, что есть в нем, посредством чего может вспоминаться, созерцаться и желаться даже предвечная и неизменная природа (вспоминается же она, разумеется, памятью, созерцается пониманием, обнимается любовью), обнаружит образ Той высшей Троицы. Но чтобы вспоминать, созерцать и любить то невидимое, он должен посвятить всю свою жизнь памятованию, созерцанию и желанию Той высшей Троицы. И, как мне показалось, я уже довольно напомнил о том, что недопустимо сравнивать тот образ, созданный высшей Троицей и по своей собственной вине изменившийся к худшему, с Самой Троицей так, чтобы он казался совершено подобным Ей, но скорее это следует делать так, чтобы в каком бы то ни было подобии различалось также и значительное неподобие.
40. Каким образом мог, я постарался показать, чтобы в памяти и в понимании нашего ума, конечно же, не как лицом к лицу, но хотя бы через то подобие, как в загадке, т. е. пусть в наималейшей степени, посредством угадывания можно было увидеть Бога Отца и Бога Сына, т. е. Родителя, Который все, что Он имел в Своей сущности, высказал определенным образом в Своем Слове, совечном Себе, и Бога Слова Его Самого, сущность Которого ни больше, ни меньшего сущности Бога Отца, породившего Слово не ложным, но истинным образом; при этом я приписал памяти все, что мы знаем, даже если мы не думаем об этом, а пониманию — определенное воображение (informationem) мышления свойственным ему образом. Ведь, как правило, говорится, что мы понимаем то, что, как мы думаем, мы находим истинным и что мы затем оставляем в памяти. Но именно в еще более сокровенной глубине нашей памяти мы, размышляя, впервые обнаружили, где рождается то внутреннее, не принадлежащее ни к одному языку, слово, как знание от знания, видение от видения, и понимание, возникающее в мышлении, от понимания, уже существовавшего, но скрывавшегося в памяти (хотя если в мышлении не было бы памяти своего рода, то оно, мысля об одном, не обращалось бы к тому другому, что осталось в памяти).
41. Но в той загадке я не показал ничего касательно Святого Духа, что могло бы выглядеть подобием Ему, за исключением нашей воли или любви, или почитания, что является более сильной волей, поскольку наша воля, присущая нам естественным образом, претерпевает различные воздействия, так как к ней прибавляется или в нее привходит то, из–за чего мы отвлекаемся или ошибаемся. Так, отчего же? Неужели мы скажем, что наша воля, будучи правильной, не знает, чего ей желать, чего избегать? Если же она знает, то тогда, разумеется, ей присуще некоторое знание своего рода, каковое не может быть без памяти и понимания. Или следует прислушаться ко тому, кто говорит, что любовь не знает, что она делает, когда она не действует превратно? Ведь поскольку и понимание, и любовь присущи той основной памяти (illi memoriae principali), в которой мы обнаруживаем собранным и сохраненным то, к чему мы можем прийти в размышлении, потому что мы обнаруживаем там и те два определения, когда мы, размышляя, обнаруживаем, что мы понимаем и любим что–либо (что было в ней также и тогда, когда мы об этом не думали); и поскольку и память, и любовь присущи тому пониманию, которое воображается мыслью, истинное слово каковой мы произносим внутренним образом вне связи с языком какого–либо народа, когда мы произносим то, что мы знаем, потому что взгляд нашей мысли может обратиться к чему–либо, лишь вспоминая, и позаботиться вернуться к тому, лишь любя; постольку любовь, которая соединяет видение, сохраненное в памяти и воображенное его посредством видение мышления (наподобие того, как связываются родитель и дитя), не знала бы, что ей надлежит любить, если бы у нее не было знания желаемого ею, каковое не может быть без памяти и понимания.
42. Так как эти определения суть в одном лице, каковым является человек, то кое–кто может сказать нам: «Эти три определения — память, понимание и любовь — принадлежат мне, а не себе; и то, что они делают, они делают не для себя, но для меня, или вернее, я действую их посредством. Ибо это я помню памятью, понимаю пониманием, люблю любовью. И поскольку я, обратив взор мысли к своей памяти, в своем сердце произношу то, что я знаю, и поскольку истинное слово рождается из моего знания, постольку и знание, и слово суть, конечно же, оба мои. Ибо я есть тот, кто знает, и я есть тот, кто произносит в совеем сердце то, что знается. И поскольку я, размышляя, обнаруживаю в своей памяти то, что я теперь понимаю и люблю что–либо, при том, что понимание и любовь были там и прежде того, как я о них помыслил, постольку я обнаруживаю в моей памяти мое понимание и мою любовь, посредством каковых понимаю и люблю именно я, а не они сами. И точно так же, поскольку мое мышление памятливо, и желает вернуться к тому, что оно оставило в памяти, а также, понимая, созерцать и проговаривать его внутренним образом, постольку памятлива именно моя память, и именно моей, а не своей волей она желает. И также сама любовь моя, вспоминая и понимая то, чего ей следует желать, а чего — избегать, вспоминает моей, а не своей памятью, понимает моим, а не своим пониманием, все, что она понимающим образом (intellegenter) любит». Короче это может быть сказано так: «Посредством всех этих трех определений помню, понимаю и люблю именно я, т. е. тот, кто не есть ни память, ни понимание, ни любовь, но имеющий их». Следовательно, об этих трех можно сказать, что они принадлежат одному лицу, но нельзя сказать, что оно суть эти три. В простоте же высшей природы, которая есть Бог, хотя Бог и един, суть три Лица: Отец, Сын и Святой Дух.
43. Итак, одно дело — троица как сама вещь, и другое — троица как образ в иной вещи. В силу именно этого образа и то, в чем суть эти три определения, также называется образом. Так, например, образом называется одновременно и доска, и то, что на ней нарисовано. Значит, в силу рисунка, который есть на доске, и она также получает имя образа. Но в той высшей Троице, несравнимо превосходящей все сущее, нераздельность столь велика, что тогда, как троицу людей невозможно назвать одним человеком, Та Троица как является, так и считается единым Богом, и Та Троица не в едином Боге, но Сам единый Бог. И опять же не так Она есть Троица, как тот образ, которым является человек, имеющий эти три определения, есть одно лицо, но так, что Она есть три Лица: Отец Сына, Сын Отца и Дух Отца и Сына. Ибо, хотя память человека и в особенности та [ее часть], которой не имеют животные, т. е. та, посредством каковой содержится умопостигаемое, не входившее в нее через телесные ощущения, имеет в силу своей меры в том образе Троицы хоть какое–то подобие Отцу (которое, правда, несравненно неравно Ему), хотя точно также понимание человека, которое через устремленность мысли воображается из памяти, когда то, что знается, говорится, и возникает слово сердца, не принадлежащее ни одному языку, обнаруживает в своем великом неравенстве некоторое подобие Сыну, [наконец], хотя любовь человека, исходящая от знания и соединяющая память и понимание (словно нечто общее меж родителем и дитем, посредством чего понимается, что она не есть ни родитель, ни дитя), имеет в том образе некоторое, хотя и неравное, подобие святому Духу; все же тогда, как [в человеке] эти три определения не суть один человек, но принадлежат одному человеку, в Самой высшей Троице, образом Которой является тот, эти три определения как принадлежат одному Богу, так и суть единый Бог, и Они суть три Лица, а не одно. Тем более удивительным образом невыразимо, или невыразимым образом удивительно то, что хотя тот образ Троицы есть одно лицо, а Сама высшая Троица — три Лица, все же Та Троица Трех Лиц есть нечто более неразделимое, нежели та, что составляет одно лицо. Ибо Та Троица в природе Божественности, или лучше сказать, Божества есть то же, что и Оно, внутри Себя всегда неизменным образом равна Себе; и такого, чтоб иногда Она не была или была бы иной, не было и не будет. И хотя те три определения, каковые суть в неподобающим образе, и не различаются пространственным местом, ибо не суть тела, все же ныне в этой жизни они разделяются меж собою величиной. Ведь хотя они и не суть нечто вещественное, мы все же видим, что в одном память больше, нежели понимание, в другом–наоборот, а в третьем первые два вне зависимости от того, являются ли они разными меж собой или нет, превосходятся по величине любовью. И так любые два любым одним, любой один любыми двумя и любой один любым одним — всякое меньшее превосходится всяким большим. Но даже когда, будучи исцеленными от всякого недуга, они станут равными меж собой, то и тогда то, что посредством благодати не будет изменяться, не будет равным тому, что неизменно по природе, потому что тварь не равна Творцу, и поскольку то, что исцелится от всякого недуга, [тем самым] претерпит изменение.
44. Когда же придет обещанное нам видение «лицом к лицу», тогда мы с гораздо большей ясностью и определенностью увидим Ту не только бестелесную, но также и совершенно неразделимую и воистину неизменную Троицу, нежели теперь мы видим Ее образ, каковой мы есть. Но все же те, кто видит как бы тем зеркалом, как в той загадке, как позволено видеть в этой жизни, не суть те, кто созерцает в своем уме то, что мы упорядочили и обсудили, но те, кто видит в нем лишь образ так, чтобы быть способным соотнести каким бы то ни было образом то, что видит, с Тем, Чьим образом он является, и, также гадая, увидеть то, что они видят через образ, который созерцают, поскольку они еще не способны видеть «лицом к лицу». Ведь не говорит же апостол: «Теперь мы видим зеркало», но «Теперь мы видим как бы зеркалом».
Тогда те, что видят свой ум каким образом это возможно, а в нем его троицу, о которой я, насколько мог, многообразно рассуждал, но не верят или не понимают, что она есть образ Божий, на самом деле видят зеркало, и до такой степени не видят как бы зеркалом Того, Кого теперь надлежит видеть как бы зеркалом, что даже не знают того, что само зеркало, которое они видят, является зеркалом, т. е. образом. И если бы они знали это, они, быть может, осознали бы, что и Того, Чье это зеркало, следует искать Его посредством и между тем Его же посредством как–то видеть затем, чтобы по очищению сердец непритворной верой они могли бы видеть лицом к лицу Того, Кого теперь они видят как бы зеркалом. Если же они презирают веру, очистительницу сердец, то чего они могут достичь в понимании того, что является предметом изощренных размышлений касательно природы человеческого ума, как не того, что они осуждаются также и свидетельством своего собственного понимания? Но они, конечно же, не испытывали бы таких трудностей в понимании, что едва достигают чего–либо определенного, если бы не были в наказание погружены во мрак и обременены тленным телом, которое отягощает душу. И за что же, как не за грех, навлечено такое зло? Поэтому, будучи наставленными величиной этого зла, они должны были последовать за Агнцем, «Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).
Ведь когда в конце этой жизни верующие в Него (даже если по своему дарованию они гораздо менее сообразительны, нежели те) разрешаются от тела, злобные силы уже не имеют власти удерживать их. Ибо Тот Агнец, убитый ими безо всякого долга греха, победил их праведностью крови прежде, чем силой власти. Избавленные же от власти дьявола, праведные подхватываются святыми ангелами и освобождаются ото всяких зол через Посредника Бога и человеков человека Иисуса Христа, ибо по единодушному свидетельству Божественного Писания, как Ветхого, так и Нового, т. е. как того, что предвозвестило, так и того, что возвестило Христа, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись человекам (Деян. 4:12). После же того, как они очистились ото всякой заразы тления, они помещаются в обиталища покоя до тех пор, пока они не получат свои тела, но теперь уже нетленные, и для украшения, а не для обременения. Ибо так было угодно наилучшему и наимудрейшему Творцу, чтобы дух человека, благочестиво подданный Богу, имел благополучно подданное тело, и чтобы это благополучие пребывало без конца.
45. Там–то мы увидим истину безо всякого труда и всецело насладимся ее ясностью и определенностью. И мы уже не будем искать умом рассуждающим (ratiocinante), но лишь различать умом созерцающим (contemplante), каким образом Святой Дух не есть Сын, хотя Он исходит от Отца. В том свете уже не будет какого–либо поиска. Здесь же на опыте этот предмет оказался для меня столь же трудным, сколь, несомненно, он подобным же образом окажется и для тех, кто будет с вниманием и пониманием читать [написанное мной]. Во второй книге этого труда я пообещал, что поговорю об этом в другом месте. Но всякий раз, когда я желал указать на что–либо подобное такому предмету из сотворенного, каковое мы есть сами, каким бы ни было мое понимание, я не мог достаточным образом его выразить. Впрочем, я осознавал, что даже в самом своем понимании у меня больше тщания, нежели дела. Я, правда, обнаружил в одном лице, каковым является человек, образ Той высшей Троицы и желал, в особенности в девятой книге, показать в изменчивом Те Три [Лица] для того, чтобы с большей легкостью понять Их посредством временного. Но три определения одного лица не могут соответствовать Тем Трем Лицам, как того желало бы человеческое намерение, что и было показано нами в пятнадцатой книге.
Наконец, в Той высшей Троице, Которая есть Бог, нет ничего временного, посредством чего можно было бы показать или хотя бы спросить, был ли от Отца сначала рожден Сын, а затем от Их Обоих исшел Святой Дух, ведь Святое Писание называет Его Духом Обоих. Ибо именно о Нем говорит апостол; «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего» (Гал. 4:6). Он также есть и Тот, о Ком говорит Сам Сын: «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10:20). И множеством других свидетельств Божественных речений доказывается, что Дух, Который в Троице называется собственно Святым Духом, является Духом Отца и Сына, о каковом равным образом говорит Сам Сын: «Которого Я пошлю вам от Отца» (Ин. 15:26); и в другом месте: «Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин. 14:26). И потому [Святое Писание] учит об исхождении Духа от Отца и от Сына, что Сам Сын утверждает, что Он исходит от Отца; а когда Он воскрес из мертвых и явился Своим ученикам, «Он дунул и говорит: примите Духа Святого» (Ин. 20:22) так, чтобы показать, что Он исходит также и от Него. И Он есть та самая сила, которая, как мы читаем в Евангелии, от Него исходила и исцеляла всех (Лк. 4:19).
46. Причина же того, почему после Своего воскресения Он давал Святого Духа на земле, а после посылал Его с небес заключается, по–моему, в том, что Самим Даром излилась в сердца наши любовь (Рим. 5:5), которой мы любим Бога и ближнего, в соответствии с теми двумя заповедями, на которых утверждается весь закон и пророки (Мф. 22:40). Выражая это, Господь Иисус дважды дал Святого Духа: один раз на земле согласно любви к ближнему, другой раз с неба согласно любви к Богу. И если даже может быть дано иное объяснение тому, почему Святой Дух давался дважды, то все же нам не следует сомневаться в том, что давался один и тот же Дух, когда Иисус дунул, и когда немного спустя Он сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19), в чем со всей определенностью сообщается о Той Троице. Следовательно, именно Он есть Тот, Кто был дан также и с неба в день Пятидесятницы, т. е. на десятый день после того, как Господь вознесся на небо. Но тогда каким же образом не является Богом Тот, Кто дает святого Духа? Более того, насколько же Богом является Тот, Кто дает Бога? Ибо никто из учеников Его не давал Святого Духа. Они лишь молились, чтобы Он сошел на тех, на кого они возлагали руки, но сами они не давали Его. И поныне Церковь сохраняет этот обычай для своих священников. Наконец, и Симон Маг, предлагая апостолам деньги, не говорит: «Дайте и мне власть сию, чтобы я мог давать Святого Духа», но: «чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Ибо и выше Писание не сказало: «Симон же, увидев, что апостолы давали Святого Духа», но: «Симон же, увидев, что чрез возложение рук Апостольских подается Дух Святой» (Деян. 8:18–19). А потому и Сам Господь Иисус не только как Бог давал, но также и как человек получал Святого Духа, отчего о Нем и говорится как об исполненном благодати (Ин. 1:14) и Святого Духа (Лк. 4:1). Еще с большей ясностью об этом говорится в «Деяниях апостолов», где сказано, что Бог помазал Иисуса Духом Святым (Деян. 10:38) (не видимым елеем, конечно же, но даром благодати, символизируемым видимым помазанием, каковым Церковь помазывает крещеных). Но Христос, конечно же, не был помазан Святым Духом, когда Тот как голубь ниспустился на Него, крестившегося; ибо тогда Он удостоился предобразовать тело Свое, т. е. Церковь Свою, в Которой преимущественно крещеные получают Святого Духа. Однако надлежит понимать, что Он был помазан тем мистическим и невидимым помазанием, когда Слово Божие стало плотью, т. е. когда человеческая природа без каких–либо предшествующих заслуг, состоящих в благих делах, сочеталась с Богом Словом во чреве Девы так, что соделалась вместе с Ним одним лицом. А потому–то мы исповедуем, что Он родился от Святого Духа и Марии Девы. Ибо крайне нелепо полагать, будто Он получил Святого Духа, когда Он был лет тридцати (ибо в этом возрасте Он был крещен Иоанном). Так что Он пришел креститься безо всякого греха, но не без Святого Духа. Ибо если о самом рабе его и предтече Иоанне написано: «Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» (Лк. 1:15), поскольку хотя он и был зачат отцом, все же, образуясь во чреве, он получил Святого Духа; то что же тогда следует понимать и верить в отношении человека Христа, само зачатие плоти Которого было не плотским, но духовным? И в том, написанном о Нем, что Он принял от Отца обетование Святого Духа и что Он излил Его (Деян. 2:33), показана как его человеческая, так и Божественная природа. Ведь Он принял как человек, излил же как Бог. Впрочем, и мы можем получить этот дар в соответствии с нашей мерой, но мы, конечно же, не можем излить его на других; но для того, чтобы это произошло с ними, мы призываем Бога, Кем это и осуществляется.
47. Но неужели поэтому мы можем таким же образом спросить, исшел ли уже Святой Дух от Отца, когда был рожден Сын, или же Он пока еще не исшел и исходит лишь по Его рождению от Обоих, т. е. оттуда, в чем нет никакого времени, каким образом мы могли спросить в отношении того, в чем мы обнаруживаем время, исходит ли воля сначала из человеческого ума, чтобы исследовать то, что, будучи обнаруженным, зовется дитем, по возникновению или рождению какового та воля усовершается, успокаиваясь этим пределом, так что то, что было желанием ищущего, становится любовью наслаждающегося, причем эта любовь исходит от обоих, т. е. от порождающего ума и от порожденного знания, словно от родителя и от дитя? Нет, по поводу того, в чем ничто не начиналось во времени так, чтобы усовершилось в последующем времени, невозможно спрашивать таким образом. Вот почему тот, кто может понять порождение Сына от Отца вне времени, пусть также вне времени поймет исхождение Святого Духа от Обоих. И пусть тот, кто может понять в том, что говорит Сын: «Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26), не то, что Отец дал иметь жизнь Сыну, как уже существующему без жизни, но то, что Он родил Его вне времени так, что жизнь, которую Отец, рождая, дал Сыну, совечна жизни Отца, давшего ее, поймет, что как Отец имеет в Самом Себе то, чтобы от Него исходил Святой Дух, так и Сыну дал иметь то, чтобы от Него исходил Тот же Святой Дух, причем и первое, и второе — вне времени; и что, когда говорится, что Святой Дух исходит от Отца, при этом должно пониматься, что исхождение Святого Духа и от Сына есть то, что у Сына от Отца. Ибо если все, что имеет Сын, Он имеет от Отца, то, конечно же, от Отца у Него и то, что от Него исходит Святой Дух. Но пусть никто не помыслит в том чего–либо временного, в чем есть предшествующее и последующее, ибо такового в нем совсем нет. И каким же тогда образом не является совершенно нелепым называть Святого Духа Сыном Обоих, когда как рождение от Отца без начала во времени и без какого–либо изменения природы предоставляет сущность Сыну, так и исхождение от Обоих без начала во времени и без какого–либо изменения природы предоставляет сущность Святому Духу? Ибо, хотя мы не называем Святого Духа рожденным, мы все же не осмеливаемся называть Его нерожденным, дабы никто в этом имени не заподозрил двух Отцов в Троице или тех двух, один из которых не от другого. Ибо Отец один не есть от другого, и потому Он один называется нерожденным, правда, не в Писании, а в словоупотреблении рассуждающих и высказывающих о подобном предмете суждение, на каковое они способны. Сын же рожден от Отца, и Святой Дух исходит преимущественно от Отца, но без какого–либо временного промежутка [между Отцом и Сыном], но сразу от Обоих. И назывался бы Он Сыном Отца и Сына только тогда, когда бы Его порождали Оба — что представляется превратным всякому здравому смыслу. Поэтому Дух Обоих не рожден от Обоих, но исходит от Обоих.
48. Но поскольку в Той совечной, равной, бестелесной, невыразимо неизменной и нераздельной Троице крайне трудно отличить рождение от исхождения, пусть тем, кого невозможно развить далее, будет пока достаточно и того, что мы сказали в речи, обращенной к христианскому народу, и которую мы после произнесения записали. Ибо, когда я промеж прочего посредством свидетельств Святого Писания наставлял людей об исхождении Святого Духа от Обоих, то сказал: «Итак, если Святой Дух исходит как от Отца, так и от Сына, то почему же Сын сказал: «От Отца исходит» (Ин. 15:26)? Почему же, думаете вы, как не потому, что Он привык относить то, что есть также и Его, к Тому, от Кого Он Сам? Поэтому Он также говорит: «Мое учение не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7:16). Значит, если все же здесь под тем учением, которое Он назвал не Своим, понимается Его учение, то тем более следует понимать, что Святой Дух исходит и от Него там, где Он говорит: «От Отца исходит» так, чтобы не говорить: «От Меня не исходит». И от Того, от Кого Сын имеет Свое бытие Богом (ибо Он — Бог от Бога), Он имеет, конечно же, и то, что Святой Дух исходит также и от Него. А потому и Святой Дух имеет от Самого Отца то, что Он должен исходить также и от Сына, как Он исходит от Отца. Здесь также кое–как может быть понято и то (насколько оно может быть понято людьми вообще), почему о Святом Духе говорится, что Он не рожден, но, пожалуй, исходит. Ведь если бы и Он назывался Сыном, то Он назывался бы Сыном, конечно же, Обоих, что является совершенно нелепым, ибо никто не есть сын двух, разве что отца и матери. Но да не приведи Господь, чтоб мы допускали нечто подобное меж Богом Отцом и Богом Сыном, потому что и человеческий сын не исходит сразу и от отца, и от матери. Ибо, исходя от отца в мать, он не исходит от матери, а исходя в этот свет от матери, он не исходит [уже] от Отца. Дух же Святой не исходит от Отца в Сына, а от Сына — в освящение творения, но исходит сразу же от Обоих, хотя Отец дал Сыну то, чтобы таким же образом Он исходил от Сына, каким — и от Него Самого. Ведь не можем же мы сказать, что Святой Дух не есть жизнь, тогда как и Отец есть жизнь, и Сын есть жизнь. А потому, поскольку Отец, имея жизнь в Самом Себе, дал также и Сыну иметь жизнь в Самом Себе, постольку Он дал также Ему и то, чтобы жизнь исходила от Сына, как она исходит от Него Самого». Я перенес это из той речи в эту книгу, но тогда я говорил с правоверными, а не с неверными.
49. Но если они менее способны к тому, чтобы созерцать тот образ и видеть, насколько истинны те [определения], что есть в их уме, и что они суть трое не так, чтобы быть тремя лицами, но так, что все трое принадлежат человеку, являющемуся одним лицом, то почему бы им в отношении Той высшей Троицы, Которая есть Бог, не верить тому, что обнаруживается в Святом Писании, нежели требовать, чтоб им было приведено очевиднейше основание, каковое не может быть постигнуто человеческим умом, медлительным и немощным, как известно? Но, несомненно, когда они непоколебимо уверуют в Святое Писание как достовернейшее свидетельство, тогда пускай и пытаются, молясь, ища и живя благим образом, понять, т. е. увидеть умом то (насколько оно вообще может быть увидено), что хранится верой. Кто же [тогда] запретил бы им это? Даже напротив, кто бы [тогда] не побуждал их к этому? Впрочем, если они полагают, что им следует отрицать то потому, что они, будучи слепыми умом, не могут увидеть его, то они также должны отрицать и то, что есть солнце, на том основании, что, народившись, они также были слепы. Итак, свет во тьме светит, но если тьма его не объяла, то пусть они сначала просветятся даром Божиим, чтобы быть верующими и чтоб они начали быть светом в сравнение с неверующими; а затем, когда уже положено это основание, пусть они возведутся к видению того, во что они верят, дабы когда–нибудь его увидеть. Ведь есть же и то, во что верят таким образом, что увидеть совсем невозможно. Ведь нельзя же увидеть вновь Христа на кресте; но если бы не верили в то, что это свершилось и свиделось, но уповали бы на то, что это еще будет и может быть увидено, то невозможно было бы прийти к Такому Христу, Которого можно видеть без конца. Но насколько вопрос касается возможности увидеть посредством понимания ту высшую, невыразимую, бестелесную и неизменную природу, взор человеческого ума (при том, что он руководствуется правилом веры) нигде не испытал бы себя лучше, нежели в том, что в своей собственной природе, лучшей, нежели природа остальных животных, сам человек имеет то, что лучше остальных частей его собственной души, т. е. ум, каковой наделен некоторым видением невидимого, каковому обо всем сообщают телесные ощущения, словно на суд почетно председательствующему на высшем и центральном месте, и какового нет ничего выше, чем бы он, будучи подданным, управлялся, кроме Бога.
50. Но среди всего того многого, что я уже сказал, я ничего не дерзну считать достойным невыразимости Той высшей Троицы; я, пожалуй, лишь признаюсь, что дивное ведение Ее для меня высоко, и я не могу достигнуть его (Пс. 138:6). Так вот, говорю я: «О ты, душа моя, среди всего того в чем ты чувствуешь свое бытие, в чем себя полагаешь, чем стоишь, пока исцеляются все недуги твои Тем, Кто простил все беззакония твои (Пс. 102:3)? Ты, разумеется, ощущаешь себя находящейся в той гостинице, куда привез один Самарянин того, кого, израненного разбойниками, нашел едва живого (Лк. 10:30–34). И все же ты видела много истинного не теми очами, которыми видят цветные тела, но теми, о которых молил говорящий: «Да воззрят очи мои на правоту» (Пс. 16:2). Ты и в самом деле видела много истинного и отличала его от того света, которым ты его видела. [Теперь же] подними очи к самому свету и закрепись в нем, если сможешь. Ибо так ты увидишь, как рождение Слова Божиего отличается от исхождения Дара Божиего, отчего единородный Сын сказал, что Святой Дух не рожден от Отца (иначе бы Он был Его братом), но исходит от Отца. А потому, поскольку Дух Обоих есть некая единосущная сообщность Отца и Сына, постольку Он не называется Сыном Обоих (и да не дай нам Бог думать таким образом). Но ты не можешь укоренить свой взор там так, чтобы видеть четким и ясным образом. Я знаю, что ты не можешь. Я говорю правду, я говорю сам себе, что я знаю, что для меня невозможно. И все же тот свет сам показывает тебе в тебе же на те три определения, в которых ты сама узнаешь образ Той высшей Троицы, созерцать Каковую ты пока не можешь, ибо твой взор слаб. Тот свет сам показывает тебе, что в тебе есть истинное слово, когда оно рождается из твоего знания, т. е. когда мы говорим то, что мы знаем, даже если мы не произносим и не мыслим никакого значащего звучания, относящегося к какому–нибудь особенному языку; но наша мысль воображается тем, что мы знаем, и во взоре мыслящего имеется образ, совершенно подобный той мысли, которую содержит в себе память, причем воля или любовь, объединяет первые два словно родителя и дитя. Тот же, кто может, опознает и распознает, что эта воля исходит от мысли (ибо никто не желает того, касательно чего он совершенно не знает, что и каково оно есть), что все же она не есть образ мысли, и что, таким образом, посредством этого умопостигаемого предмета нам внушается мысль об определенном различии между рождением и исхождением, поскольку созерцать мыслью не есть то же, что и желать или даже наслаждаться волей. И ты смогла [распознать это], хотя ты не смогла и не можешь изложить в соответствующем выражении то, что ты едва увидела промеж облаков телесных подобий, которые непрестанно препятствуют человеческому мышлению. Но тот свет, который не есть ты сама, также показывает тебе, что одно есть те бестелесные подобия тел, другое — [сама] истина, которую мы созерцаем пониманием, [соответственно] отвергнув их. Это и другое, подобным образом определенное, показал тот свет твоему внутреннему зрению. Так, по какой же причине не можешь ты, укоренившись взором, созерцать самый свет, как не по причине недуга? И что же тебя ввергло в него, как не [твое] беззаконие? И кто же исцелит все недуги твои, как не Тот, Кто прощает все беззакония твои?». А потому лучше закончить эту книгу не рассуждением, а молитвой.
51. Господи Боже наш, веруем в Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Ибо не сказала бы Истина: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19), если бы не был Ты Троицей. И не повелел бы Ты нам, Господи Боже наш, креститься во имя того, кто не есть Господь Бог. И не сказал бы Божественный глас: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 4:4), если бы Ты не был Троицей так, чтобы быть единым Господом Богом. И если бы Ты, Бог Отец, Сам был бы и Сыном, Словом Твоим Иисусом Христом, и Даром Вашим Святым Духом, не читали б мы в книге Истины: «Бог послал Сына Своего» (Гал. 4:4; Ин. 3:17); ни Ты, Единородный, не сказал бы о Духе Святом: «Которого пошлет Отец Мой во имя Мое» (Ин. 14:26) и «Которого Я пошлю вам от Отца» (Ин. 14:26). Направляя свое устремление к этому правилу веры, я, насколько Ты соделал меня способным, искал и желал увидеть в понимании то, во что верил, о чем я много рассуждал, над чем я трудился. Господи Боже мой, мое единственное упование, вонми мне, дабы я, утомленный, не перестал искать Тебя, но страстно искал лица Твоего всегда (Пс. 104:4). Ты, Кто заставил искать Тебя и дал упование найти, дай мне силы искать. Мощь и немощь моя пред Тобою, сохрани одну, исцели другую. Знание и невежество мое пред Тобою; где Ты открыл мне, прими входящего; где Ты закрыл, открой стучащему. Пусть я вспомню, пойму и возлюблю Тебя. Усиль то во мне, пока Ты не преобразишь меня всецело. Я знаю, что сказано: «При многословии не миновать греха» (Притч. 10:19). Так пусть же говорю я, лишь проповедуя слово Твое и восхваляя Тебя. И сколь много бы я так не говорил, пусть я не только избегну греха, но и приобрету благие заслуги. Ибо человек, благословенный от Тебя, не стал бы предписывать своему истинному сыну в вере, говоря: «Проповедуй слово, настой вовремя, и не вовремя» (2 Тим. 4:2). И неужели мы должны говорить, Господи, что не говорил многого тот, кто не только вовремя, но и не вовремя возвещал слово Твое? Но потому, что сказанное было необходимым, оно не было многим. Освободи же меня, Боже мой, от многословия, которым я страдаю внутри в душе моей, жалкой пред взором Твоим и ищущей милосердия Твоего. Ибо я не безмолвствую мыслями, даже когда безмолвствую словами. Ибо если бы я не думал ни о чем, как только о том, что Тебе угодно, я бы, конечно же, не просил, чтобы Ты освободил меня от многословия. Но множественны мысли мои, каковые, будучи мыслями человеческими, как Ты знаешь, суетны (Пс. 93:11). Не давай мне соглашаться с ними, а если они вдруг усладят меня, дай мне осудить их и не задержаться в них как бы во сне. И да не возобладают они во мне настолько, чтобы что–либо в делах моих исходило от них; но пусть хотя бы суждение мое и совесть моя пребудут свободными от них при Твоем попечении. Мудрый человек, говоря о Тебе в своей книге, которая теперь имеет собственное имя Экклезиаста, сказал: «Много можем мы сказать, и однако же не постигнем Его. И конец слов: Он есть все» (Сир. 43:29). Итак, когда мы придем к Тебе, прекратится то многое, что мы говорим и чем не постигаем, и Ты пребудешь единый как «все во всем» (1 Кор. 15:28). И мы также, соделавшись в Тебе единым, беспрестанно будем говорить единое, восхваляя Тебя в едином. Господь Бог единый, Бог Троица, да признают Твои [правоверные], что все, что я сказал в этих книгах, от Тебя. Если же есть [в них что–то] от меня, да простится это мне Тобой и Твоими [правоверными]. Аминь.
Возвращение к написанному. О Троице. Книга 2.
1. В течение нескольких лет я написал пятнадцать книг о Троице, Которая есть Бог. Но когда я еще не завершил двенадцатую книгу, но продержал [в ожидании] тех, кто столь страстно жаждал иметь эти книги, дольше, чем они могли вынести, они были выкрадены у меня в состоянии менее исправном, нежели они должны были и могли бы быть, когда бы я хотел их издать. После того, как мне стало об этом известно, и поскольку у нас сохранились и другие их копии, я тогда решил сам их не публиковать, но придержать их затем, чтобы в каком–либо другом своем труде рассказать о том, что с ними приключилось. Однако досаждаемый братьями, которым я не мог противиться, я исправил их настолько, насколько счел их нуждающимися в исправлении, окончил их и издал, предварив их письмом, которое я написал преподобному Аврелию, епископу Карфагенской Церкви. В этом письме как в прологе я изложил и то, что случилось, и то, что я [до этого] намеревался сделать, и то, что я сделал, понукаемый любовью моих братьев.
2. В одиннадцатой книге, в которой я говорил о видимом теле, я сказал: «Любить — это быть вне себя». Это было сказано о той любви, посредством которой что–либо любится так, что тот, кто любит это, считает себя блаженным, наслаждаясь этим. Но любить телесный вид во славу Творца так, чтобы, наслаждаясь Самим Творцом, быть во истину блаженным, не есть быть вне себя. В той же книге я также сказал: «Я не помню четвероногой птицы, ибо не видел таковой, но я легко могу это представить, когда к какому–либо крылатому образу, каковой я видел, я присовокупляю еще две ноги, каковые я также видел». Говоря таким образом, я, конечно, же не мог вновь вспомнить о крылатых четвероногих, о которых упоминает Закон (Лев. 11:20). Ибо в Законе, [конечно же], не считаются ногами две задних голени, посредством которых скачет саранча, которая называется чистой и отличается от таких нечистых крылатых, что не скачут посредством голеней, как, например, жуки. Все же такого рода крылатые зовутся в Законе четвероногими.
3. В двенадцатой книге меня не удовлетворяет изложение посредством слов апостола, когда он говорит: «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела» (1 Кор. 6:18). И не так я считаю следует понимать слова «Блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6:18), что это делает тот, кто занимается чем–либо ради достижения того, что ощущается через тело, и в этом полагает предел своему благу. Ведь сказанным охватывается гораздо больше грехов, нежели только блуд, каковой заключается в недозволительном соитии, и о каковом, похоже, высказывался апостол, когда он это говорил.
Этот труд (если не считать позднее присовокупленного письма, предваряющего его) начинается так: «Тому, кто собирается прочесть наши размышления о Троице».
О книге Бытия буквально
КНИГА НЕОКОНЧЕННАЯ
ГЛАВА I
О том, что в естественных предметах для нас не ясно, — а это, как мы думаем, произведено всемогущим Художником Богом, — говорить надобно не утвердительно, а с расследованием, особенно в тех книгах, которые рекомендует нам Божественный авторитет, где человеку, необдуманно утверждающему нетвердое и сомнительное мнение, трудно избежать обвинения в святотатстве; но, с другой стороны, и пытливость в исследовании не должна заходить за пределы, указываемые кафолическою верою. А так как многие еретики имеют обыкновение изъяснять Божественное писание по собственному разумению, с учением кафолической веры несогласному, то, прежде изъяснения самой книги [Бытия], считаем нужным изложить вкратце кафолическую веру.
Она заключается в следующем. Всемогущий Бог Отец создал и устроил всю тварь чрез Своего единородного Сына, т. е. Свою, единосущную и совечную Себе, Премудрость и Силу вместе с Духом Святым, также единосущным и совечным Себе. Таким образом, кафолическое учение внушает нам именовать сию Троицу единым Богом, и веровать, что Он создал и сотворил все существующее, насколько оно существует; так что всякая тварь, как разумная, так и телесная, или, выражаясь короче согласно со словами Божественных писаний, как видимая, так и невидимая, создана не из Божественной природы, а Богом из ничего, и что в ней нет ничего, относящегося к Троице, кроме того разве, что ее создала Троица, — что она сотворена. Поэтому говорить или веровать надлежит так, что вся тварь ни единосущна, ни совечна Богу.
С другой стороны, все созданное Богом добро зело; зло же не есть нечто натуральное, а все, называемое злом, есть или грех или наказание за грех. Да и самый грех есть не что иное, как только порочная наклонность нашей свободной воли, когда мы склоняемся к тому, что воспрещает праведность и воздержаться от чего — дело нашей свободы, т. е. грех заключается не в самых этих вещах, а в незаконном пользовании ими. Законное же пользование вещами состоит в том, чтобы душа пребывала в законе Божием и подчинена была с полнейшею любовью одному Богу, и чтобы остальным всем, ей подчиненным, управляла без страсти и похоти, т. е. по заповеди Божией: ибо в таком случае она управлять будет без затруднения и злополучия, а, напротив, с Величайшею легкостью и блаженством.
Это именно состояние, когда душа терзается тварями, ей не покоряющимися, когда она и сама не покоряется Богу, и составляет наказание за грех: когда она была покорна Богу, покорялась ей и тварь. Таким образом, огонь не есть зло, потому что представляет собою творение Божие, но он жжет наше немощное существо вследствие греха. Грехи, которые совершаются нами пред Божественным милосердием необходимо, после того, как вследствие греха своей свободной воли мы впали в настоящее состояние, называются естественными грехами.
Но человек обновлен чрез Иисуса Христа, Господа нашего, когда Сама неизреченная и непреложная Премудрость Божия благоволила воспринять полного и совершенного человека и родиться от Духа Святого и Марии Девы, быть распятым, погребенным, воскреснуть и вознестись на небо; что уже совершилось, — вновь придти в конце веков, чтобы судить живых и мертвых и воскресить во плоти; что проповедуется, как еще имеющее совершиться. Верующим во Христа дан Дух Святый. Им основана матерь–церковь, называемая кафолическою потому, что она совершенна в целой общности своих членов (universaliter) и не заключена ни в ком из них (in nullo) и что распространена по всему Миру. Кающимся отпускаются все прежние грехи и обещается вечная жизнь и царство небесное.
ГЛАВА II
Согласно с этою верою и нужно смотреть на то, что в книге [Бытия] может подлежать испытанию и исследованию. — В начале сотвори Бог небо и землю (Быт. I, 1). Некоторыми толкователями Писаний рекомендуются четыре способа изъяснения Закона, названия которых могут быть приведены по–гречески, а определены и разъяснены по–латыни, именно — исторический, аллегорический, аналогический и этиологический, — исторический, когда припоминается какое–либо божественное или человеческое действие, аллегорический, когда изречения понимаются иносказательно, аналогический, когда указывается согласие ветхого и нового заветов, этиологический, когда приводятся причины слов и действий.
ГЛАВА III
Итак, слова: В начале сотвори Бог небо и землю могут быть предметом исследования с следующих сторон: надобно ли понимать их только в смысле историческом, или же они означают что–либо и иносказательно, как они согласны с Евангелием и по какой причине книга [Бытия] так начинается. В историческом, далее, смысле возможен вопрос, что значит в начале, т. е. в начале ли времени, или в Начале — в самой Премудрости Божией, потому что и Сам Сын Божий назвал Себя началом, когда ему было сказано: Ты кто ecu? и рече им: Начаток, яко и глаголю вам (Иоан. VIII, 25). Ибо есть Начало безначальное и Начало от другого Начала. Начало безначальное — один только Отец, почему мы и веруем, что все [произошло] от одного начала. Сын же есть начало в том смысле, что Он от Отца. Даже и первая разумная тварь может быть названа началом того, чему в творении Божием она служит главою. В самом деле, так как начало правильно называется главою, то в своем постепенно восходящем исчислении апостол не назвал жены главою кого–нибудь; ибо мужа он назвал главою жены, Христа — главою мужа и, наконец, Бога — главою Христа (I Коринф. XI, 3): таким образом, тварь подчинена Творцу.
Или не потому ли сказано: в начале, что то было первое творение? Но разве в ряду творений небо и земля могли быть созданными во–первых, если первоначально созданы Ангелы и все разумные Силы? Ибо и Ангелов мы должны считать сотворенными Богом, так как в 148 псалме пророк перечисляет и Ангелов, когда говорит: Той рече, и быша, Той повеле, и создашася (Пс. CXLVIII, 5). Но если первоначально сотворены Ангелы, то можно спросить, созданы ли они во времени, или прежде всякого времени, или в начале времени? Если они созданы во времени, то, значит, было уже время, прежде чем Ангелы сотворены; а так как и самое время есть тварь, то является необходимость допустить нечто раньше, чем созданы Ангелы. Если же мы скажем, что они созданы в начале времени, так что вместе с ними началось и самое время, то должны будем назвать ложным мнение некоторых, что время началось вместе с небом и землею.
Если же Ангелы созданы раньше времени, то надобно спросить, как это мирится с дальнейшими словами: И рече Бог: да будут светила на тверди небесной, освещати землю и разлучати между днем и между нощию, и да будут во знамения, и во времена, и во дни, и в лета? Из этих слов, по–видимому, явствует, что время началось тогда, когда небо и небесные светила начали двигаться по определенному для них пути; а если так, то как же могли быть дни раньше, чем началось время, если время получило начало от движения светил, которые, сказано, созданы в четвертый день? Или, быть может, распорядок тех дней введен применительно к человеческой слабости, по закону повествования, чтобы простою речью дать людям понятие о возвышенных предметах, потому что и самая речь повествователя не возможна без чего–либо первого, среднего и последнего? Или же, чтобы были светила, не сказано ли о тех временах, которые люди измеряют преемственностью в телесном движении? Ибо если бы не было никакого телесного движения, то не было бы никакого и времени; что, впрочем, и само по себе для людей очень понятно. Но если мы с этим согласимся, то должны будем спросить, может ли быть время помимо движения тел, в движении бестелесной твари, какова душа или даже и ум, который, без всякого сомнения, при мышлении движется, и в этом движении одно имеет раньше, а другое позже, что немыслимо без протяжения времени? А если мы это допустим, то вместе с тем допустим и мысль, что было время и раньше неба и земли, если раньше неба и земли были созданы Ангелы. Ибо тогда была уже тварь, которая проводила время в бестелесных движениях. И ошибки не будет, если мы допустим, что рядом с этою тварью существует время, как существует оно в нашей душе, которая привыкла к телесным движениям, благодаря телесным чувствам. А может быть, в главенствующих и наивысших тварях и нет его. Но как бы то ни было (это предмет весьма таинственный и для человеческой мысли недоступный), а мы должны верою принимать, хотя это и превышает меру нашего мышления, что всякая тварь имеет начало и что и самое время есть творение, а потому и оно имеет начало и отнюдь не совечно Творцу.
Можно даже думать, что небо и земля поставлены здесь вместо всей вообще твари, так что небом названы и эта видимая эфирная твердь и та невидимая тварь высших Сил, а землею — низшая часть Мира, с населяющими ее одушевленными существами. Или же небом не названа ли вся высшая и невидимая тварь, а землею все видимое, так что и в этом значении слова: В начале сотвори Бог небо и землю можно понимать о всей твари? И быть может, не непристойно, в сравнении с невидимою тварью все видимое называется землею, чтобы и та, в свою очередь, называлась именем неба. Поэтому и невидимая душа, когда она отягощается любовью к видимым предметам и надмевается приобретением их, называется также землею, как написано: Почто гордится земля и пепел (Сирах. X, 9)?
Но можно спросить, в определенном ли и стройном виде все названо небом и землею, или же именем неба и нем ли названа самая, на первых порах бесформенная, мировая материя, которая неизреченным образом, по повелению Божию размещена потом в настоящие, с определенным видом и формой, природы? Ибо хотя мы и читаем в Писании: Ты сотворил мир от безобразнаго вещества (Премудр. XI, 18), однако не можем сказать, что и самая материя, какого бы рода она ни была, создана не Тем, от Кого, как мы признаем и веруем, произошло все; так что устроение и приведете каждой отдельной вещи в определенный и стройный вид называется Миром; самая же материя названа небом и землею, как бы семенем неба и земли: то были небо и земля в беспорядочном и смешанном виде, в состоянии, удобном к воспринятию форм от Художника Бога. — Доселе мы должны были вести наследование по поводу слов: в начале сотвори Бог небо и землю, ибо ничего о них не следовало утверждать необдуманно.
ГЛАВА IV
Земля же бе невидима и неустроена, и тьма верху бездны, и Дух Божий ношашеся верху воды — Еретики (манихеи), восстающие против В. Завета, по поводу этого места пускают в ход, обыкновенно, клевету, говоря: «Каким образом в начале Бог создал небо и землю, если земля уже была»? Так говорят они, не понимая, что слова эти прибавлены для объяснения того, какова была земля, о которой уже сказано, что Бог сотвори небо и землю. Таким образом, понимать это следует так: Бог в начале создал небо и землю; но эта земля, Богом созданная, была невидима и неустроена, пока Им же Самим не была разграничена и приведена из смешения в определенный порядок вещей. Или же не лучше ли понимать так, что в этом стихе снова упоминается та же материя, которая выше названа небом и землею, так что смысл будет такой: в начале сотворил Бог небо и землю, но то, что названо небом и землею, была земля невидимая и неустроенная, и тьма [была] вверху бездны; т. е. то, что названо небом и землею, было некоторою смешанною материей, из которой, по выделении из нее элементов и принятия ими формы, образовался мир, состояний из двух самых больших частей, неба и земли? Это смешение материи могло быть приближено к простому пониманию под такими только чертами, когда земля названа невидимой, неустроенной, т. е. не приведенной еще в порядок, или не приготовленной, и [когда сказано, что] была тьма вверху бездны, т. е. над этою беспредельною глубиной. А эта глубина, в свою очередь, быть может, поименована потому, что ничья мысль не может понять ее, по причине самой ее бесформенности.
И тьма верху бездны. — Была ли бездна внизу, а тьма вверху, как будто бы уже существовала раздельность пространства? Или же, так как еще продолжается описание смешения материи, что и по–гречески называется caoz, то не потому ли сказано: И тьма верху бездны, что не было света, который если бы был, то, конечно, был бы вверху, потому что он тоньше, и освещал бы, что находилось ниже его? И в самом деле, кто рассудит внимательно, что такое тьма, тот найдет ее ничем иным, как отсутствием света. Таким образом, слова: И тьма бысть верху бездны равносильны словам: «Над бездною не было света». По этой причине та материя, которая дальнейшим действием Божиим распределяется в определенные формы вещей, названа невидимою и неустроенною землею и лишенною света глубиною, будучи раньше названа именем неба и земли, как бы семенем неба и земли, как уже сказано выше; если только, впрочем, под именем неба и земли писатель не хотел сначала обозначить вселенную, чтобы потом, когда уже разъяснена материя, перейти к исследованию частей Мира.
И Дух Божий ношашеся верху воды. — Писатель не говорил раньше, что воду Бог создал, и однако ни в каком случае не следует думать, что Бог не сотворил воды, и что она уже существовала прежде, чем Он создал что–либо. Ибо, как говорит Апостол, Он Тот, от Кого все, чрез Кого все и в Ком все (Римл. XI, 36). Следовательно, и воду Бог сотворил, и думать иначе — великое заблуждение. Но почему же не сказано, что Бог сотворил воду? Не захотел ли [здесь] писатель назвать еще и водою ту самую материю, которую он раньше называл то небом и землею, то невидимою и неустроенною землею, то бездною? В самом деле, почему бы не назваться ей и водою, если она могла быть названа землею, когда [в сущности] она не была еще не разграниченной и сформированной водою, ни землею, ни чем–либо другим? И, может быть, сперва она названа небом и землею, затем невидимою и неустроенною землею и лишенною света бездною, а, наконец, и водою с тою целью, чтобы сначала именем неба и земли обозначить материю всей вселенной, для которой она создана совершенно из ничего; затем, именем невидимой и неустроенной земли и бездны дать понятие о бесформенности, потому что в ряду всех элементов земля наиболее бесформенна и наименее светла, чем остальные; наконец, именем воды обозначить материю, подлежащую действию Творца, ибо вода подвижнее земли, и потому подлежащая действию Творца материя, в виду легкости обработки и большей подвижности, должна быть названа скорее водою, чем землею.
И хотя воздух подвижнее воды, а эфир не без основания считается и ощущается еще подвижнее, чем даже воздух; однако назвать материю именем воздуха или эфира было бы менее удобно. Ибо воздух и эфир считаются более элементами, имеющими способность производить действие, земля же и вода только имеющими способность принимать действие. Если это не ясно, — полагаю, что совершенно очевидно то, по крайней мере, что ветер приводит в движение воду и некоторые земные предметы, а ветер есть движущийся и как бы волнующийся воздух. Отсюда, так как очевидно, что воздух движет воду, но не ясно, от какой причины он движется сам, чтобы быть ветром: то кто же станет сомневаться, что материи приличнее называться именем воды, потому что вода приводится в движение, чем именем воздуха, который приводить ее в движение? Но двигаться — значит претерпевать действие, а двигать — производить действие. К этому присоединить надобно и то еще, что все, рождаемое землею, орошают водою, чтобы оно могло взойти и вырасти; так что и в самых этих порождениях, по–видимому, движется собственно та, же вода. Отсюда, материю приличнее назвать именем воды, так как, покорная действию Творца, она в этом случае обозначалась бы этим именем за свою подвижность и круговращение в каждом рождающемся теле, чем именем воздуха, в котором может примечаться одна только подвижность, но отсутствуют другие (свойства), сильнее отличающие материю; так что смысл всех слов будет такой: В начале сотвори Бог небо и землю, т. е. материю, которая могла бы получить форму неба и земли; эта материя — земля бе невидима и неустроена, то есть была бесформенною и лишенною света, бездною, которая, в виду того, что должна была подлежать действию Творца, за эту свою послушность творческому действию названа также водою.
Итак, в таком значении материи указаны, прежде всего, ее назначение, т. е. для чего она создана, во–вторых, ее бесформенность, в–третьих, ее служебность и подчиненность Творцу. Поэтому на первом месте [поставляются] небо и земля, ибо ради них и создана материя; на втором — невидимая и неустроенная земля и тьма вверху бездны, т. е. лишенная света бесформенность, почему земля и названа невидимою; на третьем — вода, покорная духу в воспринятии известного вида и форм, почему над водою и носился Дух Божий, чтобы под духом мы разумели творящего, а под водою — то, из чего надлежало творить, т. е. способную к образованию материю. Ибо когда мы называем эти три имени одного предмета, мировую материю, бесформенную материю и материю, способную к образованию, то к первому совершенно приложимы небо и земля, ко второму — смешение, бездна, тьма, к третьему — удобопокорность (cedendi facilitas), над которою уже носится дух Творца, чтобы начать дело творения.
И Дух Божий ношашеся верху воды. — Носился не так, как масло по воде или вода по земле, т. е. как бы содержался (в воде), но, — если уж надобно брать для этого примеры из видимой природы, — так, как носится свет солнца или луны над теми предметами, которые он освещает на земле: он не содержится в этих предметах, а носится над ними, сам заключаясь в небе. С другой стороны, не следует думать, что Дух Божий носился над материей как бы в пределах пространства; но [носился Он] некоею действующею и образующею силою, чтобы то, над чем Он носился, получало жизнь и образование, подобно тому, как носятся воля художника над деревом, или над всяким другим предметом, подлежащим обработке, или даже над телесными его органами, которые он направляет к работе. И это подобие, хотя оно возвышеннее всякого тела, однако не достаточно и почти ничтожно для понимания ношения Духа Божия над подлежавшею Его действию мировою материею; но в ряду предметов, которые доступны пониманию людей, мы не находим более ясного и близкого подобия тому, о чем говорим. Поэтому в рассуждениях подобного рода всего лучше держаться заповеди Писания: Славяще Господа, возносите Его, елико аще можете, превзыдет бо и еще. (Сирах. XLIII, 33). Так следует и нам сказать, если в этом месте разумеется Дух Божий, Дух Святый, Которого мы чтим в неизреченной и непреложной Троице.
Но [слова: И Дух Божий ношашеся верху воды] можно понимать и иначе, разумея под Духом Божиим тварное жизненное начало (vitalem creaturam), которым держится и движется весь настоящий видимый мир и все телесное, — начало, которому всемогущий Бог сообщил некую силу — быть Ему орудием в произведении всего, что рождается. Так как этот дух лучше всякого эфирного тела, потому что всякая невидимая тварь превосходит тварь видимую: то не будет несообразности, если мы назовем его духом Божиим. Ибо что не Божье в ряду созданного Богом, когда даже о самой земле сказано: Господня земля и неполноте ея (Пс. XXIII, 1), и обо всем вообще написано: Яко твоя суть вся, Владыко душелюбче, (Прем. XI, 27)? Но так Дух Божий может быть понимаем в таком только случае, если слова: в начале сотвори Бог небо и землю будем разуметь, как слова, сказанные только о видимой твари, именно так, что над материей видимых предметов в начале их образования носился невидимый дух, который однако сам был тварью, т. е. не Богом, а созданною и поставленною от Бога природою. Но если все твари, т. е. и разумную, и душевную, и телесную считать материей, обозначаемою словом вода, то в данном месте под Духом Божиим никоим образом нельзя понимать чего–либо другого, кроме того непреложного и Святого Духа, который носился над материей всех, созданных Богом, вещей.
Может об этом духе возникнуть еще и третье мнение, именно, что под именем духа сделано указание на элемент воздуха, и что, таким образом, обозначены четыре элемента, из которых возник настоящий видимый мир, т. е. небо, земля, вода и воздух, — обозначены, впрочем, не потому, что они уже были разграничены и определены, а потому, что они в бесформенном смешении материи, предуказывалось только их возникновение, а само это бесформенное смешение материи обозначено именем тьма и бездны. Но какое бы из этих мнений ни было верным, должно верить, что Бог есть создатель и Творец всего, что произошло, что видимо или невидимо, поскольку это касается самой природы, а не пороков, которые противны природе, и что нет, решительно ни одной твари, которая бы не от Него получила начало и совершенствовалась в своем роде и своей сущности.
ГЛАВА V
И рече Бог: да будет свет, и бысть свет. Не следует думать, что Бог сказал; Да будет свет голосом, выпущенным из легких, языком или зубами. Такие представления свойственны плотским людям, а мудрствовать по плоти смерть есть (Римл. VIII, 6). Cлова сии: Да будет свет сказаны неизреченным образом. Но возможен вопрос, сказано ли это изречение единородным Сыном, или же само оно есть Сын единородный: потому что изречение это называется Словом Божиим, которым создано все (Иоан. I; 1, 3), лишь бы только при этом мы далеки были от нечестивой мысли, что Слово Божие — единородный Сын — есть слово, как бы произнесенное голосом, подобно тому, как это бывает у нас. Слово Божие, которым создано все, не имеет ни начала, ни конца; рожденное безначально, Оно совечно Отцу. Поэтому изречение: Да будет свет, если оно было начато и прекращено, скорее есть слово, сказанное Сыном, чем само есть Сын. Впрочем, и это непостижимо, и никакой плотский образ пусть не проскользает [при этом] в душу и не возмущает благочестиво–духовного разума; так как мнение, что в природе Божией, взятой в собственном смысле, что–либо имеет начало и конец, есть мнение дерзкое и опасное, которое, впрочем, по снисхождение простительно плотским людям и малым детям, да и то не как мнение, с которым бы они оставались на будущее время, а как мнение, которое со временем они оставят. Ибо если и говорится, что Бог что–либо начинает и оканчивает, это нужно понимать так, что все такое начинается и оканчивается не в самой Его природе, а в Его твари, которая удивительным образом Ему повинуется.
И рече Бог: да будет свет.
Тот ли это свет, который мы видим своими телесными глазами, или какой либо сокровенный, который не дано нам видеть посредством тела? И если он свет сокровенный, то телесный ли, который, может быть, распространен по пространству в высших частях Мира, или же бестелесный, такой, какой существует в нашей душе, к которому относится также и исследование, чего должны мы избегать и желать своими телесными чувствами, и которого не лишены даже и души животных, или такой, который — выше разума и от которого начинается все, что сотворено? Но какой бы свет он не означал, мы, однако, должны думать, что он — свет сотворенный, а не тот, которым сияет Сама рожденная, но не сотворенная Премудрость Божия, чтобы не подумать, что Бог был без Света, прежде чем создал тот, о коем идет теперь речь. Об этом последнем, как достаточно показывают и самые слова, замечается, что он сотворен: И рече, говорит, да будет свет, и бысть свет. Иное дело Свет, рожденный от Бога, а иное — свет, который Бог сотворил: рожденный от Бога Свет есть сама Божественная Премудрость, свет же сотворенный есть свет изменяемый, какой бы он ни был, телесный или бестелесный.
Но недоумевают обыкновенно, каким образом телесный свет мог существовать раньше, чем созданы были небо и небесные светила, о которых говорится после света: как будто легко или же совершенно возможно для человека понять, существует ли какой–нибудь свет кроме неба, который, однако, распространен и разлит по пространству и обнимает собою мир! И хотя под светом мы можем здесь разуметь свет и бестелесный, если скажем, что в книге Бытия говорится не об одной только видимой твари, а о всей твари вообще, но какая нужда останавливаться на подобном споре?! И может быть, что раз сотворены были Ангелы, то под тем светом, о котором люди совопросничают, хотя весьма кратко, но вполне прилично и соответственно обозначены именно Ангелы.
И виде Бог свет, яко добро. Эти слова нужно понимать не как выражение как бы радости от необычайного добра, а как одобрение творения. Ибо, — насколько это может быть выражено на человеческом языке, — что приличнее сказать от лица Бога, как не слова: рече, бысть, угодно, так что в рече дается разуметь Его власть, в бысть — Его могущество, а в угодно — Его благоволение: так эти неизреченные [действия] должны были быть выражены людям человеком, чтобы послужить всем на пользу!
И разлучи Бог между светом и между тьмою. Отсюда можно понять, с какою верностью описываются действия Божественного творения. Ибо никто, конечно, не станет думать, что свет сотворен для того, чтобы быть смешанным со тьмою, а потому он нуждался в отделении от нее; но это разделение света от тьмы произошло именно вследствие того, что свет был создан. Ибо кое общение свету ко теме (2 Корнф. VI, 14.)? Таким образом, Бог разделил свет от тьмы тем, что создал свет, отсутствие которого называется тьмою. А различие между светом и тьмою такое же, как между одеждою и наготою, или полным и пустым, и под.
Выше сказано, в каких значениях можно понимать свет: противоположные им отрицания могут быть названы тьмою. В самом деле, есть свет, который мы видим своими телесными глазами и сам — телесный, как напр. свет солнца, луны, звезд и других подобных [тел], буде есть они; этому свету противоположна тьма, когда какое–нибудь место лишено бывает видимого света. Есть, затем, другой свет: это — жизнь чувствующая и имеющая способность различать то, что при посредстве тела переносится на обсуждение души, т. е. белое и черное, звонкое и хриплое, благовонное и зловонное, сладкое и горькое, горячее и холодное и проч. в этом роде. Ибо иное дело свет, ощущаемый глазами, и иное — свет, который возбуждается при посредстве глаз, чтобы быть ощущаемым: первый находится в теле, а второй хотя и при посредстве тела воспринимает ощущения, находится, однако, в душе. Противоположная такому свету тьма есть, так сказать, нечувствительность, или лучше — бесчувственность, т. е. отсутствие способности ощущать, хотя бы и было на лицо то, что могло бы быть ощущаемо, если бы в этой жизни был свет, посредством которого ощущение происходит. Это — не то, как когда отсутствуют телесные органы, напр. у слепых или глухих, ибо в их душе есть тот свет, о котором у нас теперь идет речь, но недостает только телесных органов; и не то, как во время молчания не слышно бывает голоса, когда есть и этот свет в душе, и органы телесные имеются, но не получается ничего, что ощущалось бы. Отсюда, не тот лишен бывает этого света, кто не ощущает по указанным причинам, а тот, кто вовсе не имеет самой этой способности в душе своей, которая обыкновенно не называется уже и душою, а просто жизнью, какая, как думают, свойственна виноградной лозе, дереву, и всякому растению, если только, впрочем, можно каким–либо образом убедиться, что они имеют жизнь, как думают некоторые, крайне заблуждающиеся, еретики [2], допуская, что [деревья] не только ощущают телом, т. е. видят, слышат, и различают жар и огонь, а даже понимают наше размышление и знают наши мысли; но это, впрочем, другой уже вопрос. Итак, противоположная тому свету, при помощи которого что–нибудь ощущается, тьма есть бесчувственность, когда известная жизнь лишена самой способности к ощущению. А между тем, всякий, кто согласится, что [эта способность] прилично называется светом, согласится в то же время называть его таким светом, посредством которого каждая вещь становится очевидною. А когда мы говорим: «Очевидно, что это громко», «очевидно, что это сладко», «очевидно, что это холодно», и все другое подобного рода, что ощущаем мы своими телесными чувствами, то этот свет, при помощи которого все это становится очевидным, без сомнения, находится внутри, в душе, хотя ощущения получаются посредством тела. Наконец, в тварях можно усматривать и третий еще род света, посредством которого мы мыслим. Противоположная ему тьма есть неразумность, каковы души животных.
Итак, изречение это дает понять, что в природе вещей Богом создан свет или эфирный, или чувственный, присущий и животным, или же разумный, принадлежащий ангелам и людям; а что Он самым актом сотворения света отделил свет от тьмы, это дает видеть, что иное дело — свет и иное — отсутствие света, которое Бог расположил (ordinavit) в противоположной тьме. Ибо не сказано, что Бог сотворил тьму: Он сотворил только формы (species), а не отсутствия их, которые относятся к тому ничто, из коего сотворено Им все; однако, когда говорится: И разлучи Бог между светом и тьмою, мы должны думать, что Богом установлены и отсутствия [форм], чтобы и они занимали свое место, так как Бог господствует над всем и всем управляет Так, паузы в пении, чередующиеся через известные правильные промежутки, хотя и представляют собою отсутствие звуков, однако искусными певцами располагаются кстати и в целом пьесе придают более приятности. Равным образом и тени в живописи отмечают каждую наиболее выдающуюся черту на картине и производят приятное впечатление не видом своим, а расположением. Бог не творец и пороков наших; но Он, однако, управляет (ordinator est) и ими, поставляя грешников на том месте и заставляя их терпеть те наказания, каких они заслуживают: это и означает, что овцы поставляются одесную, а козлища ошуюю (Мф. XXV, 33). Таким образом, одно Бог и творит и им управляет, а другим только управляет. Праведников Он и творит, и управляет ими; грешников же, поскольку они грешники, Он не творит, а только ими управляет. Поэтому, когда праведников поставляет одесную, а грешников ошуюю и повелевает последним идти в огонь вечный, это и означает управление ими по заслугам. Итак, самые формы и природы Бог и творит и распоряжается ими; отсутствий же форм и недостатков природы Он не творит, а только распоряжается ими. Поэтому Он и сказал: да будет свет, и бысть свет, а не сказал: «да будет тьма, и бысть тьма». Следовательно, одно из них Он сотворил, а другого не сотворил; однако то и другое Он расположил в порядке, когда разделил свет от тьмы. Таким образом, прекрасно все в отдельности, потому что оно сотворено Богом, но прекрасно и все в целом, потому что оно Им управляется.
ГЛАВА VI
И нарече Бог свет день, а тьму нарече нощь. — Так как и свет, а в свою очередь и день, суть имя известной вещи, с другой стороны тьма и ночь суть также имена: то как относительно света, так и относительно тьмы нужно было сказать, что этим предметам в настоящем случае даны имена; так что тот предмет, которому дано имя, мог быть обозначен всяким и другим именем, но не иначе. И сказано: нарече Бог свет день так, что безразлично могло быть сказано и наоборот: «и назвал Бог день светом, а ночь тьмою». Что же ответить нам, если кто–нибудь спросит у нас: «Свету ли дано имя день, или же дню дано имя свет», потому что оба эти [слова], конечно, суть имена, поскольку они произносятся членораздельным голосом для обозначения предметов? Точно также и относительно других двух [слов] возможен вопрос: «Тьме ли дано имя ночь, или же ночи — имя тьма»? Но, судя по тому, как представляет дело Писание, очевидно, что именем света назван день, а именем тьмы названа ночь, потому что когда говорилось, что Бог сотворил свет и отделил свет от тьмы, об именах еще не было речи; а после того присоединены имена день и ночь, хотя как свет, так и тьма без сомнения суть также имена, обозначающие собою известные предметы, как и день и ночь. Отсюда понимать это надобно так, что предмет, получивший имя, мог быть обозначен не иначе, как только каким–нибудь именем. Или не следует ли это наименование признавать за разграничение самых предметов? Ибо не всякий же свет есть день, и не всякая тьма есть ночь; но свет и тьма называются именами дня и ночи в том случае, когда, они чередуются и разграничиваются между собою известными сменами. И действительно, всякое имя служит к различению [предметов]. От того имя и называется именем, что оно обозначает собою предмет, служит как бы его значком [3]; а обозначает — то же, что отличает, служит к разграничению [одного предмета от другого]. Отсюда, то, что Бог отделил свет от тьмы, означает, быть может, то же, что назвал свет днем, а тьму ночью, а что назвал их, означает, в свою очередь, то же, что установил их. Или же, быть может, эти названия дают нам понять, какой свет и какую тьму назвал [в этом случае писатель], как бы говоря так: «Бог создал свет и разделил свет от тьмы; светом же я называю день, а тьмою — ночь, чтобы ты не разумел другого какого–либо света, который не — день, и другой никакой либо тьмы, которая не — ночь». Ибо если бы всякий свет можно было понимать как день, а всякую тьму отличать именем ночи, в таком случае, может быть, не было бы нужды и говорить: И нарече Бог свет день, а тьму нарече нощь.
Возможен еще и такой вопрос, какой тут называется день и какая ночь? Если [писатель] дает нам разуметь тот день, который начинается с восходом, а оканчивается с закатом солнца, и ту ночь, которая продолжается от заката до восхода солнца: то я не понимаю, как было это возможно, прежде чем были созданы небесные светила. Разве не могла ли быть названа так самая продолжительность часов и времен, помимо различия света и тьмы? С другой стороны, каким образом согласить ту преемственность, которая обозначается именем дня и ночи, с вышеупомянутым разумным светом, если только он разумеется тут, или с светом в смысле ощущений? Или быть может в этом случае сделано указание [на день и ночь] сообразно не с тем, что бывает, а с тем, что может быть, потому что возможно и в разуме заблуждение, и в чувстве своего рода глупость?
ГЛАВА VII
И бысть вечер, и бысть утро: день един. — В настоящем случае день называется не так, как назывался он, когда говорилось: И нарече Бог свет день, а так, как, напр., мы говорим: «30 дней составляют месяц»; в этом случае в число дней мы включаем и ночи, между тем выше день назван отдельно от ночи. Итак, после того, как сказано уже о произведении дня посредством света, благовременно было сказать и о том, что явился вечер и утро, т. е. один день; так что один день [считается] от начала дня до начала [другого] дня, т. е. от утра до утра, каковые дни, как я сказал, мы называем со включением ночей. Но каким образом явились вечер и утро? Разве не создал ли Бог свет и не разделил ли свет от тьмы в такое пространство времени, какое продолжается светлая часть дня, т. е. без включения ночи? С другой стороны, как будет верным написанное: C тобою бо есть егда хочеши, еже мощи (Премудр. XII, 18), если Бог нуждался в протяжении времени, чтобы совершить что–нибудь? Разве не совершено ли Богом все как бы в идее (in arte) и в разум, т. е. не в протяжении времени, а в самой силе, которою Он разом (stabiliter) производит даже и такие предметы, которые мы считаем не постоянными, а преходящими? Ибо хотя и в нашей речи одни слова уходят, а на место их являются другие, однако невероятно, чтобы то же самое происходило и в теории (in arte), в которой сразу же (stabiliter) является художественная речь? Отсюда, хотя Бог творит и вне протяжения времени, потому что с Ним есть егда хощет еже мощи, однако временные природы переживают свои перемены во времени. Поэтому: И бысть вечер и бысть утро, день един, сказано, может быть, как умосозерцаемое, т. е. так, как это должно или может быть, а не как бывает в преемственных моментах времени. Ибо сказавший: Живый во веки созда вся обще (Сирах. XVIII, 1) созерцал своим разумом творение во Святом Духе; но в книге Бытия повествование вполне прилично ведется так, как будто бы вещи сотворены были Богом в преемственных периодах времени, дабы самый порядок [творения], который не мог быть представляем немощными умами в одновременном (stabili) созерцании, предносился, благодаря такому образу речи, как бы пред чувственными очами.
ГЛАВА VIII и IX
И рече Бог: да будет твердь посреде воды, и да будет разлучающи посреде воды и воды, и бысть тако. И сотвори Бог твердь, и разлучи Бог между водою, яже бе подо твердию и между водою, яже бе над твердию. — Такие же ли это воды над твердью, как и наши настоящие воды под твердью, или же, так как [писатель], по–видимому, разумеет здесь ту самую воду, над которою носился Дух Святый (а эту воду выше мы признали самою мировою материею), то не эта ли вода разумеется и в настоящем месте, разделенная сотворенною твердью так, что низшая предоставляет собою телесную материю, а верхняя — материю одушевленную? В самом деле, твердью называется здесь то, что после называется небом. А среди тел нет ничего лучше небесного тела. Ибо одни тела суть тела небесные, а другие земные, и лучшие из них, конечно, небесные; все, что их природу превышает, я не знаю, можно ли называть и телом; это, быть может, скорее некая сила, подлежащая уже разуму, которым познается Бог и истина; эта природа, как доступная образованию со стороны добродетели и благоразумия, силою которых сдерживаются и ограничиваются ее движения, почему она и является как бы материальною, правильно названа по божественному вдохновению водою, превышающею область телесного неба не пространственным расстоянием, а достоинством бестелесной природы. Именно — так как небо названо твердью, то не будет несообразностью думать, что все находящееся ниже эфирного неба, на котором все остается в спокойном и твердом виде более подвижно и текуче. — Что касается рода материи телесной, образованного прежде получения вида и разграничения (от чего твердь и названа твердью), то некоторые считали эти видимые и холодные воды поверхностью распростертого над нами неба. В доказательство этого мнения они ссылались на медлительность одной из семи блуждающих звезд, которая выше остальных и у греков называется Fainwn, и которая проходит звёздный круг в течение 30 лет; так что потому она и медленна, что ближе других расположена к холодным водам, находящимся над небом. Не знаю, как это мнение может быть защищаемо перед людьми, которые до тонкости исследовали подобные предметы. Но ни о чем таком не следует утверждать безрассудно, а надобно говорить с осторожностью и умеренностью.
И рече Бог: да, будет твердь посреди воды, и да будет разлучающи посреде, воды и воды. И бысть тако. — После того, как уже сказано: И бысть тако, какая нужда была прибавлять еще: И сотвори Бог твердь, и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию? Ибо когда [писатель] выше сказал: И рече Бог: да будет свет, и бысть свет, он не прибавил же: «И сотвори Бог свет»; между тем, в настоящем случае, сказав: И рече Бог: да будет и бысть, он прибавляет: И сотвори Бог… Не явствует ли отсюда, что свет тот не следует понимать, как свет телесный, дабы не показалось, что Бог сотворил его чрез некую посредствующую тварь (а Богом я называю Троицу); напротив, твердь небесная, как материальная, свой вид и форму получила от бестелесной твари, так что сначала духовно на бестелесной природе отпечатлено Истиною то, что отпечатлелось потом телесно на сотворении небесной тверди, почему и сказано; И рече Бог да будет… и бысть тако, т. е. в самой разумной природе, быть может, раньше создано было то, от чего отпечатлелся вид на теле; когда же прибавлено: И сотвори Бог твердь и разлучи между водою, яже бе под твердию и между водою, яже бе над твердию, то в самой уже материи обозначалось этими словами содействие к тому, чтобы произошло тело неба. Или же, быть может, в первом случае не прибавлено то, что прибавлено во втором, ради только разнообразия, с целью, чтобы текст речи не оказался монотонным, [а потому] и нет надобности подвергать все пунктуальному рассмотрению? Пусть каждый выбирает то объяснение, какое может; но пусть только не утверждает безрассудно неизвестное, как известное, и пусть помнит, что входить в исследование о делах божественных человеку подобает настолько, насколько это позволительно.
И нарече Бог твердь небо. — Что выше было сказано относительно названия, то может быть принято в соображение и здесь, ибо не всякая твердь — небо. И виде Бог яко добро. — И относительно этого предмета надобно сказать то же, что сказано выше, кроме того только, что в настоящем случае я усматриваю не тот порядок: выше сказано сначала: И виде Бог свет, яко добро, а затем прибавлено: И раздели Бог между светом и тьмою: и нарече Бог свет день и тьму нарече нощь; в настоящем же случае сначала повествуется о сотворении тверди и твердь называется небом, а потом уже говорится: И виде Бог, яко добро. Если это разнообразие введено не ради избежания монотонности, то в этом случае мы без сомнения я должны иметь в виду сказанное; Бог созда вся обще. Ибо, почему Он в первом случае сначала увидел, яко добро, а затем нарек имя, в настоящем же случае сперва нарек имя, а затем увидел, яко добро, если не потому, что это различие обозначает собою, что в Божественной деятельности нет никаких преемственных моментов, хотя самые дела эти открываются во временной последовательности? Согласно с этою–то последовательностью одно творится прежде, а другое после, без чего не может быть и рассказа о сотворенном, хотя Бог мог произвести все это и помимо временной преемственности. И бысть вечерь и бысть утро, день вторый. Об этом сказано уже выше; те же рассуждения, полагаю, имеют силу и здесь.
ГЛАВА X
И рече Бог: да соберется вода, яже под небесем в собрание едино и да явится суша. И бысть тако. — Отсюда еще с большею вероятностью можно заключить, что упомянутая выше вода представляет собою, как мы и полагали, мировую материю. Ибо если бы [именно] вода наполняла всю вселенную, то откуда или куда она могла собраться? Если же именем воды [писатель] назвал раньше некое материальное смешение, то собрание ее должно быть принимаемо за самое образование ее; так что теперь является тот самый вид воды, какой мы видим в настоящее время. С другой стороны, изречение: и да явится суша может быть принимаемо за образование земли, так что и земля получила теперь тот свой вид, какой мы видим в настоящее время. Ибо раньше она названа была невидимою и неустроенною, так как не имела еще материального вида. Итак, Бог сказал: да соберется вода, яже под небесем, т. е. пусть эта телесная материя получит такую форму, чтобы явилась та самая вода, какую мы видим теперь. В собрание едино: именем этого единства указывается значение формы; ибо получить форму значит то же, что быть приведену в нечто единое, так как высшее единство — начало всякой формы. И да явится суша т. е. пусть примет [суша] видимый и отличный от смешения образ. И действительно, вода собирается так, что является суша, т. е. то, что носилось [по пространству], как море, теперь сокращается и сжимается; так что бывшее прежде темным становится светлым. И бысть тако: может быть, что и это совершено было раньше в умах разумной природы, так что сказанное затем: и собрася вода в собрате едино и явися суша не должно казаться нам излишнею прибавкою, когда уже сказано: и бысть тако, а в изречении этом мы должны видеть указание на последовавшее за разумным и бестелесным действием действие телесное.
И нарече Бог сушу землю, и собрания вод нарече моря. И здесь мы имеем дело опять с названиями, ибо не всякая вода — море и не всякая суша — земля. Отсюда названия эти должны были служить обозначениями, какая это вода и какая суша. С другой стороны, не будет несообразностью понимать это наречение Божие и в смысл самого разграничения и образования [этих предметов]. И виде Бог, яко добро. И в настоящем случае [писателем] удержан тот же порядок; поэтому что было сказано выше, должно быть применено и к данному случаю.
ГЛАВА XI
И рече Бог: да произрастит земля былие травное, сеющее семя по роду своему и по подобию, и древо плодовитое творящее плод, емуже семя его в нем по подобию его. После того, как созданы, наречены и одобрены земля и море, — чего, как мы не раз уже говорили, не следует считать [действиями, разделенными одно от другого] промежутками времени, дабы с неизреченною легкостью творческого действия Божия не связывалось какой–либо медлительности, — не прибавляется сейчас же, как в два предшествующие дня: И бысть вечер и бысть утро, день третий, a присоединяется новое творческое действие: Да произрастит земля былие травное, сеющее семя по роду его и по подобию, и древо плодовитое, творящее плод, емуже семя, его в нем по подобию его. Этого не было сказано ни о тверди, ни о водах, ни о суше: ибо свет не имеет от себя преемственного поколения (propaginem), равно и небо не рождается от другого неба, а также земля или море не производят от себя других, следующих за ними, морей или земель. Поэтому слова: сеющее семя по роду его и по подобию и: емуже семя его в нем по подобию должны были быть сказаны о земле, где сходство рождающегося сохраняет подобие предшествующему. А на земле все существует так, что оно сначала заключено бывает с корнями в недре земли и содержится в ней, а потом известным образом отделяется из нее: это именно свойство его, полагаю, и обозначено в настоящем повествовании, потому что все это было создано в тот же самый день, в который явилась земля, и, однако, Бог снова говорит: Да произрастит земля; потом сказано: И бысть тако, а затем, согласно с выше указанным правилом, после слов: И бысть тако, следует самое исполнение: И изведе земля былие травное, сеющее семя по роду его и древо плодовитое, творящее плод, емуже семя его в нем по подобию своему. И, наконец, [писатель] говорит: И виде Бог, яко добро. Таким образом, все это, с одной стороны, объединяется под одним и тем же днем, но с другой и различается повторительными словами Божиими. Полагаю, что дело идет тут не о земле и море, а скорее о различии именно природы предметов, которые, рождаясь и умирая, распространяются путем преемственного происхождения из семени. Или же, так как море и земля могли произойти за один раз не только в умах духовной природы, где все сотворено разом, но даже и в телесном движении; между тем как деревья и всякие растения могли возникнуть только тогда, когда появилась уже земля, из которой они вырастают: то не потому ли должно было повторяться повеление Божие, что им обозначались различные, но в один и тот же день долженствовавший произойти, творения, так как своими корнями они привязаны к земле и содержатся в ней? Но тут возможен вопрос, почему Бог не нарек им имена? Не опущено ли это потому, что помешало их множество? Впрочем, этот вопрос мы лучше обсудим после, когда встретим и другие предметы, которых Бог не назвал, как назвал Он свет, небо, землю и море. И бысть вечер и, бысть утро, день третий.
ГЛАВА XII
И рече Бог: да будут светила, на тверди небесней, освещати землю и разлучати между днем и между нощию, и да будут в знамения, во времена и во дни и в лета, и да будут в просвещение на тверди небесной, яко светити по земли. — Светила, о которых говорится: и да будут во дни, сотворены в четвертый день: что же такое три дня, протекшие без светил? или для чего нужны будут дням светила, если дни могли быть и без них? Разве не для того ли, чтобы по движению этих светил люди могли с большею очевидностью различать течение времени и преемственность его моментов? Или же это исчисление дней и ночей не имеет ли значения различия между природою, которая еще не была создана, и теми, которые уже были созданы, так что утро свое имя получало ради формы тварей, а вечер — ради отсутствия [формы]? Ибо вид и форму твари имеют настолько, насколько дело касается Того, Кем он созданы; сами же по себе он не могут иметь ни того, ни другого, потому что созданы из ничего, и насколько их имеют, это зависит не от материи их, которая создана из ничего, а от Того, Кто выше всего и от воли Кого он существуют в своем роде и порядке.
И рече Бог: да будут светила, на тверди, освещати… Сказано ли это о неподвижных только звездах, или же и о блуждающих? Но два светила, большее и меньшее, принадлежат к числу блуждающих: каким же образом все светила созданы быть на тверди, когда каждое из блуждающих светил имеет свою собственную окружность, или круговращение? Разве, в виду того, что в Писании мы читаем и о многих небесах, и о небе, как напр. в настоящем месте, когда небом называется твердь, не следует ли [под небом] понимать всей этой эфирной машины, которая заключает в себе все звезды и ниже которой расположен слой ясного, чистого и спокойного воздуха, а еще ниже этот уже мутный и бурный воздух? Освещати землю и разлучати между днем и нощию. Но разве Бог уже не разделил свет от тьмы и не назвал света днем, а тьмы — ночью, откуда видно и то, что Он разделил и день от ночи? Что же теперь имеется в виду, когда говорится: и разлучати между днем и нощию? Разве не устанавливается ли теперь такое разделение дня от ночи при помощи светил, чтобы оно было заметным даже и для людей посредством телесных глаз, которыми они пользуются для созерцания видимых предметов; между тем как раньше светил Бог произвел это разделение так, что оно могло быть видимо только для не многих [тварей] чистым духом и ясным разумом? Или же не установил ли тогда Бог разделения между днем и ночью другого рода, т. е. между формою, которую Он напечатлевал на бесформенной материи, и между бесформенной материей, которая еще подлежала образованию и форме; между тем, иное дело тот день и та ночь, смена, которых замечается нами вследствие вращения неба и не может происходит иначе, как только с восходом и закатом солнца?
ГЛАВА XIII
И да будут в знамения и во времена и во дни и в лета. Выражение в знамения, мне кажется, равносильно выражению во времена, так что под знамениями не следует понимать одно, а под временами другое. Ибо в настоящем месте [писатель] говорит о тех временах, которые различием моментов обозначают, что выше их стоит неизменная вечность, так что время является знаком, как бы следом вечности. О каких временах говорит он, на это он указывает также и прибавлением выражения: и во дни, и во лета; так что дни происходят вследствие вращения неподвижных звезд, а годы — известные нам тогда, когда солнце проходит свой звёздный круг, менее же известные — когда каждое из движущихся светил проходит путь по своим окружностям. Он не говорит: «и в месяцы», может быть потому, что месячный год есть год лунный, как 12 лунных годов составляют год того светила, которое греки называют Faeqon, a 30 годов солнечных составляют год того светила, которое у них называется Fainon, и, может быть, что когда все светила проходят свои пути, протекает тот великий год, о котором многие и много говорили. Или же в словах: в знамения не говорит ли он о тех знаках, которыми обозначается известный путь мореплавания, а в словах во времена — о временах года: весне, осени и зиме, потому что и они наступают и сохраняют свою преемственность и порядок вследствие круговращения светил; слова же: во дни следует понимать так, как объяснено нами выше?
И да будут (sint) в просвещение на тверди небесной, яко светити по земли. — Выше уже сказано: Да будут (fiant) светила на тверди небесней освещати землю, к чему же сделано это повторение? Разве в соответствие его тем, что сказано о растениях, чтобы они производили семя и чтобы в них было семя по роду своему и по подобию, не связано ли здесь по противоположности и о светилах: да будут (fiant) и пусть будут (sint), т. е. пусть будут только, сами, но не рождают? И бысть тако. Порядок [изречений] сохраняется тот же, что и выше.
И сотвори Бог два светила: светило большее в начало дне, и светило меньшее в начало нощи, и звезды. — Что называет он началом дня и началом ночи, это будет после видно. Но относятся ли к началу ночи и звезды, о которых прибавлено здесь, или же не относятся, это возбуждает недоумение. По мнению некоторых, здесь дается понять, что луна первоначально сотворена полною, потому что только полная луна восходит при начале ночи, т. е. непосредственно после солнечного заката. Но нелепо начинать счет не с первого, а с шестнадцатого или с пятнадцатого [числа]. К принятию этого мнения ни в каком случае не может побуждать нас то, что это светило, только что сотворенное, должно было быть полным. Полно оно каждый день, но его полнота видна бывает людям только тогда, когда оно находится против солнца. Ибо, когда луна находится вместе с солнцем, то, занимая положение под солнцем, она кажется исчезающею; но она бывает полною и тогда, потому что освещается с другой своей половины и только лишь не может быть видима теми, которые находятся внизу, т. е. населяют землю. Предмет этот не может быть выяснен в немногих словах, а требует основательных исследований и доказательств при посредстве некоторых наглядных фигур.
И положил Бог на тверди небесной, яко светити на землю. Каким образом, сказавши раньше: да будут на тверди, опять теперь говорит: сотвори Бог светила и положи на, тверди, как будто они созданы были вне [тверди] а потом поставлены на ней, когда и раньше сказано, что они были на ней? Или не дается ли и отсюда видеть, что Бог произвел это не так, как делают обыкновенно люди, но рассказано об этом так, как оно могло быть у людей; именно: у людей одно значит сделал, а другое — положил; у Бога же, который творя полагает, и, полагая, творит, то и другое составляет одно и то же действие.
И владети днем и нощию и разлучати между днем и нощию. — Раньше было сказано: в начало дне и в начало нощи, что здесь [писатель] поясняет, говоря: владети днем и нощию. Отсюда начало то мы должны понимать в смысле первенства, потому что как днем из всего, что мы видим, нет ничего превосходнее солнца, так и ночью — ничего превосходнее луны или звезд. Поэтому указанное нами выше недоумение не должно больше смущать нас, и мы должны думать, что звёзды поставлены [на тверди] так, что они относятся к началу ночи, т. е. к первенствующему положению в ней. И виде Бог яко добро. Порядок тот же, что и выше. Припомним кстати, что и этого [творения] Бог не назвал по имени, хотя и могло бы быть сказано: «И назвал Бог светила звёздами», потому что не всякое светило — звезда.
И бысть вечер, и бысть утро, день четвертый. — Если при этом иметь в виду дни такие, которые ограничиваются восходом и закатом солнца, то этот день будет не четвертый, а, может быть, первый; так что, можно думать, солнце взошло в то время, когда оно было сотворено, и зашло пока были созданы остальные светила. Но кто знает, что, когда у нас бывает ночь, в другом месте светит солнце, а когда у нас светит солнце, в другом месте бывает ночь, тот будет доискиваться более возвышенного значения для исчисления этих дней.
ГЛАВА XIV
И рече Бог: да изведут воды гады душ живых и птицы, летающия по земли, по тверди небесней: и бысть тако. — Животные плавающие названы пресмыкающимися потому, что они не ходят на ногах. А может быть — потому, что есть еще другие, которые пресмыкаются на земле под водою. Или же не существуют ли и в водах пернатые, как напр. рыбы, имеющие чешую, или же иные, которые чешуи не имеют, а держатся при посредстве перьев? Какие животные должны быть в данном месте отнесены к числу летающих, относительно этого возможно недоумение. Ибо вопрос еще и в том, почему летающих животных [писатель] отнес к воде, а не к воздуху. В самом деле, мы не можем в настоящем месте разуметь только тех птиц, которые любят воды, каковы, напр., нырки, утки и другие подобного же рода. Ибо если бы писатель сказал здесь только о них, то в другом месте он не преминул бы сказать и о других птицах, в числе которых некоторые до такой степени имеют отвращение в воде, что даже не пьют ее. Разве, может быть, водою в настоящем случае он назвал этот смежный с землею воздух, потому что влажность его даже в самые ясные ночи доказывается росою, а также и потому, что он сгущается в облако. А облако — та же вода, как это чувствуют все, кому приходится ходить по горам среди облаков, или даже по полям во время туманов. В этом именно воздухе, как говорят, и летают птицы. В том же более высоком и чистом воздухе, который всеми называется настоящим воздухом, они летать не могут, потому что вследствие своей тонкости он не выдерживает их тяжести. В нем, как утверждают, не собирается облаков и не бывает никаких бурь; там нет ветра и до такой степени тихо, что будто бы на вершине горы Олимпа, которая, как говорят, поднимается за пределы этого влажного воздуха, некоторые письмена, начертываемые обыкновенно на пыли, по истечении года были находимы в целости и неповрежденности теми, кто всходил на эту пресловутую гору.
Поэтому не без основания можно полагать, что в Божественных писаниях небесною твердью называются даже и эти пространства, так что, можно думать, и тот спокойнейший и чистейший воздух относится к тверди. В самом деле, именем тверди может быть обозначено даже спокойствие и великая тишина [4] предметов. Отсюда, полагаю, во многих местах псалмов и говорится: и истина, твоя до облак (Пс. XXXV, 6; и LVI, 11). Ибо ничего нет тверже и чище истины. И хотя облака собираются в пространстве, лежащем ниже области чистейшего воздуха, а потому приведенные слова [псалма] надобно понимать иносказательно, однако они взяты с таких предметов, которые в данном случае служат некоторым подобием; так что более устойчивая и чистая тварь, наполняющая пространство от высшего неба до самых облаков, т. е. до этого туманного, бурного и влажного воздуха, представляет собою по справедливости образ истины. Таким образом, птицы, летающие над землею, под небесною твердью, правильно приписаны водам, потому что воздух не без основания называется водою. Отсюда же дается понять то, что о воздухе вовсе не сказано, как или когда он создан, потому что низший воздух заключается в имени вод, а высший в имени тверди, и, таким образом, не опущен ни один из [четырех] элементов.
Но, может быть, кто–нибудь скажет: «если слова: да соберется вода дают нам понять, что вода создана из первоначального материального смешения, а это собрание Бог назвал морем; то как можем мы здесь разуметь сотворение этого воздуха, который не называется морем, хотя и может называться водою»? В виду этого мне кажется, что в словах: да явится суша сделано указание не только на вид земли, но и на вид этого плотнейшего воздуха. Ибо при посредстве него освещается земля, так что становится для нас видимою. Отсюда, в одном этом изречении: да явится сделано указание на все, без чего не могло явиться суши, т. е. и её внешний вид, и её обнаженность от воды, и распространение по ней воздуха, при посредстве которого доходит до нее свет из высших мировых частей. Или же скорее вид этого воздуха не указывается ли в изречении: да соберется вода, потому что, когда воздух сгущается, то кажется, что он производит воду? Отсюда, может быть, собранием воды [писатель] назвал такое сгущение [воздуха], что явилось море; так что то, что носится не собранным, т. е. не сгущенным, есть та вода, которая может поддерживать летающих птиц и называться тем и другим именем, т. е. и более тонкою водою и более плотным воздухом. Но когда спрашивается, от чего он произошел сам, об этом не говорится. Или [наконец], может быть, не справедливо ли мнение некоторых, что слои этого воздуха образуются из влажных испарений моря и земли, — слои воздуха, с одной стороны, настолько более плотного по сравнению с высшим и ясным воздухом, что он является удобною средою для летания птиц, а с другой настолько более тонкого по сравнению с тою водою, которою омывается наше тело, что он в сравнении с нею является нашему ощущению сухим и воздушным. Но так как о земле и море сказано выше, то и не было надобности говорить об их испарениях, т. е. о водах, как стихии для птиц, раз ты уже знаешь, что самый чистый и спокойный воздух отнесен к тверди.
Ибо ведь и об источниках и реках не сказано, как они явились. Но люди, которые вводят в подробнейшее исследование и обсуждение этого предмета, говорят так, что из моря незаметно в вид эфирного тока, т. е. таких испарений, которых мы не можем примечать, выделяются пресные пары, из коих составляется облако; и отсюда, земля, смоченная дождями, напояется и пропитывается в своих сокровеннейших полостях в такой степени, что эта, скопляющаяся и разными путями стекающаяся, вода пробивается в источники то малые, а то и достаточные для образования рек. Доказательство этого указывают в том, что пар от вскипяченной морской воды, полученный при помощи изогнутой крышки (cooperculo), дает пресную на вкус влагу. Равным образом, для всех почти очевидно, что обмелевшие источники чувствуют недостаток дождей. Свидетельствует об этом и священная история, когда, во время засухи, Илия молился о дожде: сам молясь, он приказал своему отроку устремить взор к морю, и, когда тот заметил поднимающееся с моря маленькое облачко, Илия возвестил взволнованному царю о наступлении дождя, которым царь едва не был измочен на пути домой (III Царств. XVIII, 43, 44). И Давид говорит: Господи…, призываяй воду морскую и проливаяй ю на, лице земли[5]. Поэтому, назвав море, о других водах, как о тех росоносных водах, которые по своей тонкости представляют воздушную среду для летающих птиц, так и о водах источников и рек, [писатель] счел излишним говорить, если первые происходят от испарений, а последние от повторяющихся дождей, которыми напояется земля.
ГЛАВА XV
Да изведут воды гады душ живых — Почему прибавлено: живых? Разве могут быть души иными, а не живыми? Или не хотел ли [писатель] указать этим на ту более заметную жизнь, которая присуща животным чувствующим, так как растения лишены её? И птицы летающие по земли, по тверди небесней. — Если птицы не летают в том чистейшем воздухе, где не бывает никаких облаков, то отсюда очевидно, что этот воздух относится к тверди, потому что, как сказано, птицы летают по земле под твердью небесною. И бысть тако. Порядок сохраняется тот же: слова эти присоединяются и здесь, как и в прочих случаях, за исключением света, сотворенного первым.
И сотвори Бог киты великия и всяку душу животных гадов, яже изведоша воды по родом их, и всякое летающее пернато по роду. — Припомним здесь кстати, что слова: по роду своему говорятся о тех тварях, Которые размножаются чрез семя: так уже сказано было о травах и о деревьях. «И всякое летающее пернатое». Почему прибавлено: «пернатое»? Разве может быть летающее, которое бы не имело перьев? А если может, то создал ли Бог подобное летающее, потому что мы его нигде не находим? Во всяком случае, может ли что–нибудь летать без перьев? Ибо и летучие мыши, и саранча, и мухи, и другие подобного рода существа, не имеющие пуха, перья однакоже имеют. Но слово «пернатое» прибавлено для того, чтобы мы разумели не одних только птиц, потому что и рыбы пернаты и летают под водою над землею же. Поэтому и не сказано: «птиц», а вообще летающих: «И летающее пернатое». И виде Бог, яко добро. И здесь это следует понимать так, как и в предыдущих местах.
И благослови я, глаголя: раститеся и множитеся и наполните воды, яже в морях и птицы да умножатся на земли. — Богу угодно было отнести это благословение к производительности, которая обнаруживается в преемстве потомства, так что, будучи сотворены слабыми и смертными, [животные] сохраняют свою род путем рождения в силу именно этого благословения. Но так как и растения удерживают сходство с предшествующим чрез рождение, то почему же Он не благословил и их? Разве не потому ли, что они лишены чувства, которое близко к разуму? Ибо не напрасно, может быть, Бог пользуется в благословении вторым лицом, обращаясь к одушевленным тварям, как бы в известной мере слышащим, с словами: Раститеся и множитеся и наполните, воды морския; впрочем, благословение это не доводится до конца в том же (втором) лице, потому что далее следуют слова: И птицы да умножатся на земли, а не сказано: «множитесь на земли». Может быть, этим дается понять, что чувство не настолько близко к разуму, чтобы могло понимать обращенные к нему слова настолько совершенно, как [твари], которые мыслят и могут пользоваться разумом.
И бысть тако. Здесь всякий даже непонятливый [человек] должен догадаться, как исчисляются те дни. В самом деле, если Бог даровал животным известные числа семян, сохраняющие в своем род такое удивительное постоянство, что [животные], в определенное число дней, каждое по роду своему, зачавши во чреве, рождают, а снесши яйца, согревают их (каковой порядок природы сохраняется Божественною Премудростью, которая досязает от конца даже до конца крепко и управляет вся благо (Прем. Сол., VIII, 1); то каким же образом могли они в один день и зачать во чреве, и пройти период чревоношения, и родить, и вскормить рожденное, и наполнить воды морские, и умножиться на земле? Ибо еще до наступления вечера уже говорится: И бысть тако. А между тем, когда [писатель] говорит: И бысть вечер, то без сомнения напоминает о бесформенной материи; когда же говорит: И бысть утро, имеет в виду внешнюю форму, которая отпечатлевалась [творческим] действием на материи, потому что утро заканчивает собою прошедший после действия день. Однако, Бог не говорит: «Да будет вечер», или: «Да будет утро»; ибо, как скоро под названиями вечера и утра [писателем] обозначаются материя и форма, которые, как уже сказано, и сотворил только Бог, в таком случае получается очень краткое указание на предметы сотворенные, так как отсутствия их, т. е. промежуточного состояния от формы до материи или ничто, — если только на это именно, как мы думаем, намекается названием ночи, — [писатель] не назвал бы сотворенным, а только установленным от Бога, подобно тому, как говорит он выше: И разлучи Бог между светом и тьмою; так что именем вечера обозначается бесформенная материя, которая хотя и сотворена из ничего, однако существует и имеет способность к воспринятию форм и внешнего вида. Да и под именем тьмы можно во всяком случае разуметь то ничто, которого Бог не сотворил, но из которого Он сотворил все, что только по своей неизреченной благости благоволил сотворить, ибо тот всемогущ, кто и из ничего сотворил столь многое.
И бысть вечер, и бысть утро, день пятый. Здесь после того, как сказано: И бысть тако, [писатель] не прибавил, по обыкновению, самого исполнения [повеленного], как будто бы оно вновь было создано; ибо об этом уже сказано выше. Да и благословением, которое имеет отношение к произведению потомства, не новое какое–нибудь творение образовалось, а только сохранялось путем преемственного воспроизведения уже сотворенное. А потому и не сказано: И виде Бог, яко добро; ибо самая вещь была уже Ему угодна, и только должна была сохраняться в своем потомстве. Итак, ничего здесь не повторено, кроме разве слов: И бысть тако; и тотчас же сделано прибавление о вечере и утре, названиями которых, как уже сказано, обозначается происхождение [тварей] из бесформенной материи и внешней формы, которую они получали, если только, впрочем, при исследовании не откроется что–нибудь лучшее и возвышеннейшее.
И рече Бог: да изведет земля душу живу по роду своему, четвероногая и гады, и звери земли по роду, и, скоты, по роду. И бысть тако. — Так как нами уже сказано, почему к слову душу прибавлено живу, а так же — что значит по роду, и наконец — об обычном заключении: И бысть тако: то все это надобно понимать так, как сказано о том выше. Но так как на латинском языке именем зверей обозначается всякое вообще неразумное животное, то в настоящем месте должно различать их виды, разумея под именем четвероногих всякий рабочий скот, под гадами — всех пресмыкающихся, под зверями или дикими животными — всех не прирученных животных; а под скотами — четвероногих, которые не помогают работою, а доставляют такую или иную выгоду для тех, которые их держат и кормят.
ГЛАВА XVI
И созда Бог звери земли по роду, и скоты по роду и вся гады земли по роду. — Это повторение в словах: И созда Бог, после того, как уже сказано: И бысть тако, должно быть рассматриваемо по выше указанному правилу. Именем скотов обозначены здесь, как думаю, все четвероногие, которые живут под присмотром человека. И виде Бог яко добро: слова эти надобно понимать в обычном смысле.
И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию. — Здесь достойны замечания, с одной стороны, некоторая связь, а с другой и некоторое различие между одушевленными существами. В самом деле, [писатель] говорит, что человек создан в тот же день, в который и животные. Земные одушевленные существа являются все вместе, но о человеке, по причине превосходства разума, со стороны которого он творится по образу и подобию Божию, говорится, однакоже, отдельно, после того уже, как об остальных земных одушевленных существах сделано обычное заключение в словах: И виде Бог, яко добро.
Достойно замечания и то, что о прочих тварях Бог не говорит: сотворим. Этим Дух Святый во всяком случае хотел внушить нам мысль о превосходстве человеческой природы. Между тем, кому говорится теперь: сотворим, как не тому, кому и относительно прочих тварей говорилось: да будет? Ибо вся Тем быша и без Него ничто же бысть (Иоан. 1, 3). Но думается нам, почему иному было сказано: да будет, как не потому, что Он творил по повелению Отца, и почему сказано теперь: сотворим, как не потому, что Они творили оба вместе? В самом деле, все, что творит Отец, не творит ли Он чрез Сына, а потому и сказано теперь: сотворим, чтобы показать человеку, для которого явилось и самое Писание, что тО, чтО творит Сын по слову Отца, творит и Сам Отец; так что сказанное о прочих тварях: да будет, и бысть, в настоящем случае выражается одним словом: сотворим, т. е. не отдельно речение, и отдельно действие, а то и другое вместе.
И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию. Всякий образ подобен тому, образом чего он служит (хотя не все, подобное чему–нибудь, есть и его образ), как напр. [образы] в зеркале и живописи суть образы подобные; однако, если один не рожден от другого, то никто из них не может быть назван образом один другого. Ибо образ получается тогда, когда он бывает точным выражением чего–нибудь (exprimitur). Почему же, когда сказано уже: по образу, прибавлено еще: и по подобию, как будто может быть образ и не подобный? Отсюда, достаточно бы только сказать: по образу. Разве, может быть, иное дело — подобное и иное — подобие, как иное — чистый и иное — чистота, иное — крепкий и иное — крепость; так что как все крепкое — крепко вследствие крепости, а все чистое — чисто вследствие чистоты, так и все подобное — подобно вследствие подобия? Но наш образ не вполне точно называется нашим подобием, хотя он и точно называется подобным нам; так что то подобие, вследствие которого подобно все, что только есть подобного, заключается там же, где находится и чистота, вследствие которой чисто все, что только есть чистого. Чистота же бывает чистою не от соединения с чем–нибудь: напротив, от общения с нею делается чистым все, что только есть чистого. Такая чистота заключается, конечно, только в Боге, в котором находится и та Премудрость, которая премудра не вследствие соединения с чем–нибудь, но от общения с которою становится премудрою всякая душа, какая только бывает премудра. Поэтому и подобием в собственном смысле называется только Подобие Божие, по которому все сотворено: потому что Оно подобно не от общения с каким–нибудь подобием, а само есть первоначальное Подобие, от общения с которым становится подобным все, что чрез Него создал Бог.
Таким образом, в прибавлении: по подобию, после того как уже сказано: по образу, заключается, быть может, пояснение, показывающее, что образ, о котором здесь говорится, подобен Богу не так, чтобы разделял участие в каком–нибудь подобии, а так, что представляешь собою само подобие, в котором участвует все, что только называется подобным. Равным образом, он представляет собою саму чистоту, от общения с которою души чисты, саму мудрость, от общения с которою он мудры, и, наконец, саму красоту, от общения с которою прекрасно все, что только есть прекрасного. Ибо если бы [Бог] сказал только о подобии, то не дал бы тем понять, что подобие от Него рождено, а если бы сказал только об образе, то хотя и дал бы понять что этот образ рожден от Него, но не показал бы, что он — образ подобный, и не только подобный, а и само подобие. Между тем, как нет ничего чище самой чистоты, премудрее самой премудрости и прекраснее самой красоты, так точно не может быть ни названо, ни мыслимо, да и нет ничего подобнее самого подобия. Отсюда понятно, что Отцу Подобие Его настолько подобно, что полнейшим и совершеннейшим образом выражает (impleat) Его природу.
А насколько Подобие Божие, чрез которое создано все, имеет значение в отпечатлении внешней формы на предметах, — это хотя и чрезвычайно превышает человеческие понятия, однако может быть до некоторой степени определено нами, если мы обратим внимание на то, что вся природа как чувствующих, так и разумных тварей, сохраняет следы единства в сходных между собою частях. В самом деле, от премудрости Божией разумные души называются премудрыми, но дальше это имя уже не прилагается; ибо ни скотов, ни тем более деревья, огонь, воду, воздух или землю мы не можем назвать мудрыми, хотя все это, насколько оно существует, существует чрез Божественную премудрость. Между тем, подобными между собою мы называем и камни, и животных, и людей и Ангелов. Даже и относительно отдельных предметов мы говорим так, что [напр.] земля потому и может быть землей, что она имеет сходные между собою части, — что точно так же и вода в каждой своей части подобна остальным, без чего она не могла бы быть и водою, — что, в свою очередь, какая бы то ни была часть воздуха ни в каком случае не могла бы быть воздухом, если бы не была подобна остальным, каждая частичка огня или света является тем, что есть, потому, что она подобна остальным частям. Таким же образом мы можем смотреть и на каждый из камней, на каждое дерево и на каждое тело всякого одушевленного существа, т. е. что они могут существовать не только вместе с другими предметами своего рода, но и в своей отдельности от них под тем только условием, если имеют сходные между собою части. И тем тело красивее, чем более сходные между собою части входят в состав его. Наконец, даже и в области душевной не только дружба одних душ с другими закрепляется в силу сходных нравов, но в каждой душе отдельно показателями блаженной жизни служат сходные действия и силы, без которых не может быть постоянства. Но все это подобное мы не можем назвать самим подобием. Отсюда, если вселенная состоит из подобных между собою вещей, так что каждая отдельная вещь является тем, что она есть, а все они наполняют вселенную, созданную и управляемую Богом, то все это создано, конечно, чрез высшее неизменное и нетленное Подобие Творца всяческих так, чтобы было прекрасным вследствие сходных между собою частей, но по самому Подобию создано не все, а одна только разумная сущность; почему все — чрез подобие, а по подобию одна только душа.
Итак, разумная сущность создана и чрез подобие и по подобию, ибо между Им и ею нет никакой посредствующей природы, — нет потому, что человеческий ум (как, впрочем чувствует он это, когда бывает только чистейшим и блаженнейшим) ни к кому не стремится, как только к самой Истине, которая называется Подобием, Образом и Премудростию Отца. Отсюда слова: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию правильно понимаются по отношению к тому, что составляет внутреннейшую и главную часть человека, т. е. по отношению к уму. Ибо человек должен быть ценим с той стороны, которая занимает в нем первое место и которая отличает его от диких животных. Остальное же в нем все, хотя в своем роде и прекрасно, однако представляет собою черты общие с животными и потому не должно быть ценимо высоко; если только, впрочем, то обстоятельство, что фигура человеческого тела имеет вертикальное положение для созерцания неба не указывает на то, быть может, что даже и тело человеческое, как думают, создано по Подобию Божию; так что как Подобие то не отвращается от Отца, так и тело человека, не отвращено [лицом] от неба, подобию телам других животных, которые имеют наклонное, брюхом вниз, положение. Но, впрочем, не следует принимать это в безусловном смысле, ибо тело наше весьма во многом отличается от неба; напротив, в том Подобии, которое есть Сын, не может быть ничего несходного с Тем, Кому Оно подобно: все другое подобное отчасти и не сходно между собою; само же Подобие не заключает в себе ничего неподобного. И однако Отец есть Отец, а Сын не иное что, как — Сын: потому что как скоро говорится о Подобии Отца, хотя бы Подобие это и не имело ничего неподобного с Отцом, Отец уже не один, если имеет Подобие.
И [6] рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию. Того, что сказано доселе, было бы и достаточно. Сообразно с ним слова Писания, в которых, как читаем, Бог сказал: Сотворим человека по образу нашему и по подобию выражают ту мысль, что подобие Божие, по которому сотворен человек, может быть принимаемо за само Слово Божие, т. е. единородного Сына Божия, хотя с другой стороны, человек, конечно, не представляет собою самого этого образа и подобия равного Отцу: правда, и человек есть образ Божий, как это весьма ясно показывает Апостол, говоря: муж убо не должен есть, покрывати главу, образ и слава Божия сый (1 Корнф. XI, 7); только этот, сотворенный по образу Божию, образ не равен и не совечен Тому, образом Кого он служит, да и не был равен, если бы даже и не согрешил никогда. — Но Божественные слова: сотворим человека по образу нашему и по подобию скорее должны быть принимаемы в том смысле, в котором бы изречение это понималось не в единственном, а во множественном числе, — именно так, что человек сотворен по образу не одного Отца, или одного Сына, или одного Святого Духа, а всей Троицы. А Троица такова, что Она есть един Бог; с другой стороны, и Бог един так, что Он есть Троица. В самом деле, Он не говорит Сыну: «Сотворим человека по образу Твоему», или «по образу Моему», но говорит во множественном числе: по образу нашему и по подобию; а кто же осмелится от этой множественности отделять и Святого Духа? Но так как эта множественность — не три Бога, а един Бог, то поэтому именно, надобно думать, Писание выражается дальше в единственном числе и говорит: И сотвори Бог человека, по образу Божию; так что [слова эти] не следует понимать так, как будто бы Бог Отец [сотворил человека] по образу Бога, т. е. Сына Своего: в противном случае как будет верным. сказанное: по образу нашему, если человек создан по образу одного Сына? А так как сказанное Богом: по образу нашему верно, то слова: сотвори Бог человека по образу Божию значат то же, как если бы было сказано: «по образу Своему»; чтО и есть Сама Троица.
Между тем, некоторые полагают, что о подобии [в последних словах] не упомянуто и не сказано: и сотвори Бог человека по образу своему и по подобию потому, что человек сотворен был только по образу; а подобие получит он потом в воскресении мертвых: как будто может быть какой–нибудь образ, в котором нет подобия?! Ибо если образ не совершенно подобен, то без сомнения он не есть и образ. Впрочем, чтобы не показалось, будто в этом случае мы руководимся только разумом, считаем необходимым привести авторитет Апостола Иакова, который, говоря о языке человека, замечает: тем [т. е. языком] благословляем Бога и тем кленем человеки бывшия по подобию Божию. (Иак. III, 9).
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА I
Все Божественное писание делится на две части сообразно с тем, как это обозначил Господь, говоря, что книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое; части эти называются двумя заветами. Но во всех свящ. книгах нужно обращать внимание на то, чтО открывается в них, как [нечто] вечное, о чем повествуется, как о прошедшем, чтО предвещается, как будущее, и чтО заповедуется или внушается, как таковое, что мы должны делать. Спрашивается теперь, принимать ли в повествовании о прошедшем все в смысле только иносказательном, или же оно должно быть утверждаемо и защищаемо в то же время и как действительно совершившееся. Ибо ни один христианин не скажет, что не следует понимать в иносказательном смысле слова Апостола, когда он говорит: Сия же вся образи прилучахуся онем (3 Корнф. X, 11), а также, когда и изречение книги Бытия: И будета два в плоть едину (II, 24) он изъясняет как тайну великую во Христа и во церковь (Ефес. V, 32).
Итак, если Писание должно быть исследуемо двояким образом, спросим, в каком значении, помимо аллегорического, сказано: В начале сотвори Бог небо и землю — в начале ли времени, или в том смысле, что они созданы прежде всего, или же в том Начале, которое есть Слово, единородный Сын Божий? И как можно представить себе, что Бог без всякой перемены в Себе творит изменяемое и временное? Что обозначается именем неба и земли — разумеется ли под словом небо и земля духовная и телесная тварь, или же только телесная, так что, надобно думать, писатель в книге [Бытия] совсем умолчал о духовной твари, и слова небо и Земля употребил с тою целью, что хотел обозначить ими всю высшую и низшую телесную тварь? Или же небом и землею названа бесформенная материя той и другой [твари], именно, с одной стороны, духовная жизнь, насколько она может быть сама в себе, не будучи обращена к Творцу, потому что обращение к Творцу сообщает ей форму и совершенство, а если не бывает она обращена к Нему, остается бесформенною; с другой — жизнь телесная, если только можно представлять ей в отвлечении от всякого телесного качества, которое является во всякой, получившей форму, материи, т. е., когда существуют уже формы тел, удобовосприемлемые для зрения, или для другого какого–либо телесного чувства?
Или, быть может, под небом надобно разуметь духовную тварь, совершенную с самого начала, как сотворена она, и всегда блаженную, а под землею — телесную материю, пока еще несовершенную; потому что земля, говорит, была невидима и неустроена, и тьма верху бездны, каковыми словами, по–видимому, обозначается бесформенность телесной субстанции.
Или же и этими последними словами обозначается бесформенность той и другой [твари] — телесной словами: земля бе невидима и неустроена, а духовной — словами: тьма верху бездны; так что, переставив слово, мы под темною бездной будем разуметь бесформенную природу жизни, если она не обращается к Творцу, от которого только одного она может получить форму, чтобы не быть бездною, и просвещаться, чтобы не быть темною? И каким образом сказано: тьма бысть верху бездны, разве что не было тогда света, который, если бы был, без сомнения был бы вверху и как бы разливался по поверхности, что и бывает в духовной твари, когда она обращена бывает к неизменному и безлесному свету, Богу?
ГЛАВА II
И как сказал Бог: Да будет свет, во времени ли или в вечности Слова? Если во времени, то конечно и изменяемым образом: как же в таком случае мы можем представлять себе говорящим Бога, если не чрез тварь, потому что Сам Он неизменяем? А если чрез тварь сказал Бог: Да будет свет, то каким образом свет будет первым творением, если была уже тварь, чрез которую Бог сказал: Да будет свет? Да и первое ли творение свет, когда уже сказано было: В начале сотвори Бог небо и землю, и при посредстве небесной твари мог телесным и изменяемым образом раздаться голос, которым сказано: Да будет свет? А если так, то создан был телесный свет, который мы видим телесными глазами, когда Бог чрез духовную тварь, уже созданную Им в то время, как Он в начале сотворил небо и землю, сказал: Да будет свет так, как слова эти могли быть сказаны по действию свыше чрез внутреннее и сокровенное движение духовной твари.
Или быть может голос говорящего Бога: Да будет свет звучал телесно, равно как телесно же звучал и голос Бога, говорящего: Ты ecu Сын Мой возлюбленный (Мф. III, 17), т. е., чрез телесную тварь, которую Бог сотворил в то время, когда в начале Он сотворил небо и землю, прежде чем явился свет, созданный звуком этого голоса? А если так, то на каком языке звучал голос, когда Бог говорил: Да будет свет, потому что тогда еще не было различия языков, которое явилось впоследствии при постройки башни после потопа [Быт. XI, 7)? Какой же это был единый и нераздельный язык, на котором Бог сказал: Да будет свет, и кто был тот, кто должен был слышать и разуметь его и для кого предназначался подобный голос? Не будет ли такое рассуждение и гадание нелепым и плотским?
Что же мы скажем? Разве не принять ли за голос Божий то, что дается понять звуком голоса, когда говорится: Да будет свет, а не самый телесный звук? Но применимо ли это к природе того Слова, о Котором сказано: В начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово (Иоан. I, 1, 3)? Ибо когда о Нем говорится: Вся тем быша (Иоан. I, 1, 3), то тем достаточно указывается и на сотворение Им света, когда Бог сказал: Да будет свет. А если так, то изречение Бога: Да будет свет вечно, потому что Слово Божие — Бог у Бога, единственный Сын Божий, совечный Отцу, хотя Богом, говорящим в сем вечном Слове, и создана временная тварь. Ибо когда мы говорим: когда, некогда, хотя слова эти и служат терминами времени, однако, раз что–нибудь должно быть, оно вечно в Слове Божием и бывает тогда, когда причина того, что оно должно быть, заключается в Слове Божием, в котором нет ни когда, ни некогда, потому что все это Слово вечно.
ГЛАВА III
И что такое самый этот свет, который был создан, — нечто ли духовное, или телесное? Ибо если он нечто духовное, то и сам может быть первою, в самом уже этом изречении совершенною, тварью, которая первоначально названа была небом, когда было сказано: В начале сотвори Бог небо и землю; так что слова Бога: Да будет свет, и бысть свет, надобно понимать в смысле созданного и просвещенного обращения ее к призывающему ее к себе Творцу.
И почему сказано: В начале сотвори Бог небо и землю, а не сказано: «В начале рече Бог: да будут небо и земля, и создались небо и земля», подобно тому как повествуется о свете: Рече Бог: да будет свет, и бысть свет? Не было надобности сначала под именем неба и земли выразить и передать вообще то, что создал Бог, а потом уже войти в частности, как именно Он создал, так как при каждом [творении] в отдельности говорится: Рече Бог, т. е., все, что Он ни создал, создал чрез Свое Слово?
ГЛАВА IV
Или быть может, когда сначала создавалась бесформенность как духовной, так и телесной материи, не было надобности говорить: Рече Бог: да будет потому, что несовершенство, как несходное с тем, что выше и прежде всего, и по некоторой бесформенности своей граничащее с ничтожеством, не согласно с формою всегда присущего Отцу Слова, Которым Бог вечно все нарицает и при том не звуком голоса и не мыслью, обнимающею время звуков, а совечным Себе светом рожденной Им Премудрости; согласным же с формою Слова, всегда и неизменно присущею Отцу, оно становится тогда, когда и само, по мере своего обращения к тому, чтО истинно и всегда существует, т. е. к Творцу своей сущности, получает форму и делается совершенным творением, так что в словах Писания: Рече Бог: да будет мы должны разуметь бестелесное речение Бога в природе совечного Ему Слова, призывающего в Себе несовершенство твари, чтобы она была не бесформенной. а получала форму по тем своим отдельным видам, о которых затем подробно говорится по порядку. В этом обращении и формировании она, становясь согласно в своем роде с Богом Словом, т. е. всегда присущим Отцу Сыном Божиим, исполняется подобия и сущности равной той, по которой Он и Отец едино суть (Иоан. X, 30); напротив, бывает не согласною с этой формой Слова, если, отвращаясь от Творца, остается бесформенной и несовершенной. По этой причине и упоминание о Сыне делается не потому, что Он — Слово, а только потому, что Он — Начало, когда говорится: В начале сотвори Бог небо и землю, потому что в этих словах указывается происхождение твари еще в бесформенности несовершенства: а что Он и — Слово, упоминание о Нем делается в словах: Рече Бог: да будет, так что тем, что Он — Начало, внушается мысль о происхождении существующей от Него, еще несовершенной твари, и тем, что Он — Слово, дается мысль о совершенстве твари, к Нему призванной, чтобы она получала форму, прилепляясь к Творцу и в своем роде уподобляясь форме, вечно и неизменно присущей Отцу, от Которого и она становится тем, что Он.
ГЛАВА V
Ибо Слово–Сын не имеет бесформенной жизни: для Него не только быть то же, что жить, но и жить то же, что жить премудро и блаженно. Напротив, тварь, хотя бы даже и духовная, мыслящая или разумная, которая, по–видимому, более близка к Слову, может иметь жизнь бесформенную; потому что для нее как быть не то же, что жить, так и жить не то же, что жить мудро и блаженно. Ибо, отвращаясь от неизменной Премудрости, она живет неразумно и злополучно, что и составляет ее бесформенность; напротив, форму она получает тогда, когда обращена бывает к неизменному свету Премудрости, Слову Божию. Она от Него получает бытие, чтобы быть и жить так иди иначе, — к Нему обращается, чтобы жить мудро и блаженно. Ибо начало разумной твари есть вечная Премудрость; каковое начало, пребывая неизменным само в себе, никогда не перестает сокровенным вдохновением призывания говорить с той тварью, для которой оно служит началом, чтобы она обращалась к Тому, от Кого происходит, потому что в противном случае она не может быть образованною и совершенною. Поэтому–то на вопрос, кто Он, Он и отвечает: Начаток, яко и глаголю вам (Иоан. VIII, 25).
Но чтО говорит Сын, то говорит Отец, потому что, когда говорит Отец, изрекается Слово, Которое и есть Сын, — Сын вечным образом (если только нужно дать это добавление, так как Бог изрекает совечное Слово). Ибо Богу присуща высочайшая Благость и святая и праведная Любовь к своим тварям, проистекающая не вследствие того, что Он в них нуждается, а вследствие Своего к ним благоволения. По этой–то причине, прежде чем написано: Рече Бог: да будет свет, Писание говорит; И дух Божий ношашеся верху воды. Хотел ли здесь [писатель] именем воды назвать всю телесную материю, чтобы таким образом дать понять нам, откуда произошло и образовалось все, что можем мы распознавать теперь в его родах, назвав [эту материю] водою потому, что на земле, как это мы видим, все в своих разнообразных видах образуется и возрастает из влажной природы; или же — некоторую духовную жизнь, как бы расплывающуюся до [получения] формы своего последующего бытия (ante formam conversionis); во всяком случае носился тогда Дух Божий, потому что именно от благого изволения Творца зависело все, что только должно было получить форму и совершенство, так что когда Бог в Своем Слове говорит: Да будет свет, создаваемое, смотря ко степени своего рода, оставалось в Его благой воле, т. е. благоволении, потому конечно оно было и угодно Богу, как говорит Писаниe: И бысть свет, — и виде Бог свет, яко добро.
ГЛАВА VII
Но почему сперва упомянута тварь, даже еще и несовершенная, а после уже упоминается Дух Божий, так как в Писании сперва говорится: Земля же бе невидима и неустроена; и тьма верху бездны, а потом уже: И Дух Божий ношашеся верху воды? Разве не потому ли, что ограниченная и недостаточная любовь любит так, что подчиняется тем вещам, которые она любит; почему, когда упоминается Дух Божий, под Которым разумеется святое благоволение и любовь Божия, говорится, что Он носился вверху воды, дабы мы не подумали, что Бог долженствовавшие произойти творения Свои любит больше вследствие нужды в них, чем вследствие полноты благоволения к ним? Памятуя об этом, Апостол, начиная речь о любви, говорит, что он покажет путь превосходнейший (I Коринф. XII, 31): и в другом месте: Преспеющую разум любовь Христову (Еф. III, 19). Отсюда, когда нужно было внушить такую мысль о Духе Божием, какая дается словами, что Он носился вверху, было удобнее указать сначала нечто уже начавшее [существовать], над чем бы Он носился, — носился, конечно, не пространственным образом, а все превышающим и превосходящим могуществом.
ГЛАВА VIII.
Вот почему еще тогда, когда вещи получали в этом начале свое совершенство и свою форму, виде Бог, яко добро, ибо создаваемое было угодно Ему вследствие того благоволения, по которому Ему угодно было, чтобы оно получило бытие. В самом деле, побуждение, по которому Бог любит Свое творение, двоякое — с одной стороны, чтобы оно получило бытие, с Другой — чтобы существовало. Отсюда, для того, чтобы получило бытие то, чтО должно существовать, Дух Божий ношашеся верху воды, а чтобы оно существовало, виде Бог, яко добро. И чтО сказано о свете, то сказано потом и обо всех [родах творения]. Ибо одни из них, превосходя всякое непостоянство времени, пребывают в полнейшей святости с Богом; другие же [достигают того] по мере определенного им времени, пока путем смены и преемственности вещей соплетается красота веков.
ГЛАВА IX
Но слова: Да будет свет, и бысть свет, сказаны ли Богом в какой–нибудь день, или раньше всякого дня? Ибо если Он изрек их в совечном Себе Слове, то изрек, конечно, вне времени (intemporaliter); если же Он изрек их во времени, то уже не в совечном Себе Слове, а чрез какую–нибудь временную тварь, и потому свет уже не будет первым творением, раз была тварь, чрез которую во времени было сказано: Да будет свет. Да и сказанное: В начале сотвори Бог небо и землю, надобно думать, произошло раньше всякого дня; так что под именем неба разумеется духовная, уже созданная и получившая форму, тварь, как бы небо этого, видимого нами, неба, среди тел занимающего высшее место. Ибо твердь, которая в свою очередь тоже названа небом, сотворена уже во второй день. Именем же земли невидимой и неустроенной и темною бездною обозначено несовершенство той телесной сущности, из коей произошли временные творения, первым между которыми был свет.
А каким образом чрез тварь, созданную раньше времени, могло быть сказано во времени: Да будет свет, разгадать это трудно. Мы понимаем, что это сказано было не звуком голоса, потому что все, сказанное голосом, телесно. Разве, быть может, из несовершенства телесной той сущности не создал ли Бог некоторого телесного звука, которым и произнес: Да будет свет? Но в таком случае, значит, некое звучащее тело создано и образовано было раньше света. А если так, то существовало уже и время, в течение которого должен был распространяться звук и преемственные моменты звуков сменять одни другие. А если далее было время, прежде чем явился свет, — время, в которое должен был происходить звук, изрекший: Да будет свет, то какому дню принадлежало это время? Ибо то был один день и притом по счету день первый, в который создан свет. Разве не к этому ли же самому дню относится и весь тот момент времени, в который созданы были как звучавшее тело, произнесшее слова: Да будет свет, так и самый свет? Но всякий подобный звук произносится говорящим для телесного чувства слушающего; ибо оно так устроено, что ощущает [звук] при сотрясении воздуха. А разве ж то нечто невидимое и неустроенное, к чему Бог тогда обращался со словами: Да будет свет, имело такой слух? Подобная нелепость пусть далека будет от ума человека мыслящего!
Итак, духовное ли, хотя и временное, то было движение, которым сказано: Да будет свет, — движение, отпечатленное вечным Отцом чрез совечного Сына на духовной твари, которую Он сотворил, когда было сказано: В начале сотвори Бог небо и землю, т. е. на упомянутом выше небе небесе, или же изречение это не только без звука, но даже и без всякого временного движения духовной твари, некоторым образом напечатлено и так сказать начертано было совечным Отцу Словом в ее мысли и разум, и по этому изречению низшее и темное несовершенство телесной природы пришло в движение и получило форму, и — явился свет? Но весьма трудно понять, как возможно, чтобы, — тогда как Бог изрекает повеление вне времени и это повеление тварь, созерцанием истины превышающая всякое время, выслушивает не временным образом, а мысленно напечатленные в ней непреложною Премудростью Божиею идеи, как бы доступные её пониманию изречения, сообщает тому, что ниже ее, — являлись временные движения во временных предметах, подлежащих или образованию, или управлению. Если же свет, о котором раньше всего сказано: да будет, и бысть, надобно понимать так, что ему принадлежит первенствующее место среди твари, то он сам представляет собою разумную жизнь, — жизнь, которая расплывалась бы бесформенною массою, если бы не была обращена к Творцу для просвещения; когда же она была обращена к Нему и просвещена Им, произошло то, что сказано в Слове Божием: Да будет свет.
ГЛАВА X
И, однакож, кто–нибудь, пожалуй, спросит, так ли оно в произошло вне времени, как вне времени было сказано, потому что к Слову, совечному Отцу, время не приложимо? Но как возможно такое понимание, когда Писание по сотворении света и отделении его от тьмы и по наречении имен дня и ночи, говорит: И бысть вечер и бысть утро, день един? Отсюда видно, что это действие Божие было совершено в продолжение дня, по истечении которого около вечера наступило то, что служит началом ночи, а по истечении ночного периода исполнился целый день, так что наступило утро другого уже дня, в течение которого Бог произвел следующее новое [творение].
Но если слова: Да будет свет Бог изрек без всякого промежутка времени, требуемого слогами, в вечном разуме Своего Слова, то крайне удивительно, почему же свет сотворен с такою медленностью, что прошел день и наступил вечер? Разве, может быть, свет сотворен был скоро, но продолжительность дневного периода потребовалась на то, чтобы он отделен был от тьмы и чтобы свет и тьма, отделенные друг от друга, были обозначены своими именами? В свою очередь удивительно и то, если это отделение и наречение могло быть совершено Богом даже с такою медленнocтью, с какою об этом рассказали бы мы. Ибо отделение света от тьмы последовало, без сомнения, в том самом действии, когда был сотворен свет, потому что не могло быть и света, если бы он не был отделен от тьмы.
А с какою продолжительностью могло совершиться действие, которым Бог нарече свет день и тьму нарече нощь, если бы это сказано было по слогам, при помощи голоса, то, спрашивается, с какою иною, как не с такою, с какой сказали бы и мы: «Пусть свет называется днем, а тьма — ночью», — лишь бы только не явилось у кого–либо такой безумной мысли, что, так как де Бог велик превыше всего, то произнесенные Его устами, хотя и немногие, слоги могли наполнить собою весь дневной период [времени]. Притом, Бог нарече свет день и тьму нарече нощь не телесным голосом, а совечным Себе Словом, т. е. внутренними и вечными идеями непреложной Премудрости. Ибо, в противном случае, опять возможен вопрос: если Бог нарек [их] словами, какими пользуемся и мы, то на каком языке? И к чему нужны были преходящие звуки, когда для них еще не было никакого телесного слушателя?
Или не следует ли так сказать, что хотя это действие Божие совершилось и быстро, но свет оставался дотоле не сменяясь ночью, пока не окончился дневной период времени; в свою очередь и ночь, сменившая свет, длилась до тех пор, пока не миновал период ночного времени, и по истечении единого и первого дня, не наступило утро следующего дня? Но если я скажу так, опасаясь, как бы мне не быть осмеянным и со стороны людей, которые уже до подлинности знают, и со стороны тех, которые весьма легко могут узнать, что в то время, когда у нас бывает ночь, присутствие света освещает те части Мира, чрез которые солнце возвращается с запада на восток, а потому в продолжение всех 24 часов, т. е., в течение полного круговращения солнца, в одних местах бывает день, а в других ночь. А разве ж мы поместим Бога в какой–нибудь части мира, где бы для Него был вечер, когда из этой части свет отступает в другую? Ибо и в книге, называемой Екклесиаст, написано: и восходит солнце и заходит солнце, и в место свое влечется, т. е. в то место, откуда оно восходит; а продолжая дальше, [писатель] говорит: сие возсиявая тамо, идет к югу и обходит к северу (Еккл. I, 5, 6). Таким образом, когда солнце находится в южной части, у нас бывает день, а когда, совершая свое круговращение, оно переходит в северную часть, у нас наступает ночь, хотя в другой части, где светит солнце, бывает день, — если только мы далеки будем от поэтических вымыслов, будто бы солнце погружается в море, а утром выходит из него с другой стороны омытым. Впрочем, если бы даже было и так, в таком случае солнцем освещалась бы пучина морская и в ней был бы тогда день. Солнце могло бы освещать воды, если бы только не было погашено ими. Но подобное предположение нелепо. Да и к чему оно, когда и самого солнца еще не было?
По этой причине, если в первый день создан был свет духовный, то разве такой свет заходит, чтобы за ним наступала ночь? Если же он — свет материальный, то что же это за свет, которого нельзя видеть по закате солнца, так как не было еще луны, ни каких–либо звезд? Или, если он постоянно остается в той части неба, в которой находится и солнце, так что представляет собою не свет солнца, а как бы спутник его, и соединен с ним так, что не может быть от него отличаем, в таком случае мы снова встречаемся с прежним затруднением при разрешении этого вопроса, именно — так как подобно солнцу и свет, как его спутник, совершая круговращение, возвращается на восток с запада, и в то время, когда та часть [земли], в которой находимся мы, покрыта бывает мраком ночи, он находится в другой части мира: то обстоятельство это заставляет нас (чего, впрочем, не дай Бог!) думать, будто и Бог был в той части, которую оставлял свет, так что и для Него мог быть вечер. Или, быть может, не создал ли Бог свет в той части, в которой Он намерен был создать человека, и поэтому, когда свет из этой части отступил, бысть, сказано, вечер, хотя этот свет, который отступил отсюда, находился в другой части, имея, по совершении круговращения, поутру взойти снова.
ГЛАВА XI
К чему же создано было солнце, которое бы светило на земле во область дне (Пс. 135, 8), если для того, чтобы производить день, достаточно было и того света, который назван был днем? Разве этот первоначальный свет, быть может, освещал высшие, удаленные от земли, страны, так что не мог быть видим на земле, и потому необходимо было создать солнце, при посредстве которого бы в низших странах Мира получился день? Можно и так сказать, что с сотворением солнца увеличился свет дневной, так что, можно думать, при первоначальном свете день был менее светлым, чем теперь. А некто, как я знаю, говорил даже так, что словами: да будет свет и бысть свет в создании Творца была введена [самая] природа света, а потом, когда речь идет о светилах, сделано частное указание, что из этого света сотворено было в порядке дней, в каком Творцу угодно было все совершить; но какова природа этого света, куда скрывался он с наступлением вечера, так что после него наступала ночь, этого он не сказал да и не легко, по моему мнению, найти тому объяснение. Ибо не следует же думать, что свет угасал, дабы после него наступал ночной мрак, и опять возжигался, чтобы наступало утро, прежде чем это стало обязанности солнца; что, по свидетельству того же Писания, началось с четвертого дня.
ГЛАВА XII
И каким круговращением до сотворения солнца могла производиться смена трех [первых] дней в ночей, когда природа первосозданного света, — если только под этим светом надобно разуметь свет телесный, — оставалась неподвижною, открыть и объяснить это трудно. Разве, быть может, кто–нибудь скажет так, что тьмою Бог назвал земную и водную массу, прежде чем произведено было ее разделение, совершенное, как написано, в третий день, — назвал по причине ее очень плотной телесности, сквозь которую свет не мог проникнуть, или же по причине глубочайшей тени, которую неизбежно должна иметь эта масса с одной стороны своей, если свет находился с другой. Ибо, к какому пункту масса данного тела мешает подходить свету, в этом пункте бывает тень, потому что место, лишенное света, который бы освещал его, если бы тому не мешало противопоставленное тело, и есть то, что называется тенью. Если же эта тень соответственно массе тела была так велика, что занимала столько пространства земли, сколько с другой стороны занимал день, то называлась ночью. Ибо не всякая же тьма есть ночь. Тьма бывает и в огромных пещерах, в тайники которых проникать свету мешает противопоставленная масса, — в них нет света, и все это пространство представляет собою место, лишенное света, и, однако, подобная тьма не называется именем ночи, а [называется так] только тьма, которая покрывает ту часть земли, откуда удаляется день. Точно также не всякий и свет называется днем: ибо существует свет луны, звезд, ламп, молний и вообще всех светящих предметов; но днем называется тот лишь свет, которому предшествует и преемствует ночь.
Но если первобытный свет со всех сторон окружал массу земли, оставаясь ли в спокойном состоянии, или совершая круговое движение, в таком случае не оставалось пункта, с которого бы он допускал сменять себя ночью, потому что никогда не расступался бы, чтобы дать ей место. Или, быть может, свет был создан только с одной стороны, так что, совершая круговое движение, он оставлял возможность и ночи совершать соответственное движение на другой стороне? Ибо когда всю землю покрывала еще вода, ничто не препятствовало этой водянистой и шарообразной массе с одной стороны производить присутствием света день, а с другой стороны отсутствием света — ночь, которая с вечернего времени и наступала в той ее части, из коей свет переходил в другую.
Но если воды первоначально занимали всю землю, то куда же они были собраны, т. е. в какую часть собраны были те воды, который были отвлечены, чтобы обнажиться земле? В самом деле, если было на земле какое–нибудь обнаженное [от воды] место, куда бы он могли собраться, то, очевидно, была уже суша и бездна занимала не всю [землю]. Если же они покрывали всю землю, то что же это было за место куда собрались они, чтобы явилась на земле суша? Разве не собраны ли они были в высоту, подобно тому, как это бывает тогда, когда обмолоченное на гумне зерно подбрасывается вверх для провеявания и, собранное там в кучу, обнажает место, которое прежде было им покрыто? Но кто же так скажет, если он видал равномерно расстилающиеся во все стороны равнины моря, которые хотя и поднимаются на них своего рода горы волнующейся воды, по прекращении бури снова выравниваются? И если при этом некоторые берега обнажаются больше, то необходимо заключить, что есть, значит, на земле пространства, куда бы прибывало то, что убывает в другом месте, и откуда бы оно снова приходило в прежнее свое место. Но раз волнующаяся стихия покрывала совершенно всю землю, куда же отступила она, чтобы обнажить некоторые части? Или, может быть, вода тогда была разреженнее и окружала землю подобно облакам, а потом чрез собрание сгустилась так, что из многих частей обнажила те, в которых могла явиться суша? Впрочем, и земля, долго и сильно оседая, могла дать в некоторых местах углубления, в которые стекались и собирались воды, и из частей, откуда вода убывала, образовалась суша.
ГЛАВА XIII
Но материя во всяком случае не была бесформенною, имея облакообразный вид, а потому может явиться еще вопрос, когда же именно Бог создал эти, наблюдаемые нами, виды и качества воды и земли, так как этого мы не встречаем ни в один из шести дней [творения]? Поэтому, если Он воду и землю сотворил раньше всякого дня, как раньше упоминания об этих первых днях написано: в начале сотвори Бог небо и землю, то под именем этой земли мы можем разуметь уже получивший форму земной вид с покрывавшими его поверхность водами, имевшими в свою очередь видимую своего рода форму; так точно в дальнейших словах Писания: земля же бе невидима и неустроена и тьма верху бездны, и Дух Божий ношашеся верху воды, мы можем разуметь не какую–нибудь бесформенность материи, а землю и воду хотя без света, который еще не был сотворен, но уже с своими общеизвестными свойствами; так что невидимою земля названа, можно думать, потому, что она, будучи покрыта водами, не могла быть видима, хотя бы и был на лицо кто–нибудь, кто мог бы её видеть, а неустроенною потому, что не была отделена от моря, не окружена берегами и не украшена растениями и животными. Если же так, то почему же эти виды, без сомнения, телесные, созданы раньше всякого дня? Почему не написано: «рече Бог: да будет земля, и бысть земля», или: «рече Бог: да будет вода, и бысть вода», или же о земле и воде вместе, если они связываются одним своего рода законом низшего положения «рече Бог: да будет земля и вода, и бысть тако»? С другой стороны, если было так, почему не сказано: «виде Бог, яко добро»?
ГЛАВА XIV
[Но] известно, что все изменяемое образуется из чего–либо бесформенного: вместе с тем и кафолическая вера внушает, да и здравый разум говорит, что материи ни для одной из природ не могло быть иначе, как только от Бога, виновника и творца всех, и образованных и способных к образованию, вещей, — каковую материю некое писание и приписывает Богу, говоря: «Ты сотворил мир от безОбразнаго вещества» (Прем., XI, 18). Это соображение убеждает нас, что на такую [бесформенную] материю и сделано указание в словах, которые соответствуют читателям и слушателям наименее проницательным в духовной мудрости, — именно в тех, которыми говорится: в начале сотвори Бог небо и землю, и проч., до слов и рече Бог, составляющих переход к последовательному рассказу о порядке образования вещей.
ГЛАВА XV
[Такое указание сделано] не потому, чтобы бесформенная материя по времени существовала раньше предметов, получивших форму, так как сотворено одновременно и то и другое, т. е., как то, что произошло, так и то, из чего оно произошло. Ибо как звук составляет материю слов, а слова указывают на сформированный уже звук, и говорящий не бесформенный сперва испускает звук, а потом [снова] вбирает его и формирует в слова: так и Творец Бог не бесформенную прежде создал материю, а потом, как бы после вторичного размышления, оформил ее в ряде таких или иных природ, но создал материю именно сформированную. Но поелику то, из чего что–нибудь происходить, если не по времени, так по некоторому своему началу, существует раньше того, что из него происходит: то Писание могло разделить по времени повествования то, чего Бог не разделял по времени творения. Ведь если мы спросим, звуки ли из слов мы производим, или же слова из звуков, то едва ли найдём кого–либо настолько недогадливого, кто не ответил бы, что скорее слова происходят из звуков; отсюда, хотя говорящий производит то и другое одновременно, тем не менее, уже из простого наблюдения достаточно ясно видно, что из чего он производит. По этой причине, если Бог сотворил одновременно и то и другое, т. е. и материю, которую Он оформил, и вещи, в которые он облек ее, как в формы, и если в Писании надлежало говорить, и том и о другом, но не одновременно о том и другом: то кто же будет сомневаться, что прежде надлежало сказать о том, из чего что–либо создано, а после уже о том, что из него создано? Ибо, когда мы даже говорим о материи и форме, то хотя и разумеем, что та и другая существуют одновременно, однако, не можем одновременно выразить той и другой. А как в тот короткий момент времени, когда мы произносим эти два слова, мы произносим одно из них раньше другого; так точно и в пространном рассказе необходимо было сказать об одном из них раньше другого, хотя, как уже замечено, то и другое сотворено Богом одновременно; отсюда, то, что только по началу является в творении первым, в повествовании является первым и по времени, ибо двух предметов, из коих ни один не имеет первенства перед другим ни в каком отношении, нельзя выговорить одновременно, а тем более нельзя вести повествование о них одновременно. Итак, не подлежит сомнению, что бесформенная материя есть ничто в том собственно смысле, что она явилась не иначе, как только от Бога и создана Им одновременно с теми вещами, которые сотворены из нее.
Но если можно сказать с вероятностью, что [бесформенная] материя указывается в словах: земля же бе невидима и неустроена, и тьма верху бездны, и Дух Божий ношашеся верху воды; так что, за исключением сказанного здесь о Святом Духе, остальные слова суть названия хотя вещей и видимых, но сказанные, можно думать, с тою целью, чтобы дать понятие о бесформенной материи, насколько можно было сделать это для людей менее понятливых, потому что эти два элемента, т. е. земля и вода, для произведения из них чего–нибудь, легче других поддаются рукам работающих, а потому именами их удобнее дается понять о бесформенности материи, — если, говорю, можно сказать так с вероятностью, то [значит] не было какой–нибудь оформленной массы, освещая которую с одной стороны, свет с другой ее стороны производил бы тьму, от чего, по отступлении дня, могла бы наступить ночь.
ГЛАВА XVI
Если же под днем и ночью мы захотели бы разуметь расширение и сокращение света, то не видим причины, почему бы могло быть так. Ибо тогда еще не было животных, для которых бы подобные смены [света] были полезны и для которых, появившихся позднее, эти смены, как мы знаем, начали производиться чрез круговращение солнца. Да и примера не представляется, которым мы могли бы оправдать мысль, что подобное расширение и сокращение света могло бы производить смену дня и ночи. В самом деле, истечение лучей из наших глаз представляет собою также истечение своего рода света; оно может и сокращаться, когда мы смотрим на ближайший к нашим глазам воздух, и расширяться, когда мы устремляем взор в одном и том же направлении на предметы, вдали от нас находящиеся. Нет сомнения, что и тогда, когда происходит сокращение, оно не вовсе мешает нам видеть отдаленные предметы, только, конечно, не так ясно, как тогда, когда глаз наш упирается в них. А между тем свет, который заключается в органе видящего, настолько, говорят, мал, что, если бы не получал помощи от внешнего света, мы не могли бы ничего видеть, и так как от того света он не может быть отличаем, то и трудно, как я уже сказал, подыскать пример, которым бы можно было доказать, что расширение света [служит причиною] дня, а сокращение — ночи.
ГЛАВА XVII
Если же словами Бога: да будет свет был создан свет духовный, то под ним должно разуметь не тот истинный совечный Отцу свет, которым создано все и который просвещает всякого человека, а тот, о котором могло быть сказано: прежде всех создася премудрость (Сирах. I, 4). Ибо, когда эта вечная и неизменная, не созданная, а рожденная Премудрость переносится в духовные и разумные твари, а также и в души преподобных (Прем. VII, 27), чтобы они, просвещаемые [Ею], могли сиять, тогда в них открывается некое светлое настроение духа, которое и можно принять за создание того света, когда Бог изрек: да будет свет, если только уже была духовная тварь, которая обозначена именем неба в словах Писания: в начале сотвори Бог небо и землю, — небо не телесное, а бестелесное небо телесного неба, стоящее выше всякого тела не пространственным расстоянием, а возвышенностью природы. А как в одно и то же время эта тварь могла быть и тем, что просвещалось, и самым просвещением и как можно было говорить о ней в различное время, об этом сказали мы несколько раньше, когда вели речь о материи.
Но в таком случае как будем мы понимать наступавшую за этим светом ночь, так что был и вечер? И от какой тьмы мог быть отделен такой свет, по словам Писания: и разлучи Бог между светом и между тьмою? Разве не были ли уже тогда грешники и неразумные, отпадавшие от света истины, между которыми с одной стороны и между остававшимися в том свете [с другой] Бог и произвел разделение, как между светом и между тьмою, и, назвав свет днем, а тьму — ночью, показал тем, что Он не творец грешников, а их промыслитель (ordinator), распределяющий по заслугам? Или, быть может, день тот есть название для всего времени и обнимает собою весь свиток веков, а потому и назван не первым днем, а днем единым: и бысть, говорит, вечер, и бысть утро: день един; так что словами: бысть вечер обозначен, по–видимому, грех разумной твари, а словами: бысть утро — ее обновление?
Но это будет уже рассуждение в смысле пророческой аллегории, которой мы не имели в виду в настоящем сочинении. Мы предположили себе говорить здесь о Писании по прямому смыслу совершавшихся событий, а не иносказательной таинственности. Итак, каким же образом с точки зрения сотворенных природ найдем мы в духовном свете вечер и утро? Разве отделение света от тьмы не означает ли различия предмета, получившего уже форму, от предмета еще бесформенного, а название дня и ночи — указания на равномерность, показывающую, что Бог ничего не оставил не приведенным в порядок, что самая бесформенность выходя из которой вещи изменяются путем известного перехода из вида в вид беспорядочна, и что даже недостатки и совершенства твари, которыми все временное взаимно чередуется, служат дополнением красоты вселенной? Ибо и ночь представляет собою упорядоченную тьму.
По этой причине, когда был создан свет, сказано: виде Бог свет, яко добро, хотя сказать это [автор] мог бы после уже всех [событий] этого дня, т. е. сказав сначала: рече Бог: да будет свет, и бысть свет. И разлучи Бог между светом и между тьмою. И нарече Бог свет день и тьму нарече нощь, он мог бы сказать потом: и виде Бог свет, яко добро, и затем прибавить: и бысть вечер и бысть утро, как делает он это в отношении к другим делам [творения], которым дает имена? Здесь же он не сделал так по той причине, что от предмета, уже получившего форму, отличалась при этом бесформенность, так что ей пока не полагалось конца, а оставалась еще она для образования из нее других, уже телесных, тварей. Итак, если бы слова: виде Бог, яко добро сказаны были после разграничения [света и тьмы] разделением и названиями, то мы должны были бы думать, что [этими словами] обозначаются такие действия, к которым в своем роде ничего уже не должно быть прибавлено. Но поелику один только свет являлся совершенным, то виде, говорит, Бог свет, яко добро, и разграничил его от тьмы отделением и названием. А не сказал теперь [автор]: виде Бог, яко добро потому, что при этом предполагалась бесформенность, из которой еще должны были образоваться другие (творения). Между тем, когда распределением светил отделялась от дня та ночь, которая нам теперь известна (ночь, производимая круговращением солнца над землею), после этого разделения дня и ночи говорится: виде Бог, яко добро. Ибо эта ночь не есть какая–нибудь бесформенная сущность, из которой бы должны были образоваться другие, а часть пространства, наполненная воздухом, но лишенная дневного света; к этой ночи нечего уже было прибавлять такого, что имело бы более определенную и отличную от нее форму. Что же касается вечера и утра, то под вечером во все первые три дня, до сотворения светил, не будет, кажется, нелепым разуметь конец совершенного действия я [творческого], а под утром — обозначение будущего, так сказать, действия.
ГЛАВА XVIII
Но прежде всего мы должны помнить, — о чем уже мы не раз говорили, — что Бог действует при посредстве не временных движений, если так можно выразиться, своего духа или тела, как действует человек или ангел, а вечных и неизменных и постоянных идей совечного Своего Слова и некоего, выразился бы я, согревания Своего, также совечного Себе, Святого Духа. Ибо сказанное на греческом и латинском языке о Духе Святом что Он «носился над водами», согласно со значением близкого к еврейскому сирийского языка, надобно, утверждают [говорят, это разъяснено одним ученым христианином–сирийцем], понимать не в значении носился вверху, а в значении согревал. И согревал не так, как согреваются опухоли или раны на теле холодною или доведенною до соответственной теплоты водою, а так, как согреваются птицами яйца, когда теплота материнского тела при посредстве чувства любви своего рода содействует до некоторой степени образованию птенцов. Итак, не следует понимать плотским образом, как временные, изречения Божии в течение каждого дня оных Божественных действий. Ибо сама Премудрость Божия, приняв на Себя нашу немощность, явилась собрать под свои крылья чад Иерусалима, якоже кокош собирает птенцы своя (Мф. XXIII, 37), не для того, чтобы мы оставались всегда младенцами, а чтобы, оставаясь детьми на злое, перестали быть детьми по уму (1 Корнф. XIV, 20).
Но при этом, в области предметов таинственных и весьма удаленных от нашего взора, — если бы мы прочитали что–нибудь написанное относительно таких предметов даже и Божественное, могущее в силу одушевляющей нас спасительной веры порождать новые и новые мнения, — мы не должны набрасываться ни на одно из них с такою твердостью, чтобы могли повалиться, если более тщательное исследование истины ниспровергнет его, ратуя [в таком случае] за свое собственное мнение, а не за мнение Божественных писаний, и желая при этом, чтобы оно, будучи нашим мнением, было мнением Писания, тогда как, наоборот, мы должны желать, чтобы мнение Писания было нашим мнением.
ГЛАВА XIX
В самом деле, предположим себе, что в словах Писания: рече Бог: да будет свет: и бысть свет один разумеет сотворение телесного света, а другой духовного. Что есть духовный свет в духовной твари, в этом наша вера не сомневается, а что есть телесный свет небесный или даже вышенебесный или же прежденебесный, которому могла бы преемствовать ночь, это не противно вере до тех пор, пока не будет опровергнуто несомненнейшею истиною. Если бы так случилось, значит — подобное мнение не в Божественном писании заключалось, а выдумано человеческим невежеством. Если же на основании несомненного довода будет доказано, что это мнение верно, то будет еще неизвестным, хотел ли писатель в приведенных словах св. книг высказать это именно мнение, или же какое–нибудь другое не менее истинное. Если остальной контекст речи не подтвердит, что Он имел в виду именно это мнение, от того не будет ложным другое, которое он действительно разумел сам, а истинным и полезнейшим для познания. Если же контекст Писания не отвергнет того, что писатель имел в виду именно это мнение, то остается еще место для вопроса, не мог ли он иметь в виду другого какого–нибудь мнения. А если мы найдем, что он мог иметь в виду и другое, то будет неизвестно, какое именно из этих двух мнений он хотел разуметь; можно даже предположить, что он имел в виду оба эти мнения, если только известные обстоятельства благоприятствуют тому и другому из них.
Ибо весьма часто случается, что даже и не христианин знает кое–что о земле, небе и остальных элементах видимого мира, о движении и обращении, даже величине и расстояниях звезд, об известных затмениях солнца и луны, круговращении годов и времен, о природе животных, растений, камней и тому подобном, — знает притом так, что защищает это знание и очевиднейшими доводами и опытом. Между тем крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени опасно, что какой–нибудь неверный едва–едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о подобных предметах яко бы на основании христианских писаний, несет такой вздор, что, как говорится, блуждает глазами по всему небу. И тяжело не то, что человек заблуждающийся подвергается осмеянию, а то, что и наши писатели, по мнению внешних, имеют такие же понятия и к великой погибели для тех, о спасении которых мы заботимся, считаются людьми невежественными и презираются. В самом деле, когда они замечают, что кто–либо из числа христиан заблуждается относительно предмета, хорошо им известного, и свое нелепое мнение утверждает на наших писаниях, то как же они будут верить этим писаниям относительно воскресения мертвых, надежды на вечную жизнь, царства небесного, думая, что писания эти сообщают ложные понятия даже и о таких предметах, которые сами они могли узнать путем опыта и при помощи несомненных цифр? И действительно, невозможно достаточно исчислить, сколько горести и печали причиняют благоразумным братьям эти дерзкие невежды, когда они, застигнутые и уличенные в нелепом и ложном мнении со стороны тех, которые не признают авторитета наших писаний, в защиту того, что сказали по легкомысленному безрассудству и с очевиднейшею ложью, стараются ссылаться на эти свящ. книги, оправдывая ими свое мнение, или же на память приводят из них многие изречения, которые считают свидетельством в свою пользу, не понимая ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают (I Тимоф. I, 7).
ГЛАВА XX
Во внимание к такого рода явлениям и в предохранение от них, я, насколько было возможно, многосторонне изъяснил книгу Бытия и относительно слов, для упражнения нашей мысли поставленных в неясном значении, привел различные мнения не утверждая безрассудно чего–нибудь одного, с предубеждением к другому, может быть, лучшему объяснению, чтобы каждый по собственной мерке выбирал то, что может взять, а там, где понять не может, пусть оставляет честь за Писанием Божиим, а за собою страх. Но раз слова Писания, о которых мы говорим, изъясняются с столь многих сторон, пусть же умерят себя те, которые, надмеваясь светскими науками, на эти слова, предназначенные для всех благочестивых сердец, смотрят как на нечто неискусное и грубое, — которые, не имея перьев, пресмыкаются по земле и, обладая полетом лягушек, смеются над гнездами птиц. Еще опаснее заблуждаются некоторые нетвердые наши братья, которые, слыша, как эти нечестивцы тонко и пространно толкуют о числе небесных тел и о каких угодно вопросах, касающихся элементов видимого Мира, превращаются в нуль и, предпочитая их со вздохом себе и находя великими, брезгливо обращаются к писаниям спасительнейшего благочестия, и едва–едва касаются того, чем должны бы были питаться со сладостью, гнушаясь жесткости хлебного колоса (segetis) и вожделея цветов шиповника. Они не имеют досуга видеть, яко благ Господь (Псал. XXXIII, 9), и не принимают пищи даже в субботу: они слишком ленивы, чтобы срывать колосья уже по получении дозволения от Господа субботы, чтобы затем растирать их руками, а растертые очищать, пока они не будут годными для употребления в пищу (Mф. XII, 1).
ГЛАВА XXI
Но, может быть, кто–нибудь скажет: «какие же зерна ты очистил этим толчением своего рассуждения, какие провеял? Почему едва не все у тебя оставлено только в вопросах? Дай же какой–нибудь положительный ответ на то, что, как показывают твои рассуждения, может быть понимаемо во многих значениях». Такому я ответу, что я с удовольствием достиг того самого хлеба, от которого научился не обращаться к человеку за ответом согласно с верою о том, что отвечать людям, которые стремятся клеветать на наши спасительные писания; так что все, что только могли бы они сказать о природе вещей на основании верных доводов, все это, как можем мы показать, не противно нашим писаниям, — с другой стороны все, что из каких–либо своих книг они привели бы противного нашим писаниям, т. е. кафолической вере, все это, как можем мы или показать с некоторой силою, или же с несомненностью верить, совершенно ложно. При этом мы так преданы Ходатаю нашему, в нем же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна (Колосс. II, 3), что не обольщаемся болтовнёю ложной философии и не пугаемся суеверий ложной религии. А когда читаем Божественные писания, заключающие в себе такое многообразие истинных значений, которые вытекают из немногих слов и подтверждаются святостью кафолической веры, мы избираем преимущественно то, что представляется несомненною мыслью того [писателя], которого читаем; если же это остается неизвестным, избираем то по крайней мере, что не противоречит составу Писания и согласно с правою верою, а если нельзя бывает разобрать и определить и состава Писания, избираем то, что предписывает правая вера. Ибо иное дело не распознать того, что именно разумел автор, и иное — уклониться от правила благочестия. Если то и другое избегается, читающий достигает полного результата, если же нельзя избежать ни того, ни другого, то хотя бы намерение автора оставалось и неизвестным, не бесполезно, по крайней мере, отыскивать мнение, согласное со здравою верою.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА I
И рече Бог: да будет твердь посреде воды и да будет разлучающи посреде воды и воды, и бысть тако. И сотвори Бог твердь и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию. И виде Бог, яко добро. И бысть вечер и бысть утро, день вторый. — О слове Божием, которым изречено: да будет твердь и проч., о благоволении, по которому Бог виде, яко добро, о вечере и утре нет надобности повторять здесь то, что сказано об этом раньше (предупреждаю, что сколько бы раз после речь ни возвращалась к этим предметам, она должна быть понимаема сообразно с вышеизложенным исследованием). На очереди теперь у нас вопрос о том, небо ли, которое возвышается над всеми воздушными пространствами и над всею воздушною высотою, где в четвертый день поставляются светила и звезды, создается Теперь, или же твердью называется самый воздух?
Многие утверждают, что никаких вод не может быть выше звездного неба, потому что их тяжесть имеет такое свойство, что они или разливаются по поверхности земли, или же в виде паров носятся поблизости от земли. И никто не должен в опровержение их говорить так, что по действию всемогущества Божия, для которого все возможно, даже и такие тяжелые воды, какими мы их знаем и ощущаем, могли разливаться выше того небесного тела, на котором находятся звёзды. Ибо в настоящем случае вашему исследованию подлежит вопрос о том, как, по указанию Божественных писаний, Бог установил природы вещей, а не о том, что было угодно Ему привести в них или чрез них, как чудо Своего могущества, В самом деле, если Богу не угодно было, чтобы масло когда–нибудь оставалось под водою, то оно таким и явилось, и однако природа его для нас не неизвестна от того, что оно сотворено так, что, стремясь к своему месту, даже если бывает налито ниже воды, поднимается сквозь воду и помещается выше неё. Итак, вопрос теперь в том, указал ли Творец вещей, расположивший все мерою, числом и весом (Прем. XI, 21), водам не одно, свойственное их тяжести, место возле земли, а и выше неба, которое распростерто и утверждено за пределами воздуха?
Те, которые не допускают этого, свои доказательства почерпают из тяжести элементов, говоря, что небо ни в каком случае не утрамбовано сверху на подобие мостовой, чтобы могло выдерживать тяжесть вод, потому что такая плотность может принадлежать только земле и все, что есть плотного, будет уже не небо, а земля. Ведь элементы различаются не местами только, но и особенными свойствами, благодаря которым занимают уже и свои места. Так, вода помещается на поверхности земли; и если даже она стоит или течет под землю, как напр. в гротах и пещерах, то все же поддерживается тою частью земли, которая находится не над нею, а под нею. И если какая–нибудь часть земли падает сверху, то не остается на поверхности воды, а, рассекая воду, погружается в нее и подвигается в земле, достигши которой, останавливается как на своем месте; так что вода остается вверху, а земля внизу. Отсюда ясно, что хотя это часть земли и находилась поверх воды, но поддерживалась не самою водою; а связью с землею, как держатся своды пещер.
Считаем нужным здесь снова предостеречь против того заблуждения, против которого мы предостерегали в первой книге, чтобы кто–нибудь из наших, в виду слов псалма: Основа землю на водах (Пс. CXXXIV, 6), не вздумал ссылаться на это свидетельство Писаний в опровержение людей, столь тонко рассуждающих о тяжести элементов, потому что не сдерживаемые авторитетом наших Писаний и не зная, в каком смысле сказаны слова псалма, они скорее станут смеяться над свящ. книгами, чем отвергнуть то, что или восприняли на несомненных основаниях, или исследовали путем очевиднейших опытов. А между тем, приведенные слова псалмов могут быть принимаемы или как прямо фигуральное изречение, показывающее, что так как в церкви под именем неба и земли часто обозначаются духовные и плотские [люди], то небеса имеют отношение к чистому разумению истины, как сказаны; Сотворший небеса разумом (Пс. CXXXV, 5), а земля — к простой вере простых людей, основывающейся не на баснословных мнениях и вследствие того нетвердой и ошибочной, а на пророческой и евангельской проповеди и вследствие того весьма крепкой, получающей подтверждение в крещении, почему прибавлено: Основа землю на водах; или же если кто–нибудь побуждает понимать это изречение буквально, то не будет натяжкой разуметь в таком случае или возвышенные как на материках, так и на островах части земли, которые выдаются над поверхностью воды, или только своды пещер, которые держатся висячею над водою массою. Отсюда даже и в буквальном смысле изречение: Основа землю на водах никто не может понимать так, чтобы тяжесть воды считать как бы естественною поддержкою для тяжести земной.
ГЛАВА II
А что воздух выше и воды, хотя, благодаря обширности своего объема, он покрывает и сушу, это видно из того, что ни один сосуд, погружаемый горлышком в воду, не может быть наполнен водою: ясно, что природа воздуха требует себе более высокого места. В самом деле, сосуд кажется пустым, но что он полон воздуха, в этом убедимся мы, когда будем погружать его в воду горлышком вниз: в таком случае воздух, не находя себе выхода чрез верхнюю часть [сосуда], а с другой стороны, по природе своей, не имея возможности выйти [из сосуда] сверху вниз вследствие напора воды снизу, плотностью своею отталкивает воду и не позволяет ей входить в сосуд. Когда же сосуд помещается так, что горлышко его приходится не внизу, а на боку, то нижнею половиной горлышка в сосуд входить вода, между тем как верхнею выходить из него воздух. Равным образом, когда сосуд поставлен горлышком вверх, то, как скоро ты вливаешь в него воду, воздух поднимается снизу вверх теми частями [горлышка], которые остаются свободными при вливании воды, и дает место входить воде сверху вниз. Если же сосуд погружается в воду с большею силою, так что сбоку ли или сверху вода вдруг врывается в него и окружает его горлышко со всех сторон, то воздух, стремясь кверху, прорывает воду, чтобы дать ей место в нижних частях; это–то прорывание и производит бульканье сосудов, когда [воздух] выходит по частям, не имея возможности выйти разом весь по причине узкости горлышка в сосуде. Таким образом, если воздуху приходится выходить |из сосуда] поверх воды, то он приливающую [к горлышку сосуда] воду прорывает; встречая его сопротивление, отскакивает приподнимающимися пузырьками и в этих лопающихся пузырьках выпускает воздух, который, устремляясь кверху, дает в свою очередь воде доступ проникать на дно сосуда. Если же воздух заставляют выходить из сосуда под воду, желая, с удалением его, наполнить сосуд, погруженный горлышком вниз, то легче сам сосуд, перевернувшись, зальется со всех сторон водою, чем чрез его горлышко попадет снизу хотя одна капля.
ГЛАВА III
А кто не знает, что огонь стремится стать выше даже и воздуха, потому что, если даже держать горящий факел верхним концом вниз, голова пламени все же будет поднята вверх? Но так как огонь скоро потом гаснет вследствие преодолевающей его плотности окружающего сверху и со всех сторон воздуха и, поглощаемый этим избытком воздуха, тотчас же претворяется и изменяется в его качество, то и не может иметь силы, чтобы проникнуть сквозь всю высоту его. — Итак, говорят, выше воздуха находится чистый огонь, небо, из которого, как полагают, созданы звезды и светила, т. е. та же природа этого огненного света, только шарообразно размещенная и расчлененная в те формы, которые мы видим на небе; но как воздух и вода уступают тяжести земли, так что соприкасаются с землею; так со своей стороны воздух уступает тяжести воды, так что соприкасается или с землею, или с водою. Отсюда, говорят, необходимо допустить, что воздух, если бы кто–нибудь захотел допустить, какую–либо часть его в возвышенных небесных пространствах, не может, очевидно, держаться там по своей тяжести, как скоро он соприкасается с ниже лежащими воздушными пространствами. А отсюда делают такое заключение, что для воды еще меньше может быть места выше этого огненного неба, если там не может оставаться и воздух, который гораздо легче воды.
ГЛАВА IV
Соглашаясь с подобного рода соображениями, некто сделал похвальную попытку доказать, что есть воды выше неба, подтверждая несомненность слов Писания из самых очевидных и наглядных предметов природы. И прежде всего, — что было весьма легко, — он ссылается на то, что и воздух называется небом не только в обычном словоупотреблении, согласно с которым мы называем небо ясным или облачным, но даже и в выражениях самых наших Писаний, когда в них говорится о птицах небесных (Mф. VI, 26), хотя очевидно, что птицы летают в этом воздухе; точно также и Господь, говоря об облаках, сказал: Лице небесе умеете разсуждати (Mф. XVI, 3). Между тем, облака мы часто видим скопляющимися в ближайшем к земле воздухе, когда они лежат по склонам холмов так, что за пределы их весьма часто выходят вершины гор. А доказав, что и воздух называется небом, он хотел тем дать понять, что небо названо твердью потому именно, что его промежуток служит разделением между некоторыми водяными парами и теми водами, которые в более сгущенном виде разливаются по земле. Ибо и облака, как это наблюдали те, кому приходилось гулять среди них по горам, получают свою форму вследствие собрания и сгущения мельчайших капель; когда эти капли становятся более плотными, так что многие маленькие капли соединяются в одну большую, воздух не в силах бывает держать такой капли в себе, а дает её тяжести место внизу; от чего происходит дождь. Таким образом, из понятия о воздухе, который находится между влажными испарениями, образующими в более высокой среде облака, и расстилающимися по земле морями, он хотел показать, что небо находится между водою и водою. Со своей стороны я считаю такое тщание и соображение его вполне достойными похвалы. Ибо высказанное им мнение и вере не противно, и легко может быть доказано наглядными примерами.
[Таким это мнение представляется нам] несмотря на то, что [согласно с ним] свойственная элементам тяжесть, по–видимому, не препятствует, чтобы даже и над высшим небом могли быть воды в форме мельчайших частиц, в виде которых они могут находиться выше воздушного пространства. Воздух тяжелее высшего неба и расположен ниже его, но он, несомненно, легче воды; и, однако, упомянутым испарениям никакая тяжесть не препятствует быть выше его. Точно так же еще более тонкое испарение влаги в виде еще более мелких капель может проникать и выше того неба, не вынуждаемое к падению вследствие своей тяжести. Ведь сами же они путем утонченнейшей аргументации доказывают, что нет ни одного настолько малого тельца, в котором оканчивалась бы делимость, но все делится до бесконечности, так как часть каждого тела в свою очередь есть тело, а каждое тело необходимо имеет половину своего количества. Отсюда, если вода, как мы видим, может достигать такой дробноты капель, чтобы в виде пара подниматься выше воздуха, по природе своей более легкого, чем вода, то почему же в виде еще более мелких капель и более легких испарений не может она быть и выше того легчайшего неба?
ГЛАВА V
Некоторые из наших пытаются опровергнуть людей, отрицающих на основании тяжести элементов возможность бытия воды выше звёздного неба, выходя при этом из понятия о свойствах и движении звезд. Они именно утверждают, что так называемая звезда Сатурна — самая холодная звезда, и что звёздный свой путь она проходит в продолжение тридцати лет, потому что движется по кругу более высокому и вследствие того более обширному [7]. Ибо солнце проходит свой круг в течение года, а луна — в течение месяца, т. е. настолько, говорят, скорее, насколько они находятся ниже, так что месту их в пространстве соответствует продолжительность времени [круговращения их]. От чего же, спрашивается, звезда Сатурна так холодна, когда она должна бы быть тем более горячею, чем в более высоком небе носится? Несомненно, что, когда шарообразная масса совершает круговое движение, то внутренние его части движутся медленнее, а наружные скорее, так что в одном и том же круговом движении одновременно большие пространства встречаются с кратчайшими. Но что более быстро, то, конечно, более и горячо. Отсюда упомянутая звезда скорее должна бы быть горячею, чем холодною: потому что хотя вследствие своего движения, описывающего огромное пространство, она проходит полное свое круговращение в течение тридцати лет, однако, вращаемая движением неба в противоположную сторону сильнее (что необходимо испытывает она ежедневно, так как, говорят, отдельные вращения неба соответствуют отдельным дням), она должна получать больший жар от быстрее вращающегося неба. Холодною эту звезду делает без сомнения близость её к расположенным поверх неба водам, которой, однако, не хотят допустить люди, рассуждающие о движении неба и звезд так же, как это мною вкратце представлено. — Вот соображения, какие некоторые из наших приводят против тех, которые не хотят верить в бытие воды выше неба, а между тем эту, вращающуюся около высшего неба, звезду признают холодною, и тем самым необходимо приводятся к мысли, что природа воды находится там уже не в виде тонких испарений, а в форме плотного льда. Но в каком бы виде и какие бы там воды ни существовали, несомненно, что они там существуют, потому что авторитет Писаний гораздо выше всяких широковещательных человеческих измышлений.
ГЛАВА VI
Но некоторые делают такое, по моему мнению заслуживающее нашего внимания, замечание, что, после слов Бога: Да будет твердь посреде воды и да будет разлучающи посреде воды и воды, [писателю] не даром–де показалось, что недостаточно будет прибавить: И бысть тако, если не сделать еще добавления: И созда Бог твердь, и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию и между водою, яже бе над твердию. Они именно понимают так, что в словах: И рече Бог: да будет твердь посреде воды и да будет разлучающи посреде воды и воды, и бысть тако, сделано, говорят, указание на Лице Отца; затем, для указания, что сказанное Отцом: да будет исполнил Сын, сделано, думается им, добавление: И сотвори Бог твердь и раздели Бог, и проч.
Но когда мы выше читаем: И бысть тако, то кого должны мы разуметь под тем, от Кого это бысть? Если — Сына; в таком случае незачем уже было говорить: И сотвори Бог, и т. д. Если же это и бысть тако мы признаем делом Отца: в таком случае говорит уже не Отец, и творит не Сын, — в таком случае Отец может творить нечто без Сына, чтобы и Сын затем творил что–нибудь без Отца; что противно кафолической вере. Если же то действие, о котором говорится: и бысть тако, есть то же самое действие, о котором говорится и дальше в словах: И сотвори Бог, то что мешает нам под Творцом этого действия разуметь Того же, Кто и сказал, чтобы действие это совершилось? Или, быть может, минуя слова: и бысть тако, Лице Отца и Сына хотят видеть только в тех словах, в которых говорится: И рече Бог: да будет, а затем: И сотвори Бог?
Но при этом возможен такой вопрос, не должны ли мы в словах: И рече Бог: да будет видеть как бы приказание Отца Сыну? В таком случае, почему же Писание не постаралось показать также и Лице Духа Святого? Разве не разумеется ли Троица таким образом: И рече Бог: да будет, — сотвори Бог, — И виде Бог яко добро? Но с единством Троицы несогласно представление, что Сын творил как бы по приказанию, Дух же Святый находил сотворенное добрым свободно и без всякого приказания. Да и какими бы словами Отец стал приказывать Сыну творить, как Сын есть первоначальное Слово Отца, чрез Которое создано все? Разве в словах: да будет твердь самое изречение это не есть ли Слово Отца, Его единородный Сын, в Котором имеет бытие все, что творится и даже раньше, чем оно творится, а все, что только имеет в Нем бытие, есть жизнь, так как все, что только Им сотворено, в нем Самом представляет собою жизнь и жизнь, конечно, творческую, вне же Его (sub illo) — тварь? Поэтому иначе существует в Нем то, что Им создано, потому что Он им управляет и содержит его, и иначе — то, что — Он Сам. Ибо Сам Он есть жизнь, которая в Нем существует таким образом, что она — Сам Он, потому что Он, как жизнь, есть свет человеков (Иоан. I, 3, 4). Вот почему Писание, — так как ничто не могло быть сотворено ни раньше времени, что не было бы совечно Творцу, ни в начале или в течение времени, идея (ratio) о создании чего (если только здесь приложимо название идеи) не жила бы совечною совечному Слову Отца жизнью, — раньше указания на ту или другую тварь в порядке их творения, и обращает взор свой к Слову Бога, поставляя слова: И рече Бог: да будет. Оно не находит никакой другой причины к созданию вещи, кроме той, что она должна быть сотворена в Слове Бога.
Таким образом, Бог не столько раз изрек: «да будет та или другая тварь», сколько раз в этой книге повторяется: и рече Бог. Ибо Он однажды родил Слово, в Котором изрек все, прежде чем все создано в отдельности; но повествование пишущего, применяясь к пониманию малых, при указании каждого рода тварей в частности, вечную причину того или другого рода тварей в отдельности относит к Слову Бога: самая причина эта не повторялась, хотя автор и повторяет: и рече Бог. И в самом деле, если бы он раньше всего хотел сказать: «была сотворена тварь среди вод, чтобы служить разделением между водою и водою», то в случае, если бы кто–нибудь спросил его, как она сотворена, он, конечно, ответил бы так: рече Бог: да будет, т. е. в вечном Слове Божием была причина того, чтобы твердь явилась. Отсюда, повествование свое о каждом виде творения он начинает с того, что должен был бы, после рассказа о сотворении, ответить спрашивающему, как оно произошло, т. е. с указания причины.
Итак, когда мы слышим слова: и рече Бог: да будет, то должны понимать их так, что причина этого да будет заключалась в Слове Бога. Когда же слышим: и бысть тако, должны разуметь, что сотворенная тварь не выступила за пределы своего рода, предписанные ей в Слове Бога. Когда, наконец, слышим: и виде Бог, яко добро, должны разуметь не так, что в благоволении Его Духа угодно было подвергнуть [сотворенное] как бы исследованию после того, как оно было сотворено, скорее так, что этой благости, которой было угодно вызвать сотворенное к бытию, угодно было, чтобы оно и продолжало существовать.
ГЛАВА VII
И все же остается еще повод спросить, почему после слов: и бысть тако, которыми уже указывается на совершение действия, [писатель] прибавил: и сотвори Бог; так как уже словами: и рече Бог: да будет… и бысть тако дается понять, что Бог изрек это в Слове Своем и что оно сотворено Его Словом, и таким образом в словах тех могло указываться не только Лице Отца, но и Лице Сына? Ибо, если для указания Лица Сына повторяется и говорится: и сотвори Бог, то разве в третий день собрал Он воду, чтобы явилась суша, не чрез Сына, потому что там не сказано: «и сотворил Бог, что вода собралась», или: «и собрал Бог воду», хотя, впрочем, и там, после слов: и бысть тако, повторяется: и собрася вода, яже под небесем? Разве и свет создан также не чрез Сына, так как и там не сделано же такого повторения? Писатель мог и там сказать: «и сказал Бог: да будет свет, и было так; создал Бог свет, и видел, что он хорош», иди же, как и при собрании вод, не говоря: «и создал Бог», по крайней мере повторить только: «и сказал Бог: да будет свет, и было так; и был свет, и видел Бог свет, что он хорош». Но, сказав: и рече Бог: да будет свет он не делает никакого прибавления и не вносит ничего, кроме слов: и бысть свет; и затем без всякого повторения говорит о благоугодности света Богу, об отделении его от тьмы и о наречении им имен.
ГЛАВА VIII
Что же значит это повторение относительно других [творений]? Разве не указывается ли тем на то, что в первый день, когда создан свет, названием этого света внушается нам о создании духовной и разумной твари, в природе которой разумеются все святые Ангелы и Силы, и писатель, сказавши: бысть свет, не сделал потом повторения о его сотворении потому, что разумная тварь не познала сперва о своем образовании, а потом уже образована, но имела познание о том в самом образовании своем, т. е. чрез просвещение Истины, стремясь к которой получила свою форму; тогда как остальные низшие твари создаются так, что сначала являются в познании разумной твари, затем уже и в своем роде? Отсюда, создание света сначала существует в Слове Бога — в идее (secundum rationem), по которой он потом создан, т. е. в совечной Отцу Премудрости, а затем уже — в самом создании в той природе, в которой он сотворен: там он не создан, а рожден, здесь же он уже создан, потому что из бесформенности получил форму; почему Бог и сказал: да будет свет и бысть свет, дабы то, что там было в Слове, теперь явилось в действии. Между тем, устроение Неба сначала существовало в Слове Бога сообразно с рожденною Премудростью, затем устроялось в духовной твари, т. е. в познании ангелов, согласно с сотворенною в них мудростью, и, наконец, создано самое небо, дабы явилось уже самое сотворение неба в его собственном роде. Точно так же являлись и различение или виды воды и земли, природа дерев и трав, светила небесные, живые твари, произведенные из воды и земли.
И в самом деле, ангелы видят чувственные предметы не телесными только чувствами, как животные: если даже они и пользуются каким либо подобным органом, то скорее познают им то, что внутренне знают уже гораздо лучше в самом Слове Бога, которым просвещаются, чтобы жить мудро, так как они–то и суть тот свет, который создан прежде всего, если только под сотворенным в первый день светом разуметь свет духовный. Поэтому, как идея (ratio), по которой создается тварь, существует в Слове Бога раньше создания самой твари: так точно сначала является познание этой идеи в разумной твари, которая не помрачена грехом, а потом уже — создание и самой твари. Ибо ангелы не усовершались, подобно нам, в приобретении мудрости, постигая невидимое Божие чрез рассмотрение сотворенного (Римл. 1, 20), а с самого сотворения своего наслаждаются святою вечностью и благоговейным созерцанием Слова, и отселе, взирая на сотворенное с точки зрения того, что видят внутренне, они или одобряют действия справедливые, или же осуждают грехи
И не удивительно, что своим святым Ангелам, получившим образование в первом создании света, Бог показывал то, что намерен был сотворить потом. Ибо они не знали бы разума Божия, если бы не открыл им Бог. Кто бо разуме ум Господень; или кто советник Ему бысть; или кто прежде даде Ему и воздастся ему; яко из того и тем и в нем всяческая (Римл. XI, 34–36). Поэтому их наставлял Сам Бог, когда в них являлось познание о твари, которая должна была быть сотворена потом и которая наконец являлась в своем роде.
Отсюда, когда, по создании света, под которым разумеется получившая образование от вечного Света разумная тварь, мы слышим о создании прочих тварей слова: и рече Бог: да будет, то должны разуметь под сим намерение Писания обратить наш взор к вечности Слова Бога. А когда мы слышим слова: и бысть тако, то должны разуметь под сим возникавшее в разумной твари познание существующей в Слове Бога идеи (ratio) о создании твари; так что эта последняя некоторым образом творится сначала в той твари, которая вследствие некоторого предварительного движения в самом Слове Бога первая узнавала о создании твари. Когда, затем, мы слышим повторение слов: сотвори Бог, то под сим должны разуметь уже появление самой твари в своем роде. Наконец, когда слышим слова: и виде Бог, яко добро, должны разуметь их так, что Благости Божией угодно сотворенное, — угодно, чтобы продолжало существовать по роду своему то, что угодно Ей было вызвать к бытию, когда Дух Божий носился вверху воды.
ГЛАВА IX
Спрашивают, обыкновенно, и о том, какую по нашим Писаниям форму надобно приписывать небу. — Многие входят в длинные рассуждения о подобных предметах, которые нашими авторами с гораздо большим благоразумием опущены, как бесполезные для блаженной жизни и, — что еще хуже, — теряют при этом драгоценное время, которое должно быть посвящаемо спасительным предметам. Какое, в самом деле, мне дело, со всех ли сторон небо, как шар, окружает землю, занимающую центральное место в системе мира, или же покрывает ее с одной верхней стороны, как круг? Но так как дело тут касается достоверности Писаний, то чтобы кто–нибудь (как я не раз уже на это указывал), не разумея божественных словес, но или встречая в наших книгах, или же слыша из них о подобных предметах что–нибудь такое, что, по–видимому, противоречит сложившимся у него воззрениям, не стал считать совершенно бесполезными и все остальное в их увещаниях, или повествованиях, или пророчествах, надобно сказать вообще, что авторы наши имели правильное познание о фигуре неба, но Духу Божию, который говорил чрез них, не угодно было, чтобы они учили людей о подобных, бесполезных для опасения, предметах
Но, скажут, как же, в самом деле, не будет воззрение людей, приписывающих небу фигуру шара, противоречием написанное в наших книгах: простираяй небо яко кожу (Псал. 103, 2)? Пусть и будет противоречием, если то, что говорят они, ложно, ибо изреченное божественным авторитетом — скорее истинно, чем догадки, которые строит человеческая немощность. Но если бы неожиданно это свое воззрение они оказались в состоянии оправдать такими объяснениями, которые бы на его счет не оставляли уже никакого сомнения, в таком случае мы должны показать, что наше изречение о коже их воззрению не противоречит, иначе оно станет в противоречие с самыми же нашими Писаниями, которые в другом месте говорят, что небо простерто как шатер (Иса. XL, 22). И в самом деле, что в такой степени несходно и одно другому противоположно, как плоско протянутая кожа и дугообразно–закругленный шатер? Но раз эти два (места), как тому и следует быть, необходимо понимать так, чтобы они одно другому не противоречили: в таком случае и каждое из них не должно быть в противоречии с упомянутыми воззрениями (если бы неожиданно они оказались верными, опираясь на несомненное основание), по которым небо является со всех сторон закругленным на подобие шара, если только, впрочем, можно доказать это.
И действительно, наше сравнение [неба] с шатром, принимаемое даже и буквально, не представляет затруднения для тех, которые называют небо шаром. Весьма вероятно, что о фигуре неба Писание говорит сообразно с тою его стороною, которая находится над нами. Отсюда, если небо не шар, то оно — атер с одной только стороны, которою покрывает землю, а если — ар, то — атер со всех сторон. Но о коже сказанное примирить не только с шаром, что, может быть составляет только человеческое измышление, но даже и с нашим шатром, труднее. Как настоящее изречение я понимаю аллегорически, это содержится в тринадцатой книге моей Исповеди [8]. Так ли, как я там изъяснил, или как–нибудь иначе надобно понимать небо простертое, как кожа, — в настоящем случае, в виду строгих и крайних почитателей буквального изъяснения, я говорю о том, что, полагаю, доступно чувствам всякого; может быть, можно понимать то и другое, т. е. и кожу и шатер, и иносказательно, но вопрос в том, как можно понимать то и другое буквально. Но если шатер называется правильно не только изогнутым [по своей поверхности], а и плоским, то в свою очередь и кожа бывает простерта не только ровною поверхностью, но и закругленным изгибом. Ибо и мех, и пузырь суть тоже кожа.
ГЛАВА X
Некоторые из братий предлагают вопрос даже о движении неба, допытываясь, стоит ли оно неподвижно, или движется. Если, говорят, оно движется; то как будет твердью? А если стоит неподвижно, то каким образом звёзды, на нем, как думают, утвержденные, совершают круговое движение с востока на запад, при чем септентрионы [9] описывают кратчайшие круги около полюса; так что небо, если существует другой, скрытый от нас по другую его сторону, полюс, вращается, очевидно, наподобие шара, а если нет другого полюса, наподобие круга? — На это я отвечу, что для правильного понимания, так ли все это, или не так, произведено множество исследований людьми трудолюбивыми и с тонким умом; входить в рассмотрение подобных вопросов у меня теперь нет времени, да не должно его быть и у тех, которых мы хотим наставить в видах собственного их спасения и потребной пользы нашей святой церкви. Пусть только знают они, что как название тверди не ведет нас необходимо к мысли, что небо стоит неподвижно (ибо твердь называется твердью, можно думать, не по причине неподвижности, а по причине твердости, в виду ли своей собственной твердости или же потому, что служит пределом, разграничивающим высшие воды от низших), так, с другой стороны, и движение светил не мешает нам признать неподвижность неба, если только истина убедит нас, что оно стоит неподвижно. Ибо и те сами, которые весьма тщательно и безраздельно занимались исследованием этого вопроса, пришли к заключению, что если бы даже небо оставалось неподвижным, а вращались одни только светила, то и тогда могло бы происходить все, что наблюдается и открывается в обращении светил
ГЛАВА XI
И рече Бог: да соберется вода, яже под небесем, в собрание едино и да явится суша: и быстъ тако. И собрася вода, яже под небесем, в собрание едино, и явися суша. И нарече Бог сушу землю и собрания вод нарече моря. И виде Бог, яко добро. — Об этом действии Божием, по поводу, впрочем, исследования другого предмета, мы достаточно сказали в первой книге [10]. Поэтому здесь заметим только вкратце, что кого не занимает вопрос, когда именно сотворен самый вид воды и земли, тот пусть думает так, что в этот день произведено только разделение этих двух низших стихий. Кого же занимают вопросы, почему свет и небо сотворены во дни, тогда как земля и вода созданы вне и раньше всяких дней, и почему первые по слову Божию: да будет сотворены, а последние, по слову Божию, только разделены, а не сотворены, тот пусть при помощи здравой веры разумеет то, что говорит Писание еще до начала дней: земля же бе невидима и неустроена, внушая тем, какого рода сотворена была Богом земля, о которой раньше сказано: в начале Бог сотворил небо и землю. Это именно безОбразие телесной материи Писание и имеет в виду обозначить вышеприведенными словами, давая ему [теперь], вместо более темного, более употребительное название. Пусть, однако, человек несообразительный не подумает, что Писание, разделяя материю и форму словами, разделяет их и во времени, как бы так, что раньше сотворена материя, а потом уже, чрез некоторый промежуток времени, придана ей форма. Ту и другую Бог сотворил одновременно и произвел материю уже сформированную, и только безОбразие этой материи, как я сказал, Писание обозначает [теперь] употребительным названием земли или воды. Ибо земля и вода даже и со своими свойствами, как мы их наблюдаем, гораздо ближе, по своей повреждаемости, к безОбразию, чем небесные тела. И так как все, что в материи имело форму, исчислением дней отчисляется от безОбразного и из этой [отчисленной] телесной материи, как рассказано выше [бытописателем], сотворено небо, виде которого сильно отличен от земного: то оставшееся, после того, в материи для образования в низшей области вещей [Писание] не захотело уже включать в порядок сотворенных вещей словами: да будет, потому что, при оставшемся безОбразии, оно не могло уже получить такого вида, какой получило небо, а низший, непрочный и близкий к безОбразию. Отсюда, при произнесении слов: да соберется вода… и да явится суша, эти две стихии получили свои, нам хорошо известные и наблюдаемые нами, виды, вода — подвижный, а земля — неподвижный; поэтому и сказано о первой да соберется, а о последней да явится, так как вода — быстро текущая, а земля — твердо неподвижная стихия.
ГЛАВА XII
И рече Бог: да прорастит земля былие травное, сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодовитое творящее плод, ему же семя его в нем по роду на земли: и бысть тако. И изнесе земля былие травное сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодовитое, творящее плод, ему же семя его в нем по роду на земли. И виде Бог, яко добро. И бысть вечер и бысть утро день третий. — Здесь примечания заслуживает это ограничение бытописателя: травы и деревья суть творения отличные от вида воды и земли, так что не могли уже считаться в этих стихиях, поэтому о них особо изречено Богом, чтобы они вышли из земли, и особо же сказано о них обычное: и бысть тако, — повторено потом, что они так и произошли, и особо сделано о них указание, что виде Бог, яко добро; однако, бытописатель отнес и их к тому же дню, потому что своими корнями они соединены и связаны с землею.
ГЛАВА XIII
И рече Бог: да будут светила на тверди небесней освещати землю, в начало дня и ночи, и разлучати между днем и между нощию и да будут в знамения, и во времена, и во дни, и в лета. И да будут в просвещение на тверди небесней, яко светити по земли: и бысть тако. И сотвори Бог два светила великая: светило великое в начала дне и светило меншее в начала нощи, и звезды. И положи я Бог на тверди небесней, яко светити на землю и владети днем и нощию и разлучати между светом и между тьмою: и виде Бог, яко добро. И бысть вечер и бысть утро день четвертый. — В этом четвертом дне исследования заслуживает вопрос, почему избран такой распорядок, что земля и вода сотворены и разделены между собою, а земля произрастила былие травное раньше, чем явились на небе светила. Не можем сказать, чтобы [светила] в этом случае избраны были, как нечто такое, чем вносилось бы в ряд дней такое разнообразие, чтобы конец и середина их являлись в наибольшей красоте (а в семи днях четвертый день — средний), — не можем потому, что в седьмой день не создано никакой твари. Разве, может быть, покою седьмого дня всего более соответствует свет первого, так что, при соответствии крайних пределов, и получается упомянутая гармония, когда в середине выступают небесные светила? Но если первый день соответствует седьмому, в таком случае второй должен соответствовать шестому. А что же сходного твердь небесная имеет с человеком, созданным по образу Божию? Разве то, что небо занимает всю высшую часть мира, а человеку предоставлена власть господствовать над всею низшею? Но что же сказать о животных и зверях, которых, в некотором роде, произвела земля в шестой день, — какое у них возможно сходство с небом?
А может быть, [тут возможно скорее такое объяснение:] так как под именем света разумеется впервые сотворенное образование духовной твари, то следовало, чтобы создана была и телесная тварь, т. е. наш видимый мир, который и сотворен в два [следующие] дня по причине двух наибольших половин, из коих состоит вселенная (почему и сама духовная и телесная тварь, вместе взятая, часто называется небом и землею); так что область воздуха своим наиболее бурным слоем относится к земной половине, потому что вследствие влажных испарений воздух здесь становится плотным телом, тогда как более спокойным слоем, где не может быть уже движения ветров и бурь, он принадлежит небесной половине. А раз образована была такая совокупность телесной массы, вся находящаяся в том одном месте, где помещен мир, то следовало, чтобы внутри она наполнилась частями, которые бы свойственными каждой движениями перемещались с одного места на другое. К этому порядку не могут относиться травы и деревья, потому что своими корнями они прикреплены к земле, и хотя при своем росте испытывают движение соков, однако сами не обладают способностью передвижения с места на место, а где прикреплены, там и питаются и вырастают, вследствие чего принадлежат больше к самой земле, чем к разряду существ, которые движутся в воде и на земле. А так как образованию видимого мира, т. е. неба и земли, посвящены два [первые] дня, то для тех движущихся и видимых частей, которые, потом, творятся внутри мира, отведены остальные три дня. И так как, при этом, небо и сотворено раньше, и раньше украшено этого рода частями, то в четвертый день и являются светила, которые бы, сияя над землею, вместе с тем освещали и низшую область, чтобы её обитатели не оставались в темноте. Отсюда, в виду того, что слабые тела обитателей низшей области восстановляются сменяющим движение покоем, и устроено так, чтобы при круговращениях солнца, они пользовались сменою дня и ночи, в видах смены бодрствования сном, и чтобы, при этом, и самая ночь не оставалась без украшения, а светом луны и звезд поддерживала бодрость в людях, которым весьма часто приходится работать ночью, и служила к благо–бытию некоторых животных, которые не выносят солнечного света.
ГЛАВА XIV
Что касается слов: и да будут в знамения, и во времена, и во дни и в лета, то для кого не очевидно, как темно для понимания, что время началось с четвертого дня, как будто три предыдущие дня могли проходить без времени?
Кто в состоянии представить себе, каким образом проходили эти три дня раньше, чем наступило время, которое, как говорится здесь, началось с четвертого дня, да и проходили ли? Разве не прилагается ли в этом случае название дня к виду сотворенной вещи, а название ночи — к отсутствию вида; так что ночью названа еще не получившая образования и вида материя, из которой должны были получить образование дальнейшие предметы, как действительно и можно в вещах, получивших образование, усматривать безОбразие материи в самой их изменяемости, ибо материя не может различаться ни по пространству, как нечто более отдаленное, ни по времени, как нечто предшествующее? А может быть, ночью названа самая изменяемость в самых уже предметах сотворенных и получивших образование, т. е., как выразился бы я, возможность изменяться, так как сотворенным предметам свойственно изменяться, хотя бы они и не изменялись? Вечер же и утро [названы, так] не в смысле прошедшего и наступающего времени, а в смысле предела, которым указывается, до коих пор простираются свойственные такой или иной природе границы, и откуда начинаются границы другой следующей природы: а может быть, надобно искать какого–нибудь другого еще смысла этих слов.
Кто опять проникнет в смысле слов: и да будут в знамения, и поймет, какие тут разумеются знамения? Во всяком случае, речь здесь не о тех знамениях, наблюдать которые — дело пустое, а, без сомнения, о знамениях, которые полезны и необходимы в быте настоящей жизни, — которые наблюдаются или моряками при кораблеплавании, или же всеми вообще людьми с целью предугадать состояние температуры весною и зимою, летом и осенью. С другой стороны, и под временами, которые тут поставляются в зависимости от звезд, разумеется не продолжительность времени, а перемена состояний температуры. Ибо если и раньше создания светил существовало какое–нибудь телесное ли или духовное движение, так что из области ожидаемого будущего нечто чрез настоящее переходило в прошедшее, движение это не могло быть без времени. А кто может отрицать, что подобное движение началось только с появлением светил? Но часы, дни и годы в том определенном смысле, в каком мы их знаем, получили свое начало от движения светил. Отсюда, если времена мы будем понимать в этом именно смысле, т. е. как известные моменты [времени], определяемые нами по часам, или же хорошо нам известные по небу, когда солнце поднимается с востока до полуденного зенита, а отсюда спускается, потом, к западу, чтобы вслед за закатом солнца могла с востока же взойти или луна, или какая–нибудь другая планета, которая, достигая срединной высоты неба, указывает середину ночи, а когда, с восходом солнца, готова закатиться, наступает утро: то днями будут полные круговращения солнца с востока на восток, а годами — или обыкновенные круговращения солнца, которые оно совершает, возвращаясь не на восток, что оно делает ежедневно, а к тем же самым местам созвездий [11], что совершается только по истечении трехсот шестидесяти пяти дней и шести часов (т. е. четверти полного дня; эта часть, взятая четыре раза, поставляет в необходимость [чрез три года к четвертому] прибавлять полный день, что у римлян называется bissextum [12], или же более продолжительные и более скрытые от нас годы, так как от круговращения других планет являются, говорят, более продолжительные годы. Итак, если времена, дни и годы понимать таким именно образом, то всякий, без сомнения, согласится, что они определяются планетами и светилами. Ибо слова: да будут в знамения, и во времена, и во дни и в лета поставлены так, что неизвестно, ко всем ли планетам они относятся, или же знамения и времена относятся к другим планетам, а дни и годы — только к одному солнцу.
ГЛАВА XV
Многие входят в пространные словопрения и о том, какою сотворена луна; и если бы только оставались при этих словопрениях, а не стремились учить! Луна, говорят, сотворена полною, потому что не прилично было Богу создать что–нибудь в звёздах несовершенным в тот день, в который, как написано, были сотворены звёзды. Но если так, возражают другие, стало быть — луна создана в фазе первого, а не четырнадцатого дня, потому что кто же начинает считать подобным образом? — Я, со своей стороны, стою на средине, не утверждая ни того, ни другого, и прямо говорю, что в начальной ли фазе, или же полною сотворена Богом луна, она сотворена Им совершенною. Бог есть творец и зиждитель природ. А все, что только каждая природа, в силу естественного развития, в соответственное время из себя производит и выявляет, все это в скрытом виде она содержит в себе и раньше, конечно, не по фигуре и массе, а по идее природы. Разве назовем мы дерево, не имеющее яблоков и обнаженное от листьев зимою, несовершенным, или разве несовершенна была его природа в то свое раннее время, когда еще не приносила плодов? То же самое надобно сказать не только о дереве, но и о семени, которое в скрытом виде заключает в себе все, что с течением времени производит. Да если бы даже и сказать, что Бог сотворил нечто несовершенным и, потом, усовершенствовал, какого порицания заслуживает подобное мнение? Справедливого порицания заслуживало бы только такое мнение, если бы сказать, что начато Богом приведено в совершенство другим.
Зачем же люди забивают себе голову темными вопросами насчет луны, не допытываясь, однако, какою создал Бог землю, когда в начале сотворил небо и землю, хотя земля была невидима и не устроена и только в третий день получила свой вид и устройство? Или, если сказанное о земле они понимают за сказанное не в смысле преемственности времени, так как Бог материю сотворил одновременно с вещами, а в смысле преемственности повествования, то почему же здесь, хотя этот предмет мы можем видеть своими глазами, они опускают из виду, что луна имеет цельное и совершенно круглое тело даже и тогда, когда, или только–что начиная, или переставая светить для земли, она светится в вид рогов? Если же свет её возрастает, достигает ли полноты или умаляется, то изменяется не само светило, а то, что от него возжигается; с другой стороны, если луна светит всегда одною стороною своего сфероида, но, поворачивая эту сторону к земле, пока не обратит её всей (что происходить с первого по четырнадцатое число), по–видимому, возрастает, то она — полная всегда, но для обитателей земли не всегда кажется такою. То же самое происходит с нею, если она освещается и лучами солнца. Именно, когда луна находится в самом близком расстоянии от солнца, она является только в вид рогов, так как остальная её часть, освещаемая в вид полного круга, может быть видна для земли только тогда, когда луна стоит против солнца, т. е. так, чтобы для земли видно было все, что в ней освещается.
Есть, впрочем, и такие, которые говорят, что, по их мнению, луна сотворена четырнадцатидневною не потому, что должна быть названа полною при сотворении, но потому, что в божественном Писании мы читаем: луну (Бог) сотворил в начале нощи, а в начале ночи луна бывает видна тогда, когда бывает полною; в другое же время — до полнолуния она начинает быть видна даже и днем, а в течение ночи — тем продолжительнее, чем более умаляется. Но тот, кто под началом ночи разумеет начальствование (на такое значение скорее указывает и греческое слово archn, a в псалмах и еще яснее сказано: солнце во область дне, луну и звезды во область нощи, Пс. 135, 8. 9), не имеет надобности считать с четырнадцатого числа и думать, что луна сотворена не в начальной фазе.
ГЛАВА XVI
Допытываются, обыкновенно, и насчет того, одинаковым ли светом светят видимые нами небесные светила, т. е. солнце, луна и звёзды, или же в наших глазах являются более или менее с различной степенью света, потому что находятся в различных от земли расстояниях? Притом насчет луны эти совопросники не сомневаются, что она светит меньшим светом, чем солнце, которым, как они утверждают, она и освещается. О звёздах же отваживаются говорить так, что многие из них или равны солнцу, или даже больше него, хотя, находясь дальше солнца, они кажутся меньше него. — Что касается нас, то нам, может быть, можно ограничиться тем, что, как бы там ни было дело, светила созданы Художником–Богом, хотя, впрочем, мы должны держаться сказанного апостольским авторитетом: ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам: звезда бо от звезды разнствует во славе (1 Корин. XV, 41). Но так как, не прекословя Апостолу, нам могут сказать на это, что звезды, действительно, различаются между собою во славе, но только для глаз жителей земли, или что так как Апостол эти слова сказал для сравнения с воскресшими, которые, без сомнения, не будут для глаз иными и иными сами в себе, а звёзды хотя и различаются между собою во славе, но при этом некоторые из них еще и больше солнца: то пусть смотрят сами, каким образом приписывают они солнцу такое огромное преимущество, что своими лучами оно, по их словам, привлекает и отталкивает некоторые звёзды, и при том звёзды главные, которым они поклоняются предпочтительно пред остальными? Неправдоподобно, чтобы сила его лучей могла преодолевать звёзды большие и даже равные. Или если, как они утверждают, существуют звёзды выше знаков [зодиака] и больше септентрионов, — такие звёзды, которые не испытывают уже подобного влияния со стороны солнца, то почему же большее почитание они воздают звёздам, проходящим чрез эти знаки? Почему называют их госпожами знаков? И хотя каждый из них уверяет, что упомянутые отступления или, пожалуй, замедления звёзд зависят не от солнца, а от других более скрытых причин, однако из их книг с несомненностью видно, что в своих беснованиях, которым совратившиеся с пути истины приписывают силу судеб, они отводят солнцу преимущественное значение.
Но пусть говорят о небе, что хотят, отчуждившиеся от Отца, иже есть на небесех, — нам пускаться в утонченные исследования о расстояниях и величине звёзд и тратить на подобные изыскания время, необходимое на более важные и лучшие предметы, и бесполезно и непристойно. Лучше будем думать так, что есть светила большие остальных, о которых говорит свящ. Писание в словах: и сотвори Бог два светила великая, но которые, впрочем, не равны между собою, так как, поставив их выше остальных, Писание говорит затем, что они между собою различаются: светило большее, говорит оно, в начала дне, и светило меншее в начала нощи. Да и для собственных наших глаз очевидно, что они светят сильнее остальных светил, так что как день бывает светлым только от солнца, так и ночь, хотя бы украшена была звёздами, без луны не бывает такою светлою, какою бывает она, когда освещается луною.
ГЛАВА XVII
Что касается их всевозможных разглагольствий о влиянии звёзд и их мнимых опытов астрологической науки, которые у них называются apotelesmata, то мы всемерно должны охранять от них чистоту своей веры: подобными словопрениями они стараются устранить в нас побуждение молиться, и в худых, заслуживающих справедливейшего порицания, делах с нечестивою извращенностью располагают обвинять скорее Бога, творца звёзд, чем человека–преступника. Но пусть послушают они своих философов, что наши души, по своей природе, не только не подчинены небесным телам, а в том отношении, в каком они говорят о них, не могущественнее земных тел, или же пусть сами узнают, что хотя многоразличные тела животных ли или трав и растений зачинаются в одно и то же время и в одно и то же время в бесчисленном множестве рождаются не только в различных, но даже в одних и тех же местах, однако в своем развитии, действиях и страданиях представляют столько разнообразия, что у них по истине не хватило бы (как говорится) звёзд, если бы они обратили на это явление свое внимание.
А что может быть нелепее и бессмысленнее, если, убедившись этими примерами, они нам скажут, что роковое значение звёзд имеет отношение к судьбе одних только людей? Да в этом они и сами убедятся на примере близнецов, которые весьма часто [при рождении] получают одни и те же созвездия, однако живут различно, различно бывают счастливы или несчастны и различно умирают. Ибо хотя уже при самом появлении из утробы матери между ними существует некоторое различие, однако различие [по дальнейшей жизни] между иными из них бывает настолько велико, что не может быть выведено из астрологических вычислений. Рука младшего Иакова, при рождении, оказалась держащею за пяту старшего, так что они родились как бы один, надвое простершийся, младенец. Так называемые созвездия их не могли быть, конечно, различными. Что же может быть нелепее мысли, будто астролог (mathematicus), рассматривая эти созвездия, мог бы по одному и тому же гороскопу, по одной и той же луне сказать, что один из них будет любим, а другой не любим матерью? Ибо если бы он сказал что–нибудь иное, то сказал бы очевидно ложь, а если бы сказал именно это, то хотя сказал бы правду, но не согласно с нелепыми предсказаниями (cantiuncula) своих книг. Если же этой истории они не захотят поверить, в виду того, что она заимствуется из наших книг, то разве могут они вычеркнуть и самую природу вещей? А так как они говорят, что нисколько не ошибаются, если только находят час зачатия, то пусть, по крайней мере, как люди [ошибающиеся] не сочтут для себя делом недостойным обратить внимание на зачатие близнецов.
Надобно сознаться, что иногда они говорят и нечто истинное, но говорят по некоему сокровеннейшему внушению, которое испытывает несведущий ум человеческий. Так как это служит к уловлению людей, то оно бывает действием совратившихся духов, которым попускается знать кое–что истинное из области временных предметов отчасти потому, что они обладают более тонким чувством, или более тонкими телами, или более богатым, благодаря своей продолжительной жизни, опытом, отчасти потому, что святые ангелы, по поведению Божию, открывают им то, о чем узнают от всемогущего Бога, распределяющего человеческие заслуги по Своему нелицеприятному сокровеннейшему правосудию. Иногда эти презренные духи в виде своего рода пророчеств предсказывают и о том, что они намерены делать. Поэтому истинный христианин должен остерегаться как астрологов, так и всяких прорицателей, особенно тех, которые говорят правду, чтобы, уловив при содействии демонов его душу, они не запутали его в свое сообщество.
ГЛАВА XVIII
Спрашивают еще и о том, суть ли видимые нами небесные светила только тела, или же имеют каких–нибудь духов–правителей, и если имеют, то одушевляются ли ими жизненным образом, подобно тому, как животные одушевляются душами, или же одним только присутствием, без всякого соединения с ними. — В настоящем случае нам трудно понять это, но, при дальнейшем изъяснении Писаний, полагаю, нам могут встретиться места более удобные, при посредстве которых, согласно с правилами священного авторитета, можно будет если не высказать что–нибудь несомненное, то думать вероятное относительно этого предмета [13]. А пока, соблюдая всегдашнюю умеренность благоговейного тона, мы ничего не должны говорить необдуманно касательно этого темного предмета из опасения, чтобы, по своей любви к заблуждению, не оказать какого–нибудь пренебрежения к тому, что впоследствии откроет нам истина а что ни в каком случае не может быть противным как ветхозаветным, так и новозаветным священным книгам. Теперь же перейдем к третьей книге нашего труда.
КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА 1
И рече Бог: да изведут воды гады душ живых, и птицы, летающия по земли, по тверди небесней: и бысть тако. И сотвори Бог киты великия и всяку душу животных гадов, яже изведоша воды по родом их, и всяку птицу пернату по роду: и виде Бог, яко добра: И благослови я Бог, глаголя: раститеся, и множитеся, и наполните воды, яже в морях: и птицы да умножатся на земли. И бысть вечер и бысть утро. день пятый. — Теперь являются твари, движимые духом жизни, и в низшей области мира и, прежде всего, в водах, потому что вода — элемент ближайший к качеству воздуха, а воздух настолько сопределен с небом, на котором находятся светила, что и сам называется небом; не знаю только, можно ли назвать его и твердью. Между тем, один и тот же предмет, который мы называем небом в единственном числе, называется и во множественном — небесами. Ибо хотя в настоящей книг о небе, разделяющем верхние и нижние воды, говорится в единственном числе, однако в псалме сказано: и вода, яже превыше небес, да восхвалит имя Господне (Пс. 148, 4). А если под небесами небес правильно разуметь звездные и как бы верхние небеса небес воздушных и как бы нижних, то в том же самом псалме мы встречаем и такие небеса, в словах: хвалите Его небеса небес. Отсюда достаточно видно, что воздух называется не только небом, но и небесами; подобно тому, как мы говорим «земли», обозначая не что иное, как тот самый предмет, который называется землею в единственном числе, когда [земной шар] называем «шаром земель» и «шаром земли».
ГЛАВА II
Воздушные небеса, как читаем мы в одном из тех посланий, которые называются каноническими, некогда погибли от потопа (2 Петр. III, 6). Конечно, жидкая стихия, которая настолько тогда увеличилась, что поднялась на пятьдесят локтей выше самых высоких гор, не могла достигнуть звезд. Но так как она заполнила всё или почти всё пространство воздуха, в котором летают птицы, то в упомянутом послании и пишется, что тогдашние небеса погибли. Не знаю, как можно понимать это иначе, если не так, что качество более плотного воздуха превратилось в природу вод; в противном случае, небеса тогда не погибли, а только поднялись выше, когда вода заняла их место. Лучше, поэтому, согласно с авторитетом упомянутого послания, думать, что тогдашние небеса погибли и вместо них, с умалением испарений, поставлены, как там пишется, новые, чем так, что они поднялись выше и что им уступила свое место природа верхнего неба.
Итак, при создании обитателей низшей части мира, которая обозначается общим именем земли, необходимо было явиться животным сперва из воды, а потом из земли, потому что вода настолько подобна воздуху, что от её испарений, как доказано, воздух становится плотным, производит дух бурен, т. е. ветер, сгущает облака и может поддерживать полет птиц. Поэтому, хотя некто из светских поэтов [14] сказал и правильно, что Олимп выходит за облака и «на вершине его царствует тишина» (так как утверждают, что на вершине Олимпа воздух до такой степени тонкий, что его ни облака не омрачают, ни ветер не волнует, что он не может выдерживать птиц и поддерживать случайно поднимающихся туда людей движением того более плотного ветра, к которому они привыкли в обыкновенном воздухе), однако есть и там воздух, из которого изливается сродная с ним по своему качеству вода и потому, можно думать, во время потопа он превратился в эту жидкую стихию. Ибо никак не следует думать, чтобы было какое–нибудь пространство выше звёздного неба, когда воды поднимались выше самых высоких гор.
ГЛАВА III
Впрочем, превращение элементов служит открытым вопросом даже и между людьми, которые посвящали свой досуг весьма тщательному исследованию этого предмета. Именно — одни говорят, что всякий элемент может изменяться и превращаться во всякий другой; другие утверждают, что каждому элементу принадлежит нечто особенное, что никоим образом не превращается в качество другого элемента. — В своем месте, может быть, мы войдем, если Господь благоволит, в более обстоятельное рассмотрению этого предмета; теперь же, по ходу настоящей речи, достаточно, полагаю, коснуться его настолько, чтобы понятен был удержанный бытописателем порядок, по которому о творении животных водных надобно было сказать раньше, чем о животных земных.
Не следует думать ни в каком случае, что в настоящем Писании опущена какая–либо стихия мира, состоящего из четырех известнейших элементов, — не следует по той причине, что, по–видимому, небо, вода и земля здесь упомянуты, а о воздухе умолчано. Нашим Писаниям обычно или называть мир именем неба и земли, или прибавлять еще море. Поэтому воздух в них относится или к небу, если только в высших пространствах существуют слои спокойнейшие и совершенно тихие, или к земле, в виду того бурного и туманного слоя, который вследствие влажных испарений становится плотным, хотя и сам чаще называется небом; поэтому и не сказано: «да произведут воды душ живых, а воздух пернатых, летающих над землей», а говорится, что тот и другой род животных произведен из воды. Таким образом, все, что только в водах есть ползуче ли — волнующегося и текучего, или парообразно–разреженного и висящего [в воздухе], так что первое является распределенным между гадами душ живых, а последнее — между летающими, — то и другое отнесено [бытописателем] к влажной стихии.
ГЛАВА IV
Есть и такие, которые пять известнейших телесных чувств приурочивают к принятым четырем элементам с таким весьма тонким расчетом, что глаза, говорят, имеют отношение к огню, а уши к воздуху; обоняние и вкус приписывают влажной стихии, причем обоняние относят к влажным испарениям, которыми насыщается то пространство, где летают птицы, а вкус — к текучим и плотным жидкостям. Ибо все, что только мы ощущаем во рту, для того, чтобы получилось вкусовое ощущение, должно соединиться с влагою рта, хотя и казалось сухим, когда мы его принимали. Впрочем, огонь проникает всюду, обусловливая во всем движение. С потерею теплоты, и жидкость замерзает, и между тем, как остальные элементы могут делаться горячими, огонь не может охлаждаться: он скорее потухает совсем, чем становится холодным или менее горячим от соприкосновения с чем–либо холодным. Наконец, пятое чувство, осязание, соответствует всего более земной стихии; поэтому, чувство осязания в живом существе принадлежит всему телу, которое состоит главным образом из земли. Говорят даже, что нельзя ни видеть без огня, ни иметь осязания без земли; отсюда, все элементы взаимно присущи один другому, но каждый получил свое название от того, чего содержит в себе больше. Вот почему с потерею теплоты, когда тело охлаждается, притупляется и чувство, так как присущее телу вследствие теплоты движение становится медленным в то время, как огонь действует на воздух, воздух на влажную [стихию], а влага на все земное, т. е. элементы более тонкие проникают более грубые.
ГЛАВА V
А чем что–либо в телесной природе тоньше, тем оно ближе к духовной природе, хотя между тою и другою природами существует огромное расстояние, потому что первая — тело, а последняя не тело. Отсюда, так как способность ощущения принадлежит не телу, а чрез тело душе, то не смотря на остроумные соображения, приурочивающие телесные чувства к различным телесным элементам, сила ощущения возбуждается чрез более тонкое тело душою, которой и принадлежит сила ощущения, хотя сама душа бестелесна. Таким образом, движение душа начинает во всех чувствах с тонкого [элемента] огня, но не во всех в них достигает одного и того же. Так, в зрении, при сжатой теплоте, она достигает её света. В слухе от теплоты огня она спускается до прозрачнейшего воздуха. В обонянии она переступает слой чистого воздуха и достигает среди влажных испарений, из коих состоит настоящий, более грубый, воздух. Во вкусе она переходит и эту среду и достигает области более плотной влаги, а проникши и переступив и эту среду, когда достигает уже земной массы, возбуждает последнее чувство осязания.
ГЛАВА VI
Итак, природа и порядок элементов не были неизвестны тому, кто, повествуя о творении видимых [предметов], по своей природе обладающих внутри мира способностью движения в элементах, говорит сначала о небесных телах, затем, о водных и, наконец, о земных животных, — говорит так не потому, что воздух им опущен, а потому, что если только существует слой чистейшего и совершенно спокойного воздуха, где, как говорят, не могут летать птицы, то слой этот примыкает к высшему небу и под именем неба в Писании относится к высшей части Мира, подобно тому как именем земли обозначается вообще все то, из чего в нисходящей постепенности берут свое начало огонь, град, снег, туман, бурный ветер и все бездны [15], пока [эта постепенность] достигает суши, которая называется уже землею в собственном смысле. Таким образом, верхний воздух, с одной стороны, не опущен, раз названо небо, с другой, при творении животных, не упомянут или потому, что относится к небесной части мира, или потому, что не имеет обитателей, о коих теперь идет речь у бытописателя; нижний же воздух, который поглощает поднимающиеся с моря и земли испарения и становится плотным настолько, что выдерживает [тяжесть] птиц, получает живые существа не иначе, как из воды. Ибо тела птиц носит на себе имеющаяся в воздух влага, в которой птицы при летании держатся на крыльях так же, как рыбы держатся на своего рода крыльях при плавании.
ГЛАВА VII
Поэтому Дух Божий, Который был присущ писателю, как бы с намерением говорит, что летающие произведены из воды. Их природа занимает место в двух областях, именно — низшее в зыбучей волне, а высшее — в твердом слое ветров. Первое усвоено плавающим, а второе — летающим. Так мы и видим, что животным даны два соответствующих этому элементу чувства — обоняния для ощущения паров и вкус для ощущения жидкостей. И если воды и ветры мы ощущаем еще и при посредстве осязания, то это означает, что плотное [начало] земли входит в состав всех элементов, но в воде и ветрах его присутствие чувствуется ощутительнее, так что они могут быть доступны и нашему осязанию. Вот почему в двух частях мира вода и ветры по большей части подразумеваются под общим именем земли, как это показывает вышеприведенный псалом, перечисляя все высшее с одного начала: Хвалите Господа с небес, а все низшее с другого: хвалите Его от земли, причем упоминаются и дух бурен, и все бездны, и огонь, который жжет прикасающегося к нему, так как огонь в такой степени состоит из земных и влажных движений, что тотчас же разрешается в другой элемент. И хотя по свойству своей природы он стремится кверху, однако не может подняться до тишины и безветрия высшей небесной области, потому что превозмогаемый воздухом и в него разрешаясь, он потухает; в нашей же, более подверженной порче и более косной, области предметов он раздувается движениями ветра для смягчения стужи, а также для пользы и устрашения смертных.
А так как течение и волн и ветров может быть ощущаемо и посредством осязания, которое относится собственно к земле, то тела водных животных, в особенности же птицы, питаются земным, на земле отдыхают и плодятся, потому что та часть влаги, которая поднимается в виде паров, расстилается над землею. Поэтому, Писание, сказав: да изведут воды гады душ живых и птицы летающие по земли, прибавляет: по тверди небесней, из чего можно представлять себе несколько яснее то, что раньше казалось темным. Ибо Писание не говорит: «на тверди небесной», как говорит оно о светилах, но; летающие по земли, по тверди небесней, т. е. вблизи небесной тверди, так как та темная и влажная среда, где летают птицы, сопредельна с тою средою, в которой птицы летать не могут и которая по причине спокойствия и тишины относится уже к небу. Итак, птицы летают в небе, но в том небе, которое вышеприведенный псалом включает в понятие земли (почему птицы во многих местах и называются небесными), однако не в тверди, а по тверди.
ГЛАВА VIII
Некоторые полагают, что пресмыкающиеся названы не живою душою, а «гадами душ живых» за тупость своего чувства. — Но если бы они были так названы именно по этой причине, то птицам дано было бы имя живой души. Между тем, подобно пресмыкающимся, поименованы и летающие, так что выражение «душ живых» подразумевается в приложении а к ним; поэтому, думается мне, надобно признать, что слова гады душ живых употреблены в том же смысле, как если бы было сказано, что в числе живых душ есть и пресмыкающиеся и летающие, подобно тому, как можно сказать и о людях, что среди них есть незнатные, разумея под сим всякого, кто только между людьми незнатен. Ибо хотя и есть такие земные животные, которые пресмыкаются по земле, однако гораздо большее число земных животных движется при помощи ног, и пресмыкающихся по земле, может быть, так же мало, как мало ходящих в воде.
Некоторые же полагали, что не живою душою, а гадами душ живых названы собственно рыбы, потому что у них нет ни памяти, ни какой–либо жизни, так сказать, сродной разуму. Но таких ввела в заблуждение их малая опытность. Напротив, многие писатели сообщают нам, какие удивительные вещи наблюдали они в рыбных садках. Допустим, что они сделали ложное сообщение; тем не менее несомненно, что рыбы памятью обладают. Это я сам испытал, да может испытать и всякий, кто захочет. Один большой ключ из числа Булленских царских ключей полон рыб. Люди, смотря на них сверху, бросают обыкновенно им что–нибудь, а они или хватают подачку, подплывая к ней кучами, или рвут на части, вступая между собою в борьбу. Привыкши к этому корму, рыбы во время прогулки людей по берегу ключа, кучами плавают вслед за ними в надежде, не бросят ли им оттуда что–нибудь те, присутствие которых он чувствуют. Таким образом, как водные животные пресмыкающимися, так и птицы летающими названы, мне думается, не напрасно: если бы отсутствие ли памяти, или тупость чувства лишали рыб права на имя живой души, то этого права, без сомнения, нельзя было бы отнять у летающих, жизнь которых, как это мы видим, говорит нам и о памяти, и о пении, и о большом искусстве в устройстве гнезд и воспитании детенышей.
ГЛАВА IX
Небезызвестно мне и то, что некоторые философы каждому элементу приписывали своих животных, называя земными не только тех животных, которые пресмыкаются или ходят во земле, но и птиц, за то, что они, уставши летать, отдыхают на земле; затем, воздушными — демонов и, наконец, небесными — богов (небесными существами, впрочем, и мы называем отчасти светила, отчасти Ангелов). — Но те же самые философы, чтобы ни одного элемента не оставить без своих животных, водам приписывают рыб и своего рода зверей, как будто под водою нет земли, или как будто можно доказать, что рыбы отдыхают и запасаются силами для плавания, как птицы — для летания, не на земле (если только они не делают этого реже потому, что волна более, чем ветер, пригодна для ношения тел, так что по ней плавают даже земноводные животные, которые научаются тому или при посредстве практики, как люди, или при посредстве инстинкта, как четвероногие и змеи)! А если они так не думают собственно потому, что рыбы не имеют ног, то, стало быть, нет ни тюленей в воде, ни ужей и улиток на земле, так как первые имеют ноги, а последние, не имея ног, не скажу, отдыхают на земле, а почти или совсем никогда с неё не сходят. Драконы же, как утверждают, не имея ног, и отдыхают в пещерах и поднимаются на воздух; хотя нелегко знать о них, однако сочинения не только наших, но и языческих писателей отнюдь не обходят молчанием этого рода животных.
ГЛАВА X
Вот почему, если даже демоны и суть существа воздушные, так как живут и действуют в природе воздушных тел и не разрушаются смертью потому, что ниже их находятся два элемента, вода и земля, а выше один, именно — звёздный огонь, вследствие чего преобладающим элементом в них является элемент способный более к действию, чем к страданию, так как два первые элемента, земля и вода, приписываются страданию, а другие два, огонь и воздух, действию: однако, если это и так, подобное различие [элементов] нисколько не опасно для нашего Писания, которое производит летающих не из воздуха, а из воды, — не опасно потому, что средою для них оно назначает влагу, правда, тонкую, испаряющуюся в воздух и в нем расширяющуюся, но все же влагу. Воздух наполняет собою пространство от светозарного неба до пределов жидкой воды и сухой земли. Между тем, влажные испарения застилают не все это пространство, а доходят до того только предела, откуда воздух начинает называться землею, согласно с словами вышеприведенного псалма: хвалите Господа от земли (148, 7). Верхний же слой воздуха, по причине совершенного безветрия, соединяется, по царствующей здесь тишине, с небом, с которым он сопределен и именем которого называется. Если, раньше своего грехопадения, падшие ангелы находились с своим князем, теперь дьяволом, а тогда архангелом, в этой области (некоторые из наших полагают, что они не были небесными или пренебесными ангелами), то нет ничего удивительного, что, после своего падения, они низринуты в ту туманную среду, где воздух насыщен парами, которые, по повелению и действию Бога, всем сотворенным от высшего до низшего управляющего, производят ветры, когда приходят в движение, — молнию (ignes) и гром, когда приводятся в сильнейшее движение, — облака, когда сгущаются, — дождь, когда плотнее сгущаются, — снег, когда облака замерзают, — град, когда при ветре замерзают более плотные облака и, наконец, ясную погоду, когда пары разрежены. Отсюда, вышеприведенный псалом, перечислив огонь, град, снег, туман, бурный ветер, дальше, дабы не подумал кто, что все эти явления происходят помимо божественного примышления, прибавляет: творящая слово Его.
Если же падшие ангелы, прежде своего падения, облечены были небесными телами, то и с этой стороны нет ничего удивительного, если тела их в наказание получили воздушное свойство, чтобы могли претерпевать некоторое страдание от огня, т. е. элемента высшей природы; по крайней мере, им дозволено занимать не верхний слой воздуха, а слой туманный, который служит для них как бы некоторою своего рода темницей, до самого времени суда. И если что–нибудь относительно падших ангелов подлежит еще более тщательному исследованию, то это будет уже другое, более сообразное с Писанием, для них место. Поэтому (чего пока достаточно), если эта туманная и бурная область, благодаря природе воздуха, простирающейся до самых волн и сухой земли, может выдерживать воздушные тела, то может она выдерживать и произведенные из воды тела птиц, благодаря тонким испарениям, которые поднимаются в тот же, разлитый над волнами и землей и, потому, относимый к низшей земной области, воздух и наполняют его парами; эти последние, становясь от ночных холодов тяжелее, осаждаются в виде светлой росы. а если холод сильнее, в виде белого инея (gelu).
ГЛАВА XI
И рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, четвероногая, и гады, и звери земли по роду, и скоты по роду, и бысть тако. И сотвори Бог звери земли по роду, и вся гады земли по роду: и виде Бог, яко добра. — Теперь уже благовременно было украсить своими животными и другую половину той низшей области, которая вся со всеми пропастями и туманным воздухом, обозначается иногда в Писании общим именем земли, — ту именно половину, которая называется землею в собственном смысле. Роды животных, которых по слову Божию произвела земля, известны. Но так как под именем скотов или зверей часто разумеются все вообще животные, лишенные разума, то справедливо спросить, о каких именно зверях [бытописатель] говорит теперь и о каких скотах. И в самом деле, под пресмыкающимися или гадами земли он несомненно разумеет и всех змей; между тем, хотя змеи и могут быть названы зверями, по имя скотов по отношению к ним неупотребительно. Название зверей употребительно по отношению к львам, барсам, тиграм, волкам, лисицам, даже собакам, обезьянам и другим того же рода животным. Имя же скотов, обыкновенно, прилагается к тем животным, которые находятся в употреблении человека идя для работа, как напр. волы, лошади и т. под., или для шерсти, либо для пищи, как напр. овцы и свиньи.
А что такое четвероногие? Хотя, за исключением некоторых змей, все животные ходят на четырех ногах, однако, если бы [бытописатель] под этим именем не хотел разуметь некоторых [животных] в собственном смысле, то, конечно, не поименовал бы при этом и четвероногих (хотя, впрочем, в повторении о четвероногих он умалчивает). Разве не названы ли четвероногими в собственном смысле олени, лани, дикие ослы и кабаны (так как они не принадлежат к тем животным, к числу коих относятся львы, а подобны указанным выше скотам, но только находятся вне попечения человека); тогда как остальным животным хотя это общее название, ради числа ног, вместе с другими и приписывается, но приписывается в [некотором] особенном значении? Или, может быть, употребив три раза выражение по роду, бытописатель тем самым обращает наше внимание на три известные рода животных. Прежде всего, выражение по роду [прилагается у него] к четвероногим и гадам, чем, думается мне, сделано указание, какого рода четвероногие здесь названы, именно — четвероногие, принадлежащие к классу гадов, как напр. ящерицы, гардуны и т. под. Оттого в повторении имя четвероногих здесь и опущено, что оно, может быть, подразумевается уже под названием гадов; поэтому, бытописатель говорит здесь не просто: гады, но с прибавлением: вся гады земли, — «земли», потому что есть гады и водные, а «вся» — с тою целью, чтобы здесь разумелись и те гады, которые ползают на четырех ногах и которые выше обозначены собственно именем четвероногих. Что касается, затем, зверей, о которых во второй раз сказано: по роду, то в этом случае разумеются все те животные, которые, за исключением змей, обнаруживают свою свирепость зубами (ore), иди когтями. Наконец, что касается скотов, о коих в третий раз сказано: по роду, то [под ними разумеются животные], которые наносят поражение ни тою, ни другою силою, а или рогами, или чем–либо другим. — Выше я сказал, что имя четвероногих, взятое в широком смысле. само собою указывается уже числом ног, и что под именем скотов или зверей иногда разумеется всякое неразумное животное. Но на латинском языке такое же значение имеет и слово fera: нелишне было, поэтому, сделать разъяснение, каким образом эти, в настоящем месте Писаний не даром поставленные, названия могут, как это легко можно видеть и из обыденной речи, разграничиваться между собою по своему особенному значению.
ГЛАВА XII
Не напрасно занимает читателя вопрос и о том, мимоходом ли и как бы случайно поставлено выражение по роду, или же с известною целью, как бы так, что [вещи, к коим это выражение прилагается] существовали раньше, хотя в повествовании они представляются только что сотворенными, или же под родом их надобно разуметь те высшие, и, конечно, духовные, идеи (rationes), сообразно с которыми они лотом сотворены? Но если бы было так, то то же сказано было бы и о свете, небе и земле и, наконец, светилах. Ибо чтО между ними есть такого, вечная и неизменная идея чего не обитала бы в самой Премудрости Божией, которая досязает от конца даже до конца крепко и управляет вся благо (Прем. VIII, I)? Между тем, выражение по роду прилагается начиная с трав и дерев и оканчивая земными животными. Даже о тех животных, которые сотворены из воды, хотя в первом перечислении их выражение это не употребляется, в повторении сказано: и сотвори Бог киты великия и всяку душу животных гадов, яже изведоша воды по родам их, и всяку птицу пернату по роду.
А может быть, не потому ли о животных сказано по роду, что они явились для того, дабы от них рождались и преемственно удерживали первоначальную форму другие, т. е. — для размножения потомства, для сохранения которого они и созданы? Но почему же о травах и деревьях сказано не только по роду, но и по подобию, хотя и животные как земные, так и водные рождаются по своему подобию? Разве, быть может, [бытописатель] не захотел повторять о подобии потому, что оно уже связано с родом? Ведь не везде он повторяет и о семени, хотя семя присуще как травам и деревьям, так и животным, впрочем, не всем. Ибо наблюдением дознано, что некоторые из них рождаются из воды и земли так, что у них нет пола, а потому семя их заключается не в них самих, а в тех стихиях, из коих они происходят. Отсюда, по роду будет то, в чем мыслятся и сила семян и подобие преемников предшественникам, так как ничто не сотворено таким образом, чтобы существовало за один раз или как имеющее продолжаться, или как имеющее исчезнуть, не оставив после себя потомства.
Почему же не сказано и о человеке: «сотворим человека по образу нашему и по подобию, по роду», хотя размножение и человека — факт очевидный? Разве — не потому ли, что Бог создал человека так, чтобы он, если б захотел соблюсти заповедь, не умирал, вследствие чего и не было надобности в преемнике предшественнику; но после греха он приложился скотам неосмысленным и уподобился им, так что сыны века сего уже и рождаются и рождают, вследствие чего род человеческий и может существовать, сохраняясь путем преемства? Но что же, в таком случае, означает данное по сотворении человека благословение: раститеся и множитеся и наполните землю, — чтО может быть достигаемо, конечно, только путем рождения? Но может быть, в настоящем случае не следует говорить ничего необдуманно, пока мы не дойдем до того места Писаний, где эти вопросы должны быть наследованы и рассмотрены с большею подробностью? Теперь же, быть может, достаточно заметить только, что о человеке не сказано по роду потому, что он создан был сначала один, и уже от него сотворена потом жена. Ибо родов людей не много, как [родов] трав, деревьев, рыб, птиц, змей, скотов, зверей, чтобы [в приложении к человеку] выражение по роду разуметь так, как бы оно сказано о целых классах, для различения [существ] сходных между собою и принадлежащих к одному началу семени от остальных.
ГЛАВА XIII
Спрашивается также, почему только одни животные водные заслужили, подобно человеку, благословение. Ибо благословил Бог и их, говоря: раститеся и множитеся и наполните воды, яже в морях, и птицы да умножатся на земли. Разве [благословение его] достаточно было изречь об одном лишь классе тварей, чтобы оно, потом, разумелось уже и об остальных, которые размножаются путем рождений? Поэтому в первый раз оно и изрекается о том, что, как такое, сотворено раньше всего, т. е. о травах и деревьях. Или, может быть, то, что не заключает в себе никакого стремления (affectus) в размножению потомства и рождает без всякого ощущения (sensus), Бог почел недостойным слов благословения: раститеся и множитеся; где же такое стремление заключается, о том они сказаны были впервые, чтобы, не будучи и сказаны, разумелись и относительно земных животных? Но относительно человека необходимо было повторить их, дабы не сказал кто–нибудь, что в обязанности деторождения заключается какой–либо грех, как заключается он в похоти блудодеяния или злоупотребления самым брачным союзом.
ГЛАВА XIV
Возникает вопрос и относительно некоторых самомалейших животных, созданы ли они при первоначальном творении, или при последовавшем затем повреждении смертных вещей? Ибо весьма многие из них являются или от повреждения живых тел, или от нечистоты, испарений и разрушения трупов, иные — от гниения деревьев, а другие — от порчи плодов; о всех о них нельзя сказать, чтобы творцом их не был Бог. Всем им присуща некоторая своего рода естественная красота, чтобы возбуждалось больше удивления в созерцающем их [человеке] и воздавалось больше славы их всемогущему, вся премудростью сотворившему, Художнику. А эта премудрость Его, досязая от конца, даже до конца крепко и управляя вся благо, не оставляет бесформенными даже и самые последние из вещей, которые разрушаются сообразно с порядком своего рода и разрушение которых ужасает нас по вине нашей смертности, но творит животных с крохотным телом и острым чувством, дабы мы с большим изумлением смотрели на быстроту летающей мухи, чем на величину ходящего вьючного животного, и удивлялись больше работе муравья, чем тяжелой ноше верблюда.
Но вопрос в том, при первоначальном ли, как я сказал, создании вещей, о постепенном творении коих в течение шести дней повествует бытописатель, получили начало эти крохотные твари, или же при последовавшем разрушении подверженных повреждению тел? — Можно сказать, что самомалейшие [твари], возникающие из воды и земли, сотворены вначале; в числе их не будет несообразностью подразумевать и существа, рождающиеся уже от тех, которые произошли, когда земля начала пускать ростки, с одной стороны потому, что они предшествовали созданию не только животных, но и светил, а с другой потому, что принадлежат скорее к дополнению обитаемой среды, чем в числу самих обитателей. Но сказать, что тогда же сотворены и остальные, которые рождаются из тел животных и преимущественно тел мертвых, крайне нелепо, разве при этом будем иметь в виду, что всем одушевленным телам была уже присуща некоторая естественная сила и как бы наперед вложенные в них и, так сказать, основные начала, которые имели возникнуть от повреждения упомянутых тел, соответственно роду и различиям каждого, по непреложной воле Творца, дающего всему движение Своим неизреченным управлением.
ГЛАВА XV
Спрашивают, обыкновенно, и относительно некоторых ядовитых и зловредных животных, сотворены ли они после грехопадения человека для его карания, или же скорее сотворены безвредными и только впоследствии начали причинять вред грешникам. — Если бы даже дело было и так, ничего нет удивительного, с одной стороны потому, что в настоящей многотрудной и бедственной жизни никто еще настолько не праведен, чтобы осмелился назвать себя совершенным, по справедливому свидетельству и слову Апостола: не зане уже достигох, или уже совершился (Филип. III, 12), а с другой и потому, что для упражнения нашей немощности и усовершенствования добродетели потребны испытания и телесные бедствия, по свидетельству того же Апостола, который говорит, что ему, дабы не превозносился он величием откровений, дан пакостник плоти, ангел сатанин, да пакости деет, а когда он трижды просил Господа, чтобы [этот пакостник] отступил от него, Господь ответил ему: довлеет ти благодать моя: сила бо моя в немощи совершается (2 Кор. XII, 9). Впрочем, святый Даниил, который в своей молитве к Богу, конечно, не обманно исповедует не только грехи народа, но и свои собственные, остался и среди львов жив и невредим (Дан. VI, 22); точно также смертоносная ехидна, повиснув на руке Апостола, не причинила ему никакого вреда (Деян. XXVIII, 5). Таким образом, будучи даже и сотворены, они не могли причинять никакого вреда, если бы для этого не существовало причины, в целях или устрашения и наказания пороков, или испытания и укрепления добродетели, потому что и примеры терпения необходимы для совершенствования других, и сам человек в испытаниях познает себя вернее, да, наконец, и вечное блаженство (salus), которое постыдно утрачено чрез удовольствие, прочно достигается только путем скорби.
ГЛАВА XVI
Почему же, возразят, причиняют вред друг другу звери, которые и грехов не имеют, чтобы терпеть за них кару, и добродетели не достигают путем подобного испытания? — Без сомнения потому, что одни из них служат пищей для других. И мы не можем сказать, чтобы одни из них не питались другими. Ибо все, пока существует, имеет свою величину, свои части и свои разряды; взятое в своей совокупности, оно вызывает в нас чувство справедливой похвалы и даже при переходе из одного в другое не изменяется без сокрытого для нас, соответственно своему роду, соразмерения (moderatio) телесной красоты. Для глупых это непонятно, но для людей, стремящихся к совершенству, оно до некоторой степени доступно, а для совершенных ясно. И нет сомнения, что всеми подобными движениями в низшей твари человеку делаются спасительные уроки, дабы он видел. как много он должен делать для духовного и вечного спасения (salus), которое превосходит всех неразумных животных, замечая, что они, от величайших слонов до самых маленьких червяков, обороняясь или остерегаясь делают все, что только могут, для своего телесного и временного благополучия, данного им в удел, сообразно с их низшим назначением; что мы и видим, когда одни из них ищут восстановления своего тела телами других, а другие защищают себя или силами сопротивления, или при помощи бегства, или укрываясь в безопасное место. Да и самая телесная боль в том или другом животном является могущественною и удивительною душевною силою, которая непостижимыми нитями связывает их в живой союз и приводит в некоторое своего рода единство, не безучастно, а, как выразился бы я, с негодованием допуская его расстроить или уничтожить.
ГЛАВА XVII
А может быть, кого–нибудь интересует и такой вопрос: если нападения вредных животных на живых людей служат для последних или наказанием, или спасительным упражнением, или полезным испытанием, или же бессознательным научением, то почему эти животные пожирают тела и умерших людей? — Как будто для нашей пользы не все равно, какими путями наша уже бездушная, плоть отходит в глубокие тайники природы, откуда в восстановленном виде она извлечена будет дивным всемогуществом Творца! Впрочем, благоразумные люди пусть и отсюда почерпают для себя урок — полагаться на непреложную волю Творца, по таинственному мановению всем, великим и малым, управляющего, пред Которым и наши власи главнии изочтены (Лук. XII, 7), — полагаться в такой степени, чтобы не страшиться такого или иного рода смерти, а с благочестивым мужеством без колебания быть готовыми ко всевозможным её родам.
ГЛАВА XVIII
Даже о терниях и волчцах и о некоторых бесплодных деревьях поднимают, обыкновенно, подобный же вопрос, для чего или когда сотворены они, так как Бог сказал: да прорастит земля былие травное, сеющее семя, и древо плодовитое, творящее плод. — Но те, которые задаются подобными вопросами, не знакомы с употребительными терминами человеческого права, по крайней мере с тем, что такое ususfructus. Этою формулою обозначается известного рода польза от того, что приносит прибыль своими плодами. А какая явная или скрытая польза бывает от всего того, что с корнями питает собою производительная земля, об этом кое–что они пусть узнают сами путем наблюдения, а об остальном пусть расспросят людей сведущих.
Относительно же терний и волчцов возможен более простой ответ, потому что слова: терния и волчцы возрастит тебе изречены человеку о земле после грехопадения. Однако, трудно сказать, чтобы они тогда только и начали появляться из земли. Так как в самых уже семенах их заключается многоразличная польза, то возможно, что они могли существовать и независимо от наказания человека. Но что они начали произрастать именно на полях, труд возделывания которых поставлен человеку в наказание, это, можно думать, имело значение, как увеличение этого наказания, так как в. других местах они могли произрастать или для питания птиц и скотов, или для каких–нибудь нужд самого же человека. Впрочем, не неуместно и такое понимание слов: терния и волчцы возрастит тебе, что земля и раньше рождала волчцы и тернии, но не для труда человека, а для соответственной пищи таким или иным животным, так как есть животные, которые с удобством и не без удовольствия питаются этого рода растениями; для человека же, в тягостный труд ему, она начала рождать их с того времени, как после греха он стал обрабатывать землю. И притом, раньше они рождались не на других местах, а после на полях, которые человек должен стал обрабатывать для собирания с них плодов, но как прежде, так и после — ни одних и тех же местах, только прежде рождались они не для человека, а после уже для человека, что и обозначается прибавлением слова тебе, так как сказано не: терния и волчцы возрастит, но: возрастить тебе, т. е. — для тебя, для твоего труда [отселе] начнет рождаться то, что прежде рождалось только для питания животных.
ГЛАВА XIX
И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию: и да обладает рыбами морскими и птицами небесными и всеми скотами, и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли. И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори: мужа и жену сотвори их. И благослови их Бог глаголя: раститеся и множитеся и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими и птицами небесными и всеми скотами и всею землею и всеми гадами пресмыкающимися по земли. И рече Бог: се дах вам всякую траву семенную сеющую семя, еже есть верху земли всея, и всякое древо, еже имать в себе плод семене семеннаго, вам будет в снедь: и всем зверем земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду пресмыкающемуся по земли, иже имать в себе душу живота, и всяку траву зеленую в снедь: и бысть тако. И виде Бог вся елика сотвори: и се добра зело. И бысть вечер и бысть утро, день шестый. — Ниже мы будем иметь не один случай подвергнуть рассмотрению и исследованию вопрос о природе человека с большею подробностью. Теперь же, в заключение своего обозрения шестидневного творения, сделаем общее замечание, что не следует смотреть, как на дело безразличное, на то, что о других делах [творения] говорится: рече Бог: да будет, а теперь: рече Бог: сотворим человека, по образу нашему и по подобию. Этими словами внушается нам мысль, как выразился бы я, о множественности лиц, ради Отца, Сына и Святаго Духа. Но вслед затем [бытописатель] внушает нам мысль и о единстве Божества, говоря: и сотвори Бог человека по образу Божию. Слова эти имеют не тот смысл, будто бы Отец [сотворил человека] по образу Сына, или Сын — по образу Отца (в таком случае изречение по образу нашему было бы не верно, если бы человек сотворен был по образу одного только Отца, или одного Сына), а будто бы, вместо слов: сотвори Бог по образу Божию, сказано было: по образу своему. А раз теперь говорится: по образу Божию, между тем как выше было сказано: по образу нашему, этим означается, что упомянутая множественность лиц должна быть представляема не так, чтобы мы или называли, или верою содержали, или разумели многих богов, а так, чтобы Отца, Сына и Святаго Духа, ради каковой Троицы сказано: по образу нашему, мы принимали за одного Бога, для чего и сказано: по образу Божию.
ГЛАВА XX
Не следует обходить здесь вниманием и того, что, сказав: по образу нашему, [бытописатель] вслед затем прибавляет: и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и остальными, лишенными разума, животными, давая тем понять, что образ Божий, по которому человек сотворен, заключается в том, чем человек превосходит неразумных животных. А это называется разумом, или умом, или пониманием, или другим каким–либо более подходящим именем. Отсюда, Апостол говорит: обновлятися духом ума вашего (Еф. IV, 23) и: облещися в нового человека, обновляемого в разум, по образу создавшаго его (Кол. III, 10), достаточно показывая своими словами, в каком отношении человек сотворен по образу Божию, так как [образ Божий он полагает] не в телесных чертах, а в некоторой, доступной нашим чувствам, форм просвещенного ума.
Вот почему, как о первоначальном свете, если только правильно разуметь под ним сотворенный разумный свет, причастный вечной и непреложной Премудрости Божией, не сказано: и бысть тако, а также не сделано, потом, повторения: и сотвори Бог, потому что (как об этом, сколько могли, мы уже сказали) в первом творении еще не имело места какое–либо познание Слова Бога, чтобы, после этого познания, постепенно творилось то, что создавалось в этом Слове, но сам тот свете сотворен был первым, в чем должно было явиться познание Слова Бога, которым совершалось творение, а познание это было обращением света от своей безОбразности к образующему Богу, т. е. и творением и образованием; между тем, об остальных тварях говорится: и бысть тако, чем указывается на познание Слова, отражавшееся в свете, т. е. в разумной, первоначально созданной, твари, а когда, затем, говорится: и сотвори Бог, обозначается происхождение самого уже того рода твари, который нарекался к бытию в Слове Бога: так видим мы то же самое и при сотворении человека. Бог сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию и проч.. Но затем не говорится: и бысть тако, а прибавляется: и сотвори Бог человека по образу Божию, потому что человек, по самой природе своей, разумен, как и тот свет, а потому быть сотворенным для него значило то же, что познавать Слово Бога, которым он создан.
И в самом деле, если бы сказано было: и бысть тако, а после того прибавлено: и сотвори Бог, в таком случае можно бы было подумать, что человек сначала сотворен в познании разумной твари, а потом [явился] какою–то неразумною тварью; но так как он сам — разумная тварь, то и образован (perfecta) в разумном познании. Ибо, как после греха человек обновляется в познании Бога по образу создавшего его, так в познании он и сотворен был, прежде чем начал вследствие греха ветшать, почему и должен стал в своем познании обновляться. Что же касается всего того, что не творилось в познании, будучи творимо или как тела, или как неразумный души, то сначала творилось о нем познание в разумной твари Словом, которым оно нарекалось к бытию, в виду какого познания и говорится: и бысть тако, дабы слова эти служили указанием на познание, творимое в той природе, которая могла иметь об этом познание в Слове Бога, а потом являлись уже и самые телесные и неразумные твари, в виду чего, наконец, прибавляется: и сотвори Бог.
ГЛАВА XXI
А каким образом человек сотворен бессмертным и в то же время, наравне с другими животными, в питание получил былие травное, сеющее семя, и древо плодовитое и всякую зеленую траву, — объяснить это нелегко. В самом деле, если смертным человек сделался после греха, то раньше греха в подобной пище, конечно, он не нуждался. Да и самое тогдашнее тело его могло не подвергаться повреждению от голода. Ибо хотя сказанного: раститеся и множитеся и наполните землю, по–видимому, и нельзя выполнить иначе, как путем соития мужчины и женщины, в чем лежит уже признак смертных тел; однако, можно сказать, что в бессмертных телах мог быть другой способ, чтобы дети рождались от одного действия благочестивой любви, помимо всякой поврежденной похоти, не преемствуя умирающим родителям, и сами не умирая; и этот способ деторождения мог продолжаться дотоле, пока земля наполнилась бы бессмертными телами, а отсюда праведным и святым народом, какого мы верою чаем после воскресения мертвых. Но хотя сказать это и можно (а как сказать, это уже другое дело); однако, никто не осмелился прибавить к тому, что нужда в пище, какою бы они себя восстановляли, возможна только для смертных тел.
ГЛАВА XXII
А некоторые высказывают и такое предположение, что теперь сотворен внутренний человек, тело же человека создано позднее, когда Писание говорит: и созда Бог человека, персть взем от земли; так что слово сотвори имеет отношение к духу, а слово созда — к телу. Но при этом они не принимают во внимание, что человек мог явиться только по телу мужчиной и женщиной. Ибо хотя и высказывается весьма утонченное соображение, что самый уже ум, в рассуждении которого человек сотворен по образу Божию, т. е. некая разумная жизнь, приурочивается, с одной стороны, к истине вечного созерцания, а с другой — к управлению временными предметами и, таким образом, человек является как бы мужчиной и женщиной, потому что в первом отношении ум является силою совещательною (consulente), a в последнем — исполнительною (о'temperante): однако, и при этом разграничении, образом Божиим называется, строго говоря, та только сторона ума, которая имеет отношение к созерцанию непреложной истины. С точки зрения этого образа Апостол Павел называет образом и славою Божиею одного только мужа: жена же, говорит он, есть слава мужа (I Кор. XI, 7). Итак, хотя внешним образом, по телу, двумя лицами (hominibus) разного пола изображается то, что внутренне разумеется об одном уме человека, однако, и женщина, будучи женщиной по телу, обновляется также в духе ума своего в познание Бога, по образу создавшего ее; в чем нет ни мужеского, ни женского пола. А как от благодати обновления и восстановления образа Божия не устраняются и женщины, хотя их полом изображается нечто иное, почему образом и славою Божией называется один только мужчина; так точно и при сотворении человека, в виду того, что и женщина сотворена человеком же, она. конечно, имела тот же самый разумный ум, со стороны которого сотворена и она по образу Божию. Но в виду единства союза Бог, говорит [бытописатель], сотвори человека по образу Божию. А чтобы кто–нибудь не подумал, что сотворен один только дух человека, хотя [человек] создан по образу Божию только по духу, [бытописатель] говорит дальше: мужа, и жену сотвори их, давая понять, что при этом сотворено и тело А чтобы, с другой стороны, кто–нибудь не подумал, что в единично сотворенном человеке заключались оба пола, подобно тому, как рождаются гермафродиты (androgynos), [бытописатель] показывает, что единственное число он поставил ради единства союза; а так как жена произошла от мужа (как передает об этом бытописатель ниже, когда подробнее рассказывает о том, о чем говорит теперь вкратце), то дальше ставит множественное число, говоря: сотвори их и благослови их. — Но, как уже сказал я, этот предмет подробнее мы исследуем при дальнейшем повествовании Писания о сотворении человека.
ГЛАВА XXIII
Теперь надобно нам обратить внимание на то, что, сказав: и бысть тако, [бытописатель] вслед за тем прибавляет: и виде Бог вся, елика сотвори, и се добра зело. В этом случае разумеются власть и данная человеческой природе способность брать для пищи полевую траву и древесные плоды. Слова: и бысть тако он ставит в связь с тем, речь о чем начата им с того пункта, откуда он говорит: и рече Бог: се дах вам всякую траву семенную, и проч. Ибо если слова: и бысть тако мы отнесем ко всему сказанному выше, в таком случае должны будем признать, что [люди] возросли и, умножившись, наполнили землю в самый же шестой день; между тем по свидетельству Писания это совершилось по истечении многих лет. Вот почему слова: и бысть тако говорятся тогда, когда дана была человеку способность к ядению и человек, по слову Божию, узнал об этом, и говорятся, очевидно, о том, о чем узнал человек от Бога. Ибо если бы он тогда же начал и есть, т. е. стал принимать в пищу то, что ему давалось для питания, Писание сохранило бы [и в этом случае] обычный свой способ слововыражения, т. е. употребив слова: и бысть тако, имеющие значение предуведомления, присоединило бы, затем, и самое действие, сказав: «и они взяли и ели». А так могло быть сказано, при чем имя Бога могло быть и не поставлено. Подобным образом после слов: да соберется вода, яже под небесем, в собрание едино и да явится суша, прибавляется: и бысть тако, а затем не говорится: и сотвори Бог…, а только повторяется: и собрася вода в собрания своя, и проч.
ГЛАВА XXIV
Исследования заслуживает и то, что о творении человека [бытописатель] не говорит особо, как об остальном: и виде Бог, яко добра, а сказав о его сотворении и даровании ему власти или господствовать или вкушать в пищу, он прибавляет обо всем вообще: виде Бог вся, елика сотвори, и се добра зело. В самом деле, можно ведь было сначала сказать отдельно и о человек то же, что порознь говорилось обо всем, созданном раньше, а потом уже сказать обо всем, что сотворил Бог, в связи с сотворенным в шестой день: се добра зело. Почему же о скотах, зверях и гадах земных сказано то, что принадлежит шестому дню? Неужели — потому, что все это заслуживало названия добрым и каждое порознь, в своем роде, и вместе с остальным, а человек, сотворенный по образу Божию, заслужил это название только вместе с остальным? Или, может быть, — потому, что он еще был несовершенен, так как еще не был помещен в раю. как если бы пропущенное здесь сказано было после. когда он был помещен в раю?
Что же сказать нам? Разве не потому ли Бог захотел назвать человека не особо, а вместе с остальными [тварями], добрым, что предвидел, что человек согрешит и не устоит в совершенстве образа Божия, т. е. как бы внушая, чем он будет? Ибо когда сотворенное остается таким, каким оно сотворено, как напр. то, что или не подвергалось греху или не может грешить, оно в отдельности хорошо, а в общем весьма хорошо. Ведь не напрасно же прибавлено: зело. И члены тела, хотя они в отдельности хороши, однако в целом составе гораздо лучше. Если бы напр. красивый глаз мы увидали отделенным от тела, то, конечно, не нашли бы его уже таким красивым, каким находили его в составе членов, когда он занимал свое место в телесном организме. Впрочем, и то, что вследствие греха теряет свою красоту, ни в каком случае не доходит до того, чтобы даже и при помощи промысла не быть добрым в связи в целом и в общем составе. Человек до греха был, без сомнения, добрым, но Писание об этом умалчивает, а говорит напротив о том, что будет, нечто предуказует. И так сказано о нем верно. Ибо раз он хорош в отдельности, то, конечно, еще более хорош и в общем (cum omnibus). А раз не хорош в общем, надобно, чтобы хорош был и в отдельности. Таким образом, сохраняется равномерность — говорится то, что уже в настоящем верно, и служит предуказанием будущего. Бог есть преблагой создатель всех природ и правосуднейший промыслитель грешников; так что хотя что–нибудь в отдельности, вследствие греха, и становится безобразным, однако вселенная прекрасна и с ним. Но о дальнейшем поведем речь уже в следующей книге.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА I
И совершишася небо и земля, и все украшение их. И соверши Бог в день шестый дела своя, яже сотвори: и почи в день седьмый от всех дел своих, яже сотвори. И благослови Бог день седьмый, и освяти его: яко в той почи от всех дел своих, яже начат Бог творити. — Надобно много усиленного напряжения, чтобы постигнуть с ясностью значение, какое писатель придавал шести этим дням — прошли ли они и, с прибавлением к ним седьмого, повторяются в круговращении времен не самым делом, а только по имени, ибо во времени, взятом в своей совокупности, бывает много дней, похожих на минувшие, но один и тот же никогда не повторяется, — итак трудно дознать, прошли ли те дни, или же, между тем как в порядке времен наши дни, к которым мы прилагаем название и число тех дней, ежедневно минуют, те дни продолжаютъ оставаться [доселе] в самых основах (conditionibus) вещей; так что не только в первых трех днях, до появления светил, но и в остальных трех под именем дня разумеются виды (species) творимой вещи, а под ночью — отсутствие вида или недостаток его, или буде другим каким–либо словом можно лучше обозначить [момент], когда что–нибудь, при переходе от формы к бесформенности, лишается вида (а такой переход или присущ в возможности всей твари, хотя в действительности его [иногда] и не бывает, как, напр. в высших небесных тварях, или же, в целях восполнения временной красоты в низших предметах, совершается чрез чередующиеся смены всего преходящего путем исчезания старого и замены его новым, как это мы видим в области земных и смертных предметов); затем, вечер — это как бы окончание совершившегося творения, а утро — начало вновь начинающегося, ибо всякая сотворенная природа имеет свое определенное начало и свой конец. Но первое ли, или второе, или какое–нибудь третье более вероятное (которое может быть представится нам при дальнейшем исследовании) мы примем объяснение того, как в тех днях понимать ночь, вечер и утро, — это не мешает нам войти в рассмотрение совершенства шестеричного числа с точки зрения самой внутренней природы чисел, умственно созерцая которую мы исчисляем и выражаем в числах все, что подлежит нашим телесным чувствам.
ГЛАВА II
Итак, в шестеричном числе мы встречаем первое соершенное число, — совершенное в том отношении, что оно составляется из своих частей. В других отношениях бывают и другие совершенные числа. Шестеричное же число, как мы заметили, совершенно в том отношении, что составляется из своих частей, но только таких частей, которые, будучи сложены, в своей сумме могут дать то именно число, частями коего они служат. О такой части можно сказать, какая (quanta) она часть [данного] числа. Можно и число три назвать частью не только шестеричного числа, которого оно составляет половину, но и всех больших, чем оно само, чисел. Так три составляют большую часть четырех и пяти: четыре можно разделить на три и один, а пять на три и два. Три составляют часть и семи, восьми, девяти и т. д., но часть уже не большую или половинную, а меньшую. Так семь можно разделить на три и четыре, восемь на три и пять, девять на три и шесть. Но ни об одном из этих чисел нельзя сказать, какую часть каждого из них составляет число три за исключением только числа девять, которого оно служит третьей частью, как — половиной шести. Таким образом, ни одно из всех приведенных нами, чисел не составляется из нескольких трех, за исключением только шести и девяти: первое состоит из двух, а последнее из трех третичных чисел.
Итак, число шесть, как уже сказал я, составляется из своих, сложенных вместе и взятых в сумме, частей. Есть числа, части которых, вместе сложенные, составляют меньшую, а другие — большую сумму. Но в известных между ними промежутках встречаются очень немногие числа, состоящие из таких частей, сумма которых ни ниже, ни выше, а равна тому числу, частями коего он служат. Первое из них шестеричное число. Так, единица не имеет никаких частей. В порядке чисел, при помощи которых мы ведем счисление, единицей мы называем такое число, которое не имеет половины или какой–либо части, а есть настоящая, голая и простая единица. Частью двух служит единица, и притом — частью половинной; другой части это число не имеет. Но число три имеет две части — одну, о которой можно сказать, какая она часть этого числа, т. е. единицу, ибо это будет третья его часть, и другую большую, о которой уже нельзя сказать, какая она его часть, т. е. два: очевидно, части эти не могут быть названы частями, которые мы имеем в виду, т. е. такими, о которых можно сказать, какие он части числа трех. Затем число четыре имеет так же две части, именно — единицу, четвертую часть, и два, половину; но об эти части, т. е. единица и два, в сумме составляют три, а не четыре; след. не составляют числа четыре, потому что в сложности дают меньшую сумму. Число пять имеет одну только часть, т. е. единицу, которая составляет пятую его часть, ибо хотя два — часть меньшая, а три — большая в сравнении с пятью, однако ни о той, ни о другой из них нельзя сказать, какая она часть пяти. Но шестеричное число имеет уже подобные части — шестую, третью и половинную: шестая его часть — единица, третья — два, половинная — три. А эти части, т. е. один, два и три, сложенные в сумму, составляют число шесть.
Число семь имеет уже одну только подобную часть, единицу. Восемь — три: восьмую, четвертую и половинную, т. е. единицу, два и четыре, но, сложенные вместе, они в сумме дают семь; след., восьми не составляют. Число девять имеет две части: девятую, т. е. единицу, и третью, т. е. три, но сложенные в сумму, он составляют число гораздо меньшее девяти, именно — четыре. Число деcять имеет три части: десятую — единицу, пятую — два и половинную — пять, которые, будучи сложены вместе, равняются восьми, а не десяти. Число одиннадцать имеет одну только часть — одиннадцатую, как семь — седьмую, пять — пятую и три — третью. Но число двенадцать, если сложить подобные его части в одну сумму, не остается тем же числом, а возрастает: части в своей сумме составляют число большее двенадцати, достигая до шестнадцати. Именно — число двенадцать имеет пять частей: двенадцатую, шестую, четвертую, третью и половинную; двенадцатая его часть — единица, шестая — два, четвертая — три, третья — четыре и половинная — есть, а один, два, три, четыре и шесть в сумме составляют шестнадцать.
Словом сказать, в бесконечном ряду чисел встречается много таких, которые имеют или одну только подобную часть, как напр. три, пять и т. п., или много, но притом так, что эти части, будучи сложены в одну сумму, составляют число меньшее, как напр. восемь, девять и многие др., или большее, как напр. двенадцать, восемнадцать и многие др. И таких чисел встречается гораздо больше в сравнении с теми, которые называются совершенными в виду того, что они составляются из своих, сложенных в одну сумму, частей. Так, после шести, мы встречаем еще число двадцать восемь, которое состоит из подобных же частей; именно — оно имеет пять частей: двадцать восьмую, четырнадцатую, седьмую, четвертую и половинную, т. е. единицу, два, четыре, семь и четырнадцать, которые, сложенные в сумму, дают двадцать восемь. И чем дальше вперед идет порядок чисел, тем чрез большие промежутки встречаются числа, которые, если сложить их части в одну сумму, равны самими себе и называются совершенными. Те же числа, части которых, сложенные в сумму, не дают того числа, частями коего он служат, называются несовершенными, а числа, части которых превышают [свое число], называются более, чем совершенными.
Таким образом, Бог произвел дела творения в совершенное число дней, т. е. шестеричное: и соверши, написано, Бог в день шестый дела своя, яже сотвори (Быт. II, 2). Но это число заслуживает большего нашего внимания, если мы всмотримся в порядок самых этих дел. Именно, как это число по своим частям возрастает постепенно в трехчленное (in trigonium), ибо числа — один, два и три следуют одно за другим так, что между ними нельзя вставить никакого другого, и представляют каждое части шестеричного числа, из коих состоит оно, один шестую, два — третью и три — половинную: так в один день сотворен свет, а в следующие два — наш настоящий мир, в один день — высшая его часть, т. е. твердь, а в другой — низшая, земля и море; но высшую часть [Бог] не наполнил никакими родами телесной пищи, так как Он не намерен был там помещать тела, нуждающиеся в подобного рода восстановлении, низшую же часть, которую Он намерен был украсить соответствующими ей животными, наперед богато снабдил необходимыми для них родами пищи. В остальные три дня созданы те видимые [твари], которые внутри мира, т. е. внутри видимой, устроенной из всех элементов, вселенной обладают соответствующими им движениями, именно — сначала светила на тверди, так как твердь сотворена раньше, а затем в низшей области — животные, как требовал того их порядок, т. е. в один день — водные, а в другой — земные. Впрочем, никто не будет настолько безумен, чтобы осмелиться сказать, будто Бог не мог создать, если бы захотел, все и в один день, или, если бы захотел в два дня — в один духовную тварь, а в другой телесную, или — в один день небо со всем, что принадлежит ему, а в другой — землю со всем, что на ней находится, да и вообще — когда бы захотел, во сколько бы времени захотел и каким бы образом захотел: кто скажет, что Его воле могло что–нибудь противодействовать?
ГЛАВА III
По этой причине, когда мы читаем, что Бог совершил все в шесть дней и, входя в рассмотрение шестеричного числа, находим, что оно — число совершенное и что твари получают свое бытие в таком порядке, который является как бы постеленным расчленением самых тех частей, из коих это число состоит, — на память нам может придти сказанное в другом месте Писаний: вся мерою, и числом, и весом расположил ecu (Премудр. XI, 21), и ум мыслящий, призвав на помощь Бога, дарующего и вдохновляющего его силы, может спросить, существовали ли мера, число и вес, по которым Бог, как написано, расположил все, где–нибудь раньше, чем сотворены все твари, или же сотворены и сами, и если существовали раньше, то где существовали? — Раньше тварей ничего и не было, кроме Творца; след., в Нем существовали и они. Но как же существовали, когда и то, что сотворено, существует, как читаем (Рим. IX, 36), в Нем же? Разве, может быть, мера, число и вес существовали, как Он Сам, а все сотворенное существует в Нем, как в Том, Кто всем управляет? Но каким образом те [существовали], как Он? Бог ведь не есть ни мера, ни число, ни вес, ни все подобное. Разве, может быть, с той точки зрения, как знаем мы меру, число и вес в вещах, которые измеряем, исчисляем и взвешиваем, они не Бог; с той же точки зрения, что мера сообщает всякой вещи определенность (modum), число — форму (speciem), а вес — покой и устойчивость, они в своем первоначальном, истинном и единственном виде суть Он, — Тот, Кто всему дает определенность, форму и порядок; отсюда, изречение: вся мерою, и числом, и весом расположил ecu (как только оно и могло быть выражено для человеческого сердца и на человеческом языке) имеет не другой какой–нибудь смысл, как тот, что «все расположил Ты в Себе».
ГЛАВА IV
Дело великое и для немногих посильное — над всем, что может быть измеряемо, исчисляемо и взвешиваемо, подняться настолько, чтобы видеть Меру без меры, Число без числа и Вес без веса. Ибо меру, число и вес можно видеть и мыслить не в одних только камнях, деревах и подобного рода телесных массах, какие бы они ни были, небесные ли, или земные. Есть еще мера для действования, чтобы оно не переходило в безостановочное и неумеренное движение вперед; есть число для состояний и сил духа, которым он определяется, переходя от безобразия глупости к форме и красоте мудрости; есть вес для воли и любви, который служит показателем, насколько и что именно взвешивается нами, когда мы чего–либо желаем или избегаем, что–нибудь предполагаем или отменяем. Но эта духовно–мысленная мера содержится в другой мере; это духовно–мысленное число образуется другим числом; этот духовно–мысленный вес отвлекается от другого веса. Между тем, есть Мера без меры, с которою сообразуется то, что от Неё [происходит], Сама же Она не происходит ниоткуда; есть Число без числа, по которому все образуется, Само же Оно не образуется; есть Вес без веса, к Которому, дабы обрести успокоение, тяготеет все, покой чего состоит в чистой радости, Сам же Он ни к чему другому уже не тяготеет.
Но кто знает имена меры, числа и веса в их только внешнем значении (visibiliter), тот знает их низменным образом (serviliter). Пусть же поднимается он выше всего того, что знает подобным образом, или, если [этого сделать] еще не может, пусть не пристращается к именам, о которых можно мыслить только низменно Ибо тем они для каждого дороже в приложении к высшим предметам, чем меньше сам он — плоть в области низших. Если же кто–нибудь этих названий, которыми привык обозначать низменные предметы, не хочет относить к высшим предметам, для созерцания которых старается очистить свой ум, в таком случае не следует заставлять его это и делать. Ибо как скоро имеется понятие о том, что [под этими именами] разуметь должно, не следует особенно стараться о том, как оно называется. Впрочем, необходимо знать, какое существует сходство низшего с высшим: в таком только случае разум движется и направляется правильно от низшего в высшему.
Если и теперь еще кто–нибудь скажет, что мера, число и вес, по которым Бог, по свидетельству Писания, расположил все, сотворены, в таком случае [мы спросим его]: если Бог расположил по ним все, где же расположил их самих? если в [чем–либо] другом, каким образом будет в них все, когда сами они в другом? Несомненно, таким образом, что мера, число и вес, по которым Бог расположил все, существуют вне того, что по ним расположено.
ГЛАВА V
Разве, может быть, мы сделаем предположение, что изречение: вся мерою, и числом и весом расположил ecu имеет такой же смысл, как если бы было сказано: «все Ты расположил так, чтобы оно имело меру, число и вес?» В самом деле, если бы было сказано: «все тела Ты расположил по цветам» (in caloribus), еще конечно не следовало бы отсюда, что сама Премудрость Божия, которою сотворено все, раньше имела в Себе цвета, по которым потом сотворены тела; но выражение: «все тела Ты расположил по цветам» было бы нами понято так, как если бы было сказано: «все тела Ты расположил так, чтобы они имели цвета». — Как будто, если бы было сказано, что Творец–Бог расположил тела по цветам, т. е. так, чтобы они имели цвета, возможно это понимать иначе, а не так, что в самой Премудрости Располагающего существовала некоторая идея (ratio) цветов, которые должны были потом распределиться соответственно каждому роду тел, хотя бы самого названия цвета в этом случае мы и не встречали! Ибо, как уже сказал я, раз мы вещь знаем, о названиях её заботиться нет надобности.
ГЛАВА VI
Итак, допустим, что изречение: вся мерою, и числом и весом расположил ecu имеет такой же смысл, как если бы было сказано: «все расположено так, чтобы имело свою собственную меру, свое собственное число и свой собственный вес» и, согласно с данным ему от Бога расположением, изменялось, являясь крупнее и мельче, больше и меньше, легче и тяжелее, сообразно с изменяемостью своего рода. Неужели, подобно тому, как изменяется все, мы назовем изменяемым и самый совет Божий, по которому расположено все? Избави, Боже, от такого безумия!
Итак, если все располагалось так, чтобы оно имело свои меры, свои числа и свой вес, где [спрашивается] созерцал все сам Располагающий? Без сомнения, не вне Самого Себя, подобно тому, как мы глазами созерцаем тела: всего этого еще не было, как скоро оно располагалось к бытию. Не созерцал Он того и внутри Самого Себя, подобно тому, как мысленно (animo) мы созерцаем телесные образы, которые не взорам нашим предстоят, а мы мыслим их, представляя [в своем уме] то, что видим или на основании того, что видим. Как же созерцал Он все это? А как иначе, нежели как один только Он может?
ГЛАВА VII
Впрочем, даже и мы, существа смертные и греховные, в которых тело тленное отягощает душу и земное житие обременяет ум многопопечителен (Прем. IX, 15), — даже и мы, хотя нам и неизвестна божественная субстанция, как [известна] она самой себе (если бы даже мы обладали чистейшим сердцем и совершеннейшим умом и были уже подобны святым Ангелам), вышеуказанное совершенство шестеричного числа созерцаем не вне самих себя, как — тела глазами, и не внутри себя, как — телесные образы и формы видимых предметов, а другим, совершенно особенным, образом. Правда, когда мы мыслим состав, или порядок, или делимость шестеричного числа, пред нашим умственным взором предносятся как бы некоторые подобия телец (corpusculorum); однако, ум более сильный и мощный не останавливается на них, а созерцает внутреннейшую сущность числа и, с этой точки зрения, говорит с уверенностью (как говорится это о единице), что оно не может быть делимо ни на какие части, тогда как все тела делятся на бесчисленные части; и что скорее минуют небо и земля, которые устроены по шестеричному числу, чем может случиться, чтобы шестеричное число не составлялось из своих частей. Таким образом, ум человеческий должен благодарить Создателя, которым сотворен он так, что может видеть то, чего [не могут видеть] ни одна птица, ни одно животное, хотя, впрочем, вместе с нами они видят и небо, и землю, и светила, и море, и сушу и все, что на них находится.
По этой причине мы можем сказать, что не потому шестеричное число совершенно, что Бог создал все дела Свои в шесть дней, а потому Он и создал Свои дела в шесть дней, что шестеричное число совершенно. Отсюда, хотя бы они и не были совершенны, оно было бы совершенно; а если бы не было совершенно оно, вслед за ним не были бы совершенны и они.
ГЛАВА VIII
Пытаясь теперь, насколько при помощи Божией для нас возможно, понять написанное, что Бог почил в седьмой день от всех дел Своих, которые сотворил, благословил его и освятил, потому что в этот день почил, мы прежде должны очистить свой ум от плотских, человеческих на этот предмет воззрений. Прилично ли, в самом деле, говорить или думать, что Бог, при творении всего вышеписанного, трудился, когда говорил и [слово Его] исполнялось? Мы не назвали бы и человека трудящимся, если бы он сказал, чтобы что–нибудь сделалось, и его слово тотчас же исполнилось. Правда, человеческое слово, выражающееся в звуках, произносится так, что продолжительная речь бывает утомительна; однако, если эти слова настолько же кратки, насколько кратки и слова, которые, как мы читаем, Бог изрекал, когда говорил: да будет свет! да будет твердь! и другие до самого конца дел, которые Он завершил в седьмой день, то было бы крайнею нелепостью считать их трудом не только для Бога, но даже и для человека.
ГЛАВА IX
Разве, может быть, кто–нибудь скажет, что Бог трудился не тогда, как изрекал слово, дабы явилось к бытию то, что потом сотворено, а тогда, когда мыслил, что должно явиться к бытию, и освободившись, по сотворении вещей, от этой заботы, Он справедливо захотел благословить и освятить день, в который впервые стал свободным от этого напряжения духа? Но рассуждать подобным образом значит решительно безумствовать (ибо Бог обладает как способностью, так и неизреченною и ни с чем не сравнимою легкостью к созданию вещей); поэтому, нам ничего не остается, как думать, что для разумной твари, в ряду которой сотворен и человек Бог, после её сотворения, указал покой в Самом Себе, даровав нам Духа Святаго, которым изливается любовь в сердца наши, дабы мы стремились туда, куда достигши, обретали бы покой, т. е. ничего уже больше не искали. Ибо как правильно сказать, что все, что только мы, по действию Божию, делаем, делает Бог, так правильно же будет сказать, что когда мы по дару Божию обретаем покой, успокаивается Бог.
И такое понимание будет правильно, так как справедливо и большого напряжения не требуется видеть, что, когда мы говорим о Боге, что Он успокаивается, делая нас покойными, говорим так же, как и то, что Бог познает, делая нас познающими. Бог, конечно, не познает временным образом ничего такого, чего не знал раньше; и однако, к Аврааму Он обращается с словами: ныне познах, яко боишися Бога (Быт. XXII, 12), которые означают не что иное, как следующее: «ныне Я сделал так, чтобы узнано было» [что ты боишься Бога]. Подобными слововыражениями, когда о чем–либо, не принадлежащем Богу, мы говорим как бы о принадлежащем Ему, мы обозначаем, что Бог обращает это в принадлежащее нам; но только то, что похвально и насколько оно допускается Писанием. Ибо о Боге мы не должны говорить необдуманно ничего такого, чего не читаем в Его Писаниях.
К числу таких слововыражений принадлежит, по моему мнению, и изречение Апостола: не оскорбляйте Духа Святаго Божия, имже знаменастеся в день избавления (Еф. IV, 30). По самой субстанции Своей, поскольку существует сам в Себе, Дух Святый не может оскорбляться: Он обладает вечным и неизменным блаженством и есть даже само вечное и неизменное блаженство. Но так как Он обитает в святых, исполняя их любовью, по которой они, как люди, смотря по обстоятельствам, необходимо радуются преуспеянию и добрым делам верных, и столь же необходимо скорбят о падениях иди грехах тех, чьей вере и благочестию радовались (а такая скорбь заслуживает похвалы, потому что она проистекает от любви, изливаемой в них Духом Святым): то и говорится, что сам Дух Святый оскорбляется теми, которые живут так, что их делами оскорбляются святые, — оскорбляются не почему–либо иному, как потому, что имеют Духа Святого и, по дару Его, настолько добры, что злые печалят их, особенно же те, которых они или знали, или считали добрыми. Само собою понятно, что подобная скорбь не только не заслуживает порицания, но достойна похвалы и славы.
Таким же слововыражением пользуется удивительным образом тот же Апостол и в другой раз, говоря: ныне же познавше Бога, паче же познани бывше от Бога (Гал. IV, 9). Бог, без сомнения, не теперь только познал тех, которых знал от сложения мира (I Петр. 1, 10); но так как теперь сами они познали Бога по дару Его, а не по своим заслугам или способностям, то [Апостол] предпочел лучше употребить переносный способ слововыражения, называя их познанными от Бога тогда, когда уже Он сам явил им Себя для познания, и внести в свои слова поправку, как будто сказанное им сначала в собственном смысле не столь верно, чем попустить, чтобы они усвояли себе то, что даровал им Бог.
ГЛАВА X
Для некоторых, может быть, будет и достаточным — изречением, что Бог почил от всех дел Своих, которые сотворил добра зело, разуметь в том смысле, что Он дарует покой нам, если мы будем творить добрые дела. Но, продолжая рассмотрение этого изречения Писания, спросим, каким образом мог почить сам Бог, хотя бы Своим покоем и внушал нам надежду на будущий покой наш в Себе. В самом деле, небо и землю со всем, что на них находится, Бог сотворил один, закончив все это в седьмой день, и нельзя сказать, чтобы при этом, по Его дару, сотворили что–нибудь и мы и чтобы изречение: и сотвори Бог в день седьмый дела Своя, яже сотвори, сказано было в том смысл, что по Его дару они совершены нами. Так точно и изречение; и почи Бог в день седьмый от всех дел Своих мы должны понимать не в смысле, очевидно, собственного нашего покоя, который, по соизволению Божию, мы получим, а прежде всего — в смысле покоя самого Бога, каким, по совершении Своих дел, Он почил в седьмой день; так что этим изречением сначала указывается на все описанные выше дела, а потом уже, если нужно, внушается нам мысль, что дела эти собою и нечто обозначают. Ибо правильно будет сказать, что как Бог, после Своих добрых дел, почил, так после своих добрых дел почием и мы. Но отсюда столь же правильно вытекает и такое требование, что как о делах Божиих сказано, что они, как это достаточно видно, суть дела самого Бога, так достаточно уже сказано и о покое Божием, что он, как показано, есть покой самого Бога.
ГЛАВА XI
Поэтому, на вполне справедливом основании, мы переходим к посильному исследованию и раскрытию вопроса, каким образом будет истинным и здесь сказанное, что Бог в седьмой день почил от всех, какие сотворил, дел Своих, и сказанное в Евангелии Тем, Имже вся бысть: Отец Мой доселе делает и Аз делаю (Иоан. V, 17). — Слова эти сказаны Им в ответ на жалобы, что он не чтит субботы, установленной в древности авторитетом Писания, ради покоя Божия. И с вероятностью можно сказать, что хранение субботы заповедано было иудеям, как сень грядущего, знаменующая духовный покой, который примером Своего покоя Бог таинственно обещал верным, творящим добрые дела. Таинство этого покоя подтвердил Своим погребением и сам Господь Христос, предавший Себя вольному страданию. Он почил во гробе в самый день субботы и весь этот день провел в некоем священном покое, после того, как в шестой день, т. е. пяток (называемый шестым от субботы), совершил все дела Свои, когда все, что о Нем написано, закончилось древом крестным. Он употребил и самое это слово, сказав: Совершишася, и преклонь главу, предаде дух (Иоан. XIX, 3). Что же удивительного, если Бог, желая предуказать день, в который Христос имел почить во гробе, почил на один день от дел Своих, намереваясь потом действовать в течение веков; так что истинным является и изречение: Отец Мой доселе делает?
ГЛАВА XII
Возможно и такое понимание, что Бог почил от создания новых родов творения, перестав больше творить какие–либо новые роды, но Он непрерывно доселе (и дальше потом) делает, промышляя о тех родах, которые тогда были установлены, так что даже и в самый седьмой день всемогущество Его не оставляло управления небом и землею и всем сотворенным; иначе все это мгновенно бы разрушилось. Ибо могущество Творца и сила Всемощного и Вседержащаго служат причиной существования всей твари; если бы эта сила перестала когда–нибудь управлять, вместе с тем перестали бы существовать и его виды, и вся бы природа погибла. Когда архитектор, окончив здание, оставляет его, произведенная им постройка продолжает существовать и без него; не то с миром: он не мог бы остаться и на мгновение ока, если бы Бог лишил его Своего промышления.
Поэтому, и сказанное Господом: Отец мой доселе делает указывает на некоторую продолжающуюся деятельность Отца, которою поддерживается и управляется вся тварь. Иначе бы можно было понять Его, если бы Он сказал: «и ныне делает», — в таком случае не было бы необходимости в словах Его разуметь продолжающейся деятельности; но иначе должны мы понимать Его, когда Он говорит: доселе делает, т. е. делает с того времени как создал все. Равным образом, если правильно понять написанное о Его Премудрости: досязает же от конца до конца крепко и управляет вся благо (Прем. VIII, I), a так же, что движения Ея всякого движения подвижнейша (Прем. VII, 24), то будет достаточно видно, что это Свое ни с чем не сравнимое, неизреченное и, если так можно выразиться, неизменное (stabilem) движение Она проявляет в благом управлении вещами, с отнятием которого, если бы Она прекратила эту Свою деятельность, они тотчас же погибнут. Точно так же и то, что говорит Апостол, проповедуя о Боге афинянам: о Немже живем, движемся и есмы (Деян. XVII, 28), будучи понято верно, насколько это для человеческого ума возможно, благоприятствует тому мнению, на основании которого мы и веруем и говорим, что Бог действует непрерывно в сотворенном Им мире. Впрочем, мы существуем в Нем не как Его субстанция, в том смысл, как сказано о Нем, что Он живот имать в Себе (Иоан. V, 26); но так как мы, без сомнения, иное, чем Сам Он, то в Нем существуем мы в том только смысл, что Он так делает, Его это — дело; Он все содержит и Премудрость Его досязает от конца до конца крепко и управляет благо, и вот в силу этого–то управления мы и живем, движемся и есмы. Отсюда следует, что если Он это Свое дело от вещей отнимет, не будем и мы жить, двигаться и существовать. Итак, ясно, что Бог ни на один день не прекращал Своего промыслительного действия о мире; в противном случае, мир мгновенно бы утратил свои естественные движения, которыми он управляется и так оживляется, что все существа его сохраняют свое бытие и каждое из них, сообразно своему роду, остается тем, чем оно есть, и все мгновенно бы перестало существовать, если бы от мира отнято было то движение Премудрости Божией, которым Она управляет вся благо. Поэтому выражение, что Бог почил от всех дел Своих, которые сотворил, мы понимаем так, что Он не стал создавать больше ни одной новой твари, а не так, что перестал сохранять уже созданные и управлять ими. Отсюда истинно как то, что Он в седьмой день почил, так и то, что Он доселе делает.
ГЛАВА XIII
Благие дела Его мы видим, а Его покой увидим после своих добрых дел. Для обозначения этого покоя, Он заповедовал евреям чтить один день (Исх. XX, 8). Евреи понимали это почитание в таком плотском смысл, что, видя Господа, обвиняли Его в том, что Он в этот день делает дело нашего спасения, но Он вполне справедливо отвечал им указанием на дело Отца, одинаково с которым Он занят делом не только управления тварями, но и нашего спасения. Во время явившейся благодати почитание субботы, которое выражалось в праздновании одного дня, снято с верных. В этой благодати празднует уже постоянную субботу тот, кто, что ни делает доброго, делает в надежде на будущий покой, и своими добрыми делами не хвалится, как будто бы обладая благом, которого бы не получил. Понимая и разумея таинство крещения, как день субботы, т. е. Господня покоя во гробе, он вкушает покой от прежних дел своих и, начав ходити в обновлении жизни (Рим. I, 4), познает, что в нем действует Бог, который в одно и то же время и действует и почивает, с одной стороны проявляя Себя в соответствующем управлении тварью, с другой — в Себе Самом оставаясь вечно покойным.
ГЛАВА XIV
Таким образом, Бог не испытывал ни утомления, когда творил, ни отдохновения, когда перестал творить; но только посредством Своего Писания хотел возбудить в нас желание покоя, объявляя нам, что Он освятил день, в который почил от всех дел своих Из всех шести дней, в течение которых Бог сотворил все, мы ни об одном не читаем, чтобы Он освятил что–нибудь; с другой стороны, прибавление: и освяти сделано и не пред шестью этими днями, к словам: в начале Бог сотвори небо и землю. Но Он благоволил освятить тот день, в который почил от всех, какие сотворил, дел Своих, как будто бы и для Него, не испытывающего в Своем делании никакого утомления, покой имеет больше значения, чем действие. В приложении к людям эту мысль внушает нам Евангелие, в том месте, где Спаситель наш называет часть Марии, которая, сидя у ног Его, вкушала покой в слове Его, лучшею, чем часть Марфы, хотя она занята была заботой о многом с целью услужить Ему и хотя занятие её было дело доброе (Лук. X, 30–42). Но каким образом может это быть или мыслиться в приложении к Богу, сказать трудно, хотя мы и можем приблизиться до некоторой степени к мысли, почему Бог освятил день Своего покоя, не освятив ни одного Своего дела, даже и шестого дня, в который сотворил человека и закончив все дела творения. Да и самого главного [вопроса], в чем заключается покой Божий, чей проницательный человеческий ум разрешить в состоянии? Однако, если бы этого покоя не было, Писание, конечно, не упоминало бы о нем. Скажу просто, что думаю, предпослав две следующие несомненные [истины] — с одной стороны, что Бог не услаждался каким–либо временным покоем, как бы после труда и достигнутого конца работы, с другой — что и Писание, справедливо облеченное таким авторитетом, не напрасно и не ложно говорит, что Бог почил в седьмой день от всех, какие сотворил, дел Своих и по этой причине освятил его.
ГЛАВА XV
Бесспорно, то уже — порок и слабость души услаждаться своими делами так, чтобы находить успокоение скорее в них. чем от них в себе самой (ибо, без сомнения, лучше совершение дел, чем самые совершенные дела). Поэтому Бог посредством Писания, которое говорит, что Он почил от всех, какие сотворил, дел Своих, внушает нам, что Он никаким делом Своим не услаждается так, как будто бы имел нужду в его совершении, — что был бы блажен или меньше, если бы его не совершил, или больше, если бы совершил. А так как все от Него и притом в такой степени, что обязано Ему всем, чем есть оно, сам же Он ничему не обязан тем, что блажен: то и предпочел Себя Самого вещам, которые сотворил по любви, отличая не день, в который завершил творение, чтобы не показалось, будто бы дела, какие Он намерен был совершить, или уже совершил увеличивают Его радость, но день, в который почил от них в Самом Себе, сам Он никогда и не выходил из покоя, но нам показал его седьмым днем, давая тем знать, что покой Его обретается только совершенными, так как для внушения мысли о нем назначил день, который следовал за совершением всего творения. Ибо, будучи сам всегда покорен, Он, показав, что почил, почил тогда в нас.
ГЛАВА XVI
Надобно обратить внимание и на то, что покой, которым Бог блажен в Самом Себе, надлежало сообщить и нам, дабы мы могли понять, каким образом говорится о Боге, что Он в нас успокаивается, а говорится это по той только причине, что Он в Себе Самом сообщает покой и нам. Для правильно понимающих покой Бога — такой покой, который не имеет нужды ни в чьем благе; отсюда, несомненен покой в Нем и наш, потому что мы делаемся блаженными от того блага, какое представляет Собою Он, а не Он — от блага, какое представляем собою мы. Ибо и мы заключаем в себе некоторое благо, получив его от Него, сотворившего все добро зело, в ряду чего сотворены Им и мы. Вот почему, кроме Него, нет ничего дорого, чего бы не сотворил Он, а потому, кроме Себя Самого, Он не нуждается ни в каком благе, не имея нужды в благе, Им Самим сотворенном Таков покой Его от всех дел, которые Он сотворил. Между тем, в каких бы благах Он столь славно не нуждался, если бы не сотворил ничего? Конечно, и в таком случае Он мог бы быть назван ни в чем не нуждающимся, не потому, что в Себе Самом наслаждается покоем от дел, а просто потому, что не творит ничего. Но если бы Он не мог сотворить доброго, то не обладал бы никаким могуществом, а если бы мог, но не сотворил, то было бы это великою завистью. Отсюда, так как Он всемогущ и благ, то сотворил вся добро зело, а так как совершенно блажен благом в Себе Самом, то от дел, которые сотворил, Он почил в Себе Самом, т. е. таким покоем, из коего никогда не выходил. Но если бы было сказано, что Он почил от делания (a faciendis), тогда возможно бы было такое только понимание, что Он не творил. А если бы не сказано было, что Он почил от дел (a factis), в таком случае не с такою бы силою выступала мысль, что Он не нуждается в том, что сотворил.
К какому же дню, как не к седьмому, надлежало пpиурочить воспоминание об этом покое Божием? Это поймет всякий, кто припомнит, что совершенство шестеричного числа, о коем мы выше сказали, вполне приложимо к совершенству творения. В самом деле, если творение должно было завершиться, как действительно и завершилось, в шестеричное число и если надлежало внушить нам мысль о покое Божием, каким, как доказано, Бог блажен и помимо сотворения твари: то надобно было, без сомнения, освятить воспоминанием день, следующий за шестым, — день, в который бы вы возбуждались желанием сего покоя, дабы обрасти его в Боге и нам.
ГЛАВА XVII
Но не благочестиво было бы подобие, если бы мы захотели быть подобными Богу в такой степени, чтобы в себе самих почивать от своих дел, как Он почил в Себе от Своих. Без сомнения, мы должны искать покоя в некоем непреложном благе, а таким благом служит для нас Он, сотворивший нас. Отсюда, высший, не горделивый и истинно благочестивый покой наш будет заключаться в том, чтобы как Он почил от всех дел Своих потому, что благом, каким Он блажен, служат для Него не дела, а Сам Он, так и мы должны надеяться, что в Нем только обретем от всех не только своих, по и Его дел покой после дел своих, которые в нас скорее — Его дела, чем наши; так что даже и в этом случае почиет собственно Он после Своих добрых дел, представляя в Себе для нас покой после добрых дел, какие мы сотворим, Им оправданные. Для нас великое [благо], что мы произошли от Него, но большее будет [благо], что в Нем успокоимся. В свою очередь и Он блажен не потому, что сотворил нас, а потому, что, не нуждаясь в сотворенном, почил скорее в Себе Самом, чем в сотворенных делах.
Что же в такой степени просто и легко для выражения словом и в то же время высоко и трудно для уразумения мыслью, как Бог, почивающий от всех дел Своих, которые Он сотворил? И где почивающий, если не в Самом Себе? И когда почивающий, если не всегда, в ряду же дней, в течение которых повествуется о совершении вещей, Им сотворенных, и от которых отличается порядок покоя Божия, [почивающий] когда, если не в седьмой день, следующий за совершением их? Ибо Он почивает от дел совершенных, нисколько не нуждаясь в их совершении, чтобы быть более блаженным.
ГЛАВА XVIII
И что касается Самого Бога, то для Его покоя нет ни утра, ни вечера, потому что покой этот ни началом не открывается, ни заключается концом; в рассуждении же совершенных дел Его утро имеет, а вечера не имеет: ибо совершенная тварь имеет некоторое начало своего обращения к покою своего Творца; но она не имеет конца, как бы предела, своего совершенства, как тварь. Отсюда, покой Божий имеет начало не для самого Бога, а для совершенства созданных им вещей, чтобы все, что Им совершается, в Нем обретало покой и имело утро; ибо в своем собственном роде оно ограничено как бы вечером, в Боге же не может иметь вечера, ибо ничего уже не будет совершеннее того совершенства.
В самом деле, в тех днях, в течение которых творилось все, мы приняли [выше] вечер в смысле окончания создания одной твари, а утро — начала новой. Отсюда, вечер пятого дня был пределом твари, созданной в пятый день, а наступившее после этого дня утро — началом создания твари в шестой день, после которого, когда она создана была, наступил вечер, как бы предел её. И так как создавать ничего больше уже не оставалось, то после этого наступило такое утро, которое было уже не началом создания новой твари, а началом покоя всей твари в покое Творца. Ибо небо и земля со всем, что на них находится, т. е. вся духовная и телесная тварь, пребывают не в себе самих, а в Том, о Ком сказано: о Нем живем, и движемся и есмы (Деян. XVII, 28). И хотя каждая часть может существовать в целом, частью которого она служит, однако само это целое может существовать только в Том, Кем оно создано. Таким образом, наступившее после вечера шестого дня утро не будет странным разуметь так, что им обозначалось не начало новой твари, как в прочих [днях], а начало пребывания и успокоения всего созданного в покое Создавшего. А этот покой не имеет ни начала, покой же твари начало имеет, но предела не имеет, и потому седьмой день для твари начался утром, но вечером уже не заканчивается.
Ибо, если в прочих днях вечер и утро означают такие же смены, какие время проходит ежедневно и теперь, то я не знаю, почему [бытописатель] не закончил и седьмого дня вечером, а его ночь — днем, сказав и в настоящем случае: «и бысть вечер и бысть утро день седьмый», ибо и этот день — один из тех семи дней, из повторения коих доставляются месяцы, годы и века; так что утро, которое следовало за вечером седьмого дня, должно было быть началом восьмого дня, на коем уже и следовало, наконец, остановиться, потому что восьмой день — первый, к которому возвращается и с которого опять начинается седьмица. Отсюда вероятнее, что нынешние семь дней, с именами и числом тех дней, сменяясь в своем течении новыми и новыми, составляют периоды времени; первые же шесть дней чередовались при самом творении вещей неизвестным и необычным для нас образом и их вечер и утро, как и самый свет и тьма, т. е. день и ночь, не представляли той смены, какую представляют нынешние дни, благодаря движению солнца; но крайней мере, так должны мы сказать относительно первых трех дней, упоминаемых и перечисляемых раньше создания светил.
Отсюда, каковы бы в тех днях ни были вечер и утро, ни в каком случае однако не следует думать, что в наступившее после вечера шестого дня утро получил начало покой Божий, дабы не явилось у нас пустой и дерзкой мысли, что к вечности и неизменяемости Бога прибавилось некое временное благо; напротив, покой, каким Бог почивает в Самом Себе и блажен благом, какое представляет Сам для Себя. не имеет ни начала, ни конца; по отношению же к произведенной Им твари этот же самый покои Божий имеет уже начало. Ибо совершенство каждой вещи утверждается не столько на целом, частью которого она служит, сколько на Том, от Кого она существует и в Ком существует и само целое, — утверждается в меру своего рода. чтобы быть спокойною, т. е. сохранять свойственное ей место. Отсюда, и вся, совершенная в течение шести дней, совокупность твари иное имеет в себе самой и иное в том порядке, в каком она существует в Боге, — существует не как Бог, однако же так, что покой собственной её устойчивости заключается только в покое Того, Кто, кроме Самого Себя, не желает ничего, с получением бы чего мог быть покойным. И в то время, как Он пребывает в Самом Себе, все, что от Него [происходит], возвращается к Нему; так что всякая тварь в себе самой имеет предел своей природы по которому она не то, что Он, а в Нем — место покоя, в коем Он сохраняет ее, чем она есть. Знаю, что слово место употребил я не в собственном смысле: ибо в собственном смысле оно прилагается к пространствам, которые занимаются телами; но так как и тела остаются только на том месте, до которого они достигают как бы стремлением своей тяжести, чтобы на нем оставаться уже в спокойном состоянии, то не будет несообразностью перенести это слово с телесного на духовное, хотя духовное весьма отлично от телесного.
Итак, тем утром, которое следовало после вечера шестого дня, обозначается, по моему мнению, начало твари в покое Творца; ибо обрести покой в Нем она могла только тогда, когда была совершена, почему, когда в шестой день было совершено все, то после вечера наступило такое уже утро, в котором законченная тварь начала свой покой в своем Творце. А вместе с этим началом она обрела в Себе Самом почивающего Бога, в Коем могла почить и сама, — почить тем тверже и крепче, чем более она в Нем, а не Он в ней, нуждалась для своего покоя. Но так как чем вся тварь ни будет после всевозможных своих изменений, без сомнения ничем она уже не будет, то вся тварь будет вечно пребывать в своем Творце; а потому после того утра и не было вечера.
ГЛАВА XIX
Мы сказали, почему седьмой день, в который Бог почил от всех дел Своих, после вечера шестого дня утро имел, а вечера не имел. Но относительно этого предмета возможно и другое, по моему мнению, более прямое и лучшее, но несколько более трудное для уяснения, понимание, именно — что покой Божий в седьмой день имел не для твари, а для самого Бога утро без вечера, т. е. начало без конца. В самом деле, если бы было сказано: почи Бог в день седьмый, но не прибавлено: от всех дел Своих, яже сотвори, в таком случае мы напрасно бы стали искать начала этого покоя. Бог почивать не начинает: Его покой без начала и конца, вечен. Но так как Он почил от всех дел Своих, которые Он сотворил, не нуждаясь в них, то хотя покой Его, действительно, не начинается, однако покой от всех дел, которые Бог сотворил, начался после того времени, когда Он совершил [эти дела]. Ибо даже и не нуждаясь в Своих делах, Он мог почить не раньше, чем они явились (хотя и в совершенных делах Он не нуждался); а так как в Своих делах Он никогда нисколько не нуждался и Его блаженство, не нуждаясь в них, не будет, как бы возрастая, более совершенным, то за седьмым днем не последовало вечера.
ГЛАВА XX
Но, без сомнения, возможен и заслуживает рассмотрения вопрос, как понимать, что Бог почил в Самом Себе от всех дел Своих, которые сотворил, когда написано: и почи Бог в день седьмый? Ибо не написано: «в Себе Самом», а: в день седьмый. Что же такое этот седьмой день — тварь ли какая–нибудь, или же только пространство времени? Но и пространство времени сотворено вместе с временною тварью, почему и само оно без сомнения — тварь. Ибо нет, не могло и не может быть никаких времен, творцом которых бы не был Бог; отсюда кто же сотворил седьмой день, если он — время, как не Творец всех времен? Но с какими тварями, или в каких тварях сотворены шесть первых дней, это показывает предыдущая речь священного Писания. Посему в порядке нынешних семи дней, вид которых нам известен и которые хотя и проходят, но передают некоторым образом свои имена другим, сменяющим их, дням, так что удерживают имена шести [творческих] дней, мы знаем, когда были сотворены первые из них, но когда сотворен Богом седьмой, называемый субботою, день, этого мы не видим. В самом деле, в этот день Бог не сотворил ничего, а от дел, которые сотворил в течение шести дней, почил в седьмой день. Каким же образом почил Он в день, которого не сотворил? Или каким образом сотворил его после шести дней, когда в шестой день Он закончил все дела творения, и в седьмой не сотворил уже ничего, а почил от всех дел Своих? Разве, может быть, Бог сотворил один только день, так что чрез повторение его проходили многие, так называемые, дни, и творить седьмой день не было уже надобности, потому что этот день образовался от седьмого повторения того дня, который был сотворен? И действительно, свет, о котором написано: и рече Бог: да будет свет, и бысть свет, — этот свет Бог отделил от тьмы и назвал его днем, а тьму назвал ночью (Быт. I, 5). Тогда именно Бог и сотворил тот день, повторение которого Писание называет вторым днем, третьим и так до шестого, в который Бог закончил дела Свои; седьмое повторение этого, первоначально сотворенного, света и получило название седьмого дня, в который Бог почил Отсюда, седьмой день не [новое] какое–либо творение, а то самое, в седьмой раз повторяющееся, творение которое создано было, когда Бог назвал свет днем, а тьму назвал ночью.
ГЛАВА XXI
Таким образом, мы снова возвращаемся к тому вопросу, с которым выступали уже в первой книге, именно — каким образом свет мог круговращаться для произведения дневной и ночной перемен не только раньше светил небесных, но раньше, чем создано было самое небо, названное твердью, раньше даже какого–либо вида земли или моря, который бы обусловливал обращение света и откуда бы этот свет отходил, когда наступала ночь. В виду трудности этого вопроса, мы осмелились [тогда] свести рассмотрение его к такому как бы мнению, что этот, первоначально сотворенный, свет представляет собою стройность духовной природы, а ночь — материю, еще долженствовавшую получить образование в следующем затем творении вещей, — материю, которая основоположена была, когда Бог в начале сотворил небо и землю, прежде чем по Его слову создан был день. Но теперь, по поводу рассмотрения седьмого дня, мы легче можем сознаться, что не знаем, каким образом названный днем свет обусловливал дневные и ночные перемены — своим ли обращением, иди сжиманием, или рассеянием, если он — свет телесный, или, если он — свет духовный, присутствовал при создании всех тварей и своим присутствием производил день, а отсутствием — ночь, началом присутствия — утро, а началом отсутствия — вечер, — легче можем сознаться в незнании этого, не подлежащего нашим чувствам, предмета, нежели идти в очевидном предмете против слов божественного Писания, говоря, что седьмой день есть нечто иное, чем седьмое повторение того дня, который сотворил Бог. В противном случае или Бог не сотворил седьмого дня, или же и после шести дней сотворил нечто, т. е. седьмой день, и, таким образом, ложно будет написанное, что Он в шестой дет совершил все дела Свои и в седьмой почил от них. Но так как ложным это, конечно, быть не может, то остается [думать так], что при всех делах творения повторялось присутствие того света, который Бог назвал днем, — повторение столько раз, сколько насчитано дней, со включением сюда и седьмого дня, в который Бог почил от дел Своих.
ГЛАВА XXII
Но так как мы не доискались, каким своим обращением, или приближением или же удалением телесный свет раньше, чем создано было небо, называемое твердью, на которой устроены и светила, мог производить перемены дня и ночи: то не должны оставлять этого вопроса без разъяснения своего мнения, что этот, первоначально сотворенный, свет — не телесный, а духовный. Именно, как после тьмы явился свет, при чем, разумеется, свет, сделавший оборот от некоторой своей бесформенности к Творцу и уже образовавшийся, так и после вечера должно наступить утро, когда этот свет после познания своей собственной природы, поскольку он не то, что Бог, возвращается к прославленно того света, который есть сам Бог и от созерцания которого он образуется. И так как прочие, после него являющиеся, твари не являются помимо его познания, то чрез все творение повторяется один и тот же день; так что от повторения его является столько дней, сколько в сотворенных вещах различается родов, число которых должно было определяться совершенством шестеричного числа. Так, вечер первого дня представляет собою познание [света] что он — не то, что Бог, а наступившее после вечера, заканчивающего собою первый день и начинающего второй, утро — его возвращение к прославлению Творца за свое создание и восприятию от Слова Бога познания являющейся после него твари, т. е. тверди, которая является сначала в его познании, когда говорится: и бысть тако, а потом в природе самой тверди, которая создается, когда к уже сказанному прибавляется: И бысть тако. И сотвори Бог твердь. Затем, наступает вечер этого света, когда он познает твердь не в Слове Бога, как прежде, а в её собственной природе; это познание, будучи меньшим, справедливо будет назвать вечером. После сего наступает утро, которым заканчивается второй день и начинается третий: и это утро точно также представляет собою возвращение света, т. е. сотворенного Богом дня, к прославлению Бота за сотворение Им тверди, и восприятие от Слова Бога познания твари, которая должна быть сотворена после тверди. Поэтому, когда Бог говорит: да соберется вода, яже под небесем, в собрание едино и да явится суша, [действие] это свет познает в Слове Бога, которым эти слова изрекаются, почему дальше и следует: и бысть тако, т. е. [бысть] в его познании от Слова Бога; затем, когда, не смотря на то, что уже было сказано: и бысть тако, прибавляется: и собрася вода и проч., творение это является уже в своем собственном род, и когда оно светом, который раньше знал о нем в Слове Бога, познается в собственном своем роде, является вечер в третий раз, и так далее, до наступившего после вечера шестого дня утра.
ГЛАВА ХХIII
По этой причине существует большое различие между познанием вещи в Слове Бога и познанием её в собственной её природе, так что первое по справедливости будет относиться ко дню, а последнее к вечеру. И действительно, по сравнению с тем светом, который созерцается в Слове Бога, всякое познание, коим мы познаем ту или другую тварь в себе самой, не несправедливо можно назвать ночью; а это познание, в свою очередь, настолько отлично от заблуждения или невежества тех, кто не знает и самой твари, что в сравнении с ним заслуженно называется днем. Подобным образом жизнь верных, которая проводится ими в сей плоти и в сем веке, в сравнении с жизнью неверных и нечестивых не без основания называется светом и днем, по слову Апостола: бесте иногда тма, ныне же свет о Господе (Еф. V, 8), и другому: отложим убо дела темная и облечемся в оружие света, яко во дни благообразно да ходим (Рим. XIII, 12). В свою очередь и этот день в сравнении с тем днем, в который, сделавшись равными Ангелами, мы увидим Бога, якоже есть, был бы ночью, если бы у нас не было пророческого светоча: почему Апостол Петр говорит: имамы известнейшее пророческое слово, емуже внимающе якоже светилу сияющу в темном месте добре творите, дондеже день озарить и денница возсияет в сердцах ваших (2 Петр. I, 19).
ГЛАВА XXIV
Вот почему святые Ангелы, которым после воскресения будем подобны и мы (Mф. XXII, 30), если до конца удержимся на пути, каким служит для нас Христос, постоянно видя лице Бога, а также наслаждаясь Словом, Его единородным Сыном, равным Отцу, и представляя первую сотворенную премудрость всего, знают без сомнения всю тварь, в ряду коей первоначально созданы и сами, прежде всего в Слове Бога, в котором, как все создавшем, заключаются вечные идеи (rationes) всего, даже и созданного временным образом, а затем — в самой её природе, взирая на нее как бы долу и возводя ее к прославлению Того, в непреложной истине которого первоначально созерцают идеи, сообразно с коими создана она. Там [знают они тварь] как бы днем, почему согласнейшее вследствие участия в одной и той же Истине единство их и представляет собою первоначально сотворенный день, а здесь — как бы вечером; но за этим вечером (как это можно примечать во всех шести днях) наступает сейчас же утро, так как ангельское познание не остается в твари так, чтобы вслед затем не восходить к прославленно и любви Того, в Ком познается не то, что уже сотворено, а то, что должно было создаваться; пребывание в этой Истине. и составляет день. Ибо если бы даже и ангельская природа, обратившись к себе самой, услаждалась больше собою, нежели Тем, участием в Ком она блаженна, то, надмеваясь гордостью, она бы пала, как и диавол, о котором речь будет в своем месте, когда надобно будет говорить о змие, обольстившем человека.
ГЛАВА ХХV
Таким образом, Ангелы знают тварь в собственной её природе, но так, что по избранию и любви предпочитают этому знанию знание твари в Истине, которою сотворено все, соделавшись причастными Ей. Поэтому в течение всех шести дней поименовывается не ночь, a, после вечера и утра, день первый, затем после опять вечера и утра день второй, далее, после вечера и утра, день третий, и так до утра шестого дня, с которого начинается седьмой день покоя Божия, в повествовании упоминаются хотя и со своими ночами, однако дни, а не ночи. Ибо ночь принадлежит дню, а не день — ночи в том случае, когда высшие и святые Ангелы познание твари в её собственной природе относят к славе и любви Того, в Ком созерцают вечные идеи (rationes), по которым сотворена она, и своим согласнейшим созерцанием составляют единый, сотворенный Господом, день, к которому присоединится и Церковь, освободившись от своего странствования, так что и мы возрадуемся и возвеселимся, в онь (Псал. 117, 24).
ГЛАВА XXVI
Итак, вся тварь совершена чрез шестикратное повторение того дня, вечер и утро которого можно понимать в вышеприведенном смысле, и наступило утро, которым закончился шестой и начался седьмой день, не имевший вечера. А вечера он не имел потому, что покой Божий не относится к той твари, которая, будучи в течение предыдущих дней создаваема, познавалась в себе самой иначе, нежели в Том, в истине Кого она должна была создаваться, и как бы бледный вид познания которой составлял вечер. Отсюда, в повествовании о творении вещей под днем надобно разуметь форму самого творческого действия, под вечером — конец его, а под утром — начало нового, чтобы не сказать вопреки Писанию, что кроме шести дней создана была тварь седьмого дня; или что сам седьмой день — не тварь; но чрез все дела творения повторяется один и тот же, сотворенный Богом, день, — повторяется не телесным обращением, а духовным познанием, когда блаженный сонм Ангелов первоначально созерцает тварь, в Слове Бога, которым Бог изрекает: да будет, почему сначала она является в познании Ангелов, когда говорится: и бысть тако, а затем Ангелы познают ее в её собственной природе, что обозначается наступившим вечером, и, наконец, познание её, уже сотворенной, относят к прославлению Истины, в которой раньше созерцали идею её творения, что обозначается наступавшим утром. Таким образом, чрез все эти дни проходит один день, который надобно понимать не в смысле обыкновенных дней, которые, как мы видим, определяются и исчисляются обращением солнца, а некоторым иным образом, какого не могут быть чужды три первые дня, исчисляемые до создания светил. И такой порядок продолжался не до четвертого дня, с которого мы могли бы мыслить обыкновенные уже дни, а до шестого и седьмого; так что гораздо иначе надобно понимать день и ночь, которые Бог разделил друг от друга (Быт. I, 5), и иначе — день и ночь, которые должны разделяться друг от друга уже светилами, когда Бог сотворил их, говоря: и да разлучают между днем и между нощию (Быт. I, 14). Этот день сотворил Он тогда, когда сотворил солнце, присутствие которого и производит его, а тот первоначально сотворенный, день продолжался уже три дня, когда четвертым его повторением сотворены были светила.
ГЛАВА XXVII
По этой причине в виду того, что не можем в земной нашей смертности опытно знать тот день или те дни, которые исчислялись его повторением, а если и может достигнуть некоторого их понимания, не должны оставаться при дерзком мнении, что уже нельзя иметь о них другого, более соответственного и вероятного, представления, — мы должны думать так, что настоящие семь дней, составляя по примеру тех дней неделю, из повторения которой слагаются времена и каждый день которой продолжается от восхода до захода солнца, представляют собою некую смену творческих дней, но так что не подобны им, а несомненно во многом от них отличны.
ГЛАВА XXVIII
И пусть никто не думает, что сказанное мною о духовном свете, о дне сотворенном и ангельской твари, о созерцании, какое имеет она в Слове Бога, о познании, каким познается тварь в себе самой и возведении её к славе непреложной Истины, в коей созерцалась идея творения вещи, которая потом познавалась, как уже сотворенная, совпадает с пониманием дня, вечера и ночи не в собственном, а как бы в фигуральном и аллегорическом смысле. То правда, что в сравнении с обыкновенным ежедневным и телесным светом тот свет надобно понимать иначе, однако ж и не так, чтобы первый был светом в собственном, а последний — в фигуральном смысле. В самом деле, где свет лучше и вернее, там истиннее и день: почему же не будет там более истинными и вечер и утро? Ибо если в нынешних днях свет склоняется к западу, что мы называем именем вечера, и снова возвращается на восток, что называем мы утром: почему же не назвать и там вечером того, когда [тот свет] от созерцания Творца обращается к рассматриванию твари, а утром — того, когда от познания твари он восходит к прославлению Творца? Ведь и Христос называется светом (Иоан. VIII, 12) не в том значении, в каком называется камнем (Деян. IV, 11), но светом — в собственном, а камнем, очевидно, в фигуральном смысле. Но кто относительно исчисления тех дней не удовлетворится тем мнением, какое мы по своим силам могли себе составить и измыслить, и станет искать другого, которое бы могло быть понимаемо не фигурально, в пророчестве, а в собственном и лучшем смысле настоящего порядка вещей, тот пусть ищет и с помощью свыше находит. Может статься, что и я сам найду, может быть, иное, более соответствующее словам божественного Писания, мнение. Ибо я не настаиваю на своем мнении в такой степени, чтобы не допускал возможности найти другое, заслуживающее предпочтения, мнение, как настаиваю на том, что священное Писание не хотело внушать нам мысли, чтобы покой Божий последовал за утомлением или тягостями работы.
ГЛАВА ХХIХ
Отсюда кто–нибудь, оспаривая меня, может, пожалуй, сказать, что Ангелы высших небес не постепенно созерцают сначала идеи (rationes) в непреложной истин Слова Бога, затем — самые твари и, наконец, познание их в самих себе относят к прославлению Творца, а ум их с удивительною легкостью может обнимать все это одним разом. Но неужели кто–нибудь скажет, или, если скажет, мы должны его слушать, что небесный град, [состоящий] из тысячей Ангелов, или не созерцает вечности Творца, или не знает изменяемости твари, или же после некоторого низшего познания её не прославляет Творца? Пусть все это они могут делать и делают одним разом, но все же таки могут и делают. Отсюда, и день, вечер и утро они имеют одним разом.
ГЛАВА XXX
И мы не должны опасаться, чтобы кто–нибудь, способный возвыситься своею мыслью до подобного предмета, подумать мог, будто такого порядка не может быть там потому, что его не бываете в наших днях, которые происходят вследствие обращения нашего солнца. Правда, его не может быть в одних и тех же частях земли, но кто же не знает что мир, взятый в своем целом объеме, имеет в одно и то же время и день, где есть солнце, и ночь, где нет солнца, и вечер, откуда оно уходит, и утро, куда оно восходит? Зараз всего этого на земле мы, конечно, не можем иметь, однако на этом основании не должны еще приравнивать земной порядок вещей и временно–пространственное обращение материального света к тому духовному отечеству, где существует постоянный день в созерцании непреложной Истины, всегдашний вечер — в познании твари в её собственной природе, всегдашнее утро — в возвращении от этого познания к славе Творца. Ибо вечер происходит там не от удаления высшего света, а различения [от него] низшего познания; в свою очередь, и утро не должно там сменять как бы ночь незнания утренним знанием, а [состоит в том], что даже и вечернее познание оно возносит в похвалу Создателя. Так и оный, не упоминая ночи, говорит: вечер и заутра и полудне повем, и возвещу, и услышит глас мой (Псал. 54, 18), обозначая этою хотя и сменою времен, как мне думается, то, что без смены времен происходит в том отечестве, которого жаждало его странствование.
ГЛАВА XXXI
Но если ангельское общество и единство сотворенного Богом дня проводит и имеет день, вечер и утро одним разом теперь, то неужели оно имело их одним же разом и тогда, когда творилось все? Не воспринималось ли в течении всех шести дней, когда создавалось то, что было угодно Богу сотворить порознь, — не воспринималось ли оно Ангелами сначала в Слове Бога, так что возникло прежде всего в их познании, когда изрекалось: и бысть тако, затем, когда являлось оно, как уже сотворенное, в той своей природе, по которой существует и было угодно Богу, как добро зело, оно подобным же образом познавалось другим низшим некоторым познанием их, которое обозначается [у бытописателя] именем вечера, и, наконец, после вечера наступало утро, когда Ангелы прославляли Бога за это Его дело и получили от Слова Бога познание другой, следующей по порядку своего явления к бытию, твари? Отсюда, день, вечер и утро тогда явились не разом, а порознь, в том порядке, в каком повествует Писание.
ГЛАВА XXXII
Но не было ли все это разом уже и тогда не в смысле моментов времени, как происходят наши дни, когда восходит солнце и заходит и в место свое возвращается, а в смысле духовной силы ангельского ума, с величайшею легкостью обнимающего все, что он [познать] захочет? — Однако же, и не без порядка, который является связью предыдущих и последующих причин. В самом деле, не может быть и познания, если ему не предшествует то, что должно быть познаваемо; а это познаваемое существует раньше в Слове, которым все сотворено, нежели во всем, что Им сотворено. Поэтому, человеческий ум сначала исследует сущее при по мощи телесных чувств и составляет о нем познание сообразно с своею слабостью, а потом отыскивает его причины, если только в состоянии доходить до причин, первоначально и неизменно пребывающих в Слове и таким образом, видеть невидимое Его, творенми помышляемо (Рим. 1. 20). И кто не знает, с какою медленностью и трудностью и в какое продолжительное время человеческий ум приобретает это познание, по причине немощного тела, отягощающего душу (Прем. IX, 15), даже и такую, которая проникнута пламеннейшим стремлением настойчиво и упорно прибрести его? Между тем, соединенный с Словом Бога чистейшею любовью, ангельский ум, будучи сотворен раньше остальных тварей, созерцал их прежде, чем он получили бытие, в Слове Бога, и, таким образом, все, что должно было получить бытие, сначала возникало в познании Ангелов, когда Бог нарекал его к бытию, а потом являлось в своей собственной природе, делаясь и в этом случае предметом познания уже меньшего, которое называется [у бытописателя] вечером. Это познание предшествовалось тою тварью, которая получила бытие, так как все, что может быть познаваемо, предшествует познанию. Ибо если познаваемое раньше не существует оно и не может быть познаваемо. Если [ангельский ум] после этого [познания] оставался бы довольным собою в такой степени, что услаждался бы больше самим собою, чем Творцом, то не было бы утра, т. е. ум ангельский не восходил бы от этого своего познания к прославлению Творца. Между тем, с наступлением утра должна была создаваться и познаваться новая тварь, когда изрекалось Богом: да будет; так что эта тварь сначала опять являлась в ангельском познании, когда говорилось: и бысть тако, а затем — в собственной своей природе, когда наступал вечер.
Таким образом, хотя при этом не было никаких промежутков времени, однако всему предшествовала идея создания твари в Слове Бога, когда Он изрек: да будет свет! И вслед за этими словами явился тот свет, из которого образовался ангельский ум, — явился в своей собственной природе, а не возник откуда–нибудь со стороны, чтобы получить бытие. Поэтому не сказано раньше: и бысть тако, а потом: «и сотвори Бог свет», но вслед же за Словом Бога явился и свет и [этот] суверенный свет приобщился к творческому Свету, созерцая Его и в Нем себя, т. е. ту идею, до которой сотворен. Но он созерцал себя и в себе, т. е. в отличии себя, как твари, от Творца. Отсюда, когда виде Бог свет, яко добро, и когда свет отделен был от тьмы и назван днем, а тьма — ночью, явился и вечер, потому что необходимо было и такое познание, которым бы тварь отличалась от Творца, сознавая себя в самой себе иначе, нежели в Нем; а за вечером наступило утро, дабы то, что должно было чрез Слово Бога явиться после света к бытию, сначала явилось в познании ангельского ума, а затем — в природе самой тверди. Поэтому Бог сказал: да будет твердь и — бысть тако в познании духовной твари, знавшей о том раньше, чем твердь явилась в себе самой. Затем сотвори Бог твердь, т. е. самую уже природу тверди, познание которой было низшим, как бы вечерним; и так до конца всех дел [творения], до самого покоя Божия, который не имеет конца, потому что он не сотворен, как тварь, чтобы о нем могло быть двоякое познание — более раннее и как бы большее, в Слове Бога, как во дни, и позднейшее и меньшее, в себе самом, как в вечеру.
ГЛАВА ХХХIII
Но если ангельский ум разом может обнимать все, что в речи передается поодиночке в порядке связных причин, то неужели и то, что являлось к бытию, именно — твердь, собрание вод, обнаженный вид земли, произрастание кустарников и дерев, образование светил и звезд, водные и земные животные, — все это явилось одним разом, или же в промежутки времени, в течение предназначенных дней? Разве, может быть, все это, когда оно учреждалось первоначально, мы должны мыслить не с точки зрения его естественных движений, как наблюдаем это теперь, а согласно удивительной и неизреченной силе Премудрости Божией, которая досягает от конца даже до конца крепко и управляет вся благо (Прем., VIII. 1)? Премудрость же досязает [от конца до конца], конечно, не шагами, или доходит как бы ногами. Поэтому насколько для неё легко и в высшей степени успешно движение, настолько же легко создал все и Бог, создав все при посредстве Ее: почему и то, что, как мы видим теперь, движется в промежутках времени к достижению свойственного каждому роду предела, возникает из тех присущих ему идей, которые Бог рассеял как семена, в момент создания, когда он рече и быша, повеле и создашеся (Псал. 39, 9).
Таким образом, что медленно [теперь], сотворено без медленности, с какою они проходят [теперь]. В самом деле, времена проходят те числа, которые они получили не временным образом, когда создавались. В противном случае, если бы в отношении к тому [моменту], когда первоначально было создано все Словом Бога, мы стали прилагать естественные движения вещей и обыкновенные пространства дней, которые мы видим [теперь], то потребовался бы не один, а многие дни, чтобы все, что при помощи корней произрастает из земли и покрывает землю, сперва пускало росток под землею, а затем в известное число дней, сообразно своему роду, выходило наружу, хотя бы даже стать тем, что, как совершившееся в один, т. е. третий, день, передает нам Пиcaние о сотворенной природе [растений]. Затем сколько дней надобно было, чтобы полетели птицы, если только, начав с своих зародышей, он достигали до пуха и перьев в течение свойственного их природе числового срока (numeros)? Разве, может быть, сотворены были только лишь яйца, когда в пятый день сказано, чтобы воды извели всякое летающее пернатое по роду своему? А если можно и правильно сказать так потому, что во влаге яиц заключалось уже все, что в известное число дней из них вырастает и развивается, — что им присущи были самые числовые идеи (rationes), бестелесно соединенные с телесными вещами: то почему же нельзя сказать того же и еще раньше яиц, когда те же самые идеи заключались уже во влажной стихии, — идеи, сообразно с которыми летающие могли произойти и развиться в течение свойственных каждому их роду числовых сроков (numeros)? Ибо о Творце, о Котором Писание передает нам, что Он совершал все дела Свои в шесть дней, в другом месте и конечно не в разлад с этим, написано, что Он созда вся обще (Сир. XVIII, 1). Отсюда, Кто создал все разом, Тот разом же сотворил и те шесть или семь дней, или лучше — один, шесть или семь раз повторившийся, день. Почему же нужно было говорить с такою раздельностью и таким порядком о шести днях? А потому, что те, которые не в состоянии понять написанного: созда вся обще, не могут, если речь не идет несколько медленнее, доходить до того, куда она ведет их.
ГЛАВА XXXIV
Каким же образом говорим мы о повторявшемся шесть раз чрез ангельское познание присутствии того света с вечера до утра, когда для него достаточно было и однажды иметь разом и день, и вечерь, и утро: день, когда он созерцал всю тварь разом, как разом же и сотворена она, в тех её первых и неизменных идеях, сообразно с коими она создавалась потом, — вечер когда он познавал тварь в её собственной природе и, наконец, утро, когда от этого низшего познания он восходил к прославлению Творца? Или каким образом предшествовало в нем утро, так что он в Слове познавал имевшее потом явиться к бытию, а затем то же самое познавал вечером, как скоро ничто не сотворено раньше и позже, будучи все сотворено разом? — Напротив, чтО рассказывается на протяжении шести дней, сотворено одно раньше, другое позже, но, с другой стороны, все создано и разом: потому что как то Писание, которое повествует о делах Бога на протяжении шести дней, так и то, которое говорит, что Бог все создал разом, истинно и оба они едино, потому что написаны по внушению единого Духа истины.
Но по отношению к предметам, в области которых промежутками времени не указывается, что в них раньше или позже, хотя и можно сказать и то и другое, т. е. и разом и прежде или позже, однако нам легче понять первое, нежели последнее. Так, когда мы наблюдаем восходящее солнце, взор наш, очевидно, может дойти до него не иначе, как протекши все, лежащее между нами и солнцем, пространство воздуха и неба; но кто в состоянии определить это расстояние? Во всяком случае, до воздуха, который простерт над морем, зрение или луч наших глаз может дойти не иначе, как наперед проникши до воздуха, простертого над землей от того пункта, где в такой или иной стороне твердой земли мы находимся, до берегов моря. Затем, если по той же линии нашего зрения за морем лежат еще земли, то и до того воздуха, который простерт над этими, за морем лежащими, землями взор наш может проникнуть не иначе, как пробежав наперед пространство воздуха, простертого над морем. Допустим, что за этими по ту сторону моря лежащими, землями нет уже ничего, кроме океана: неужели наш взор может проникнуть и в простертый над океаном воздух иначе, а не пробежав сначала части воздуха, простертого над землей по эту сторону океана? Величина океана, как говорят, безмерна, но какова бы она ни была, лучи наших глаз необходимо должны сначала проникнуть тот воздух, который простерт над океаном, а потом — воздух, простертый по другую его сторону, и тогда, наконец, они достигнут уже до солнца, которое мы наблюдаем. Неужели весь этот путь наше зрение проходит не разом, в одно мгновение, хотя мы в этом случае и употребили несколько раз выражение раньше и после? В самом деле, если бы, закрыв глаза, мы поставили свое лицо против солнца, с целью посмотреть на него, и потом сейчас глаза открыли, не подумаем ли мы скорее так, что застали уже свое зрение там, нежели так, что провели его туда; так что самые глаза наши, по–видимому, открылись не раньше, чем зрение наше достигло солнца, к которому было направлено? А этот, выходящий из наших глаз и столь отдаленного предмета достигающий с такою скоростью, что её нельзя определить и с чем–нибудь сравнить, луч — луч телесного света. Он же проходит и все вышеупомянутая безмерные пространства разом и в одно мгновение, хотя несомненно, что проходит их одни прежде, другие после.
Апостол, желая выразить скорость нашего воскресения, сказал справедливо, что оно будет во мгновение ока (1 Кор. XV, 52). Ибо в движениях или мгновениях телесных вещей нельзя указать ничего более скорого. Но если зрение телесных глаз обладает такою быстротою, то какою же быстротою, обладает зрение ума человеческого, а тем более ангельского? А что же сказать о быстроте Премудрости самого всевышнего Бога, которая проницает сквозе всяческая ради своея чистоты и ничтоже осквернено на ню нападает (Прем. VII, 24. 25)? Отсюда, в том, что сотворено разом, никто не может видеть, что должно было явиться прежде, а что после, иначе как в той Премудрости, которою все создано в порядке, разом.
ГЛАВА XXXV
Итак первоначально сотворенный Богом день, если он — ангельская тварь, т. е. тварь пренебесных Ангелов и Сил, присутствовал при всех делах Божиих, а присутствовал он при них своим знанием, каким он познавал, с одной стороны, наперед в Слове Бога то, что должно было создаваться, с другой — в самой, потом, твари уже сотворенное, — познавал не в порядке промежутков времени, а имея в связи тварей одно раньше, другое позже, в действии же Творца все — разом. Ибо что Бог намерен был сотворить, Он сотворил так, что не временным образом создавал временное, а созданное Им начало проходит времена. Поэтому нынешние семь дней, которые производит своим кругообращением свет небесного тела, сообразно с этою своего рода тенью [своего] значения, понуждают нас искать тех дней, когда сотворенный духовный свет мог присутствовать при всех делах Божиих согласно совершенству шестеричного числа. Отсюда, седьмой день покоя Божия утро имел, а вечера не имел. Это значит не то, что Бог почил в седьмой день, как бы нуждаясь в этом дне для Своего покоя, а то, что Он почил от всех, какие сотворил, дел Своих и, конечно, не в чем–либо ином, как в самом Себе не сотворенном, пред очами Своих Ангелов, т. е. так, что ангельская Его тварь, которая присутствовала, как бы день с вечером, при всех делах Его, познавая их в Нем и в них самих, после этих добрых зело дел Его ничего уже больше не познавала, кроме самого Его, почившего в самом Себе от всех дел и ни в одном из них не нуждающегося, чтобы быть более блаженным.
КНИГА ПЯТАЯ
ГЛАВА I
Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, и всякий злак сельный, прежде даже быти на земли, и всякую траву сельную, прежде даже прозябнути: не бо одожди Бог на землю, и человек не бяше делати ю. Источник же исхождаше из земли и срошаше все лице земли (Быт. II. 4–6). — Без сомнения, теперь получает большую устойчивость то мнение, что Бог сотворил только один день и что те шесть или семь дней можно считать повторением одного этого дня; так как священное Писание говорит теперь яснее, подводя некоторым образом итог всему сказанному с начала до настоящего места и заканчивая: Сия книга бытия или сотворения небесе и земли, егда бысть день. Никто, в самом деле, не скажет, что небо и земля в настоящем случае поставлены в том же смысле, как было сказано о них прежде, чем сделано указание на сотворенный день, т. е. В начале сотвори Бог небо и землю (Быт. I, 1). Ибо если эти последние слова понимать так, что Бог сотворил нечто без дня, т. е. раньше, чем явился день, то в каком именно смысле они могут быть принимаемы, об этом я, что считал нужным сказать, сказал в своем месте, не отнимая ни у кого возможности понимать их лучше. Теперь же [бытописатель] говорит: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, достаточно, мне кажется, показывая, что о небе и земле он упоминает здесь не в том смысле, как в начале, до появления дня, когда тьма еще была над бездною, а в том, как сотворены небо и земля, когда явился уже день, т. е. по образовании и разграничении частей и классов вещей, из коих составилась вселенная и получила тот свой вид, который называется миром.
Таким образом, в настоящем случае разумеются то небо, которое Бог, сотворив, назвал твердью, со всем, что на нем находится, и та земля, которая вместе с бездною заняла низшее место, со всем, что на ней находится. В самом деле, [бытописатель] присовокупляет дальше: сотвори Бог небо и землю, чтобы названием неба и земли прежде упоминания о появившемся дне и прежде этого вторичного упоминания [того же названия] устранить предположение, что теперь он называет небо и землю в том же смысле, как и в начале, т. е. раньше, чем сотворен был день. Ибо слова свои он ставит в таком контексте: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, так что, если бы кто захотел первую половину их: Сия книга бытия небесе и земли понимать так, как и изречение: В начале сотвори Бог небо и землю, т. е. раньше, чем сотворен день, на том основании, что и в них сначала упоминаются небо и земля, а потом — появившийся день, тот должен исправить (свое понимание] сообразно со словами второй их половины, так как и после упоминания о явившемся дне название неба и земли повторяется снова.
Впрочем, уже и выражение егда, а также прибавление: бысть день всякому придирчивому [человеку] показывают, что иное понимание и невозможно. Ибо если бы сказано было так: «сия книга бытия небесе и земли… бысть день, сотвори Бог небо и землю», то кто–нибудь мог бы еще подувать, что в выражении: книга небесе и земли небо и земля названы так же, как и в начале, до сотворения дня; затем, выражение бысть день прибавлено подобно тому, как и там потом сказано, что Бог сотворил день, почему вслед за тем сказано: сотвори Бог небо и землю в том уже смысле, как явились они после сотворенного дня. Но так как [бытописатель] вставляет выражение: егда бысть день, которое надобно относить или к словам предыдущим, так чтобы выходило одно изречение: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, или к словам последующим, чтобы опять получалось одно целостное изречение: егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, то упоминаемые в этом случае небо и землю, без сомнения, необходимо понимать так, как явились они с появлением уже дня. Наконец, после слов: сотвори Бог небо и землю прибавлено: и всякий злак сельный, что, как известно, произведено в третий день. Из всего сказанного яснее становится, что Бог сотворил один только день, от повторения которого явились второй, третий и остальные до седьмого дня включительно.
ГЛАВА II
Но так как под именем неба и земли в настоящем месте [бытописатель], по принятому в Писании словоупотреблению, хотел обозначить все вообще творение, то можно спросить, почему сделано прибавление: и всякий злак сельный? — Мне думается, что прибавление это сделано им для того, чтобы яснее показать, какой именно день имеет он в виду, когда говорит: егда бысть день. Легко подумать, что [в настоящем случае] имеется в виду день того телесного света, от обращения которого происходит смена дневного и ночного времени. Но, припоминая себе порядок творения природ и находя полевой злак сотворенным в третий день, прежде чем появилось солнце, присутствие которого производит обыкновенный ежедневный день, мы, в виду изречения: егда бысть день, сотвори Бог небо и землю и всякий злак сельный, убеждаемся, что в настоящем случае речь идет о дне, под которым мы должны разуметь день или телесный, [происходивший] от неизвестного нам света, или духовный, [имевший место] в обществе ангельского союза, но во всяком случае не такой, какой известен нам теперь.
ГЛАВА III
Не лишне обратить внимание и на то, что хотя [бытописатель] и мог сказать: «сия книга бытия небесе и земли, егда… сотвори Бог небо и землю», так чтобы под небом и землей мы разумели все, что в них находится, как божественное Писание и имеет обычай выражаться, обозначая весьма часто именем неба и земли, с прибавлением иногда моря, вообще все творение, а иногда прибавляя еще выражение: и вся яже в них (Псал. 105, 6), под чем мы можем разуметь и день или первоначально сотворенный, или же тот, который явился с сотворением солнца; но он выразился не так, а вставил день, говоря: егда бысть день. Не выразился он и так: «вот происхождение дня, неба и земли», как бы [следуя] тому порядку, в каком рассказывается о совершившихся делах. И не так: «вот происхождение неба и земли, когда появились день, небо и земля, когда сотворил Бог небо, землю и всякий полевой злак»; наконец, и не так: «вот происхождение неба и земли, когда Бог сотворил день, небо и землю и всякий полевой злак», хотя свойство языка требовало скорее именно такого способа выражения. А говорит так: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, как бы давая понять, что Бог сотворил небо и землю и всякий полевой злак, когда появился день.
Но предыдущее повествование [16] указывает день, первоначально сотворенный, и принимает его за первый день, а за ним ставит второй день, в который сотворена твердь, и третий, в который разграничены виды земли и моря и земля произвела деревья и травы. Разве, может быть, повествование это, как мы старались показать в предыдущей книге, имеет то значение, что Бог сотворил все разом; так как хотя там и рассказывалось о совершении всего сотворенного в порядке шести дней, но теперь под именем неба и земли, с прибавлением к ним еще рода кустарников, сводится все к одному дню? Поэтому именно я и сказал выше, что если бы читатель понял день в смысле нынешнего дня, он должен исправить свое понимание, когда припомнит себе, что Бог повелел земле произвести злак сельный раньше солнечного дня. Таким образом, свидетельство о том, что Бог сотворил все разом, открывается уже не из другой книги священного Писания (Еккл. VIII, 1), а убеждает нас в этом свидетельство ближайшее, находящееся на следующей же странице, в словах: егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, и всякий злак сельный. Отсюда, принимай этот [один] день за семь раз повторенный, от чего и явились семь дней, и, слыша, что все сотворено тогда, когда явился день, понимай, если можешь, это шестикратное или семикратное повторение так, что оно происходило помимо промежутков и расстояний времени, а если еще не можешь, предоставь такое разумение могущим, сам же преуспевай в Писании, которое не оставляет тебя в твоей слабости, а с материнскою предупредительностью замедляет для тебя шаги свои и говорит подобным языком для того, чтобы гордых пристыдить высотою, внимательных устрашить глубиною, взрослых питать истиной, а малых — лаской.
ГЛАВА IV
А что значат следующие за тем слова, ибо речь [бытописателя] имеет такую связь: егда бысть день,.. сотвори Бог небо и землю, и всякий злак сельный, прежде даже быти на земли, и всякую траву сольную, прежде даже прозябнути (Быт. II, 4)? Что это значит? Не заслуживает ли исследования вопрос, где Бог сотворил [злак сельный и траву] прежде, чем они явились и выросли на земле? Ибо кто не подумает скорее так, что Бог сотворил их тогда, когда они уже выросли, а не раньше, чем вышли из земли, если только это божественное слово не убеждает его, что Бог сотворил их раньше, чем они вышли [из земли], так что благочестиво верующий Писанию, хотя и не может указать, где они были сотворены, однако верить, что они сотворены раньше, чем вышли [из земли], неверующий же, конечно, не поверит.
Итак, что же сказать нам? Разве то, что все, прежде чем оно явилось на земле, сотворено, как думали некоторые, в самом Слове Бога? Но если оно сотворено таким образом, то сотворено уже не тогда, когда явился день, а раньше появления дня; между тем, Писание ясно говорит: егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, и всякий злак сельный, прежде даже быти на земли, и всякую траву сельную, прежде даже прозябнути. А если [все это сотворено] егда бысть день, значит не раньше появления дня, а следовательно и не в Слове, Которое совечно Отцу раньше, чем явился день, раньше, чем явилось что–нибудь, а тогда, когда явился уже день. Ибо то, что существует в Слове Бога раньше всякой твари, конечно, не сотворено, а [злак и трава] сотворены тогда, когда явился день, как показывают это слова Писания; но, впрочем, раньше, чем явились и произошли на земле, как это говорится о полевых злаках и трав.
Где же [сотворены]? Не в самой ли земле причинно (causaliter) и идеально (rationaliter), подобно тому, как все заключается уже в семенах, прежде чем они в числовые сроки (per numeros temporum) раскрывают и вынаруживают свои зародыши и виды? Но те семена, которые мы видим теперь, существуют уже на земле, уже выросли; а не были ли они [раньше] не на земле, но внутри земли, а потому и сотворены раньше, чем вышли из земли, потому что из земли они вышли уже тогда, когда семена пустили ростки и пробились наружу, что, как мы это видим, совершается в свойственные каждому роду сроки времени? А сотворены семена не тогда ли, когда явился день, и не заключались ли в них полевой злак и полевая трава не в том своем виде, в котором существуют они на земле, уже вышедши из неё, а по той своей силе, по которой они существуют в идеях (rationes) семян? В таком случае, значит, семена произвела первоначально земля? Но Писание передает нам не так, когда говорит: и изнесе земля былие травное, сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодовитое, творящее плод, ему же семя его в нем по роду на земли. Из этих слов явствует, что семена произошли из трав и деревьев, травы же и деревья [произошли] не из семян, а из земли; да и слова Самого Бога имеют тот же смысл. Ибо Он не говорит: «да произрастят в земле семена былие травное, и древо плодовитое», но: да прорастит земля былие травное, сеющее семя, указывая тем, что семя [явилось] из травы, а не трава из семени. И бысть тако, и изведе земля, т. е. сначала явилось так в познании того дня, а потом уже произвела все это земля, так что оно произошло и в самой той твари, которая была создана.
Но каким образом [травы и деревья сотворены] раньше, чем они явились и произошли из земли, как будто иное было для них — явиться вместе с небом и землей, когда явился и тот необыкновенный и неизвестный для нас день, который сотворен был Богом первоначально, и иное — выйти из земли, что могло случиться только в те дни, которые происходят вследствие обращения солнца, в определенные каждому роду промежутки времени? А если так и если день тот есть общество и союз пренебесных Ангелов и Сил, то тварь Божия, без сомнения, известна им гораздо иначе, нежели нам: не говоря уже о том, что Ангелы знают ее в Слове Бога, Которым сотворено все, они и в самой себе знают ее гораздо иначе, нежели мы. Ибо им она известна, как выразился бы я, первоначально или в самом происхождении (originaliter), в том виде, как впервые создал ее Бог и после этого создания почил от дел Своих, перестав творить что–либо больше, а нам — так, как управляются Им раньше сотворенные вещи, в порядке уже времен, согласно с которым Бог действует и доселе, закончив творение вещей по шестеричному совершенству.
Таким образом, земля произвела тогда траву и деревья причинно (causaliter), т. е. получила производительную силу. Ибо в ней произведено было как бы в своих, так сказать, корнях все временное, что долженствовало явиться во времени. Рай на востоке Бог, без сомнения, насадил уже после, и произрастил в нем всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, однако нельзя сказать, что Он прибавил теперь к творению что–нибудь такое, чего не сотворил раньше и что захотел прибавить после к тому совершенству, по которому в шестой день нашел все добро зело; но так как все природы кустарников и деревьев произведены были в первом творении, от которого Бог почил, приводя потом в движение и управляя в течение времен всем, что сотворил и от сотворения чего почил, то тогда Он насадил не только рай, но и все то, что рождается теперь. Ибо кто другой творит все это и ныне, как не Тот, Кто доселе делает? Но теперь Он творит из того, что уже существует; тогда же еще ничего не было и все сотворено в то время, когда явился день, который не существовал и сам, т. е. духовная или разумная тварь.
ГЛАВА V
Итак, сотворенные вещи начали проходить время своими движениями; отсюда, напрасно искать времени раньше твари: как будто можно находить время раньше времени! Ибо если бы не было никакого движения духовной ли или телесной твари, благодаря которому будущее чрез настоящее следует за прошедшим, то не было бы никакого и времени. А само собою понятно, что тварь не могла двигаться, когда её еще не было. Отсюда, скорее время началось от твари, чем — тварь от времени, а то и другая — от Бога. Ибо из Того, и Тем и в Нем всяческая (Рим. XI, 36). Сказанное нами, что время началось от твари, не следует понимать так, будто само время не тварь, раз твари принадлежит движение от одного к другому, а вещи, в свою очередь, следуют одна за другою по распоряжению Бога, управляющего всем, что сотворено Им. Вот почему, обращаясь своею мыслью к первому творению, от которого Бог почил в седьмой день, мы должны представлять себе те дни не как нынешние солнечные дни, а самое [творческое] действие — не в том смысле, как действует Бог теперь, во времени, а в том, как действовал Он в тот момент, с которого началось время, как сотворил Он все разом, сообщив ему и самый порядок в смысле не промежутков времени, а связи причин, так чтобы все, сотворенное Им разом, совершалось и в течение шестеричного числа того дня.
Таким образом, безОбразная, но способная к образованию материя сотворена не во временном, а причинном порядке, — та духовная и телесная материя, из которой сотворено все, что надлежало сотворить, хотя сама она не существовала раньше, чем основоположена, — основоположена не кем иным, как высочайшим и истинным Богом, от Которого произошло все. Эта материя называется или именем неба и земли, которые сотворены Богом в начале, раньше первоначально созданного дня (а названа она так потому, что из неё сотворены небо и земля), или именем невидимой и неустроенной земли и темной бездны, как нами уже сказано об этом в первой книге.
В ряду же того, что произошло из этой бесформенной материи и яснее называется сотворенным, или совершенным, или созданным, прежде всего сотворен день. Ибо надобно было, чтобы первенство получила та природа, которая могла бы познавать тварь чрез Творца, а не Творца чрез тварь. Во–вторых — твердь, с которой начинается материальный мир. В–третьих — виды моря и земли, и в земле в возможности (как сказано) — природа деревьев и трав. Ибо, так именно земля по слову Божию произвела их прежде, чем они вышли из неё, приняв на себя все их числа, который она в течение времени приводит в движение по роду их. Затем, после того, как создано было это, так сказать, вещественное обиталище, в четвертый день сотворены светила и звезды, чтобы высшая часть мира раньше украсилась такими видимыми предметами, которые внутри мира обладают движением. В–пятых, природа вод произвела, по слову Божию, своих обитателей, т. е. всех плавающих и летающих (так как природа вод родственна с небом и воздухом), и опять — в возможности, т. е. в тех числах, которые в соответственное время приводятся в движение. В–шестых, [произведены] как бы из последнего элемента мира и тоже опять в возможности земные животные, числа которых в свое время приводятся видимым образом в движение
Этот–то ряд упорядочиваемой твари и познает тот день и, некоторым образом присутствуя при ней этим познанием шесть раз, дал место как бы шести дням (хотя это был один день), познавая ее первоначально в Творце, а потом постепенно в твари, и не оставаясь в ней, а от позднейшего познания её возвращаясь к любви к Богу, полагал в ней вечер, утро и полдень, в смысле не моментов времени, а порядка создаваемых вещей. Наконец, представляя познание покоя, которым Творец почил от всех дел Своих, — познание, в коем уже нет вечера, он удостоен за это благословения и освящения. Отсюда и само седьмеричное число некоторым образом посвящено Духу Святому — мысль, которая одобряется Писанием и известна Церкви.
Таково происхождение неба и земли, потому что в начале Бог сотворил небо и землю по некоторой, как назвал бы я, способной к образованию материи, которая по слову Его должна была получить образование, предшествуя своему образованию не временем, а порядком. И вот, когда она начала получать образование, прежде всего явился день, а когда явился день, Бог сотворил небо и землю и всякий полевой злак, прежде чем явился он на земле, и всякую полевую траву, прежде чем она выросла из земли, в том уже смысле, как мы объяснили, или, может быть, можно было объяснить каким–нибудь другим, более соответствующим, образом
ГЛАВА VI
А к чему относятся и что означают следующие за тем слова: не бо одожди Бог на землю и человек не бяше делати ю, не легко доискаться. [Выходит] как будто, что Бог сотворил траву полевую прежде, чем она выросла из земли, потому, что не было дождя на земле, ибо если бы Он сотворил ее после дождя, то казалось бы, что она скорее выросла благодаря дождю, чем сотворена Богом. Но что же и из вырастающего после дождя происходит от чего либо другого, как не от Бога? — А почему не было человека, который бы возделывал землю? Не сотворил ли Бог человека еще в шестой день, а в седьмой почил от всех дел Своих? Разве, может быть, [бытописатель] говорит теперь об этом в виде краткого повторения, так как в то время, когда Бог сотворил всякий полевой злак и траву, действительно не было еще на земле ни дождя, ни человека. Ибо злак и траву Он сотворил в третий день, а человека в шестой. Но когда Бог сотворил всякий полевой злак и всякую полевую траву, прежде чем они выросли на земле, то не было не только человека, который бы обрабатывал землю, но не было даже на земле и самой травы, которая сотворена раньше, чем произошла. Разве, может быть, в третий день Бог сотворил [траву и злак] потому, что не было еще человека, который бы произвел их путем обрабатывания земли? А будто очень многие дерева и роды трав не рождаются без всякого старания человека?
Разве не сказано ли так по обеим этим причинам, т. е. с одной стороны потому, что еще не было дождя на земле, а с другой потому, что не было и человека, который бы возделывал землю? Ибо где нет труда человека, там [злак и трава] рождаются благодаря дождю. С другой стороны, есть и такие из них, которые не рождаются от дождя, если при этом не прилагается и старания со стороны человека. В настоящее время, поэтому, необходимы оба [эти условия], чтобы рождалось все; тогда же они оба отсутствовали, почему Бог и сотворил [траву и злак] силою Своего Слова, помимо дождя и труда человека. Он же производит их и ныне, но при посредстве дождя и рук человека: темже им насаждаяй есть что, ни напаяяй, но возращаяй Бог (1 Kop. III, 7).
Что же значит прибавление: Источник же исхождаше из земли и орошаше все лице земли (Быт. II, 6)? Ибо источник, изливавшийся с таким изобилием, как Нил в Египте, мог бы служить для всей земли вместо дождя. Зачем же нужно было говорить, что Бог произвел те растения раньше дождя, когда источник, орошающий землю, мог оказать столько же помощи, сколько и дождь? Пусть что–нибудь меньшее, может быть меньшие [злаки и травы], но все же могли рождаться. Разве и здесь, по своему обыкновению, Писание говорит как бы языком слабым для слабых, делая в тоже время указание на нечто такое, что должен разуметь, кто может? Именно, как несколько выше упомянутым днем оно обозначило, что Бог сотворил один день, и что небо и землю Он создал тогда, когда явился день, дабы вы, по мере возможности, поняли, что Бог создал все разом, хотя сделанное раньше исчисление дней, по–видимому, указывает на промежутки времени; так точно, сказав, что вместе с небом и землей Бог сотворил всякий полевой злак, прежде чем он явился на земле, и всякую полевую траву, прежде чем она выросла, оно прибавляет: не бо одожди Бог на землю и человек не бяше делати ю, как бы так говоря: «все это Бог сотворил не так, как делает теперь, когда бывает дождь и когда действует человек». Все это теперь происходит в течение времени, которого тогда еще не было, когда Он сотворил все разом, с чего началось и самое время.
ГЛАВА VII
Что касается слов: Источник же исжождаше из земли и орошаше все лице земли, то в них, думаю, указывается на то, что, на протяжении времен, происходит уже из того первого творения, когда было все создано разом. И [бытописатель] правильно начинает с той стихии, из которой рождаются все роды как животных, так и трав и деревьев, проходя при этом назначенные им числовые сроки. Ибо все основные начала (primordia) семян, из коих рождаются как животные, так и растения, влажны и развиваются из влаги. А этим началам, в свою очередь, присущи весьма сильные (efficacissimi) числа, заключающие в себе потенции, полученные ими от тех совершённых Богом дел, от которых Он почил в седьмой день.
Но стоит спросить, что это за источник, который мог орошать лицо всей земли? Если он существовал, но исчез или высох, то, спрашивается, какая тому причина? В настоящее время мы не видим такого источника, которым бы орошалось лицо всей земли. Может быть, поэтому, что грех людей повлек за собою и такое наказание, что с ограничением прежнего изобилия этого источника, прекратилось и прежнее плодородие земли, чтобы чрез то увеличился труд её обитателей.
Хотя Писание не говорит об этом нигде, но человеческая догадка могла бы утверждать такую мысль, если бы тут не встречалось возражение, что грех людей, в наказание за который наложен на них труд, открылся после утех рая; в раю же был свой великий источник, от которого, как повествуется, текут четыре больших и известных народам реки (о нем в своем месте мы скажем подробнее). Где же был этот источник или эти реки, когда тот величайший [источник] один исходил из земли и орошал все лицо земли? Само собою понятно, что не Геон же, называемый Нилом и представляющий собою одну из этих четырех рек. орошал Египет в то время, когда источник выходил из земли и напоял не только Египет, но и все лицо земли.
Разве, может быть, надобно думать так, что Богу было угодно орошать всю землю сначала одним величайшим источником, чтобы первоначально сотворенные Им на ней создания рождались потом при помощи влаги, чрез временные промежутки, сообразно с различием своих родов и различным числом дней; затем, насадив рай, Он ограничил этот источник и наполнил землю уже многими источниками, как это видим мы теперь, райский же один источник разделил на четыре великих реки; так что как остальная земля, наполненная родами своих тварей, приводившими в действие соответственные числа своих сроков, имела свои источники и реки, так в свою очередь и рай, насажденный на более высоком месте, изливал из русла своего источника четыре те реки? или же сначала Он орошал всю землю из одного райского, гораздо более обиловавшего водою, источника и оплодотворял ее для произведения в числовые сроки тех родов, которые были сотворены на ней помимо промежутков времени; затем ограничил здесь чрезмерное излияние вод, чтобы они истекали уже по всей земле из различных начал источников и рек; а, наконец, в стране этого источника, омывавшего уже не всю землю, а излившего только известные те четыре реки, насадил рай, где и поместил человека, которого сотворил?
ГЛАВА VIII
Ибо как они проходили времена после первого создания вещей и как происходило управление тварями, созданными первоначально и законченными в шестой день, описано не все, а лишь настолько, насколько считал это достаточным Дух, Который был присущ описывавшему то, что имело значение не только для познания существующих вещей, но и для предизображения вещей будущих. Отсюда, не зная этого, мы должны только догадываться о том, что могло быть и что писатель опустил, впрочем, не по незнанию, стараясь только делать эти догадки сообразно со своим состоянием, поскольку для нас это полезно, дабы не подумать, что в священных Писаниях есть некая несообразность или противоречие, которое оскорбляет мнение читателя и, показывая, будто того не могло быть, о чем упоминает Писание, или отклоняет от веры, или несогласно с верою.
ГЛАВА IX
Поэтому, если соображения, высказанные нами при решении вопроса, каким образом сказанное: Источник же исхождаше из земли и напаяше все лице земли может быть возможным, — если эти соображения кому–либо покажутся несостоятельными, тот пусть ищет другого объяснения, которое бы, однако, не шло в разрез с этим истинным Писанием (а оно, бесспорно, истинно, хотя бы [таким] и не казалось). Ибо если он станет доказывать, что оно ложно, то или сам не скажет ничего истинного о создании тварей и управлении ими, или, если скажет что–нибудь истинное, будет считать Писание ложным по непониманию, если напр. станет настаивать на мысли, что один какой–либо источник не мог орошать всего лица земли потому, что если он не покрывал и гор, то не орошал всего лица земли, а если покрывал и горы, то был уже не сообщением земле тучности, но наводнением потопа; а если земля тогда была в таком виде, то на ней было сплошное море и суши еще не было.
ГЛАВА X
Такому надобно сказать в ответ, что это могло быть временами подобно тому, как в известное время Нил разливается по всей равнине Египта, а в другое входит в свои берега; или, если Нил делается полноводным благодаря водам и зимним снегам какой–то неведомой и отдаленной части света, то что же можно сказать о периодических приливах океана, о некоторых морских берегах, которые то широко обнажаются от волн, то снова ими покрываются? Опускаю при этом рассказы об удивительной периодичности некоторых источников, что они чрез известный промежуток лет так переполняются водою, что заливают всю страну, в которой в другое время едва дают, и то из глубоких колодцев, достаточное для питья количество воды. Что же невероятного, если благодаря периодическим, то прибывавшим, то убывавшим наводнениям из одного русла бездны орошалась тогда вся земля? А если эту великую бездну, за исключением той её части, которая называется морем и видимою массою [воды] с солнечными волнами окружает землю, Писание, имея в виду только ту её часть, которую содержит земля в своих сокровенных недрах, откуда разными течениями и жилами берут свое начало все источники и реки и в своих местах выходят наружу, называет, ради единства природы, источником, а не источниками, — источником, который бесчисленными пустотами и трещинами выходил из земли и подобно расходящимся лучам (crinibus) орошал все лицо земли, не в виде постоянного моря или озера, а в том виде, как текут воды по руслам рек и изгибам ручьев и выступают из них периодическими разливами: то кто же не поймет этого, кроме разве человека, одержимого духом противоречия? Ибо сказание, что орошалось все лицо земли, можно понимать и так, как говорим мы о платье, что оно все цветное, хотя бы цветным было не сплошь, а только пятнами; тем более что в то время, при молодости земли, если не вся она, то наибольшая часть её была, вероятно, равниной, от чего выходящие наружу воды тем шире могли распространяться и разливаться.
Поэтому мы прекращаем речь о величине или множественности этого источника, который или одно имел для себя начало, или же одним источником, всеми своими разветвлениями выходившим из земли, назван ради некоторого единства в сокровенных недрах земли, откуда выходят на поверхность земли воды всех больших и малых источников; или, наконец, что вероятнее, [бытописатель], сказав не: «один источник выходил», а: источник же исхождаше из земли, поставил единственное число вместо множественного, так чтобы мы разумели многие источники, орошавшие каждый свое место или свою страну на земном шаре подобно тому, как мы говорим солдат, а разумеем многих солдат, или как в, числе язв, которыми поражены были египтяне, названы саранча и жаба, хотя этой саранче и жабам не было числа (Псал. 104, 34).
ГЛАВА XI
Но посмотрим еще раз, может ли быть во всех отношениях верным то наше мнение, с точки зрения коего мы сказали, что Бог иначе произвел все твари в первом творении, от которого почил в седьмой день, и иначе производит управление ими, по которому доселе делает, т. е. тогда — разом, без всяких промежутков времени, а теперь — во времени, в течение которого, как мы видим, движутся светила с востока на запад, температура (coelum) изменяется с весны на зиму, растения (germina) чрез известные сроки времени пускают ростки, увеличиваются, зеленеют, засыхают. Равным образом и животные, а также и остальное этого рода временное, зачинаются, развиваются, рождаются и движутся от молодости к старости и смерти в пределах установленных для них сроков времени. А все это кто другой производит, как не Бог, Сам не испытывая никакого движения, ибо для Него не существует времени? Таким образом, Писание, проводя между делами, от коих Бог почил в седьмой день, и делами, которые Он доселе делает, некоторую черту в своем о них повествовании, дает понять, что оно покончило с первыми и начинает рассказ о последних. Предуведомление об оконченных [делах] делается так: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, сотвори Господь Бог небо и землю и всякий злак сельный, прежде даже не быти на земли, и всякую траву сельную, прежде даже прозябнути: не бо одожди Господь Бог на землю, и человек не бяше делати ю. Рассказ же о последних [делах] начинается так: Источник же исжождаше из земли, и напаяше все лице земли. Все, о чем повествуется, начиная с упоминания об этом источнике, производилось уже в течение времени, а не одним разом.
ГЛАВА XII
А так как иначе существуют непреложные идеи всех тварей в Слове Бога, иначе — дела, от коих Бог почил в седьмой день, и иначе — те дела, которые Он с того времени доселе делает, то поставленное мною в ряду этих трех на последнем месте известно нам так или иначе при помощи телесных чувств и из опыта (consvetudo) настоящей жизни. Первые же два, недоступные для наших чувств и обыкновенного человеческого мышления, должны быть сначала предметом веры на основании божественного авторитета, а затем познаваемы из того, что нам так или иначе известно, насколько каждый, в меру своей способности, свыше вспомоществуемый внутренними и вечными идеями, более или менее может познавать их.
ГЛАВА XIII
О первых божественных, непреложных и вечных идеях, по той причине, что Премудрость Божия, чрез Которую все сотворено, знала все это раньше, чем оно сотворено, Писание свидетельствует так: В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу. Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть (Иоан. I, 1–3). Кто же будет настолько безумен, дабы сказать, что Бог сотворил не то, что знал? А если Он знал, то где [знал], как не в Себе Самом, у Кого было Слово, Которым все сотворено? Ибо если Он знал вне Себя, то кто же научил Его? Кто бо разуме ум Господень? или кто советник Ему бысть? или кто прежде даде Ему, и воздается ему? Яко из Того, и Тем, и в Нем всяческая. (Рим. XI, 34–36).
Впрочем, эту мысль достаточно подтверждают и следующие затем слова Евангелия, ибо оно дальше говорит: еже бысть. В Том живот есть и живот бе свет человеком (Иоан. I, 4), потому, конечно, что разумные умы, с какими люди созданы по образу Божию, не имеют света, если [не имеют] Слова Бога, Которым сотворено все, а причастными Его они могут быть только очистившись от всякой неправды и заблуждения.
ГЛАВА XIV
Таким образом, слова: еже бысть… в Том живот есть не следует произносить с такою расстановкой: еже бысть в Том, а затем: живот есть. Ибо что же создано не в Нем, когда, перечислив многие даже и земные твари, псалом говорит: вся премудростию сотворил ecu (Псал. 103, 24); подобным образом говорит и Апостол: яко Тем создана быша всяческая, на небеси и на земли, видимая и невидимая (Кол. 1, 16)? Отсюда, если мы сделаем указанную расстановку, будет следовать, что и сама земля со всем, что на ней находится, есть жизнь. Но если нелепо сказать, что все живет, то во сколько же раз будет нелепее сказать, что оно есть и жизнь, тем более потому, что сам [Евангелист] различает, о какой жизни говорит он, прибавляя: и живот бе свет человеком? Отсюда, расстановку надобно делать так, чтобы сказав: еже бысть, прибавить потом: в Том живот есть, т. е. не в самой твари, в её собственной природе, по которой она сотворена, чтобы быть созданием и тварью, а в Нем — живот так как все, что сотворено, Оно знало раньше, чем все это сотворено, а потому и этот живот — не тварь, которую Оно создало, а жизнь и свет людей, что и есть Сама Премудрость, Само Слово, единородный Сын Божий. Поэтому в Нем заключается жизнь всего, что сотворено, как сказано: Якоже Отец имать живот в Себе, тако даде и Сынови живот имети в Себе. (Иоан. V, 26).
Не следует забывать, что в лучших кодексах стоит: еже бысть, в Том живот бе; так что выражение: живот бе надобно понимать так же, как и выражения: в начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Итак, все, что создано, было в Нем уже жизнью, и жизнью не какою–нибудь, ибо и о скотах мы говорим, что они живут, хотя и не могут пользоваться участием в премудрости, но — жизнью, которая была светом для людей. Ибо разумные умы, очищенные Его благодатью, могут достигать до такого ведения, выше и блаженнее которого нет ничего.
ГЛАВА XV
Но хотя мы читаем и понимаем слова: еже бысть, в Том живот есть [указанным образом], однако остается и такое мнение, с точки зрения которого все, сотворенное Словом, есть в Нем жизнь; в этой жизни Оно созерцало все, когда творило, а как созерцало, так все и сотворило, видяй все сотворенное не вне самого Себя, а в самом Себе тако сочте. И это созерцание не было одним у Него, и другим у Отца, но одним и тем же у обоих, как одна у Них сущность. Так именно о Премудрости, Которою все сотворено, и говорится в книге Иова: Премудрость же откуду обретеся и кое место есть ведения? Не весть человек пути её, ниже обретеся в человецех (XXVIII, 12, 13). И несколько ниже: Cлышахом ея славу, Бог благо позна её путь: сам бо весть место ея. Ибо сам поднебесную всю надзирает, ведый, яже на земли, вся, яже сотвори. Ветров вес и воде меру егда сотворил. Тако видяй сочте (22–26). Этими и подобными свидетельствами доказывается, что все, прежде чем было сотворено, находилось в познании Творящего. И конечно там оно было лучше, где было более истинным, вечным и неизменным. Впрочем, достаточно сказать, чтобы каждый знал или веровал, что все это сотворил Бог; не думаю, чтобы нашелся настолько безумный человек, который бы помыслил, что Бог сотворил то, чего не знал. А если Он знал все это раньше, чем оно сотворено, то раньше своего сотворения оно, конечно, было Ему ведомо в том виде, как оно живет вечно и неизменно и составляет жизнь, по сотворению же — в том, как каждая тварь существует в своем роде.
ГЛАВА XVI
Итак, хотя эта вечная и неизменная Природа, которая есть Бог, имеющий в Себе Самом причину бытия, как и сказано Моисею: Аз есмъ сый (Исх. III, 14), т. е. [существующий] совершенно иначе, чем как существует все, Им сотворенное, ибо существует истинно и первоначально, потому что всегда таков же, не только не изменяется, но и совершенно не может изменяться, не переходит ни во что, Им сотворенное, и все имеет в Себе первоначально, как самосущий; Он не сотворил бы ничего, если бы не созерцал, ни созерцал бы, если бы не имел, ни имел бы всего этого, когда оно еще не было сотворено, если [не имел] так, как существует Он Сам не сотворенный, — хотя, говорю, эта вечная и неизменная природа есть субстанция неизреченная и не может быть выражена человеком человеку иначе, как при помощи некоторых слов, обозначающих время и пространство (хотя она и существует раньше всякого времени и пространства): однако [Бог], сотворивший все, к нам ближе, чем многое сотворенное. О Нем бо живем, и движемся, и есмы (Деян. XVII, 28), тогда как весьма многое из сотворенного, будучи телесным, удалено от нашего ума по причине своего рода несходства с ним; с другой стороны, и самый ум наш не способен созерцать [много сотворенное] у Бога в тех идеях, по которым оно сотворено, чтобы, и не видя телесными чувствами, знать его число (quot), величину (quanta) и качество (qualia). Удалено оно бывает и от наших телесных чувств, потому что иди находится вдали от нас, или же отделено от нашего воззрения и ощущения стоящею между нами и им, либо заграждающею, средою. Отсюда происходит то, что познание твари труднее, чем познание Творца, хотя чувствовать Его благоговейным умом даже и в самомалейшей степени бесконечно блаженнее, чем знать всю вселенную. Поэтому исследователи века сего справедливо обвиняются в книге Премудрости: Аще бо толико возмогоша ведети, да возмогут уразумети век, сих же Владыку како скорее не обретоша (Прем. XIII, 9)? Ибо основания земли неизвестны для наших глаз, а Основавший землю близок уму нашему.
ГЛАВА XVII
Перейдем теперь к рассмотрению тех дел, которые Бог сотворил разом и, закончив их в шестой день, почил от них в седьмой, а затем рассмотрим те дела, которые Он доселе делает. Ибо Сам Бог [существует] до века; то же, с чего начался век, как наш настоящий мир, мы называем сущим от века, а то, что рождается в мире, называем существующим в веке. Отсюда Писание, сказав: вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, несколько ниже говорит: В мире бе и мир Тем бысть (Иоан. I, 3, 10). Об этом деле Бога в другом месте написано так: «Ты сотворил мир от безОбразного вещества» (Прем. XI, 18). Мир этот, как уже нами было упомянуто, весьма часто называется именем неба и земли, которые, как говорит Писание, Бог сотворил тогда, егда бысть день; о словах небо и земля мы сказали, мне кажется, так, как соответствует это сотворению сего мира, именно — что он со всем, в нем находящимся, с одной стороны сотворен в шесть дней, а с другой — тогда, егда бысть день, в соответствие словам [Писания], что Бог созда вся обще (Сир. XVIII, 1).
ГЛАВА XVIII
Многих тварей настоящего мира мы не знаем, — тех тварей, которые находятся или на небе, т. е. выше, чем наше чувство может простираться до них, или на земле, в странах, может быть, необитаемых, или скрытых внизу, в глубокой ли пропасти или же в сокровенных земных недрах. Прежде чем были сотворены, они, конечно, не существовали. Каким же образом было известно Богу то, что еще не существовало? С другой стороны, каким бы образом Он сотворил то, что Ему было не известно? Ибо Он не сотворил ничего, чего не знал. Следовательно, Он сотворил то, что знал, и знал то, что еще не было сотворено. Отсюда, раньше своего сотворения, все и существовало, и не существовало, — существовало в познании Бога, не существовало в своей природе. Вот для чего и сотворен был тот день, которому оно было известно обоими этими способами, т. е. и в Боге и в собственной природе: в Боге — посредством познания как бы утреннего или дневного, а в собственной природе — посредством познания как бы вечернего. Что же касается Самого Бога, то я осмелюсь сказать, что, когда творил, Он знал [творимое] не иначе, а именно так, как ведал его сотворить Тот, у Него же несть пременение, или преложения стень (Иак. I, 17).
ГЛАВА XIX
Само собою понятно, что для знания низших предметов Бог не нуждается в вестниках, как бы становится чрез них более знающим; но простым и удивительным образом Он знает все твердо и непреложно. Вестников Он имеет для нас и для них самих, ибо служить и предстоять Ему, дабы получать от Него наставления о низших [предметах] и повиноваться Его высшим заповедям и велениям составляет для них благо в порядке собственной их природы и субстанции. По–гречески эти вестники называются аггелои; этим общим именем обозначается все то горнее общество, под которым мы разумеем первоначально сотворенный день.
От них не сокрыта и тайна царства небесного, которая в потребное время открылась ради нашего спасения, так как, освобождаясь от настоящего странствования, мы соединяемся с их обществом. Они об этом знали потому, что самое Семя, которое явилось в потребное время, было ими вчинено рукою Ходатая (Гал. III, 19), т. е. властью Того, Кто для них Господь как в образе Божием, так и в образе раба. И Апостол говорит: Мне меньшему всех святых дана бысть благодать сия, во языцех благовестити неизследованное богатство Христово, и просветити всех, что есть смотрение тайны сокровенным от веков в Бозе создавшем всяческая Иисус Христом. Да скажется ныне началом и властем на небесных церковию многоразличная премудрость Божия, по предложению век, еже сотвори о Христе Иисусе Господе нашем (Еф. III, 8–11). Отсюда [эта тайна] была сокрыта в Боге так, что многоразличная премудрость Божия известна была чрез Церковь начальствам и властям на небесах, потому что там именно первоначально [существовала] Церковь, где но воскресении должна собраться и нынешняя Церковь, так что и мы будем подобны Ангелам (Mф. XXII, 30). Таким образом [тайна эта] была известна им от века; потому что всякая тварь [существует] не до века, а от века. Ибо от неё уже произошли века, а не она от века, так как начало её было и началом веков; до века же [существовал] один Единородный, которым и века сотворены (Евр. 1, 2). Посему от лица Премудрости говорится: прежде век основа Мя (Притч. VIII, 23), так что в Ней сотворил все Тот, о Ком сказано: вся премудростию сотворил ecu (Псал. 103, 24).
А что Ангелам не только известна была сокровенная тайна в Боге, но и сама она является им, когда она открывается и проповедуется, об этом свидетельствует тот же Апостол: «И исповедуемо, говорит он, велия благочестия тайна, которая явилась во плоти, оправдана в Духе, показалась Ангелам, проповедана в языках, веровася в мире, вознесеся в славе» (I Тим. III, 16). И если не ошибаюсь, представляется удивительным, что Бог не все знает, что говорится о Нем как бы в настоящем времени, — говорится потому, что Он дает познать Себя Ангелам или людям. Ибо в свящ. Писании нередко встречается такой способ слововыражения, когда лицом совершающим обозначается то, что совершается [им], в особенности в тех случаях, когда говорится о Боге нечто такое, о несоответствии чего с Ним в буквальном смысле громко говорит сама, присущая нашему уму, истина.
ГЛАВА XX
Отделим теперь дела, которые Бог доселе делает, от тех дел Его, от коих Он почил в седьмой день. Ибо есть люди, которые думают, что только мир сотворен Богом, а все остальное совершается уже самим миром, как учредил и повелел Бог; Сам же Бог не делает ничего. — Против таких говорит следующее изречение Господа: Отец мой доселе делает. И чтобы кто–нибудь не подумал, что Бог делает нечто в Себе Самом, а не в мире, [Спаситель] говорит: Отец, во Мне пребывающий, творит дела Свои, и яко же Отец воскрешает мертвыя и живит, тако и Сын ихже хощет живит (Иоан. V, 17, 20). А что, наконец, Бог совершает дела не только великие и чрезвычайные, но и настоящие земные и внешние, об этом говорит Апостол: безумне, ты, еже сееши, не оживет, аще не умрет. И еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно, аще случится, пшеницы или иного от прочих: Бог же дает ему тело, якоже восхощет и коемуждо семени свое тело (1 Кор. XV, 36–38). Поэтому, ввиду изречения, что Бог доселе делает, мы должны думать, или, если можем, и понимать так, что если Он это действие от созданных Им вещей отнимет, они погибнут.
Но если мы будем думать, что Бог создает ныне какую–нибудь тварь такую, род которой не заключается в первом творении, то станем в явное противоречие со словами Писания, что Бог все дела Свои закончил в шестой день (Быт. II, 2). Поэтому, если Он теперь и производит много нового, чего тогда не сотворил, то — сообразно с теми родами вещей, которые созданы первоначально. Но чтобы Он вводил новые роды, нельзя этого думать, потому что тогда были закончены все дела. Итак, сокровенною силою Бог движет всю тварь и, претерпевая это движение, когда и Ангелы исполняют данные им повеления, и светила совершают свои круговращения, и ветры чередуются, и бездна клокочет водопадами и воздушными тучами, и зелень пускает ростки и разбрасывает свои семена, и животные рождаются и проводят свою жизнь сообразно своим инстинктам, и праведники подвергаются испытанию со стороны порочных, — она протекает века, которые определены ей при первоначальном творении, но которые она не могла бы проходить, если бы Творец прекратил Свое промыслительное о ней управление.
ГЛАВА XXI
Но надобно нам остановиться своею мыслью на том, что образуется и рождается во времени: как должны мы смотреть на все это? Ибо не даром сказано о Премудрости, что она любителям своим на стезях показуется благоприятно, и во всем провидении сретает их (Прем. VI, 16). И тех решительно не следует слушать, которые думают, что промыслом управляются только высшие области мира, т. е. примыкающие к слою нашего более плотного воздуха и выше лежащие; низшая же, земная и влажная, область, а также слой ближайшего к нам воздуха, который насыщен испарениями земли и воды и в котором носятся ветры и туманы, предоставлены скорее случаю и случайным движениям. Против них говорит псалом, который, выразив хвалу со стороны небесных [предметов], обращается к низшим и говорить: Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны, огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящая слово Его (148, 7, 8). По–видимому, ничто не предоставлено в такой степени случаю, как эти беспокойные и бурные явления, которыми изменяется и нарушается вид видимого нами неба, называемого несправедливо и именем земли. Но прибавив: творящая слово Его, [псалмопевец] достаточно ясно показал, что зависящий от божественной власти порядок и этих предметов скорее скрыт от нас, нежели отсутствует из вселенной. А Сам Спаситель, говоря, что ни один воробей не падает на землю без воли Божией (Mф, X, 29) и что траву полевую, чрез короткое время бросаемую в печь, Бог одевает (Mф. VI, 30), не утверждает ли нас собственными устами в том, что божественным промыслом управляется не только вся эта. область мира, предназначенная смертным и тленным предметам, но и самые ничтожные и последние её предметы?
ГЛАВА XXII
И если бы люди, это отрицающие и не признающие никакого авторитета за свящ. Писаниями, в обитаемой ими части мира, которую они считают скорее предоставленною случайным движениям, чем управляемой божественною премудростью, и для подтверждения своей мысли приводят двоякое доказательство, или, как мы упоминали, из непостоянства атмосферических явлений, или же из незаслуженного счастья и несчастья людей, — если бы в этой области они обратили внимание на тот порядок, какой в телесных членах любого животного открывается, не скажу для медиков, которые по необходимости своей профессии занимаются тщательными разысканиями и вычислениями, а даже и для людей с посредственным смыслом и соображением, то не заговорили бы они о том, чтобы Бог, от Которого происходит всякий масштаб меры, всякое равенство числе, всякий порядок веса, не прекращал Своего управления даже и на мгновение? Что же может быть нелепее и бессмысленнее представления, что лишена промыслительного мановения и управления вся эта область, ничтожный и последний предмет которой мы видим столь планосообразно устроенным, что внимательнейшее рассмотрение его внушает иногда невыразимое чувство удивления? И если природа души превосходит природу тела, то что может быть безумнее мысли, что не существует никакого божественного промыслительного суда над нравственностью людей, если уже и тело их представляет такие указания на премудрый промысл? Но так как тела доступны нашим чувствам и легко их исследовать, то в них порядок вещей ясен; между тем, нравственные явления, порядка коих мы видеть не можем, являются беспорядочными на взгляд тех, которые не считают их упорядоченными именно потому, что не могут их видеть, а если и считают, то считают за нечто такое, что привыкли видеть.
ГЛАВА ХХIII
Мы же, путем которых управляет чрез свящ. Писание божественный промысл, дабы мы не впали в подобную же превратность [мыслей], постараемся, при помощи Божией, по самым делам Божиим подняться туда, где сотворил их Бог разом, когда почил от совершенных дел Своих, виды которых в порядке времени Он производит и доселе. Возьмём в рассмотрение красоту любого дерева, с его стволом, ветвями, листьями и плодами. В этом своем виде дерево возникло, конечно, не вдруг, но мы знаем, в каком порядке [оно возникло]. Именно, оно поднялось из корня, росток которого прикрепляется первоначально в земле, и отсюда уже вырастает дерево в полном своем образовании и разнообразии. Самый росток является из семени: следовательно, все это первоначально заключается в семени, не по материальной величине, а по силе и причинной возможности. Величина дерева есть следствие совместного действия земли и влаги. Но в маленьком зерне заключается более удивительная и превосходная сила, которого прилегающая влага в соединении с землей, эта как бы материя [дерева], превращается в качество древесины, развесистость ветвей, зелень и фигуру листьев, форму и обилие плодов, словом — в весьма стройное разнообразие целого дерева. Что же вырастает на этом дереве или обременяет его такое, что не возникало бы из некоей невидимой сокровищницы семени? А само семя является от дерева, не этого, а другого, которое, в свою очередь, вырастает из другого семени. Иногда же [является] дерево и от дерева, когда отнимают и садят побег. Таким образом, и семя — от дерева, и дерево — от семени, и дерево — от дерева. Но семя [не явится] от семени ни в каком случае, если не посредствует при этом дерево. Дерево же [является] от дерева, хотя бы семя и не посредствовало. Итак, путем преемственных чередований одно [является] от другого, но оба они — из земли, а не земля — от них: следовательно, раньше них — земля рождающая. Точно также и относительно животных еще может быть неизвестным, от них ли семя, или они из семени, но они ли или семя раньше, несомненно, что как они, так и семя — из земли.
Но как в зерне невидимо заключается разом все, что с течением времени вырастает в дерево, так точно и о самом мире, когда Бог сотворил все разом, мы должны мыслить, что он имел все, что в нем и с ним было сотворено, когда явился день, не только небо с солнцем, луною и светилами, вид которых остается при круговом движении, землю и бездны, которые претерпевают как бы непостоянные движения и представляют другую, низшую, часть мира, но и все то, что в возможности и причинно производят из себя вода и земля, раньше чем оно с течением времени выходит наружу, как это нам известно уже из тех дел, которые Бог доселе делает.
46. А если это так, то слова: Сия книга бытия небесе и земли, егда бысть день, сотвори Бог небо и землю и всякий злак сельный, прежде даже быти на земли, и всякую траву сельную, прежде даже прозябнути (Быт. II, 4–5) [надобно понимать] не в том смысле, как Бог творит дела, которые Он совершает и теперь при посредстве дождя и земледелия людей, ибо прибавлено: не бо одожди Бог на землю, и человек не бяше делати ю (Быт. II, 5), но в том, как все Бог сотворил разом и завершил в седмеричное число дней, когда сотворенный день шесть раз присутствовал при делах творения не временным образом, в преемственно сменявшихся моментах, а причинно, своим познанием. От этих дел Бог почил в седьмой день, предоставив познанию и радости этого дня и покой Свой, а потому благословил и освятил его не в каком–либо Своем творческом действии, а в Своем покое. Отсюда, не вводя уже никакой новой твари, но разом сотворенное направляя и приводя в движение Своим промыслительным действием, Он действует непрестанно, в одно и то же время и почивая и действуя, как об этом уже сказано. И вот, как бы начиная рассказ о делах, которые Бог в течение времен доселе делает, Писание говорит: Источник же исхождаше из земли, и напаяше все лице земли (Быт. II, 6). — Так как об этом источнике, что считали нужным сказать, мы уже сказали, то обозрение дальнейших дел Божиих мы начнем с другого пункта.
КНИГА ШЕСТАЯ
ГЛАВА I
1. И созда Бог человека, персть [взем] от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу. — Здесь, прежде всего, надобно решить, имеем ли мы тут дело с кратким повторением [прежде сказанного], так что в настоящем случае говорится о том, как был сотворен человек, созданный, как читаем, в шестой день; или же, в то время, когда Бог сотворил все разом, Он сокровенным образом сотворил и человека, подобно тому, как [сотворил] полевой злак, прежде чем этот злак вышел из земли, так что хотя человек и был уже создан в ином виде где–либо в сокровенном месте природы так же, как и все, что Бог, егда бысть день, сотворил разом, но с течением времени он явился в том уже виде, в каком хорошо или дурно проводит жизнь в своем настоящем виде, подобно тому, как и злак, сотворенный раньше, чем явился на земле, с течением времени и с разлитием упомянутого выше источника, вышел наружу и явился уже на поверхности земли.
2. Попытаемся сначала принять [эти слова] в смысле краткого повторения. Ибо может быть, что человек сотворен в шестой день так же, как сотворен первоначально и самый день, как сотворены твердь, земля и море. А нельзя сказать, чтобы все это, уже сотворенное в некоторых первоосновах, сначала было сокрыто, а потом с течением времени, как бы вновь возникнув, явилось в том виде, в каком устроен мир; но мир сотворен с начала века, егда бысть день, и в его элементах создано разом все то что потом происходит в нем с течением времени по роду своему как в растительном, так и животном царстве. Нельзя думать, чтобы и самые светила сначала сотворены были в элементах мира, а потом с течением времени появились и начали блистать в тех своих формах, в каких они светят с неба; но все они сотворены в шестиричное совершенное число разом, егда бысть день. Итак, так же ли [сотворен] и человек, т. е. в том уже своем виде, в каком он живет по своей природе и поступает хорошо или дурно, или же и он [сотворен сначала] сокровенно (подобно тому, как [сотворен] злак полевой, прежде чем явился на земле), чтобы, с течением времени, стать видимым; что и было сотворением его из земли.
ГЛАВА II
3. Допустим, что человек сотворен из земли в своей настоящей, видимой нами, форме в шестой день, только тогда не упомянуто было о том, что дается видеть теперь при повторении, и посмотрим, согласно ли с нами само Писание. Здесь, еще при повествовании о делах шестого дня, пишется: И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию: и да обладает рыбами морскими, и птицами небесными, (и зверьми,) и скотами, и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли. И сотвори Бог человека. по образу Божию сотвори его; мужа и жену сотвори их. И благослови их Бог, глаголя; раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, (и зверьми,) и птицами небесными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли (Быт. I, 26–28). Итак, человек был образован из земли и из ребра его была создана жена уже в шестой день; но тогда не упомянуто было об этом, что упоминается теперь при повторении. А в шестой день не мужчина только сначала был сотворен, а потом, с течением времени, создана женщина, но, говорит Писание, сотвори его, мужа и жену сотвори их, и благослови их. Каким же образом женщина была сотворена в то время, когда человек уже был введен в рай? Разве, может быть, Писание восполнило теперь пропущенное тогда? Ибо в самый же шестой день и рай был насажден, и человек был введен туда, и был он усыплен, чтобы создана была Ева, и пробудился, когда была образована Ева, и нарек ей имя. Но все это могло совершиться не иначе, как в течение промежутков времени. Отсюда, все это произошло не так, как сотворено было все разом.
ГЛАВА III
4. Ибо какого бы возвышенного представления человек ни был о той легкости, с какою Бог мог совершить разом вместе с остальным и это; по крайней мере, о человеческих словах нам известно, что они не могут быть произносимы голосом иначе, как в течение промежутков времени. Отсюда, когда мы слышим слова человека, или когда он нарекал имена животным, или когда давал имя жене, или когда вслед за тем говорил: сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей: и будет два в плоть едину (Быт. II, 24), то из скольких бы слогов его слова ни состояли, разом не могли быть произнесены два слога, тем менее могли разом совершиться все эти события, вместе с тем, что было сотворено разом. Отсюда, или все это не разом явилось, а в течение промежутков времени, и день тот, первоначально сотворенный субстанцией не духовною, а телесною, производил утро и вечер или каким–то, не знаю, круговращением света, или его сокращением и расширением. Или же, буде приведенные нами при рассмотрении всего, чего мы касались в предыдущей речи, вероятные доводы оказались убедительными, что днем назван некоторый, в высшей области и первоначально созданный, разумный свет, т. е. день духовный, присутствие которого имело место при создании вещей в шестеричное число под формою упорядоченного познания; а с таким воззрением согласны и слова Писания, которое говорит: егда бысть день, сотвори Бог небо и землю; и всякий злак сельный, прежде даже быти на земли, и всякую траву сельную, прежде даже прозябнути (Быт. II, 4–5), и в другом месте: Живый во веки созда вся обще (Сир. XVIII, I): то несомненно, что сказанное о сотворении человека из земной персти и образовании жены из его ребра относится не к творческому действию, которым сотворено все разом и по совершении которого Бог почил, а к тому действию, которое совершается уже в течение веков и которое Бог производит доселе.
5. К тому же, и самые слова, в которых повествуется, как Бог насадил рай, как поместил в нем человека, которого создал, как привел к нему животных, чтобы он нарек им имена, и, когда среди них не нашлось помощника, подобного ему, из вынутого у него ребра образовал ему жену, достаточно убеждают нас, что все это относится не к тому действию, от которого Бог почил в седьмой день, а скорее к тому, которое в течение времени Он совершает доселе. В самом деле, когда насаждался рай, об этом повествуется так: И насади Бог рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда. И прозябе Бог еще от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь (Быт. II, 8–9).
ГЛАВА IV
Итак, раз говорится: — от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь, ясно, что Бог иначе произвел из земли дерево теперь, и иначе тогда, когда земля в третий день произвела былие травное, сеющее семя по роду своему, и древо плодовитое по роду. Выражение: — означает: «сверх того, что уже Он произвел», тогда — в возможности и причинно, в действии, имеющем отношение к сотворению разом всего, по совершении чего Бог почил в седьмой день, теперь же — видимым образом, в действии, имеющем отношение к течению времен, к тому, как Он доселе делает.
6. Но, может быть, кто–нибудь скажет, что не всякого рода дерева сотворены в третий день, а некоторые отложены до шестого, когда сотворен и введен в рай человек. Но Писание весьма ясно говорит, что сотворено в шестой день: это — живая душа по роду каждой из тварей, т. е. душа четвероногих, пресмыкающихся и зверей, и, наконец, — сам человек по образу Божию, мужчиной и женщиной. Поэтому, оно могло не коснуться вопроса, как был сотворен человек, хотя и повествует, что он был создан в этот день, дабы потом, при повторении, вставить и то, как именно был он сотворен, т. е. из персти земной, а жена из ребра его; но не могло оно пропустить какого–либо рода твари [подразумевая его] либо в словах: да будет! или: сотворим, либо в словах: и бысть тако и: сотвори Бог. В противном случае напрасно все распределено по отдельным дням с такою тщательностью, если возможно какое–либо опасение смешения дней и остается место для мысли, что хотя трава и деревья приписаны третьему дню, однако некоторые дерева сотворены и в шестой день, только Писание в шестой день о них умалчивает.
ГЛАВА V
7. Что же теперь ответить нам насчет полевых зверей и птиц небесных, которых Бог привел к Адаму, чтобы видеть, как он назовет их? Об этом пишется так: И рече Господь Бог: не добро быти человеку единому: сотворим ему помощника по нему. И созда Бог еще от земли вся звери сельныя, и вся птицы небесныя, и приведе я ко Адаму, видети, что наречет я: и всяко еже аще нарече Адам душу живу, сие имя ему. И нарече Адам имена всем скотом, и всем птицам небесным, и всем зверем земным: Адаму же не обретеся помощник подобный ему. И наложи Бог изступление на Адама, и успе: и взя едино от ребр его, и исполни плотию вместо его. И созда Господь Бог ребро, еже взя от Адама, в жену (Быт. II, 18–22). Итак, если Бог между полевыми скотами и зверями и птицами небесными не нашел для человека подобного ему помощника и потому сотворил подобного ему помощника из ребра его, а это произошло тогда, когда Бог созда еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя и приведе я ко Адаму, то каким же образом можно думать, что случилось это в шестой день, так как в шестой день земля, по слову Божию, произвела живую душу, птиц же небесных произвели воды и также, по слову Божию, в пятый день? Отсюда, слова: И созда Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя сказаны здесь, надобно думать, не почему–либо иному, как потому, что земля произвела уже полевых зверей в шестой день, а воды птиц небесных — в пятый, следовательно, иначе тогда и иначе теперь: тогда — в возможности и причинно, как приличествовало тому действию, которым сотворено все разом и от которого Бог почил в седьмой день; а теперь — так, как видим мы то, что Он творит в течение времени, т. е. как доселе делает. Поэтому, Ева сотворена из ребра своего мужа в те известнейшие нам дни материального света, которые происходят от обращения солнца. Ибо тогда именно созда Бог еще от земли вся звери и птицы небесныя, и, когда между ними не нашлось для Адама подобного ему помощника, сотворил Еву. В эти же дни, следовательно, Он создал из земли и самого Адама.
8. Ибо нельзя сказать, что в шестой день создан был только мужчина, а женщина в последующее время, так как о шестом дне весьма ясно сказано; мужа и жену сотвори их и благослови их и проч.; а это говорится о них обоих. Отсюда, оба они иначе [сотворены] тогда, и иначе теперь: тогда — в возможности, вложенной в мир по слову Божию как бы в семени, еще тогда, когда Бог разом сотворил все, от чего почил в седьмой день и из чего в порядке веков возникает все в свойственное каждому время; а теперь — в действии, приличествующем времени, — в том действии, которое Бог совершает доселе, когда в свое время надлежало произойти Адаму из персти земной, а жене — из ребра мужа.
ГЛАВА VI
9. Если в этом разделении дел Божиих, относящихся, с одной стороны к тем невидимым дням, в которые Бог сотворил все разом, с другой стороны, к вашим обыкновенным дням, в которые Он ежедневно совершает все, что только из этого всего, как из первооснов, развивается во времени, мы не совсем не кстати и не к делу следовали словам Писания, которые привели нас к такому различию; тем не менее надобно опасаться, чтобы в виду довольно трудного умопредставления самых этих предметов, которого не способны усвоить люди менее сообразительные, не подумали о нас, что мы думаем и говорим о чем–то таком, о чем не можем ни думать, ни говорить. Ибо хотя я в предыдущей речи, насколько мог, я предварял читателя, однако, думается мне, очень многие в области подобных предметов остаются в потемках и полагают, что в том, действии Божием, которым сотворено все разом, человек явился в таком виде, что имел уже некоторую жизнь; так что мог различать и понимать обращенную к нему речь Бога: се дах вам всякую траву семенную. Пусть же, кто так думает, знает, что этого я ни думал, ни говорил.
10. Но такой, если, с другой стороны, я скажу ему, что в первом создании вещей, в котором Бог сотворил все разом, человек был не таким, как он является не только человеком совершеннолетним, а даже и ребенком, и не только ребенком, а даже и младенцем во чреве матери, да и не только им, а даже и видимым семенем человека, подумает, что человека тогда совсем не было. Пусть же обратится к Писанию: там он найдет, что в шестой день человек сотворен по образу Божию и что сотворены муж и жена. Равным образом, если он спросит, когда сотворена жена, найдет, что она сотворена после шести дней; ибо она сотворена тогда, когда Бог созда еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя, а не тогда, когда воды произвели птиц, а земля живую душу, какая есть и у зверей. Но и теперь сотворены муж и жена. Следовательно, они [сотворены] и тогда, и теперь, но не тогда только, а и не теперь, или же не теперь только, а и не тогда: ибо и теперь [сотворены] не другие, а те же самые, но только иначе тогда, и иначе теперь. Если он спросить у меня, каким это образом, я отвечу: теперь — видимо, в той форме, в какой известен нам состав человека, впрочем — не по происхождению от родителей, а муж из земли, а жена от кости его. Если спросит, как же тогда, отвечу — невидимо, в возможности, причинно, как возникает будущее, но еще не совершившееся.
11. Но он не поймет, пожалуй, и этого. Ибо в данном случае он отвлекается от всего, что ему известно, даже от телесности семян; потому что человек не был даже и чем–либо подобным, когда создан был в первом шестидневном творении. Правда, семена дают некоторое сходство с этим предметом в виду того, что в них содержится как нечто будущее, однако раньше всех видимых семян существуют те [творческие] причины; но он этого не понимает. Что же мне делать с ним, как не убеждать его, насколько возможно, веровать божественному Писанию, что человек создан, с одной стороны, тогда, когда Бог егда бысть день, сотворил небо и землю, о чем Писание в другом месте говорит: Живый во веки созда вся обще, а с другой тогда, когда творил Он не разом все, а каждый вид бытия в свойственное ему время, при чем человека создал из земли и из его ребра жену, ибо Писание не дозволяет нам ни такого понимания, что муж и жена в таком виде сотворены уже в шестой день, ни такого, что в шестой день они не сотворены вовсе.
ГЛАВА VII
12. Но, быть может, в шестой день сотворены были их души, в разумном уме которых справедливо мыслится и самый образ Божий, так что тело образовалось после? Писание не дозволяет нам думать таким образом, во–первых, по причине окончания [творческих] дел, которое не знаю, как может быть понимаемо, если тогда причинно не создано было что–нибудь такое, что создано потом видимым образом; затем потому, что самый мужеский и женский пол может состоять не в чем ином, как в телах. Если же кто–нибудь подумает, что тот и другой пол надобно понимать в смысле разумения и действия в одной душе, в таком случае как же он будет понимать то, что сказано в этот день относительно вкушения от плодов древесных и что, конечно, приличествует только человеку, имеющему тело? Ибо если и это вкушение он захочет понимать иносказательно, в таком случае отступит от собственного смысла совершавшихся событий, который в повествованиях подобного рода должен быть прежде всего выдерживаем со всею тщательностью.
ГЛАВА VIIl
13. А каким образом, возразит он, говорил Бог тем, которые еще не слышали и не понимали, так как еще не были в состоянии воспринимать слова? Я ответил бы на это так, что Бог говорил им таким же образом, как говорил Христос нам, еще не родившимся и чрез долгое время имевшим явиться на свет, да и не нам только, а и всем, которые, как Он предвидел, будут Его последователями, Он сказал: се аз с вами есмь до скончания века (Mф. XXVIII, 20), — как ведом был Богу пророк, которому Он сказал: прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя (Иер. I, 5), или как Левий был приемляй десятины, находясь еще в чреслах Авраама (Евр. VIII, 9–10). Почему же не могло быть того же и с самим Авраамом в Адаме, а с Адамом в первых делах мира, которые Бог сотворил все разом? Но слова Господа были произнесены плотскими Его устами, а слова Бога — временным телесным голосом чрез уста пророков и для своих слогов требовали соответствующих промежутков времени; между тем, когда Бог говорил: Сотворим человека по образу нашему и по подобию: и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, (и зверьми,) и скотами и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли — и: раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, (и зверьми,) и птицами небесными, и всеми скотами и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли, и: се дах вам всякую траву семенную сеющую семя, еже есть верху земли всея, и всякое древо плодовитое, еже имать в себе плод семене семенного, вам будет в снедь (Быт. I, 26, 28–29), то эта речь Его, раньше всякого воздушного звука, раньше всякого плотского и обычного голоса, как бы звучала в Его высочайшей Премудрости, которою сотворено все, — звучала не для слуха человеческого, а в вещах уже сотворенных полагала причины вещей, долженствовавших быть сотворенными, и всемогущею силою производила будущее и как бы в семени или корне времени создавала человека, долженствовавшего в свое время получить образование, — создавала тогда, когда еще полагалось начало веков, сотворенных тем, Кто Сам существует раньше веков. Ибо одни твари предшествуют другим — некоторые по времени, а некоторые по причинам: Он же, все сотворивший, предшествует всему не только тем Своим совершенством, по которому Он есть производитель и самих причин, но и вечностью. Об этом предмете, впрочем, по поводу более подходящих мест Писания нам, может быть, придется сказать подробнее.
ГЛАВА IX
14. Теперь же поведем до конца начатую о человеке речь, сохраняя при этом умеренность и предпочитая тщательность изыскания глубокого смысла Писания дерзости утверждения. Ибо нельзя сомневаться, что Бог знал Иеремию раньше, чем образовал его в утробе [матери]; об этом Он говорит весьма ясно: прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя. Где же Он познал его, прежде чем образовал в утробе матери (хотя постижение этого для нашей слабости или трудно, или невозможно) — в некоторых ли ближайших причинах, подобно тому, как Левий в чреслах Авраама был приемляй десятины, или в самом Адаме, в котором род человеческий заключался, как в корне, и притом в самом Адаме — тогда ли, когда он уже образован был из земли, или тогда, когда он причинно сотворен был в делах, которые Бог сотворил все разом, или же скорее — раньше всякого творения, подобно тому, как Бог избрал и предопределил святых своих до сложения мира (Еф. I, 4), или, наконец, во всех этих причинах: во всяком случае, будут ли это — причины, которые я перечислил, или же те, о которых я не упомянул, Бог знал его раньше; чем образован он был в утробе матери; не думаю, чтобы надобно было доискиваться этого с большею тщательностью, лишь бы было известно, что Иеремия только с того времени, как явился на свет от родителей, получил жизнь в собственном смысле и, возрастая с течением времени, мог жить хорошо или худо, а ни в каком случае не раньше, не только прежде чем образован был в утробе матери, но даже и тогда, когда уже получил образование, но еще не родился. Ибо не подлежит ни малейшему сомнению апостольское изречение о близнецах, в утробе Ревекки еще не сделавших чего–либо доброго или худого (Рим. IX, 11).
15. Однако, не напрасно написано, что «не чист от греха и младенец, хотя бы один только день жил на земле» (Иов. XIV, 4, по LXX), и в псалме: «се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех вскормила меня мать во чреве» (50, 7), а также и то, что в Адаме все умирают, в котором все согрешили (Рим. V, 12). Но, с другой стороны, какие бы заслуги (merita) родителей ни переходили на потомство, и какая бы благодать Божия ни освящала каждого, прежде чем он рождается, будем твердо держаться, что нет лицеприятия у Бога и никто, прежде чем рождается, не делает ни худого, ни доброго, что относилось бы к его собственному лицу. И то мнение, с точки зрения которого некоторые полагают, что некогда души более или менее согрешили и по мере своих грехов ниспосылаются в разные тела, не согласно с изречением Апостола, так как он весьма ясно говорит, что еще не родившиеся не делают ничего ни доброго, ни худого.
16. Отсюда, мы снова в своем месте возвратимся к вопросу, чем грех прародителей отразился на всем роде человеческом; но относительно того, что человек, прежде чем сотворен был из земли, т. е. прежде чем явился в свое время к жизни, не мог наследовать никакой подобной вины (merita), никакого вопроса быть не может. Ибо как об Исаве и Иакове, которые, по словам Апостола, еще родившись, не сделали ничего ни худого, ни доброго, мы не могли бы сказать, что они наследовали какую–нибудь заслугу своих родителей, если бы сами родители не сделали ничего ни худого, ни доброго, и — о всем роде человеческом, что он согрешил в Адаме, если бы не согрешил сам Адам, а Адам мог согрешить не иначе, как явившись уже к жизни, когда только и мог сделать что–нибудь худое или доброе: так точно напрасно поднимать вопрос о грехе или точнее деянии Адама, когда он, будучи создан вместе с прочими вещами разом, не жил ни собственною жизнью, ни в своих, живших такою жизнью, родителях. Ибо в том первом творении мира, когда Бог сотворил все разом, человек создан был таким, каким он имел быть, т. е. в идее (ratio) творения, а не в самом действии сотворения.
ГЛАВА X
17. Но [идеи] существуют иначе в Слове Бога, в котором они не сотворены, а вечны, иначе — в элементах мира, где все, имевшее явиться к бытию, сотворено разом, иначе — в вещах, которые, будучи причинно (secundum causas) сотворены разом, творятся уже не разом, но каждая в свое время, а в том числе и Адам, уже образованный из земли и одушевленный дыханием Божиим, как и полевой злак вышедший на поверхность земли, наконец — иначе в семенах, в коих первоосновные причины снова как бы повторяются, происшедши от тех вещей, которые уже существуют сообразно с сотворенными первоначально причинами, как напр. трава — из земли, семя — из травы. Во всех этих [случаях] получает свои временные обнаружения и действия то сотворенное, которое из скрытых в невидимых начал (rationibus), причинно заключенных в твари, является уже в видимых формах и природах, как напр. трава, выходящая на поверхность земли, человек, созданный в душу живу, и все прочее как в растительном, так и в животном царстве, относящееся к тому действию, которое Бог совершает и доселе. Но и эти формы и природы как бы снова содержат самих себя в некоторой скрытой производительной силе, которую они заимствуют из тех первоосновных своих причин, в которых они заключены были при создании мира, егда бысть день, прежде чем получили обнаружение в видимой своего рода форме.
ГЛАВА XI
18. Ибо если бы [первоначальные] дела, которые Бог сотворил все разом, были в своем роде несовершенными, то к ним должны бы быть впоследствии прибавлены и те, коих недоставало для их совершенства; так что совершенство вселенной должно бы было состоять из тех и других, взятых по половине, точно бы это были части одного целого, из соединения коих и составилось бы целое, частями которого они служили. С другой стороны, если бы они были совершенными. как становятся совершенными, когда каждое из них является от времени до времени в своих видимых для нас формах и действиях; в таком случае, очевидно, от них или ничего бы потом не происходило, или же происходило такое, чтО Бог не перестает производить от вещей, уже происшедших в свое время. Между тем, так как [дела], которые при творении мира сотворены Богом все разом и должны были в последующее время раскрыться, с одной стороны, в некотором роде уже закончены, а с другой в некотором роде начинаются, — закончены в том отношении, что в своих природах, которыми [вещи] проходят соответствующее им течение времени, не заключают ничего такого, чего не было дано в них при [первоначальном] творении, а начинаются в том, что [дела первоначального творения] были как бы некоторыми семенами будущих вещей, долженствовавшими в течение веков из скрытого состояния достигнуть своего в соответствующих местах обнаружения, то для убеждения нас в этом вполне достаточны слова самого Писания, если только мы в них вникнем. А Писание называет их и законченными и начинающимися: ибо если бы они не были закончены, то не было бы написано: И совершишася небо и земля, и все украшение их. И соверши Бог в день шестый дела своя, яже сотвори: и почи в день седмый от всех дел своих, яже сотвори. И благослови Бог день седмый и освяти его. С другой стороны, если бы они не начинались, не стояло бы дальнейших слов, так как в тот день Бог почи от всех дел своих, яже начать творити.
19. Если теперь спросит кто–нибудь, каким образом Бог их и закончил, и начинает (а Он не иные закончил и иные начинает, а те самые, от коих почил в седьмой день), то вопрос этот разрешается ясно из сказанного выше. Именно — закончил Он их, по нашему представлению, тогда, когда сотворил все разом и с таким совершенством, что ничего уже не надобно творить такого, чего не было бы сотворено тогда причинно; а начинает так, что положенное в этих причинах производит в действии. Ибо созда Бог человека, персть или грязь взем от земли, т. е. из персти или грязи земной, и вдуну или вдохнул в лице его дыхание жизни, и бысть человек в душу живу. Не предназначен только теперь человек [к бытию], ибо к бытию он предназначен в предвидении Создателя до века, ни причинно начата в совершительном смысле (consumate), или начинательно (inchoate) закончен, ибо в таком виде он [существовал] от века в первоосновных началах (rationibus), когда все творилось разом; а сотворен в свое время — видимо по телу, невидимо по душе, состоя из души и тела.
ГЛАВА XII
20. Посмотрим же теперь, как сотворил Бог сначала из земли тело человека, а потом, насколько будем в состоянии, скажем и о душе его. — Было бы представлением совершенно детским, что Бог образовал человека из земной персти телесными руками; если бы даже Писание подобным образом и выразилось, мы должны бы думать, что скорее писатель в этом случае употребил переносное выражение, нежели Бог ограничен такими же членами, какие мы видим в своих телах. Правда, оно говорит: Рука твоя языки потреби (Псал. 43, 3) и: «Ты извел народ твой рукою крепкою и мышцею высокою» (Пс. 135, 11–12), но кто же настолько безумен, чтобы не понять, что название этого члена поставлено здесь в смысле власти и силы Бога?
21. Не следует придавать значения и той, высказываемой некоторыми, мысли, что человек представляет собою особенное творение Божие потому, что обо всем прочем Бог рече и быша, а его Он Сам сотворил; скорее человек [особенное творение] потому, что Бог сотворил его по образу Своему. Ибо слова: рече и быша (Пс. 148, 5) сказаны потому, что все сотворено Словом Бога, как только это и могло быть выражено людям чрез человека словами, которые мыслятся временным образом и произносятся голосом. А так говорит Бог в том только случае, когда Он говорит чрез посредство телесной твари, как напр. с Авраамом, Моисеем, или чрез облако о Сыне Своем. Но раньше всякой твари, чтобы она явилась к бытию, Он говорил Тем Словом, Которое в начале бе к Богу; а так как вся Тем и без Него ничтоже бысть (Иоан. I, 1, 3), то чрез Него, конечно, создан и человек. Без сомнения, Словом сотворил Бог и небо, потому что рече и — оно бысть; однако написано: и дела руку твоею суть небеса (Пс. 101, 26). Даже и о самом, так сказать, исподе нашего мира написано: яко Тою есть море, и Той сотвори е, и сушу руце Его создасте (Пс. 94, 5). Итак, не то должны мы ставить в честь человеку, что обо всем прочем Бог рече и быша, а его сотворил, или — все прочее [сотворил] словом, а его руками. Но превосходство человека состоит в том, что Бог сотворил его по образу Своему, даровав ему разумный ум, которым он превосходит скотов; о чем выше мы уже вели речь. Поставленный в такой чести, он, буде не разумеет, что должен вести себя хорошо, уподобится тем самым скотам, над которыми превознесен. А так и написано: человек, в чести сый, не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс. 48, 13). Ибо Бог сотворил и скотов, но не по образу Своему.
22. Не следует говорить и так, что человека Бог сотворил, а скотам повелел [быть], и они явились; но как его, так и их Он сотворил Словом Своим, имже вся бысть (Иоан. I, 3). Но так как это Слово есть Его премудрость и сила, то оно называется и Его рукою, но не членом видимым, а силою созидающею. Ибо то самое Писание, которое говорит, что Бог создал человека из персти земной (Быт. II, 7), говорит в то же время, что Он создал из земли и полевых зверей, когда вместе с птицами небесными привел их к Адаму видети, что наречет я. Об этом написано так: И созда Бог еще от земли вся звери сельныя (Быт. II, 19). А если Он образовал из земли и человека и зверей, то какое же человек имеет превосходство, как не то, что сотворен по образу Божию? Но таким он сотворен не по телу, а по разумному уму, о чем скажем мы после. Впрочем, и в самом теле своем он имеет некоторую, указывающую на это, особенность, ту именно, что сотворен с поднятым кверху станом, а это должно внушать ему, что он не должен тяготить в земному, подобно животным, все удовольствие которых получается от земли, почему все они наклонены и распростерты на брюхо. Таким образом, и тело человека соответствует его разумной душе, но не чертами и фигурой членов, а тем, что оно поднято прямо в небу, для созерцания тех предметов, которые в системе видимого мира занимают высшее место, как и разумная душа должна направляться к тому, что в области духовных предметов наиболее превосходит своею природою, дабы услаждаться горним, а не тем, что на земле (Кол. III, 2).
ГЛАВА XIII
23. Но как Бог создал человека из земной персти, вдруг ли в совершенном, т. е. мужеском или юношеском, возрасте, или же так, как и теперь образует [нас] в утробе матери? Ибо не другой кто делает и это, а Он же, который сказал: прежде неже Мне создати тя во чpeве, познах тя (Иерем. I, 5), так что Адам имел только ту особенность, что не от родителей рожден, а сотворен из земли; причем, однако, те числовые сроки, которые, как мы видим, усвоены человеческой природе, восполнялись и в нем путем совершенствования и восхождения по возрастам. Но, может быть, и совсем не следует входить в исследование этого предмета? Ибо под каким бы из этих двух видов Бог ни сотворил человека, во всяком случае Он сотворил его так, как прилично было сотворить его всемогущему и премудрому Богу. Правда, родам и качествам вещей, которые должны из скрытого состояния стать видимыми, Он сообщил известные временные законы, но так, что воля Его остается выше этих законов. Своим всемогуществом Он даровал твари числовые сроки, но не соединил с этими сроками самого всемогущества. Ибо если Дух Его носился над миром при сотворении (Быт. I, 2), то носится Он и над миром, уже сотворенным, — носится не пространственно, а превосходством власти.
24. В самом деле, кто же не знает, что вода, сотворенная вместе с землей, подходя к корням винограда, поступает в питание этого дерева и получает в нем такое качество, которое обращается в постепенно развивающийся грозд, становится, при увеличении грозда, вином, при созревании получает сладкий вкус, выжатое [из ягод] подвергается брожению (fervescat) и, наконец, выдержанное до известной старости делается более полезным и приятным для питья? Но разве Господь имел нужду в земле, или в воде, или в подобных промежутках времени, когда с такою удивительною быстротою претворил воду в вино, и притом вино такое, которое похвалил даже и пьяный гость (Иоан. II, 9–10)? Pазве Создатель времени нуждался в помощи времени? Не в определенное ли, каждому роду предназначенное, число дней зачинается, образуется и достигает силы каждая порода змей? Но разве не было таких дней, когда в руке Моисея и Аарона превращен был посох в змия (Исх. VII, 10)? А раз подобные [явления] происходят, они происходят вопреки природе только для нас, для которых порядок естества известен в ином виде, но не для Бога, для которого естество [вещи] состоит в том, что Он творит.
ГЛАВА XIV
25. Спрашивается теперь, в каком же виде были учреждены самые те причинные начала, которые Бог первоначально сообщил миру, когда сотворил все разом: так ли, что, смотря по различию своих видов, они подлежали различным пeриодам времени, подобно тому, как все, возникающее в растительном и животном царстве, мы видим в свойственном ему образовании и возрастании, или же так, что они образовались разом, подобно тому, как и Адам, можно думать, сотворен прямо в мужеском возрасте, помимо постепенности возрастания? — Но почему же не думать нам, что в этих началах заключалось разом и то и другое, дабы получило осуществление то, что будет угодно Создателю? Ибо если мы скажем, что они установлены в первом виде, то будет очевидным, что не только вино из воды, но и все, совершающиеся против обычного порядка природы, чудеса совершены вопреки им. А если — в последнем виде, то вывод будет еще нелепее, именно — что все обыденные формы и виды природы проходят свойственные им периоды времени вопреки первичным началам всего рождающегося. Остается, таким образом, предположить, что эти начала сотворены способными к тому и другому виду, т. е. и к тому, в каком наиболее обыкновенно проходит свое существование все временное, и к тому, в каком совершается все редкое и чудесное, как угодно бывает Богу производить то, что свойственно времени.
ГЛАВА XV
26. И однако, человек создан так именно, как заключалось в первичных причинах сотворение первого человека, которому надлежало не родиться от родителей, каких у него не было, а быть образовану из персти земной, согласно с тем причинным началом, в каком он был первоначально создан. Ибо, если он создан иначе, то Бог [очевидно] сотворил его не в ряду дел шести дней; если же мы говорим, что он сотворен в ряду дел шести дней, очевидно — Бог сотворил [тогда] самую причину, по которой человек в свое время имел быть и согласно с которою должен был быть сотворен Тем, Кто в одно и тоже время и начатое совершил в рассуждении совершенства причинных начал, и долженствовавшее быть совершенным закончил в рассуждении временного порядка. Отсюда, если в тех первичных причинах, которые сообщил Создатель миру, Бог положил не только создать человека из персти земной, но и — как создать, т. е. так ли, как в утробе матери, или же в юношеской форме, то, несомненно, Он сотворил его так, как предначертал тогда, ибо сотворил его, конечно, не вопреки Своему намерению. Если же в этих причинах Бог положил только силу возможности, чтобы человек явился каким бы там ни было образом, мог быть и так и эдак, т. е. если в первичных причинах заключалась лишь причина, чтобы человек мог быть так и эдак, тот же определенный образ, в каком он имел [действительно] явиться, Бог сохранил в Своей воле, но не сочетал с созданием мира, то ясно, что даже и в настоящем своем виде человек создан не вопреки тому, как заключался он в первичном создании причин; ибо там заключалась причина и того, чтобы он мог быть в этом своем виде, хотя и не было там причины, чтобы он явился в таком виде необходимо; последнее заключалось уже не в создании твари, а в воле Творца, которая представляет собою необходимость для вещей.
ГЛАВА XVI
27. Ибо и мы, сообразно со свойственным человеческой слабости пониманием, можем еще в области предметов, являющихся во времени, знать на основании опыта, что принадлежит природе каждого из них; но будет ли оно и принадлежать ему, этого мы не знаем. Природе вот этого; напр., юноши свойственно, без сомнения, достигнуть старости, но положено ли в воле Божией, чтобы он и достиг старости, этого мы не знаем. Да и природе его не было бы это свойственно, если бы раньше не положено было в воле Того, Кто сотворил все. И действительно, есть скрытая причина старости в юношеcком теле, или юности — в детском теле; но мы не глазами это видим, как самое детство в дитяти, или юность в юноше, а доходим некоторым уже другим познанием до заключения, что есть в природе [того и другого] нечто сокровенное, из чего в наличности возникают скрытые числа юности ли из детства, или старости из юности. Таким образом, существует скрытая, впрочем для глаз, а не для ума, причина, вследствие которой это может быть; но необходимо ли оно и должно быть, этого решительно мы не знаем. Мы знаем, что причина вследствие которой это может быть, существует в природе самого тела, но причина, вследствие которой оно необходимо и должно быть заключается, очевидно, не там.
ГЛАВА XVII
28. Но, может быть, причина, чтобы человек мог достигнуть старости необходимо, заключается в мире; а если не в мире, то в Боге. Ибо то только необходимо сбудется, чего хочет Бог, и истинно будущее только то, что Он предвидел. Многое может быть будущим по низшим причинам; но истинно будущим оно становится в том только случае, если существует как будущее и в предвидении Божием, и если [по низшим причинам] сбывается иначе, то скорее сбывается именно так, как положено ему быть там, где не может ошибаться Предвидящий. Так, будущим называем мы и старость в юноше, но, однако, этого может и не быть, если юноша умрет раньше; а это последнее будет так, как требуют того другие причины, или вложенные в мир, или остающиеся в предведении Божием. Согласно с некоторыми причинами будущих [событий], Езекии надлежало умереть; но Бог прибавил ему еще пятнадцать лет к жизни (Иса. XXXVIII, 5), сделав в этом случае, без сомнения, то, чтО сделать предвидел до сложения мира, но оставлял в Своей воле. Поэтому, в настоящем случае не то Он сделал, чему не следовало быть, а скорее тому надлежало сбыться, что Он предвидел. И эти [пятнадцать] лет не могли бы в сущности и называться прибавленными, если бы не прибавлялось нечто такое, что по другим причинам сбывалось иначе. Отсюда, по некоторым низшим причинам жизнь [Езекии] уже оканчивалась, но по причинам, заключающимся в воле и предведении Бога, Который от вечности знал, что имело случиться в это время, Езекии надлежало окончить жизнь тогда, когда он [действительно] ее и окончил. Ибо хотя, в этом случае, было сделано снисхождение Езекии ради его молитвы, но даже и то, что он будет молиться и притом так молиться, чтобы оказано было снисхождение к этой его молитве, знал, без сомнения, Тот, Чье предведение не может ошибаться; а потому, что Он предвидел, тому и надлежало быть необходимо.
ГЛАВА XVIII
29. Поэтому, если причины всего будущего заложены в мире в то время, егда бысть день, в который Бог сотворил все разом, то, при своем образовании из персти земной, вероятнее всего — уже в совершенно–мужеском возрасте, Адам был сотворен не иначе, а именно так, как заключалось это в тех причинах, в каких Бог создал человека в ряду дел шести дней. В этих причинах заключалось не только то, чтобы он мог быть таким, но и то, чтобы он был таким необходимо. Ибо Бог сотворил [eго] настолько же не вопреки той причине, которую, без сомнения, предуставил по Своему хотению, насколько и не вопреки Своей воле. Если же в первоначально созданную тварь Он вложил не все причины, а некоторые из них оставил в Своей воле, то хотя причины, которые Он оставил в Своей воле, и не зависят от необходимости тех, которые Он сотворил, однако [причины], сохраненные Им в Своей воле, не могут быть противоположны причинам, установленным Его же волею, потому что воля Бога не может быть сама себе противоположна. Отсюда, эти последние причины Он сотворил так, чтобы от них могло происходить, но не необходимо, то, причинами чего они служат; первые же сокрыл так, чтобы это могущее быть происходило от них необходимо.
ГЛАВА XIX
30. Спрашивают обыкновенно и о том, душевное ли сначала образовано из земли для человека тело, какое мы имеем теперь, или же духовное, какое мы будем иметь в воскресении. — Хотя душевное тело изменится в духовное, ибо сеется тело душевное, возстает тело духовное, однако вопрос, с каким раньше телом сотворен человек, заслуживает рассмотрения потому, что если он был создан с телом душевным, то мы получим не то тело, которое потеряли в Адаме, а настолько лучшее, насколько духовное тело выше душевного, когда будем подобны Ангелам Божиим (Mф. XXII, 80). Но разве Ангелы могут быть поставлены выше и Господа правосудием и другими [свойствами]? Между тем, о Нем сказано: умалил ecu Его малым чим от Ангел (Пс. 8, 6). Чем же [умален Он], как не слабостью плоти, которую Он получил от Девы, приняв зрак раба (Фил. II, 7), и, в нем умерши, искупил нас от рабства? Но к чему, впрочем, рассуждать здесь долго? Есть относительно этого предмета ясное изречение Апостола, который, желая привести свидетельство в подтверждение, что есть душевное тело, не столько имеет в виду свое тело, или тело какого бы то ни было, находившегося тогда на лицо, человека, сколько принимает и имеет в виду слова самого Писания, говоря: есть тело душевное, и есть тело духовное. Тако и писано есть: бысть первый человек Адам в душу живу, последний Адам в дух животворящ. Но не прежде духовное, но душевное, потом же духовное. Первый человек от земли перстен, вторый человек, Господь с небесе Яков перстный, такови и перстнии, и яков небесный, тацы же и небеснии. И якоже облекохомся во образ перстнаго, да облечемся и во образ небеснаго (I Кор. XV, 44–49). Что можно прибавить к этому? Образ небесного человека мы носим верою, уповая облечься в него в воскресении, которого чаем, а в образ земного человека облекаемся по самому началу человеческого рождения.
ГЛАВА XX
31. Здесь мы встречаемся с другим вопросом, именно: каким образом мы можем обновиться, если не будем призваны чрез Христа к тому, чем были прежде в Адаме? Ибо хотя многое обновляется не в прежнее, а в лучшее, однако обновляется из состояния низшего, чем в каком оно было раньше. Почему бы сын оный мертв бе, и оживе, изгибл бе, и обретеся (Лук. XV, 32), почему бы предлагалась ему первая одежда, раз он не получает бессмертия, которое потерял в Адаме? А каким образом Адам потерял бессмертие, если имел душевное тело? Ибо не душевным, а духовным будет тело, когда тленное сие облечется в нетление и мертвенное сие облечется в безсмертие (1 Кор. XV, 53)? Поставленные в затруднение, чтобы, с одной стороны, сохранялось вышеприведенное изречение, которым дается пример душевного тела, т. е. слова: бысть первым человек в душу живу, последний Адам в дух животворящ, а с другой стороны, упомянутое обновление и получение бессмертие называлось не без основания обновлением в прежнее, т. е. в то, что потерял Адам, некоторые полагали, что человек, действительно, сначала был создан с душевным телом, но когда был помещен в раю, был изменен, подобно тому, как и мы изменимся в воскресении. Правда, говорят они, книга Бытия об этом умалчивает, но как бы уже само собою следует, чтобы оба эти свидетельства Писаний могли быть между собою в согласии, т. е. как изречение о душевном теле, так и то весьма многое, что находится в свящ. книгах о нашем обновлении.
ГЛАВА XXI
32. Но если так, то напрасны будут наши старания принимать рай и его дерева с плодами, сверх иносказательного, прежде всего в собственном смысле. Ибо кто же будет думать, что пища из древесных яблоков могла быть необходима для бессмертных и духовных тел? И, однако, если уж иначе не может быть, будем лучше понимать рай в духовном смысле, чем думать, что человек не обновляется, как скоро об этом столько раз свидетельствует Писание, или думать, что он получает то, чего не потерял. К тому же, и самая смерть человека, которую, как говорят многие божественная свидетельства, он навлек на себя своим грехом, указывает на то, что он имел быть свободен от смерти, если бы не согрешил. Каким же образом смертный был свободен от смерти, или каким образом он был бессмертен, если имел тело душевное?
ГЛАВА XXII
38. Отсюда, некоторое думают, что своих грехом Адам навлек на себя не телесную смерть, а смерть души, которую составила порочность (iniquitas). По их мнению, вследствие именно душевного тела, Адам имел перейти из этого тела к тому покою, какой имеют теперь святые, уже почившие, и в конце веков получить те же самые члены бессмертно; так что телесная смерть явилась, по–видимому, не вследствие греха, а естественно, как и смерть остальных животных. — Но тут мы снова встречаемся с Апостолом, который говорит: плоть убо мертва греха ради, дух же живет правды ради. Аще ли же Дух воскресившаго Иисуса от мертвых живет в вас, воздвигий Христа из мертвых оживотворит и мертвенная телеса ваша живущим Духом его в вас (Рим. VIII, 10, 11). Таким образом, смерть и телесная — от греха. Отсюда, если бы Адам не согрешил, то не умер бы и телом, а потому имел бы и тело бессмертное. Каким же образом бессмертное, если душевное?
ГЛАВА XXIII
34. С другой стороны, те, по мнению которых тело Адама в раю было изменено, чтобы из душевного стать духовным, опускают из вида, что если бы он не согрешил, ничто не препятствовало бы ему, после райской жизни, которую в таком случае он провел бы праведно и послушно, получить это изменение тела в вечной жизни, где оно уже не нуждалось бы в телесной пище. Какая же необходимость понимать рай в иносказательном, а не собственном смысле из–за того, что тело могло умереть только вследствие греха? То правда, что Адам не умер бы и телом, если бы не согрешил, ибо Апостол ясно говорит, что тело мертво греха ради; но раньше греха оно могло бы быть душевным, а после праведной жизни, по воле Божией, могло бы стать духовным.
ГЛАВА XXIV
35. Каким же образом, говорят, мы обновляемся, если не получаем того, что потерял первый человек, в котором все согрешают? Некоторым образом, конечно, мы это получаем, а некоторым не получаем. Именно, бессмертия духовного тела, которого первый человек еще не имел, мы не получаем, но праведность, от которой он вследствие греха отпал, получаем. Поэтому от ветхости греха мы обновимся не в прежнее душевное тело, в каком находился Адам, а в лучшее, т. е. духовное тело, когда будем подобными Ангелам Божиим (Mф. XXII, 30), способными к небесному жилищу, где уже не будем нуждаться в тленной пище. Отсюда, мы обновляемся духом ума нашего (Еф. IV, 23) по образу Создавшего нас — образу, который Адам вследствие греха потерял. Но мы обновимся и плотию, когда тленное [тело] сие облечется в нетление, чтобы стать духовным телом, в которое тело Адама еще не было, но должно было быть изменено, если бы вследствие греха он не заслужил смерти и душевного тела.
36. Наконец, Апостол говорит не: «тело смертно греха ради», а тело мертво греха ради.
ГЛАВА XXV
Раньше греха тело могло быть названо в одном отношении смертным, а в другом бессмертным, — смертным потому, что оно могло умереть, а бессмертным потому, что могло и не умереть. Ибо иное дело иметь возможность умереть, как создал Бог некоторые бессмертные природы, и иное — иметь возможность не умереть, как бессмертным создан первый человек; его бессмертие проистекало не от устройства природы, а от древа жизни, от коего после греха он был отлучен, дабы мог умереть, — он, который, если бы не согрешил, мог бы и не умереть. Таким образом, по устройству душевного тела он был смертен, а по милости Создателя — бессмертен. Ибо раз тело его было душевное, оно непременно было и смертно, так как могло умереть, хотя, с другой стороны, оно было и бессмертно, потому что могло и не умереть, Бессмертным, т. е. таким, которое ни в каком уже случае не может умереть, тело будет только духовное, каким, по обетованию, будет наше тело в воскресении. Отсюда, душевное, а потому и смертное, тело, которое по правосудию было бы духовным, а потому и бессмертным, сделалось вследствие греха не смертным, каким было и раньше, а мертвым, каким оно могло бы не быть, если бы человек не согрешил.
ГЛАВА XXVI
37. Каким же образом Апостол, говоря о нас, как еще о живых, называет наше тело мертвым, если [не имеет при этом в виду], что самое состояние смертности от греха прародителей переходит на потомство? Ибо в наше тело душевно, каким было и тело первого человека, но, даже и как душевное, оно гораздо ниже Адамова, потому что подвержено необходимости умереть, какой не имело тело Адама. Хотя Адамово тело оставалось еще душевным, чтобы измениться и, ставши духовным, получить полное бессмертие, при котором уже не нуждалось бы в телесной пище; однако, если бы человек жил праведно и его тело превратилось в духовное, он не подвергся бы смерти. Между тем, если даже мы живем и праведно, тело наше будет мертво; вследствие этой, проистекающей от греха первого человека, необходимости Апостол называет наше тело не смертным, а мертвым, потому что мы все в Адаме умираем (Рим. V, 12 и I Кор. XV, 22). Есть, говорит он еще, истина о Иисусе отложити вам. по первому житию, ветхаго человека тлеющаго в похотях прелестных; а таким Адам и стал вследствие греха. Смотри же, что следует дальше: обновляйтеся духом ума вашего и облекайтеся в новаго человека, созданнаго по Богу в правде и преподобии истины (Еф. IV, 21–24): вот что вследствие греха потерял Адам!
ГЛАВА XXVII
Отсюда, мы обновляемся по тому, чтО потерял Адам, т. е. по духу ума нашего, по телу же, которое сеется душевным, а восстает духовным, мы обновимся в лучшее, какого Адам еще не имел.
38. Апостол говорит еще: совлекшеся ветхаго человека с деяньми его и облекшеся в новаго, обновляемаго в разум по образу Создавшаго его (Кол. III, 9, 10). Этот, начертанный в разуме ума, образ Адам вследствие греха потерял, и его–то именно мы получаем снова по благодати оправдания, а не духовное тело, которого Адам еще не имел, но которое будут иметь все святые, восставшие из мертвых. Это составит уже награду за то благо, которого Адам лишился. Отсюда, оная первая одежда (Лук. XV, 22) или означает ту праведность, от которой Адам отпал, или же если она означает одежду телесного бессмертия, то он лишился и бессмертия в том смысле, что вследствие греха не мог уже достигнуть его. Ибо и мы говорим, что лишается жены или чести человек, который не получает желаемого, раз им оскорблен тот, от кого он желал [получить то или другое].
ГЛАВА XXVIII
39. Итак, согласно с этим мнением, Адам имел душевное тело не только раньше, но и во время жизни в раю, хотя во внутреннем человеке был духовным, по образу Создавшего его, что вследствие греха он утратил и заслужил телесную смерть; не согрешив же, заслужил бы изменение в духовное тело. А если он и внутренне жил душевным образом, то мы не можем уже быть названы обновляющимися по нему. Ибо кому сказано: обновляйтеся духом ума вашего, тем сказано это для того, чтобы они стали духовными; но раз в своем уме он таким не был, то как можем мы обновиться по тому, чем человек никогда не был? Между тем, Апостолы и все святые праведники хотя имели тело душевное, но внутренне жили духовным образом, обновляясь в познание Бога, по образу Создавшего их; однако, они не были еще в состоянии не грешить, если сочувствовали неправде. А что и духовные могут впадать в искушение греха, об этом свидетельствует Апостол, говоря: Братие, аще впадет человек в некое прегрешение, вы духовнии исправляйте таковаго духом кротости, блюдый себе, да не и ты искушен будеши (Гал. VI, 1). Я говорю это к тому, чтобы кому–нибудь не показалось невозможным, как согрешил Адам, раз он по уму был духовным, хотя по телу и душевным, человеком. Но если все это и так, не будем, однако, ничего утверждать с поспешностью, а лучше подождем, не встретит ли такое понимание препятствия со стороны остального Писания.
ГЛАВА XXIX
40. На очереди теперь стоит весьма трудный вопрос о душе, — вопрос, над которым трудились многие, оставив довольно места потрудиться и нам. Потому ли, что я не мог перечитать всего и у всех, которые относительно этого предмета могли, согласно с истиною наших Писаний, достигнуть ясного и совершенно несомненного, или же самый вопрос этот таков, что людям, подобным мне, не легко понимать тех, которые решают его верно, но признаюсь, что досель никто еще не убедил меня, что в вопросе о душе не предстоит для меня надобности ни в каких дальнейших исследованиях. Достигну ли я и теперь чего–либо несомненного, не знаю. Но что могу, то, если Господь поможет моему усилию, постараюсь изложить в следующей книге.
КНИГА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА I
1. И созда Бог человека, персть [взем] от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, и бысть человек в душу живу. — Рассмотрением этих слов Писания мы начали предыдущую книгу и о самом сотворенном человеке, преимущественно же о теле его, сказали, что представлялось нам сообразным с Писаниями, столько, сколько считали это достаточным. Но так как вопрос о душе человеческой — вопрос сложный, то мы предпочли отложить его до настоящей книги, не зная, насколько Господь поможет нашему желанию говорить о нем правильно, но зная, что правильно будем говорить настолько лишь, насколько Он поможет. А правильно значит правдиво и соответствующим образом, ничего дерзко не отвергая и ничего безрассудно не утверждая, пока остается для веры или христианской науки сомнение, истинно ли оно или ложно, то же, что можно знать или из очевиднейшего порядка вещей или на основании несомненнейшего авторитета Писаний, без отлагательства принимая.
2. Но, прежде всего, обратим внимание на самое изречениe: вдуну или вдунул в лице его дыхание жизни. Ибо в некоторых кодексах стоит: «дохнул» или «испустил дыхание на лице его». Но так как у греков имеется энефосэсен, то несомненно надобно сказать «дунул» иди «вдунул». В предыдущей речи мы уже имели дело с вопросом о руках Божиих, когда обсуждали образование человека из персти [земной]: что же надобно сказать и относительно изречения «вдунул Бог», если не то, что как человека Он создал не руками, так и дунул не гортанью и губами?
3. При всем том, этим выражением Писание, по моему мнению, весьма много помогает нам в настоящем чрезвычайно трудном вопросе.
ГЛАВА II
Некоторые на основании этого выражения полагали, что душа — некая часть самой субстанции божественной или — одной природы с Богом, думая так потому, что, когда дышит человек, он испускает нечто из самого себя. Напротив, это–то именно и должно побуждать нас отвергать подобное, враждебное кафолической вере, мнение. Мы веруем, что природа или субстанция Божия, которую многие признают в Троице, но не многие разумеют, совершенно неизменяема. А кто же сомневается, что душа может изменяться к лучшему или худшему? Поэтому, мнение, что душа и Бог одной субстанции, мнениe нечестивое. Ибо чем другим будет оно, как не воззрением, что и Бог изменяем? Отсюда, надобно веровать и мыслить так и нисколько не сознаваться в том, как и что содержит правая вера, именно — что душа [имеет бытие] от Бога, как нечто Им сотворенное, а не как нечто рожденное или каким бы то ни было образом происшедшее от самой Его природы.
ГЛАВА III
4. Но, возражают, каким образом написано: вдуну в лице его дыхание жизни, и бысть человек в душу живу, если душа — не часть или даже не субстанция Бога? Напротив, из этого изречения явствует, что она — не то. Ибо когда дышит человек, то, несомненно, его душа движет подчиненную ей природу тела и производит дыхание из ней, а не из себя самой; если уж этого рода возражатели настолько тупы, что не знают, что дыхание, когда мы дышим добровольно, происходит от того периодического вдыхания и выдыхания, которое мы то вбираем из окружающего нас воздуха, то в него выпускаем. Да если [дыхание наше происходит] и не от вне нас находящегося воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого, а при дыхании мы испускаем нечто из самой природы нашего тела, все же природа тела и души не одна и та же, в чем, конечно, и они согласны. Поэтому, даже и в таком случае, иное — субстанция души, которая управляет и двинет телом, и иное — дыхание, которое управляющая и движущая душа производит из подчиненного ей тела, а не из самой себя, которой тело подчинено. Отсюда, если — хотя и не одинаковым образом — душа управляет подчиненным ей телом, а Бог подчиненною Ему тварью, то почему же не принимать выражения вдуну скорее так, что Бог создал душу из подчиненной Ему твари, потому что хотя душа господствует над своим телом и не так, как Бог над вселенной, которую Он сотворил, однако и она производит дыхание движением тела, а не из своей субстанции?
5. Но хотя и можно сказать, что душа человека не самое дыхание Божие, а что Бог сотворил душу в человеке дыханием, однако не следует считать сотворенного Им при посредстве слова лучше сотворенного при посредстве дыхания на том основании, что и в нас слово лучше дыхания. Впрочем, на вышесказанном основании нет причины, почему бы мы стали сомневаться называть душу и дыханием Божиим, разумея при этом не то, что душа — самая природа и субстанция Бога, а то, что дунуть [у Бога] значит то же, что сотворить дыхание, а сотворить дыхание то же, что сотворить душу. Такому мнению соответствует и то, чтО говорит Бог через Исаию: дух бо от Мене изыдет, и всякое дыхание Аз сотворих. А что Он говорит не о каком–либо телесном дыхании, показывают дальнейшие слова. Ибо, сказав: и всякое дыхание Аз сотворих, говорит затем: за грех мало что опечалих его, и поразих его (Ис. LVII, 16. 17, по LXX). Что же называет Он дыханием, как не душу, которая опечалена и поражена по причине греха? В таком случае что значат слова: всякое дыхание Аз сотворих, как «не всякую душу Я сотворил»?
ГЛАВА IV
6. Если бы, поэтому, мы назвали Бога как бы душою нашего мира, для которой самый мир служит как бы телом одного живого существа, то тем самым сказали бы, что Бог дыханием сотворил душу человека не иную, как телесную, из подчиненного Ему воздуха, т. е. из Своего тела; однако, то, что Он в таком случае сотворил и дал бы Своим дыханием, мы должны бы были считать данным не из Него Самого, а из подчиненного Ему воздуха тела Его, таким же образом, как и наша душа производит дыхание из подчиненного же ей предмета, т. е. из своего тела, а не из самой себя. Но так как Богу не только подчинено тело мира, но Он превыше всякой, как телесной, так и духовной твари, то мы должны думать, что Он дыханием Своим сотворил душу ни из Себя Самого, ни из телесных элементов.
ГЛАВА V
7. Но спрашивается, из того ли, чего совсем не было, или же из чего–либо такого, что уже было сотворено Им духовно, но еще не было душою? — Если мы не думаем, что Бог продолжает еще творить что–нибудь из ничего после того, как сотворил все разом, а веруем, что Он почил от всех дел, яже начат творити, так что все, чтО потом творит, творит уже из тех [дел], то я не знаю, каким образом возможна мысль, что Он творит души из ничего. Разве, может быть, не следует ли думать так, что в делах первых шести дней Бог сотворил оный сокровенный день, или лучше сказать — духовно–разумную природу, т. е. природу ангельского союза, и мир, т. е. небо и землю, и в этих уже существовавших природах Он сотворил начала других, будущих [природ], но не самые эти природы; в противном случае, т. е. если бы они уже тогда были сотворены так, как имели быть [в действительности], они не были бы будущими? А если так, то в созданных вещах еще не существовало никакой природы человеческой души, а начала она свое бытие тогда, когда Бог ее сотворил Своим дыханием и вложил в человека.
8. Но этим еще не разрешается вопрос, сотворил ли Бог природу, которая называется душою и которой раньше не было, из ничего, как если бы дыхание Его явилось не из какой–нибудь подчиненной Ему субстанции, как это говорили мы о дыхании, производимом душою из своего тела, а совершенно из ничего, в то время, когда благоволил дохнуть и это дыхание стало душою человека? Или же было уже нечто духовное, хотя оно, чем бы там ни было, природою души не было, но из него явилось дыхание Божие, которое стало природою души, как и природы человеческого тела еще не было прежде, чем Бог образовал ее из пыли или персти земной, ибо пыль или персть эта не была плотью человека, однако была нечто такое, из чего явилась плоть, которой еще не было?
ГЛАВА VI
9. Но вероятное ли дело, чтобы в первых делах шести дней Бог создал не только причинное начало будущего человеческого тела, но и самую материю, из коей оно явилось, т. е. землю, из пыли или персти которой оно образовано; между тем, создал тогда только начало души, а и не некую своего рода материю, из которой бы она явилась? Ибо если бы душа была нечто неизменяемое, в таком случае мы не должны бы были поднимать и вопроса о её как бы материи; между тем, изменяемость души достаточно ясно показывает, что иногда пороками и ложью она обезображивается, а добродетелью и наставлением в истине образуется. Но [такою она является] уже в своей природе, по которой она есть душа, как, в свою очередь, и плоть в той своей природе, по которой она — уже плоть, и здоровьем украшается и обезображивается болезнями и ранами. А как эта последняя, кроме того, что она есть плоть и в этой природе или усовершается, являясь красивою, или же приходит в упадок и становится безобразною, имеет еще и материю, т. е. землю, из которой она должна была явиться, чтобы стать вполне плотью, так, может быть, и душа, прежде чем стать природою. которая называется уже душою или прекрасною от добродетели, или безобразною от порока, могла иметь некую сообразно своему роду духовную материю, которая не была еще душою, подобно тому, как и земля, из которой сотворена плоть, была уже нечто, хотя еще и не плоть.
10. Но земля, прежде чем явилось из неё тело человека, уже наполняла собою низшую часть мира, сообщая вселенной целостность, так что, если бы даже из неё и не явилось плоти какого–нибудь животного, все же своим видом она восполняла бы тот мировой строй и ту мировую массу, по которым мир называется небом и землей.
ГЛАВА VII
10. Но если была или существует какая–нибудь духовная материя, из которой явилась душа, или являются души, то что она такое? Какое имя, какой вид, какую пользу имеет она в ряду сотворенных вещей? Живая ли она или нет? Если живая, чем занимается и что привносит в жизнь вселенной? Блаженною ли жизнью живет или бедственною, или же ни тою, ни другою? Оживляет ли что–нибудь, или же свободна даже и от такого дела и остается праздною в каком–нибудь сокровенном месте вселенной, лишенная бодрствующего чувства и жизненного движения? Если она совершенно лишена жизни, каким образом матерей будущей жизни могла быть некая бестелесная, но не живая материя? Это или ложно, или в высшей степени сокровенно. С другой стороны, если она жила ни блаженно, ни бедственно, каким образом была разумна? А если разумною стала тогда, когда из этой материи сотворена природа человека, значит материей разумной, т. е. человеческой, души была неразумная жизнь. Какое же, в таком случае, различие между ею и [душою] животного? Или, может быть, она была уже разумною, но в возможности, а еще не самою способностью? Ибо если мы видим, что детская, конечно уже человеческая, душа еще не начала пользоваться разумом, и однако называем ее разумною, то почему же не думать, что и в той материи, из которой сотворена душа, способность (motus) мыслить была в спокойном состоянии так же, как и в детской душе, которая, конечно, есть душа уже человеческая, способность (motus) рассуждать остается еще в спокойном состоянии?
ГЛАВА VIII
11. В самом деле, если существовала уже блаженная жизнь, из которой создана человеческая душа, то, очевидно, она стала хуже и потому она уже не материя души, а душа её вытечение (defluxio). Ибо когда какая–либо материя обрабатывается, в особенности Богом, то обрабатывается без сомнения в лучшее. Но если бы даже человеческая душа и могла быть принимаема за вытечение какой–нибудь жизни, сотворенной Богом в некоем блаженном состоянии, во всяком случае, мы должны представлять себе, что она начала проявлять себя в каком–либо акте своих заслуг только с того момента, с какого начала свою собственную жизнь, т. е. стала душою, оживляющею плоть, пользующеюся её органами, как своими вестниками, и сознающею, что она живет в себе самой, своею волею, разумом и памятью. Ибо если существует нечто такое, из чего Бог вдунул в образованную Им плоть это вытечение, как бы дуновением сотворив душу, и если это нечто было блаженно, оно ни в каком случае не движется, не изменяется и не теряет ничего, когда из него вытекает то, из чего является душа,
ГЛАВА IX
Оно ведь не тело, чтобы могло изменяться, как бы испаряясь.
12. Если же своего рода материей, из которой является разумная, т. е. человеческая, душа служит душа неразумная, то спрашивается, откуда является сама эта неразумная душа, так как и ее творит не другой кто, как Творец всех природ? Может быть, из телесной материи? Почему же, в таком случае, не из неё и разумная душа? Ведь никто же не станет отрицать, что Бог может творить сокращенным образом (compendio) то, что мы представляем себе происходящим как бы постепенно. Да и какие бы промежутки мы тут ни допускали, но раз тело — материя неразумной души, а неразумная душа — материя души разумной, ясно, что тело — материя разумной души. А так мыслить не знаю, кто осмелится, кроме разве человека, который и самую душу ставит уже в разряде какого–нибудь тела
13. Надобно, затем, опасаться и того, как бы не подумал кто–нибудь, что возможно перемещение души из животного в человека (что кафолической вере и истине совершенно противно), если мы допустим, что неразумная душа служит как бы материей, из которой является разумная душа; при чем, изменившись к лучшему, она будет душою человека, а изменившись к худшему, становится душою животного. Этой, измышленной некоторыми философами, басни стыдятся даже их потомки и говорят, что–де они не думали так, а были неверно поняты. И мне кажется, это похоже на то, как если бы кто–нибудь стал выводить подобную мысль и из наших Писаний, в которых говорится: человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им (Псал. 48, 13 и 21), или читается: не предаждь зверем душу исповедающуюся тебе (Псал. 73, 19). Ведь и все еретики читают кафолические Писания и еретиками являются только потому, что, неправильно понимая Писания, утверждают вопреки их истине свои ложные мнения. Но каково бы ни было мнение философов о превращениях душ, во всяком случае, кафолической вере противно думать, что души животных переселяются в людей, или души людей в животных.
ГЛАВА X
14. Нет сомнения, что люди по образу своей жизни бывают подобны животным; об этом и опыт человеческой жизни громко говорит, и свидетельствует Писание. Сюда относится упомянутое мною место: человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им; но, конечно, в настоящей жизни, а не после смерти. Потому, говоривший: не предаждь зверем душу исповедающуюся тебе не хотел предавать свою душу во власть или таким зверям, от которых предостерегает Господь, говоря. что они одеты в овечью шкуру, а внутри суть хищные волки (Mф. VII, 15), или самому диаволу и ангелам его, ибо и он называется львом и змием (Пс. 90, 13).
15. В самом деле, какой аргумент приводят философы, когда полагают, что души людей переселяются по смерти в скотов, или души скотов в людей? — тот, без сомнения, что к такому переселению влечет их сходство нравов, напр. скупых — в муравьев, хищников — в коршунов, жестоких и гордых — в львов, поклонников нечистого удовольствия — в свиней, и т. под. Это именно основание они и приводят, но не замечают, что подобным аргументом ни в каком случае нельзя доказать возможность посмертного перехода души животного в человека. Ибо боров никогда не будет больше похож на человека, чем на борова, и когда приручают львов, они являются больше похожими на собак или даже на овец, чем на человека. Отсюда, если животные не отстают от нравов животных, и даже те из них, которые иногда бывают не похожи на остальных, все же больше похожи на свой род, чем на человеческий, и гораздо дальше отстоят от людей, чем от животных; то человеческие души никогда не будут душами животных, хотя и усвояют нравы, делающие я их больше похожими на животных. А если этот аргумент ложный, каким образом будет истинным самое мнение, раз не приводится ничего другого, что делало бы это мнение если не истинным, то, по крайней мере, правдоподобным? Поэтому, со своей стороны и я сам скорее готов думать так, что люди, которые впервые высказались подобным образом в своих сочинениях, были, как хотят понимать их позднейшие их последователи, того мнения, что подобными животным люди становятся в настоящей жизни некоторою извращенностью и постыдностью своих нравов и до известной степени превращаются в скотов, но так, что, сбросив с себя этот позор, они могут отстать от своих превратных пожеланий.
ГЛАВА XI
16. В самом деле, если, как рассказывают, случается, что некоторые будто бы припоминают, в телах каких животных они были, то или подобные рассказы ложны, или это припоминание в их душах — плод издевательства демонов. Ибо если случается во сне, что человек припоминает себе, будто бы он был тем, чем не был, сделал то, чего не делал: что же удивительного, если, по справедливому суду Божию, демоны могут производить нечто подобное в сердцах и бодрствующих?
17. Но манихеи, мнящие или желающие мнить себя христианами, в своем мнении о переселении или превращении душ гораздо хуже и возмутительнее языческих философов и других, думающих подобным образом, людей: последние отличают природу души от природы Бога, а они, проповедуя, что душа — не что иное, как сама субстанция Бога и совершенно то же, что и Бог, вместе с тем не боятся называть ее столь постыдно изменяемою, что нет такого рода травы или червя, к которому она, по их мнению, не была бы примешана или в который не могла бы по непостижимому неразумию превратиться. Однако, если бы, отвлекшись своим умом от вопросов о предметах таинственных, предаваясь которым плотским сердцем манихеи неизбежно впадают в ложные, вредные и нелепые мнения, они крепко держались той одной, всякой разумной душе естественно и истинно присущей, мысли, что Бог совершенно неизменяем и бестелесен: в таком случае мгновенно рушилась бы вся эта, на тысячу ладов повторяемая, их сказка, которую они измыслили не о чем другом, как о недостойной изменяемости Бога.
18. Итак, неразумная душа не служит материей человеческой души.
ГЛАВА XII
Что же оно такое, из чего сотворена душа дыханием Божиим? Может быть, это было какое–нибудь земное и влажное тело? Никоим образом; напротив, отсюда сотворена плоть. Ибо что другое — грязь, как не влажная земля? Не следует также думать, что душа сотворена из одной только влаги, как бы так, что плоть из земли, а душа из воды. Ибо крайне нелепо думать, что душа человека сотворена из того же, из чего и плоть рыбы и птицы.
19. Так, может быть, из воздуха? Правда, к этому элементу близко подходит и дыхание; но наше, а не Божие. Отсюда, выше мы и сказали, что можно бы так думать, если бы мы представляли себе Бога мировою душою, как бы душою одного величайшего живого существа: в таком случае Он произвел бы душу дыханием из воздуха тела Своего, как наша [душа] производит дыхание из своего тела. Но раз решено, что Бог выше всякого тела в мире и всякого, сотворенного Им, духа на несравнимое расстояние, то как возможно сказать таким образом? Разве, может быть, чем более непостижимым вездесущием Он присутствует во всей твари, тем больше Он мог произвести из воздуха дыхание, которое бы стало душою человека? Но так как душа бестелесна, а между тем все, что происходит из телесных элементов мира, необходимо телесно, а к числу элементов мира относится и воздух, то не следует верить, если бы даже стали говорить нам, что душа сотворена из элемента чистого и небесного огня. Правда, немало было таких, которые утверждали, что всякое тело может превращаться во всякое тело. Но я не знаю никого, кто думал бы, что какое–нибудь, земное или небесное, тело превращается в душу и становится бестелесным; да и вера не содержит того.
ГЛАВА ХIII и XIV
20. Не следует, наконец, опускать из виду и того, что говорят врачи, и не только говорят, но и считают доказанным. По их словам, хотя всякая плоть представляет собою массу земли, однако она имеет в себе и некоторую часть, с одной стороны, воздуха, который содержится в легких и расходится от сердца через вены, называемые артериями, с другой — огня, и не только тепловое его свойство, седалище которого находится в печени, но и свойство световое, которое, говорят, поднимается в верхнюю часть мозга, как бы к небу нашего тела, откуда выходят лучи зрения. От этого мозга, как из своего рода центра, идут тонкие трубочки не только к глазам, но и к остальным органам, т. е. ушам, ноздрям, нёбу, для слуха, обоняния и вкуса; самый орган ощущения, который принадлежит всему телу, управляется, говорят, тем же мозгом при помощи шейного мозга и мозга, содержимого костями, переплетающими спинной хребет, так что отсюда по всем членам расходятся тончайшие канальцы, которые и составляют органы ощущения. — Таким образом, при посредстве этих как бы своих вестников душа воспринимает все, что только становится ей известным из области телесных предметов, а между тем сама — нечто в такой степени иное, что когда хочет иметь познание о божественном, или о Боге, или о самой себе и сосредоточить свои силы на постижении чего–либо истинного и несомненного, она отвлекается даже от света глаз и, чувствуя, что он в этом случае не только для неё не представляет никакой помощи, но служит даже помехой, устремляется к умственному созерцанию. А если так, то каким же образом она — что–либо принадлежащее к тому же разряду, когда самым высшим в этом круге является свет, который исходит из глаз и которым она пользуется для восприятия только телесных форм и цветов, сама же она бесконечно отлична от всякого рода тел, которые ею созерцаются исключительно при помощи разума и до которых не достигает ни одно телесное чувство?
ГЛАВА XV
21. Поэтому, хотя природа человеческой души не состоит ни из земли, ни из воды, ни из воздуха, ни из огня, однако материей своего грубого тела, т. е. некоей влажной земли, которая обращена в свойство плоти, она управляет при помощи природы более тонкого тела, т. е. света и воздуха. Ибо без этих двух [элементов] не бывает со стороны души ни ощущения, ни произвольного движения в теле, А как знание должно быть раньше действия, так ощущение — раньше движения. Отсюда, душа, будучи бестелесна, действует сначала на тело, близкое к бестелесному, т. е. на огонь, или лучше — на свет и воздух, а чрез них уже и на другие более грубые [элементы] тела, т. е. влагу и землю, из которых состоит плотная масса нашей телесности и которые подвержены более страданию, как первые — действию.
ГЛАВА XVI
22. Таким образом, слова: и бысть человек в душу живу сказаны, мне кажется, не в другом каком смысле, а в том, что он начал в своем теле ощущать; что служит несомненнейшим признаком живой и одушевленной плоти. Ибо движутся и деревья, и движутся не только силою, извне действующею, напр., когда качаются от ветра, но и движением внутренним, которым совершается все, что только относится к произрастанию и форм дерева, и благодаря которому к корню направляется влага и превращается в то, из чего состоит природа травы или дерева: все это не может быть без внутреннего движения. Но это движение — не движение произвольное, каково движение, которое соединяется с ощущением для управления телом, как это бывает в классе всех животных и которое в Писании называется живою душою (Быт. I, 21). Ибо если бы и нам не было присуще движение первого рода, то не увеличивались бы в росте наши тела и не отрастали бы ногти и волосы. Но если бы нам свойственно было одно только это движение, без ощущения и произвольного движения, то о человеке не было бы сказано, что он бысть в душу живу.
ГЛАВА XVII
23. Вот почему, — так как передняя часть мозга, откуда распределяются все чувства, помещается во лбу и самые как бы органы чувств находятся в лице, за исключением чувства осязания, которое, будучи распространено по всему телу, свой путь однако начинает с той же передней части мозга и идет через макушку и шею назад к мозгу станового хребта (о чем сказано нами несколько выше), вследствие чего чувством осязания владеет и лицо, как владеет им все тело за исключением чувств зрения, слуха. обоняния и вкуса, помещающихся только в лице, — вот почему, думаю, и написано, что Бог вдунул в лице человека дыхание жизни, когда он бысть в душу живу. Поэтому передняя часть справедливо предпочитается задней: она идет впереди, а эта уже следует за ней, от той ощущение, а от этой — движение, как равно и обдумывание предшествует действию.
ГЛАВА XVIII
24. А так как телесного движения, которое следует за ощущением, не бывает без промежутков времени, проходить же промежутки времени произвольным движением мы можем только при помощи памяти, то различаются три как бы полости мозга: передняя у лица, от которой происходит всякое ощущение, задняя у шеи, от которой происходит всякое движение, и третья промежуточная, в которой, говорят, действует память, чтобы, когда за ощущением следует движение, человек не перепутал того, что он сделал, если бы забыл уже сделанное. Все это, говорят, доказывается несомненными признаками, когда самые эти части тела, пораженные какою–нибудь болезнью или повреждением, вследствие чего приходят в расстройство или деятельность ощущения, или органы движения, или движение тела к припоминанию, ясно указывают на то, какое значение имеет каждая из них, и уже дознано. какое лечение исправлению каждой из них помогает. Но душа, хотя и действует в них как бы в органах, сама, однако, не принадлежит к числу их: она оживляет все и всем управляет, а чрез то заботится о теле и о той жизни, в которой человек явился в душу живу.
ГЛАВА XIX
25. Итак, когда спрашивается, откуда душа, т. е. из какой своего рода материи Бог произвел дыхание, которое называется душою, не должно при этом представлять себе ничего телесного. Ибо как Бог превосходит всю тварь, так и душа достоинством своей природы превосходит всю телесную тварь. Однако же, она управляет телом, но управляет чрез посредство света и воздуха, которые, в свою очередь, суть наилучшие тела в нашем мире и отличаются более преимуществом действия, чем страдательной массою, как влага и земля, т. е. — как чрез такие [тела], которые более подобны духу. Телесный свет служит для неё в некотором отношении вестником, но она, которой он служит вестником, не то, чтО он: она именно — душа, которой служит он вестником, а не он, вестник. И когда она чувствует страдания тела, то беспокоится тем, что, с расстройством равновесия в теле, затрудняется её деятельность, которою она присутствует в теле, управляя им, и это беспокойство называется скорбью. Равным образом и воздух, разлитый в нервах, служит к тому, чтобы воля двигала членами [тела], но сам он — не воля. Точно также и средняя часть дает знать о движении членов, чтобы оно содержалось памятью, но сама она — не память. Наконец, когда эти, так сказать, её служители от какого–либо повреждения или расстройства приходят в совершенный упадок, то с остановкою вестников ощущения и служителей движения, как бы не имея уже причины присутствовать дольше [в теле], она оставляет, его. Если же они приходят не в такой упадок, как это бывает в смерти; в таком случае расстраивается её напряжение: она как бы старается, но не может исправить пришедшего в упадок. И в какой области предметов является это расстройство, судя по тому догадываются, какая часть тому причиной, чтобы, если может, на помощь явилась уже медицина.
ГЛАВА XX
26. А что иное — душа, и иное — её телесные служители, или сосуды, или органы, или буде можно назвать их как–нибудь иначе, это ясно видно из того, что весьма часто при сильном напряжении мысли она отвлекается от всего, так что не знает многого, находящегося пред открытыми и совершенно здоровыми глазами. Если же напряжение бывает еще сильнее, то гуляя [человек] вдруг останавливается, без сомнения, потому, что душа его перестает заправлять органами движения, которым заняты его ноги; а если напряжение мысли не настолько сильно, чтобы приковать гуляющего к одному месту, однако таково, что он не свободен прислушиваться к средней части мозга, служащей вестником движения тела; то он иногда забывает, откуда и куда идет, и машинально проходит мимо дачи, к которой направлялся, хотя по природе своего тела здоров, но только отвлечен от неё к другому. Поэтому, бесполезно и спрашивать, из неба ли, распростертого над нами, примешал или присоединил Бог к телу уже живого [человека] некоторые материальные частицы нашего телесного неба, т. е. [частицы] света и воздуха, которые, будучи к бестелесной природе ближе, чем влага и земля, раньше поэтому воспринимают внушения оживляющей тело души, так что под их ближайшем воздействием управляется вся масса нашего тела, или же и их Бог сотворил, как и тело, из персти земной. Ибо, что всякое тело может изменяться во всякое тело, это еще вероятно, но нелепо думать, что какое–либо тело может превратиться в душу.
ГЛАВА XXI
27. По этой причине не следует обращать внимания и на то мнение некоторых [17], что есть некое пятое тело, из которого происходит душа и которое не есть ни земля, ни вода, ни воздух, ни огонь, как наш более мутный, так и небесный чистый и светлый, а не знаю что–то иное, не имеющее употребительного названия, но во всяком случае тело. — Если так думающие телом называют то же, что и мы, т. е. всякую природу, долготою, широтою и высотою занимающую место в пространстве, это уже не будет ни душа, ни то, из чего, нужно бы думать, она сотворена. Ибо все, что есть такого, все это, не говоря много, может в каждой своей части быть делимо и ограничено пределами; а если бы этому была подвержена и душа, она никоим образом не знала бы таких границ, которые не могут долго пресекаться; однако она знает. что таких границ в теле не может быть.
28. В себе самой душа не встречает ничего подобного даже и тогда, когда в целях самопознания она исследует саму себя. В самом деле, когда она исследует саму себя, она знает, что себя исследует; а этого она не могла бы знать, если бы не знала самой себя. Ибо она исследует себя не откуда–либо со стороны, а от [лица] самой себя. Отсюда, раз она знает себя как наследующую себя, она знает себя несомненно; а все, что она знает, она знает вся: следовательно, раз она знает себя как исследующую себя, она знает себя вся и, следовательно, всю себя, ибо она знает не что–нибудь иное,а саму себя. К чему же она еще исследует себя, если уже знает себя, как исследующую себя? Конечно, если бы она не знала себя, то не могла бы знать себя и как исследующую себя. Но она знает себя в настоящем; исследует же себя со стороны того, чем она была прежде, или чем будет вперед. Пусть же она и не считает себя телом, потому что если бы она была чем–либо подобным, то таким бы знала себя, а она себя знает больше, чем небо и землю, которые знает при помощи глаз своего тела.
29. Я не говорю уже о том, что та [способность] её, которою, как думают, обладают и животные или птицы небесные, снова возращаясь в свои жилища или гнёзда, и которою воспринимаются образы всех телесных вещей, ни в каком случае не похожа на какое–либо тело; а само собою понятно, что способность, в которой сохраняются образы телесных вещей, всего скорее должна бы быть похожею на тело. Но если и она не тело, так как известно, что телесные образы в душе не только удерживаются памятью, но бесчисленное множество их возникает по произволу: то во сколько же раз менее душа похожа на тело какою–либо другою своею способностью?
30. Если же по какому–либо иному понятию телом назовут все существующее, т. е. всякую природу и субстанцию, то хотя подобного слововыражения и не следует допускать, чтобы не утратить способа выражения, которым бы мы могли отличать от тел все то, что не тело, однако не следует слишком и хлопотать из–за названия. Ибо и мы говорим, что душа не принадлежим к числу четырех общеизвестных элементов, которые суть несомненные тела, но, с другой стороны, она и не то, что Бог. А что она такое, нельзя лучше назвать ее, как душою, или дыханием (spiritus) жизни. Прибавляю жизни потому, что и воздух называют дыханием. Впрочем, воздух называли и душою, так что нельзя и подобрать имени, каким можно бы было обозначить ту природу, которая не есть ни тело, ни Бог, ни жизнь без ощущения, какую можно предполагать в деревьях, ни жизнь без разумного ума, какая имеется в животных, но жизнь в настоящее время низшая, чем жизнь ангелов, а в будущем такая же, как и их, если только мы будем жить на земле по заповеди Творца своего.
31. Но хотя и остается делом еще сомнительным и открытым вопросом, откуда, т. е. из какой своего рода материи сотворена душа — из совершенной ли и блаженной какой–нибудь природы, пли же из ничего, однако не должно быть ни малейшего сомнения, что как Богом она сотворена, если была чем либо раньше, так Богом же сотворена она и теперь, чтобы быть живою душою, ибо она или была ничем, или не была тем, чем стала теперь. Впрочем, о той стороне [вопроса], с которой мы исследовали своего рода материю, из коей душа сотворена, сказано нами уже достаточно.
ГЛАВА XXII
32. Спрашивается теперь: если души не было совсем, то как понимать высказанную нами выше мысль, что причинное начало её существовало уже в левых шестидневных делах Божиих, когда Бог сотворил человека по образу Своему, а таким Он сотворил его только по душе? Не следует ли опасаться, как бы, высказывая мысль, что Бог, когда создал все разом, сотворил тогда не самые природы и субстанции, которые имели потом явиться, а некоторые причинные их начала, мы не показались кому–нибудь высказывающими нечто бессодержательное? Ибо какие это были причинные начала, по коим, можно бы сказать, Бог сотворил человека по образу Своему, когда, еще не было создано из земной персти тело его и не была сотворена дуновением его душа? И если существовала материя, из которой должно было образоваться тело, т. е. земля, в коей, как в семени, могло быть сокрыто его начало, то какое первоначально существовало причинное начало создания души, т. е. создания того дыхания, которое бы потом стало душою человека, в то время, когда Бог сказал: сотворим человека по образу Нашему и по подобию (а это правильно разумеется только о душе), если тогда не было никакой природы, в которой бы это начало было заложено?
33. Ибо если это начало было в Боге, а не в твари, то, стало быть, оно еще не было создано: как же сказано, что Бог сотворил человека по образу Божию (Быт. I, 26. 27)? А если оно было в твари, т. е. в том, что Бог сотворил разом, то в какой твари — духовной или телесной? Если в духовной, то принимало ли оно какое–нибудь деятельное участие в телах мира небесных или земных, или же прежде чем человек создан был в своей собственной природе, оно оставалось праздным, подобно тому, как и в самом человеке, живущем уже своею собственною жизнью, остается скрытою и праздною сила деторождения, которая действует только при посредстве сожития или соития? Или, может быть, и самая та природа духовной твари, в которой скрыто существовало это начало, не была занята никаким своим делом? В таком случае, для чего же она была сотворена? Разве, может быть, для того, чтобы содержала в себе начало будущей души, или будущих душ человеческих, как если бы они не могли существовать в самих себе, а в какой–либо, уже живущей своею собственною жизнью, твари, подобно тому, как сила рождения может быть только в каких–нибудь, уже существующих и совершенных, природах? Отсюда, родоначальницей (parens) души назначена некая духовная тварь, в коей заключалось начало (ratio) будущей души, но душа получает свое бытие от этого начала только тогда, когда производит ее в человек Бог Своим дыханием. Ибо и произведение из человека семени или и самого уже потомства творит и образует не кто другой, как Бог же Своею Премудростью, которая досязает сквозе всяческая ради своея чистоты (Прем. VII, 24), так что к Ней не пристает ничего нечистого в то время, как Она досязает от конца даже до конца крепко, и управляет вся благо (Прем. VIII, 1). Но я не знаю, как можно объяснить теперь, что с этою именно целью создана была какая–то, не знаю, духовная тварь, которая, однако, в ряду созданий, произведенных в течение шести дней, не упоминается, между тем как говорится, что Бог в шестой день сотворил человека, но сотворил не в собственной его природе, а только еще причинно в некоей, еще не упомянутой, твари. Скорее должна была быть упомянута именно эта тварь, которая была уже совершена, а не должна была еще твориться по предшествовавшему причинному началу.
ГЛАВА XXIII
34. Разве, может быть, причинное начало сотворения души Бог заложил в природе того дня, который Он сотворил первоначально (буде под именем этого дня мы правильно разумеем разумный дух), — заложил тогда, когда в шестой день сотворил человека по образу Своему, т. е. по той природе и тому началу, по коим создал его, потом, после шести дней; так что, можно думать, причинное начало его тела Бог сотворил тогда в природе земли, а причинное начало души — в природе этого дня? А так сказать, что другое значит, как не то, что ангельский дух есть как бы родоначальник (parens) человеческой души, раз в нем заложена была причина создания человеческой души, подобно тому, как в человеке заложена причина его будущего потомства? Отсюда. люди суть родоначальники (parentes) человеческих тел, а ангелы — родоначальники душ, творец же и душ и тел — Бог, но — тел от людей, а душ от ангелов, или — первого тела из земли, а первой души от ангельской природы, где предсуществовали их причинные начала, когда Бог первоначально сотворил человека в том, что создал разом; впоследствии же люди [происходят] уже от людей, тело — от тела, и душа — от душ. Конечно, называть душу дочерью ангела или ангелов грубо, но более грубо называть ее дочерью небесного тела; во сколько же раз более грубо называть ее дочерью моря и земли? Поэтому, если нелепо думать, что Бог создал души причинно из ангельской природы, то гораздо большею нелепостью будет думать, что причинное начало души заложено было в какой–нибудь телесной природе, когда Бог сотворил человека по образу Своему, прежде чем, образовав его в свое время из персти земной, Он одушевил его Своим дыханием.
ГЛАВА XXIV
35. Посмотрим же теперь, может ли быть истинным такое воззрение (а оно на человеческий взгляд более терпимо), что в первых, разом сотворенных, делах Бог сотворил и человеческую душу, которую в свое время вдохнул в члены образованного из земной персти тела, для которого в ряду разом созданных предметов Он создал начало, по коему, когда надлежало, образовал человеческое тело. Ибо слова: по образу Своему правильно можно разуметь не иначе, как в приложении к душе, слова же: мужа и жену — в приложении к телу. Отсюда, если только этому не будет противоречить авторитет Писаний, или показание истины, можно думать, что человек в шестой день сотворен так, что причинное начало его тела было сотворено в мировых элементах, душа же его сотворена так же, как создан первоначально и день, и, сотворенная, скрыто находилась в делах Божиих, доколе в свое время Бог не вложил ее Своим дыханием, т. е. вдуновением, в образованное из персти земной тело.
ГЛАВА XXV
36. Но здесь возникает вопрос, которого нельзя обойти, именно: если душа была уже сотворена и оставалась сокрытою, то где же ей можно было быть лучше, как не там? Какая же была причина, что, живя невинно, она введена в жизнь этой плоти, в которой, согрешив, она оскорбила Творца, вследствие чего ее постигли тягости труда и казни осуждения? Разве, может быть, надобно думать так, что она склонилась к управлению телом по собственной воле, и в этой жизни тела, при возможности жить праведно и неправедно, снискивает то, чего заслуживает, т. е. или награду за праведность, или наказание за неправедность, так что это не будет противоречием апостольскому изречению, что еще не родившиеся не совершают ничего худого или доброго (Рим. IX, 11)? И действительно, склонность к телу не есть еще действие праведное или неправедное, отчет за которое должен быть отдан на суде Божием, когда кийждо приимет, яже с телом содела, или блага, или зла (2 Кор. V, 10). Почему же не думать уже и так, что душа вошла в тело по мановению Бога, и если живет здесь по заповеди Его, заслуживает награду вечной жизни, или ангельского союза, а если этою заповедью пренебрегает, претерпевает правосуднейшие наказания продолжительного труда, или огня вечного? Разве, может быть, подобное предположение будет противоречием [апостольскому изречению], что еще не родившиеся не совершают ничего доброго или худого, так как уже самое повиновение [души] воле Божией есть, конечно, действие доброе?
ГЛАВА XXVI
37. А если это так, то мы должны будем признать, что душа первоначально сотворена не в таком порядке предметов, чтобы предвидела свое будущее, праведное или неправедное, деяние. Ибо крайне невероятно, чтобы она по собственной воле могла склониться к жизни в теле, если бы предвидела, что в некоторых она будет такою грешницею, что подвергнется заслуженно вечному наказанию. Творец справедливо прославляется за то, что сотворил вся добра зело. И Он должен быть прославляем не за тех только, кому даровал предведение, а и за то, что сотворил скотов, над которыми человеческая природа имеет превосходство даже и в согрешающих. Правда, от Бога природа человека, а не порочность, в которую он впал, сделав худое употребление из своей свободы; однако, если бы он свободы не имел, то был бы менее в мире превосходен. Ведь и праведно живущего человека следует мыслить таким, что он не обладает предведением будущего, и превосходство доброй воли надобно видеть в том, насколько она не препятствует жить праведно и благоугождать Богу, потому что, не зная будущего, он живет верою. Отсюда, всякий, кому не хотелось бы, чтобы в мире существовало подобное создание, противоречит благости Божией. А кто не хочет, чтобы оно терпело наказания за грехи, является противником правосудия.
ГЛАВА XXVII
38. Но если душа творится для того, чтобы быть посланною в тело, то можно спросить, влечется ли она сюда силою в случае, если бы того не хотела? — Лучше будем думать так, что она желает того естественно, т. е. творится уже с такою природою, что желает того, подобно тому, как для нас естественно хочет жить; а жить худо — это уже дело не природы, а извращенной воли, которую заслуженно ожидает наказание.
39. Поэтому, напрасно и спрашивать, из какой своего рода материи сотворена душа, раз мы будем представлять себе, что она сотворена в первых делах, когда создан первоначальный день. Ибо как произведены эти дела, которых не было, так в ряду их произведена и она. Если существовала некая способная к образованно материи, телесная ли или духовная, но во всяком случае произведенная ни кем другим, а Богом, от коего произошло все, — материя, которая предшествовала своему образованно не по времени, а по происхождению, как голос [предшествует] пению: то не сообразнее ли думать, что душа сотворена из материи духовной?
ГЛАВА XXVIII
40. А если кому–либо угодно думать, что душа сотворена только тогда, когда была вдунута в образованное уже тело, тот пусть подумает, как ответить на вопрос, из чего же она сотворена. В самом деле, он скажет или так, что Бог нечто сотворил или творит из ничего по завершении уже [творческих] дел Своих, и должен будет в таком случае, подумать, как объяснить [сказанное], что в шестой день сотворен человек по образу Божию (а это можно правильно понимать только в приложении к душе), т. е. в той природе в которой сотворено было причинное начало того предмета, которого еще не существовало; или же так, что душа сотворена из чего–либо, уже существовавшего, и в таком случае принужден будет трудиться над исследованием вопроса, что это была за природа — телесная или духовная, т. е. вопроса, который исследовали и мы выше, так как и ему будет предстоять трудная задача разрешить, в какой субстанции созданных в течение шести дней тварей Бог сотворил причинное начало души, которой Он еще не сотворил самой ни из ничего, ни из чего–либо.
41. Если он захочет обойти этот вопрос, сказав, что и из персти земной человек уже сотворен в шестой день, но об этом упоминается потом снова в виде повторения, то пусть обратит внимание на то, что сказано о жене: мужа и жену, говорит, сотвори их и благослови их (Быт. I, 27, 28). Если же он ответит так, что и жена сотворена из кости мужа в тот же день, то пусть подумает о том, каким образом [бытописатель] утверждает, что в шестой день сотворены птицы, которые приведены были к Адаму. тогда как, по сообщению Писания, весь род пернатых сотворен из воды в пятый день, а также — что в шестой же день [сотворены] и деревья, насажденные даже в раю, тогда. как тоже самое Писание этот род творений приписывает третьему дню. Пусть подумает он и о том, чтО значат самые слова: И прозябе Бог еще от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь: как будто те дерева, которые произрастил Он в третий день, не были красными в видение и добрыми в снедь, хотя и находились в ряду дел, которые Бог сотворил вся добра зело! Что значат и слова: И созда Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя (Быт. II, 19): как будто раньше произведены они не все или лучше — не были произведены совсем! Да и сказано не: «созда Бог еще от земли остальных полевых зверей и остальных птиц небесных», т. е. как бы тех, которых Он еще не произвел в шестой день, или из воды в пятый, но: вся, говорит, звери сельныя и вся птицы небесныя. Пусть подумает и о том, каким образом, с одной стороны, все Бог создал в течение шести дней, именно в первый день — самый этот день, во второй — твердь, в третий — вид земли и моря и из земли — траву и деревья, в четвертый — светила и звезды, в пятый — водных животных, в шестой — животных земных, а с другой, потом говорится: Егда бысть день, сотвори Бог небо и землю, и всякий злак сельный, когда Он в то время, егда бысть день, сотворил не что иное, как самый этот день. Каким образом Бог сотворил и самый этот злак полевой раньше, чем он вышел на поверхность земли, а также всякую полевую траву раньше, чем произросла она. ибо, если бы Писания нам того не говорили, кто не сказал бы, что трава сотворена тогда, когда она выросла? Пусть припомнит и написанное: Живый во веки созда вся обще (Сир. XVIII, 1), и подумает о том, каким образом можно назвать то сотворенным зараз, творение чего разделяется расстояниями времени не только часов, но и дней. Пусть покажет нам, каким образом истинно одно и другое, друг другу невидимому противоречащее, т. е. и то, что в седьмой день Бог почил от всех дел Своих, как говорит книга Бытия (II, 2), и то, что Он доселе делает, как говорит Господь (Иоан. V, 17). Пусть обратит внимание и на то, каким образом названное совершившимся называется и начавшимся.
42. Все эти свидетельства божественного Писания, в истинности которого может сомневаться разве только человек неверующий или нечестивый, привели нас к тому, высказанному нами, мнению, что Бог от начала века сотворил все разом, одни предметы в их собственной, уже законченной, природе, а другие — в их предуготовительных причинах, т. е. сотворил Он, всемогущий, не только как настоящее, но и как будущее, и от совершенных дел почил, устрояя потом Своим управлением и промышлением уже самые порядки времен и всего временного, а потому, с одной стороны, закончил [творение], положив предел всем его родам, а с другой начал его, открыв ряд веков; так что со стороны законченного почил, а со стороны начатого доселе делает. Но если все это можно понимать лучше, я тому не только не препятствую, а напротив благоприятствую.
43. О душе же, которую Бог вдунул в человека дыханием в лице его, я утверждаю только, что она от Бога, но не субстанция Его, — что она бестелесна, т. е. не тело, а дух не из субстанции Его происходящий, а сотворенный Богом, но сотворенный не так, чтобы в его природу превратилась какая–либо природа тела или неразумной души, и, отсюда, сотворенный из ничего, — что она бессмертна по некоторому образу своей жизни, которой не может потерять ни в каком случае, по некоторой же изменяемости, по которой может быть и лучше и хуже, она справедливо может быть названа и смертной, так как истинное бессмертие имеет только Тот, о ком сказано: един имеяй безсмертие (I Тим. VI, 16). Остальное, о чем я рассуждал в настоящей книге, пусть будет пригодно читателю или для того, чтобы он знал, как надобно без дерзкого утверждения наследовать предметы. о которых ясно не говорит Писание, или же, буде подобный способ исследования ему не понравится, для того, чтобы он знал, как я сам исследовал их, дабы он, если может. не отказался научить меня, а если не может, поискал человека, который бы научил нас обоих.
КНИГА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА I
1. И насади Бог рай во едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда. — Мне не безызвестно, что о рае говорилось многими и многое, но существует относительно этого предмета три, так сказать, общих мнения. Одно из них принадлежит тем, которые рай хотят понимать только в телесном смысле, другое — тем, которые разумеют его исключительно в духовном значении; третье — тем, которые принимают рай в том и другом смысле — иногда телесном, а иногда духовном. Чтобы быть кратким, признаюсь, что мне представляется лучшим последнее мнение. В смысле этого мнения я, насколько удостоит меня Господь, и намерен теперь говорить о рае, полагая, что человек, созданный из персти земной (что без сомнения, означает человеческое тело), был помещен в раю телесном, — что как сам Адам, хотя он и знаменует собою нечто другое, согласно со словами Апостола, назвавшего его образом будущего (Рим. V, 14), был однако человеком, который был видим в своей собственной природе, который жил известное число лет и, оставив многочисленное потомство, умер точно так же, как умирают и остальные люди, хотя и не был, как другие, рожден от родителей, а был сотворен из земли, как это и должно быть первоначально: так и рай, в котором поместил его Бог, был не что иное, как известная местность, т. е. страна, где мог бы обитать земной человек.
2. В самом деле, повествование в сих книгах ведется в форме речи о предметах не иносказательных, как в Песни Песней, а совершенно исторических, как в книгах Царств и других подобных книгах. А так как здесь рассказывается о таких вещах, которые вполне известны из опыта человеческой жизни, то не трудно, а напротив весьма легко принимать их сначала в буквальном смысле, чтобы потом выводить из них и то, что могут они знаменовать в будущем. Но так как, c другой стороны, здесь же говорится и о том, чего наблюдающие обычный ход природы не встречают, то некоторые хотели бы принимать рассказ об этом не в буквальном, а иносказательном cмыcлe, и историю, т. е. повествование о предметах исторических, начинать c того пункта, когда Адам и Ева, изгнанные из рая, вступили в соитие и начали рождать. Как будто для нас обычное дело, что они столько лет прожили, или что Энох взят на небо, или что престарелая и бесплодная стала рождающею, и проч. т. под.!
3. Но, говорят, иное дело — повествование о чудесных событиях, иное — о тварях обыкновенных: там самая эта необычность указывает на то, что есть способы [существования] вещей — одни, так сказать, естественные, а другие чудесные, называемые чрезвычайными; здесь же имеется в виду обыкновенный порядок природ. На это надобно ответить так, что ведь и необычные события необычны потому, что они первые. В самом деле, что в составе мировых вещей может быть в такой степени беспримерным и не имеющим для себя аналогии, как не сам мир? А разве можно думать, что Бог не сотворил мира, потому что Он не творит больше миров, или не сотворил солнца, потому что не творит больше солнц? Так надобно ответить и тем, которых беспокоят вопросы не только о рае, но и о самом человеке: раз они верят, что человек был создан так, как никто уже другой, почему же не хотят верить, что рай сотворен так, как происходят на их глазах леса?
4. Само собою понятно, что это говорю я для тех, которые признают авторитет Писаний, ибо некоторые и из наших хотят понимать рай не в буквальном, а иносказательном значении. Что же касается тех, которые совершенно враждебны Писаниям, то с ними мы вели речь в иное время и иначе; хотя и в настоящем своем произведении мы, насколько можно, намерены защищать буквальное значение рая в тех видах, чтобы эти люди, по причине умственной извращенности или тупости отказывающиеся верить подобным предметам, не находили основания к убеждению других в ложности их. Впрочем, я удивляюсь и тем из наших, которые верят божественным Писаниям и не хотят принимать рай в буквальном, т. е. как прекраснейшее место, покрытое плодоносными деревами и орошаемое великим источником, на том основании, что ни одно де человеческое землеводство не покрывается, по сокровенному действию Божию, столькою и такою зеленью, — удивляюсь, каким образом верят они и в самого человека, сотворенного так, как они того никогда не видали. А если и он должен быть понимаем иносказательно, кто же в таком случае родил Каина и Сима? Или, может быть, и они существовали только иносказательно, а не были людьми, рожденными от людей?. Пусть подобные возражения продолжат они до того пункта, до которого можно простирать их, и пусть вместе с нами попытаются все повествование принять сначала в буквальном значении. Ибо кто же станет им мешать, если потом они будут понимать повествуемое еще и в иносказательном смысле, в значении ли духовных природ и действий, или будущих предметов. Само собою понятно, что если называемое здесь телесно как не разуметь скорее все за сказанное в иносказательном смысле, нежели нечестиво порицать священное Писание? Если же все это, понимаемое и телесно, не только не затрудняет, а, напротив, подкрепляет повествование божественного слова, то, думаю, никто не будет настолько упорен, что, видя все это как изъясняемое по правилу веры в собственном смысле, предпочтет оставаться при прежнем мнении, буде раньше ему казалось, что оно может быть понимаемо только в иносказательном значении.
ГЛАВА II
5. Я и сам, вскоре по своем обращении, написал две книги против манихеев, которые не только заблуждаются, принимая эти ветхозаветные книги не так, как должно, но богохульствуют, совсем их не принимая и отвращаясь, — написал в желании поскорей или опровергнуть их болтовню, или возбудить внимание к исканию в сих, ими презираемых, Писаниях христианской и евангельской веры. И так как в то время мне не представлялось, как все в них может быть принимаемо в собственном смысле, а скорее казалось, что оно в таком смысле не может, или едва либо с трудом может быть принимаемо, то я без отлагательства, с возможною краткостью и ясностью, изъяснил в иносказательном смысле то, чего не мог принять в буквальном значении, в опасении, что напуганные пространностью ли изложения, или темнотою исследования, они, пожалуй, не захотят и в руки взять [мое произведение]. Впрочем, не забывая, чего я особенно желал, но не мог сделать, именно — понимать все сначала в буквальном, а не иносказательном смысле, и, не отчаиваясь окончательно, что оно может быть принимаемо и в таком смысле, я в первой части второй книги выразил эту мысль следующим образом: «Само собою понятно, — говорил я, — что всякий, кто хочет все сказанное принимать в буквальном значении, т. е. так, как звучит буква, и при этом может избежать богохульства и говорить все согласно с кафолическою верою, не только не должен возбуждать наше неблаговоление, а должен считаться нами за славного и заслуживающего особенной похвалы толкователя. Если же не представляется никакой возможности благочестивым и достойным Бога образом понимать иначе, нежели как сказанное иносказательно и в загадках, то, следуя авторитету Апостолов, которые разрешают столь многие загадки в ветхозаветных книгах, мы будем держаться способа, который себе наметили, при помощи Того, Кто заповедует нам просить, искать и толкать (Mф. VII. 7), изъясняя все эти образы вещей согласно с кафолическою верою, как относящиеся или к истории, или к пророчеству, но при этом не предрешая лучшего и более достойного толкования с нашей ли стороны, или со стороны тех, кому Господь открыть удостоит». Так я писал тогда. В настоящее время Господь благоизволил, чтобы, всмотревшись в дело более тщательно, я не напрасно, насколько мне думается, был того мнения, чтО могу и я написанное изъяснить в собственном, а не иносказательном слововыражении; [в таком смысле] мы и ведем исследование как о том, что хотели показать выше, так и том, что следует дальше о рае.
ГЛАВА III
6. Итак, насади Бог рай сладости (ибо это самое и означает во едеме) на востоцех и введе тамо человека, егоже созда. Так написано потому, что так оно и было. Затем [бытописатель] останавливается на этом предмете снова, желая показать, как именно произошло то, о чем он сказал кратко, т. е. как именно Бог насадил рай и ввел сюда человека, которого создал. Ибо свою речь он так продолжает: И прозябе Бог еще от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь. Не говорит: «И прозябе Бог от земли другие дерева или прочие дерева», но: прозябе еще, говорит, от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь. Следовательно, тогда еще, т. е. в третий день, земля произвела всякое дерево и на вид прекрасное, и на вкус хорошее; ибо в шестой день Бог говорит: Се дах вам всякую траву семенную, сеющую семя, еже есть верху земли всея, и всякое древо плодовитое, еже имать в себе плод семене семеннаго, вам будет в снедь (Быт. I, 29). Итак, не дал ли Он тогда одно, а теперь захотел дать другое? Не думаю. Но так как в раю введены были деревья тех же пород, которые земля произвела раньше, еще в третий день, то теперь она породила их еще в свое время, так как написанное [в третий день], что земля произвела [растения], тогда произведено было в земле причинно, т. е. тогда земля получила сокровенную силу производить [растения], а от этой силы происходит уже и то, что она теперь рождает их видимым образом и в свое время.
7. Отсюда видно, что слова Бога, изреченные в шестой день: Се дах вам всякую траву семенную, сеющую семя, еже есть верху земли всея, и проч., произнесены были не чувственным или временным образом, а как творческая сила в Его Слове. А что изрекает Он без временных звуков, людям Он мог сказать не иначе, как при помощи именно временных звуков. Ибо то было еще будущим событием, чтобы человек, образованный из персти земной и одушевленный Его дыханием, а затем и весь, происшедший от него человеческий род употребляли в пищу то, что выходит из земли, благодаря той производительной силе, которую она уже получила. О причинных основах этого будущего события в твари Создатель и говорил тогда, как бы уже о деле существующем, — говорил с тою внутреннею и присною Ему истиною, которой ни око не видело, ни ухо не слышало, но о которой писателю открыл Дух Его.
ГЛАВА IV
8. Само собою понятно, что следующие затем слова: И древо жизни посреди рая, и древо еже ведети разуметельное добраго и лукавого, надобно рассмотреть с большею тщательностью, чтобы не впасть в аллегорию, будто это были не деревья, а под именем дерева означается нечто другое. Правда, о премудрости написано: Древо живота есть всем держащимся ея (Притч. III, 18), однако хотя и существует вечный Иерусалим на небе, тем не менее устроен был и на земле город, знаменовавший собою тот; хотя Сарра и Агарь знаменовали собою два завета (Гал. IV, 24–26), однако это были и две известные женщины; наконец, хотя Христос чрез Свои страдания напояет нас духовною водою, однако Он был и камнем, который от удара деревом источил жаждущему народу воду, как сказано: камень же бе Христос (1 Кор. X, 4). Все эти предметы имели иное значение, нежели чем были сами по себе; и, тем не менее, они существовали и телесно. И в то время, когда о них рассказывалось бытописателем, это было но иносказательною только речью, а точным повествованием о предметах, которые стояли впереди, как преобразовательные. Таким образом, существовало и древо жизни, как существовал и камень Христос; Богу угодно было, чтобы человек жил в раю не без духовных таинств, имевших телесную наружность. Поэтому прочие деревья служили для него питанием, а древо жизни — таинством, означавшим не что иное, как премудрость, как сказано: Древо живота есть всем держащимся ея, подобно тому, как можно бы сказать и о Христе: «Он есть камень, напояющий всех пиющих от Него». Он справедливо называется тем, что раньше служило Его прообразом. Он — агнец, который закалался в Пасхе; и, однако, это было прообразом не в речи только, а в действии: ибо существовал действительно агнец, был закалаем и съедаем (Исх. XII 3–11), и, тем не менее, этим истинным происшествием предизображалось нечто другое. Это не то, что телец упитанный, который заколот был для пира возвратившемуся младшему сыну (Лук. XV, 23). Тут самый рассказ — иносказание, а не преобразовательное обозначение действительных предметов. Об этом рассказывает не Евангелист, а Сам Господь; Евангелист же передал только, что так рассказывал Господь. Поэтому, как Евангелист рассказывает, так оно и было, т. е. так говорил Господь; рассказ же Самого Господа был преточным, и к нему ни в каком случае нельзя прилагать буквального понимания тех событий, которые служили предметом речи Господа. Христос есть и камень, помазанный Иаковом (Быт. XXVIII, 18), и камень, егоже небрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла (Псал. 117, 22); но первое было действительным событием, а последнее только образным предсказанием; о первом пишет повествователь прошедшего, а о последнем предсказатель только будущего.
ГЛАВА V
9. Точно также и Премудрость, т. е. Христос, представляет собою древо живота в раю духовном, куда был послан разбойник (Лук. XXIII, 43), но для обозначения её было сотворено древо жизни и в раю телесном: об этом говорит то самое Писание, которое, повествуя о событиях, в свое время совершающихся, повествует и о том, что в раю был человек, телесно сотворенный и в теле живший. А буде кто станет на этом основании думать, что души, по разлучении с телом, содержатся в телесно видимом месте, хотя и находятся без тела, тот пусть отстаивает свое мнение; найдутся такие, которые к этому мнению отнесутся с одобрением, утверждая, что оный жаждущий богач (Лук. XVI, 24) находился несомненно в телесном месте, и даже не усомнятся провозгласить и самую душу совершенно телесною, в виду запекшегося языка богача и капли воды, которой он желал с пальца Лазаря: о таком важном вопросе я не хочу вступать с ними в необдуманное пререкание. Лучше сомневаться в сокровенном, нежели спорить о неизвестном. Я не сомневаюсь, что богач должен быть представляем в мучительном, а бедняк в прохладно–радостном месте. Но как надобно представлять себе это адское пламя и это лоно Авраамово, этот язык богатого и этот палец бедняка, эту палящую жажду и эту прохладительную каплю, — все это едва ли может быть открыто и путем спокойного исследования, путем же запальчивого спора — никогда. Чтобы не останавливаться на этом глубоком и требующем продолжительной речи вопросе, пока надобно ответить на него так, что если души, по разлучении от тела, находятся в телесном месте, то оный разбойник мог быть помещен в раю, в котором находилось тело первого человека; при более ясном месте Писаний, если того потребует какая–нибудь надобность, мы так или иначе покажем, что должны мы знать или думать относительно этого предмета.
10. В настоящее же время я не сомневаюсь, да и не думаю, чтобы кто–нибудь стал сомневаться, что премудрость — не тело, а потому и не дерево; а что в телесном раю премудрость могла быть обозначаема чрез дерево, т. е. телесную тварь, как некоторое таинство, — это пусть считает невероятным тот, кто или не видит в Писании столь многих телесных таинств духовных предметов, или утверждает, что первый человек не должен был жить с некоторым подобного рода таинством, хотя Апостол слова Писания и о жене (которая, как мы верим, создана была из ребра мужа): сею ради оставит человек отца и матерь, и прилепится к жене своей и будут два в плоть едину, называет великою тайною во Христе и Церкви (Еф. V, 31–32). Удивительно и с трудом допустимо, каким образом люди хотят принимать рай за иносказательное повествование и в тоже время не хотят принимать его и за иносказательное действие. Если же они, как напр, об Агари и Сарре, об Измаиле и Исааке, согласны, что это были действительные лица и в то же время прообразы, то я не понимаю, почему же они не допускают, что и древо жизни и действительно было некоторым деревом, и изображало премудрость.
11. Прибавлю и то еще, что хотя это дерево и представляло телесную пищу, и пищу такую, которая делала тело человека постоянно здоровым не как от всякой другой пищи, а в силу некоторого сокровенного вдохновения здоровья. Ибо и обыкновенный хлеб заключал в себе нечто большее, когда одним опресноком Бог защищал человека от голода в течение сорока дней (3 Цар. XIX, 8). Или, может быть, мы усомнимся поверить, что Бог посредством пищи от некоего дерева, благодаря его особенному значению, давал человеку возможность, чтобы его тело не испытывало как в здоровье, так и в возрасте изменения в худшую сторону, или чтобы даже и не умирало, — Он, который и самой человеческой пище мог даровать такую чудесную устойчивость, что мука и масло, убывавшие в глиняных сосудах, снова восполнялись и не оскудевали (3 Цар. XVII, 16)? Но, пожалуй, и здесь окажется кто–нибудь из породы спорщиков и скажет, что Бог должен был творить подобные чудеса в наших странах, в раю же не должен был: как будто, создав человека из персти земной и жену из ребра мужа, Он сотворил там большее чудо, нежели здесь воскрешая мертвых!
ГЛАВА VI
12. Перейдем теперь к древу познания добра и зла. Без сомнения, и это дерево было видимым и телесным, как и прочие деревья. Итак, что оно было дерево, несомненно; надобно только исследовать, почему оно получило такое название. Всматриваясь в дело глубже, я не могу и выразить, до какой степени мне приятно мнение, что это дерево не было вредно для пищи; ибо Создавший все добро зело (Быт. I, 31) не ввел в рай ничего злого, но злом для человека было преслушание заповеди. А между тем, для человека, стоявшего под властью Господа Бога, необходимо было какое–нибудь ограничение, чтобы послушание было для него добродетелью, которая бы вела его к Господу; и могу сказать с уверенностью, что послушание — единственная добродетель для всякой разумной твари, действующей под властью Бога, первый же и величайший порок гордости заключается в желании пользоваться к погибели своею властью; имя этому пороку непослушание. Таким образом, человеку не откуда было бы знать и чувствовать, что он имеет Господа, если бы ему не было ничего приказано. Итак, дерево это не было дурное, но названо древом добра и зла потому, что в нем, в случае если человек вкусит от него после запрещения, заключалось будущее преступление заповеди, а в этом преступлении, путем испытываемого наказания, человек мог научиться, какое существует различие между благом послушания и злом непослушания. Вот почему и это дерево надобно принимать не за иносказание, а за некоторое действительное дерево, которому дано название не от плода или яблока, на нем рождавшегося, а от того, что имело случиться с вкусившим это яблоко вопреки запрещению.
ГЛАВА VII
13. Река же исходит из Едема напаяти рай: оттуду разлучается в четыри начала. Имя единой Фисон; сия окружающая всю землю Евилатскую: тамо убо есть злато. Злато же оныя земли доброе: и тамо есть анфракс, и камень зеленый. И имя реце второй, Геон: cия окружающая всю землю Ефиопскую. И река третия, Тигр: сия проходящая прямо Ассириом. Река же четвертая Евфрат. — Об этих реках что больше могу я утверждать, как не то, что это — действительные реки, а не иносказания, которых не существует и который означают как бы одни только имена, так как реки эти весьма известны и странам, по которым протекают, и почти всем народам? А уже из того, что они, как известно, несомненно существуют (ибо двум из них древность переменила названия, подобно тому, как Тибром называется теперь та река, которая раньше называлась Абулой, именно: Геон ныне называется Нилом, а Фисон — Гангом; две же другие — Тигр и Евфрат сохранили свои старинные названия), мы побуждаемся и все остальное принимать прежде всего в буквальном значении, думать, что оно не иносказание, а то самое, о чем повествуется и что существует, но вместе с тем означает и нечто другое. И это не потому, чтобы и преточная речь не могла заимствовать чего–либо из того, что, как известно, существует и в собственном смысле; так, напр., поступает Господь, говоря о том, кто следовал из Иерусалима в Иерихон и впал в разбойники (Лук. X, 30). Кому не видно, что это — притча, речь совершенно иносказательная, а между тем два города, о которых здесь упоминается, существуют на своих местах и по настоящее время. Подобным образом мы приняли бы и четыре [райские] реки, если бы все остальное, что повествуется о рае, какая–нибудь необходимость заставила нас принимать не в собственном, а иносказательном значении; но так как ничто не препятствует нам принимать эти реки в собственном значении, то почему не можем мы скорее прямо следовать авторитету Писания в повествовании о совершившихся событиях, сначала понимая эти события, как действительные, а потому исследуя, что означают они собою еще и другое?
14. Но, может быть, возбудит в нас сомнение то, что говорят об этих реках, именно — что источники де одних из них [теперь] известны, а других совершенно неизвестны, а потому и нельзя де принимать в буквальном значении сказание, что они разделялись от одной райской реки. — Скорее этому надобно верить, потому что от человеческого познания весьма удалено самое место рая, где разделялись эти части вод, как свидетельствует несомненнейшее Писание; но те реки, источники которых, как говорят, известны, пошли где–нибудь под землею и, протекши отдаленнейшие страны, вышли наружу в других местах, где, как говорят, они стали в своих источниках теперь и известны. Ибо кто не знает, что некоторые воды обыкновенно делают так? Только об этом знают там, где они текут под землею недолго. Итак, из эдема, т. е. из места сладости, выходила река и орошала рай, т. е. все те прекрасные и плодоносные дерева, которые покрывали всю землю этой страны.
ГЛАВА VIII
15. И взя Господь Бог человека, егоже созда, и поставил его в раю, чтобы делать и хранить. И заповеда Господь Бог Адаму, глаголя: от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси: от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а в оньже день снесте от него, смертию умрете. — Хотя выше кратко уже сказано, что Бог насадил рай и ввел туда человека, которого создал, однако [бытописатель] повторил это снова, чтобы рассказать, как устроен был рай. Теперь он снова упоминает о том, как поместил Бог в раю человека, которого Он создал. Рассмотрим же, что значит изречение: «чтобы делать и хранить». Что именно делать и что хранить? Неужели Господу угодно было, чтобы первый человек занимался земледелием? Разве можно думать, что Он осудил его на труд раньше греха? Так конечно мы думали бы, если бы не видели, что некоторые занимаются земледелием с таким душевным удовольствием, что отвлечение их от этого занятия является для них великим наказанием. А как бы много удовольствия ни доставляло земледелие теперь, тогда было его гораздо больше, когда ни от земли, ни с неба это занятие не встречало ничего противного. Тогда оно было не мучительным трудом, а отрадным наслаждением, так как все, сотворенное Богом, произрастало тогда при посредстве человеческой обработки гораздо обильнее и плодоноснее, от чего в большой степени прославлялся и Сам Создатель, даровавший душе, соединенной с животным телом, идею труда и способность к нему настолько, насколько это служило удовлетворением духовного желания, а не насколько требовали того нужды тела.
16. И в самом деле, какое может быть еще более удивительное зрелище, или где человеческий разум может еще, так сказать, беседовать с натурою, как не там, когда, при посеве семян, при выращивании отводков, при пересадке молодых дерев, при прививке виноградных черенков, он как бы вопрошает каждую силу семени или корня, что она может и чего не может, от чего может и от чего не может, что значит при этом невидимая и внутренняя сила числе и что — совне прилагаемый труд [человека], и в этом рассмотрении приходит к заключению, что ни насаждаяй есть что, ни напаяяй, но возращаяй Бог (I Кор. III, 7). так как и то, что при этом привходит со стороны, привходит чрез того, кто сотворил и кем невидимо управляет и распоряжается Бог?
ГЛАВА IX
17. Если отсюда мы переведем мысленное око на самый мир, как на некоторое огромное вещественное дерево, то и в нем также откроем двоякое действие Промысла — естественное и произвольное: естественное, совершающееся чрез сокровенное управление, коим Бог дает рост деревам и травам, а произвольное — чрез действие ангелов и людей. Согласно с первым упорядочиваются вверху небесные, а внизу — земные [явления], сияют светила и звезды, плотная масса земли напаяется и омывается водами, а выше разливается воздух, зачинаются и рождаются, вырастают, стареют и умирают растения и животные и происходит все, что только совершается в вещах в силу внутреннего и естественного движения. Во втором даются, объясняются и заучиваются приметы (signa), возделываются поля, управляются общества, развиваются науки и совершается все другое и в высшем обществе, и в обществе земном и смертном, так что попечением этого действия Промысла обнимаются и добродетельные и порочные. Та же двоякая сила Промысла обнаруживается и в человеке, и прежде всего по отношению к его телу: естественная — в том движении, каким оно происходит, вырастает, стареет, а произвольное — в том, каким оно поддерживается пищею, одеждою, лечением. Затем, по отношению к душе человек управляется — естественно, чтобы жить и существовать, а произвольно, чтобы учиться и быть отзывчивым.
18. А как в дереве тому, чтобы оно росло и что совершается внутренне, внешним образом содействует земледелие, так и в человеке, по отношению к телу, тому, что внутренне совершает в нем натура, помогает внешним образом медицина, а по отношению к душе тому, чтобы она по природе внутренне была счастлива, внешним образом содействует наука. Далее, что для дерева значит нерадение об уходе за ним, то же значит для тела. нерадение о его лечении, а для души — небрежение о её образовании. Наконец, что для дерева значит вредная влага, то же значит для тела гибельная пища, а для души — непотребное наставление. Таким образом, выше всего Бог, который создал все и всем управляет, творит все природы как благий, управляет всеми волями как правосудный. К чему же нам отклоняться от истины, если мы верим, что человек в раю находился в таком состоянии, что занимался земледелием не с рабским трудом, а с благородно–духовным удовольствием? Ибо что невиннее этой работы для занимающихся ею и что полнее всестороннего обсуждения для благоразумных?
ГЛАВА X
19. А хранить что? Неужели самый рай? От кого же? Ему не угрожал ни враждебный сосед, ни нарушитель границ, ни вор, ни грабитель. Как же понимать, что телесный рай мог быть охраняем человеком телесно? Но Писание и не говорит ведь: «чтобы делать и хранить рай», а: «чтобы делать и хранить». Хотя, впрочем, если перевести с греческого ближе к букве, то в нем сказано так: И взя Господь Бог человека, егоже созда, и поставил его в раю делати его и хранити. Но «поставил… делати» самого ли человека (а так именно и понимал переводчик, поставив: «чтобы делать»), или же рай, т. е. чтобы человек возделывал, — получается неясность, и согласно слововыражению скорее, кажется, надобно было сказать: делати не рай, a в раю.
20. Но допустим, сказано: «чтобы делать рай, подобно тому, как выше сказано: не бяше человек делати землю (а возделывать землю — то же слововыражение, что возделывать рай), — в таком случае получается неясная мысль по отношению к обоим выражениям. Ибо если надобно принять не: «рай хранить», а: «в раю хранить», то что же хранить в раю? Мы уже видели, что означает выражение — «делати в раю». Разве, может быть, то, что человек производил в земле при помощи земледелия, он должен был хранить в себе самом при помощи науки, чтобы как поле повиновалось ему возделывающему, так и сам он повиновался своему заповедующему Господу, чтобы, вкушая плод повиновения заповеди, он не получил терний неповиновения? Вот почему, не захотев сохранить в себе подобие возделывания рая, он после осуждения и получил себе такое поле: терния, говорит, и волчцы возрастит тебе (Быт. III, 18).
21. Если же мы поймем так, что человек должен был делать именно рай и рай хранить, то возделывать рай он мог бы, как сказано выше, при помощи земледелия, а хранить его — не от дурных и враждебных людей, каких тогда и не было, а разве от зверей. Но каким образом, или зачем? Разве звери были уже свирепыми к человеку, что произошло только вследствие греха? Ибо человек, как потом упоминается, всем зверям, к нему приведенным, нарек имена, а в шестой день, по закону слова Божия, получил со всеми ими и общую пищу (Быт. 1, 30). Или, если уже было чего бояться со стороны зверей, каким образом один человек мог защищать рай? Ибо то было место не малое, как скоро его орошала такая огромная река. Конечно, ему следовало бы, если бы было можно, оградить рай такою стеною, чтобы туда не мог проникнуть змий, но было бы удивительно, если бы раньше, чем человек оградил бы рай, он мог выгнать оттуда всех змей.
22. Почему же, после того, не воспользоваться нам разумом раньше глаз? Человек действительно был помещен в раю для того, чтобы он возделывал его, как выше выяснено, при посредстве не тягостного, а приятного земледелия и предусмотрительного ума, изыскивающего многое и полезное, и хранил тот же рай для самого себя, чтобы не допустить чего–либо такого, за что заслужил бы из него изгнания. Для того он получил и заповедь, чтобы иметь в ней средство, при помощи которого он сохранял бы для себя рай и с удержанием которого не был бы из него изгнан. Ибо правильно говорят, что тот не сохранил известной вещи, кто ею распоряжался так, что ее утратил, хотя она была бы спасительна другому, кто или нашел бы ее, или заслужил получить.
23. Есть в этих словах и другой еще смысл, который я считаю неизлишним предложить, именно — что делал и хранил Бог самого человека. Ибо как человек делал землю не так, чтобы она стала землею, а чтобы была обработанною и плодоносною, так Бог и человека, созданного для того, чтобы он был человеком, делает таким, чтобы он был праведным, если сам человек не отступает от Бога по гордости; ибо отпадение от Бога и есть то, что Писание называет началом гордости: начало, говорит, гордыни человеку отступление от Господа (Сир. X, 14). А так как Бог есть неизменяемое благо, а человек и по телу и по душе — нечто изменяемое, то он может образоваться в праведного и блаженного не иначе, как обратившись к неизменному благу, Богу. Поэтому Бог, создавши человека, чтобы он был человеком, Сам и делает и хранит его, чтобы он был праведным и блаженным Отсюда изречение, что человек делал землю такою, чтобы она, уже будучи землею, стала обработанною и плодородною, равносильно изречению, что Бог делал человека, чтобы он, уже будучи человеком, стал благочестивым и мудрым, и хранил его, потому что своею собственною властью человек, занятый ею сверх меры и пренебрегая владычеством Бога, не может быть целым.
ГЛАВА XI
24. Поэтому, думается мне, то — дело не безразличное, а указывающее на нечто важное, что с самого начала этой божественной книги, с самых первых её слов: В начале сотвори Бог небо и землю, и до настоящего места, нигде не употреблено выражение Господь Бог, а только лишь Бог. Теперь же, когда речь зашла о том, что Бог ввел человека в рай и при посредстве заповеди возделывал его и хранил, Писание говорит так: И взя Господь Бог человека, егоже созда, и поставил его в раю делати его и хранити (Быт. II, 15) не потому, чтобы Бог не был Господом и вышепоименованных тварей, а потому, что писано это не для ангелов и не для других тварей, а именно для человека, для напоминания ему, насколько для него полезно иметь Бога Господом, т. е. жить послушно под Его владычеством, а не пользоваться самовольно своею властью; с этою целью нигде раньше оно и не захотело поставить этого выражения, а только там, где речь дошла до рассказа, что Бог поместил человека в раю, возделывал его и хранил. Вот почему не сказано, как выше о всем прочем: И взя Бог человека, егоже созда, а: И взя Господь Бог человека, егоже созда, и поставил его в раю делати его, чтобы он был праведен, и хранити, чтобы он был безопасен, находясь именно под Его владычеством, которое полезно не для Него, а для нас. Не Он нуждается в нашем рабстве, а мы — в Его владычестве, чтобы Он возделывал и хранил нас; потому именно только Он один — истинный Господь, что мы являемся Его рабами не для Его, а для нашей собственной пользы и спасения. Ибо если бы Он нуждался в нас, то не был бы и истинным Господом, потому что, благодаря нам, увеличивалась бы Его неволя, рабом которой Он был бы: рех, справедливо говорит псалмопевец, Господеви: Бог мой ecu Ты, яко благих моих не требуеши (Пс. 15, 2). — Не следует наших слов понимать так, что мы служим Богу в видах нашей пользы и нашего спасения, как бы надеясь получить от Него что–нибудь другое, кроме Его Самого, который представляет Собою для нас высшую пользу и спасение. Ибо мы любим Его даром, по словам псалмопевца: мне же прилеплятися Богови благо есть (Пс. 72, 28).
ГЛАВА XII
25. И в самом деле, человек отнюдь не нечто такое, чтобы, отступив от своего Творца, мог делать что–нибудь доброе, как бы сам от себя: вся добродетель его состоит в обращении к Богу, который его сотворил и от которого он делается праведным, благочестивым и мудрым, а не делается и потом оставляется, как излечивается и потом оставляется врачом телесным; потому что телесный врач действует внешним образом, помогая натуре, внутренне действующей под властью Бога, устрояющего наше здравие двояким действием Промысла, о котором мы выше говорили. Отсюда, человек должен обращаться к Господу не так, чтобы, ставши праведным, мог отступить от Него, а так, чтобы Бог постоянно делал его [праведным]. Поэтому, доколе человек не отступает от Бога, Бог Своим присутствием оправдывает его, освящает и делает блаженным, т. е. возделывает его и охраняет, господствуя над ним, как послушным и покорным.
26. Это похоже не на то, что как человек обрабатывает землю; дабы, как мы сказали, она стала возделанною и плодородною, причем земля, когда человек, обработав, уходит от неё, остается или вспаханною, или засеянною, или орошенною, или еще какою–нибудь иною, сохраняя на себе ту работу, которая произведена над ней, хотя сам работник уже отошел от ней, так делает человека праведным и Бог, т. е. так оправдывает его, что человек, если бы Бог оставил его, может и в Его отсутствие быть тем, чем сделал его Бог; а скорее на то, что как воздух не раньше света уже светел, а делается светлым от присутствия света, потому что если бы он был уже светлым до света, а не делался светлым от присутствия света, то оставался бы светлым и при отсутствии света, так точно и человек в присутствии Бога освящается, а в отсутствии Его остается в постоянном мраке, ибо отступает от Бога не пространственным расстоянием, а отвращением своей воли.
27. Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, Кто непреложно благ. Мы должны постоянно быть [добрыми] и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая обращенными к Нему, о Ком говорится: мне же прилеплятися Богови благо есть (Пс. 72, 28) и Кому сказано: державу мою к тебе сохраню (Пс. 58, 10). Ибо мы — Его творение не только потому, что мы — люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и Апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которою мы спасаемся, говорит: благодатию бо есте спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится. Того бо есмы творение, создани во Христе Иисусе на дела благия, яже прежде уготова Бог, да в них ходим (Еф. II, 8–10) И в другом месте, сказав: со страхом и трепетом свое спасение содевайте (Фил. II, 12), он, чтобы мы не стали приписывать этого себе, как будто бы сами делая себя праведными и добрыми, непосредственно прибавляет: Бог бо есть действуяй в вас, и еже хотети, и еже деяти о благоволении (Фил. II, 13). Итак, взя Господь Бог человека, егоже созда, и поставил его в раю делати его, т. е. действовать в нем, и хранити его.
ГЛАВА XIII
28. И заповеда Господь Бог Адаму, глаголя: от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси, от древа же познания добра и зла не снесте от него: а в оньже аще день снесте от него, смертию умрете (Быт. II, 16). — Если бы это дерево было что–либо злое, почему Бог и воспретил его человеку, то выходило бы, что человек отправлен на смерть самою злою природою этого дерева. Но так как Создавший все добро зело насадил в раю дерева только добрые (Быт. I, 12) и не было там ни единой злой природы, так как и вообще в мире нет злой природы (об этом, если Господь благоволит, мы скажем обстоятельнее, когда будем говорить о змие), то с этого дерева, не бывшего злым, воспрещено было [есть] с той целью, чтобы самое уже соблюдение заповеди было для человека добром, а её преступление — злом.
29. Лучше и точнее и нельзя было показать человеку, до какой степени составляет зло самое уже непослушание, как скоро он сделался повинным пороку, потому что вопреки запрещению дотронулся до предмета, прикоснувшись к которому без запрещения, он конечно бы не согрешил. Допустим, напр., кто–нибудь скажет: «не касайся этой травы», буде она ядовита и предвещает смерть, — в таком случае, хотя ослушник приказания и подвергается смерти, если бы к такой траве прикоснулся, но если бы даже и не запрещал никто, а он бы прикоснулся, то и в таком случае конечно бы умер. Эта трава была бы противна его здоровью и жизни, все равно, ограждена ли она или не ограждена запрещением. Равным образом, если кто–нибудь, воспрещает прикасаться к предмету, который убыточен не касающемуся, а воспрещающему, как напр., если бы кто–нибудь протянул руку к чужому имуществу, вопреки запрещению того, кому принадлежит это имущество, то [нарушение] подобного воспрещения было бы грехом, потому что могло бы быть убыточным для воспретившего. Но раз прикасаются к чему–либо такому, что не вредно ни касающемуся (если оно не ограждено запрещением), ни кому–либо другому, когда–нибудь касавшемуся, то для чего другого оно ограждается запрещением, как не для указания, что повиновение само по себе есть благо, а неповиновение — зло?
30. Наконец, грешник желает только того, чтобы не быть под владычеством Бога, раз дозволяет себе нечто такое, в недозволенности чего он должен руководствоваться единственно повелением Господа. А если он должен руководствоваться только этим, то что другое это значит, как не руководствоваться волею Божиею? Что другое, как не любить воли Божией? Что другое, как не предпочитать человеческой воле волю Божию? Господь, конечно, знает, почему Он приказывает; слуга Его должен делать то, что Он повелевает, а слуга выдающийся, может быть, и видеть, почему Он повелевает. Не станем, впрочем, долго останавливаться на исследовании причины этого повеления, если для человека великая польза заключается уже в том одном, чтобы он служил Богу; повелевая, Бог делает полезным все, что ни повелевает, и ни в каком случае не следует бояться, чтобы Он мог повелеть что–нибудь неполезное.
ГЛАВА XIV
31. Да и не может быть, чтобы собственная воля [наша] не обрушивалась на человека великою тяжестью падения, если он высокомерно предпочитает ее воле высшей. Это человек и испытал, преслушав заповедь Божию, и путем этого опыта узнал, какое существует различие между добром и злом, добром послушания и злом непослушания, т. е. гордости и упорства, превратного подражания Богу и преступной свободы. А в каком дереве могло это приключиться, от этого обстоятельства, как выше сказано (Гл. VI), дерево и получило себе имя. Ибо оно не было бы злым, если бы мы не узнали этого по опыту, так как не было бы и зла, если бы мы его не совершили. Да и вообще какой–либо природы зла не существует, а имя зла получила утрата добра. Без сомнения, Бог есть непреложное благо, человек же, по той своей природе, в какой его сотворил Бог. хотя и есть благо, но благо не непреложное, как Бог. Но преходящее благо, которое следует после блага непреложного, делается лучшим, как скоро оно предано непреложному благу, любя Его и служа Ему разумною и собственною волею. Отсюда, и такая природа представляет собою уже великое благо, потому что она одарена способностью быть преданною высшему благу. Если же она не хочет быть такою, то лишается блага, и это для неё составляет зло, влекущее за собою, по правосудию Божию, страдание. Ибо что могло бы быть в такой мере несправедливым, как если бы изменник благу оставался в благополучии? Этого ни в каком случае и не может быть; но только иногда не чувствуют зла от потери высшего блага, любя благо низшее. Но по божественному правосудию кто потерял по своей воле благо, которое он должен был любить, тот, что любил, теряет со скорбью, лишь бы только прославлялся во всем Творец природ. Хорошо и то, что он скорбит об утраченном благе: если бы в его природе не оставалось уже никакого блага, то не было бы никакой и скорби об утраченном благе.
32. Но кому добро угодно помимо испытания зла, т. е. кто раньше, чем восчувствует потерю добра, уже решился не терять его, того надлежит поставить выше всех людей. Ибо если бы это не ставилось никому в особенную похвалу, то не приписывалось бы похвалы и тому Отроку, который, ставши из рода Израилева Эммануилом, т. е. с нами Богом (Mф. I, 23), примирил нас с Богом, явился Посредником между людьми и Богом (I Тим. II, 5), Словом у Бога, плотию у вас (Иоан. 1, 14), Словом–плотию между Богом и нами. Ибо о Нем именно пророк говорит: прежде неже разумети отрочати благое или злое, отринет лукавое, еже избрати благое (Иса. VII, 16 по LXX). А каким образом оно могло пренебречь или избрать то, чего не знало, если не так, что добро и зло познаются иначе чрез предведение добра и иначе чрез испытание зла? Чрез предведение добра зло познается, но не ощущается; в таком случае добра держатся, чтобы вследствие его потери не ощущать зла. В свою очередь, чрез испытание зла познается добро; так как тот, кому бывает худо от утраты добра, чувствует, чего он лишился. Отсюда, Отрок тот прежде, чем по опыту узнал или добро, которого бы мог лишиться, или зло, которое бы мог ощущать с потерею добра, пренебрег зло, дабы избрать добро, т. е. не захотел терять добра, которое имел, дабы не ощущать потери того, чего не должен был терять. Поэтому единственный пример повиновения представляет собою Тот, Кто пришел творить не Свою волю, а волю Пославшего Его (Иоан. VI, 38), в противоположность тому, кто предпочел творить волю свою, а не волю Создавшего его. Отсюда, как чрез непослушание одного многие стали грешниками, так чрез послушание одного многие становятся праведниками (Рим. V, 19): якоже бо о Адаме вcu умирают, такожде и о Христе вcu оживут (I Кор. XV, 22).
ГЛАВА XV
33. Между тем, некоторые напрасно пускаются в тонкие исследования вопроса, каким образом дерево могло называться древом познания добра и зла, прежде чем человек преступил в нем заповедь и путем этого опыта узнал, какое существует различие между благом, которое он потерял, и злом, которое снискал. Такое имя дано этому дереву с тою целью, чтобы, согласно запрещению, остерегались касаться того, ощущение чего должно было явиться от прикосновения к нему вопреки запрещению. Ибо древом познания добра и зла оно стало отнюдь не потому, что с него вкусили вопреки запрещению; напротив, если бы [прародители] оказались даже и послушными и с него вопреки запрещению не вкусили, то и в таком случае оно, конечно, правильно бы называлось тем, чтО с ними приключилось бы, если бы они с него вкусили. Подобно тому, если бы дерево называлось деревом здравия от того, что люди, благодаря ему, могли бы быть здоровыми, то было ли бы это имя для него несоответствующим, если бы к нему никто не прикоснулся? [Конечно, нет]; потому что если бы к нему прикоснулись и стали здоровы, в таком случае и убедились бы, насколько правильно это дерево называется.
ГЛАВА XVI
34. Но, говорят, каким образом человек мог понять, что называлось ему древом познания добра и зла, когда он совершенно не знал, что такое — само зло? — Так рассуждающие мало обращают внимания на то, что весьма часто мы понимаем неизвестное из противоположного ему известного, — что даже названия не существующего, раз они вставляются в речь, не остаются темными для слушателя. Ибо то, чего совсем нет (non est), никак не называется; а между тем, эти два слога понимает всякий, кто слышит и говорит по–латини. Откуда же, как не из воззрения на то, чтО есть, и из его отрицания наши чувства узнают то, чего нет? Так, когда называют слово пустота, то, при воззрении на полноту тел, из её отрицания, как бы чего–то ей противоположного, мы понимаем, что называется пустотою; так, при помощи чувства слуха мы судим не только о звуках, но и о молчании; так равным образом, в силу присущей нам жизни, человек может остерегаться всего ей противного, т. е. лишения жизни, называемого смертью, и какими бы слогами ни называлась та причина, вследствие которой он может потерять то, что любит, т. е. всякое действие, от коего могла бы приключиться потеря жизни (как напр., когда по–латини эта причина называется грехом или злом), он будет понимать, как уморазличаемое обозначение этой потери. Каким, в самом деле, образом понимаем мы слово воскресение, которого никогда не видели на опыте? Не чувствуя ли, что значит жить, и лишение жизни называя смертью, а возвращение от неё к тому, что чувствуем, именуя воскресением? И каким бы другим именем и на каком бы языке мы то самое ни называли, уму нашему в звуках говорящего дается знак, под которым он познает то, что мыслит помимо знака. И надобно удивляться, как природа избегает даже и неизведанной на опыте потери того, чем она обладает. Кто научил скотов избегать смерти, как не инстинкт жизни? Кто научил маленькое дитя прижиматься к своему носильщику, если ему угрожают сбросить с высоты? Правда, [так делать] оно начинает с известного времени, однако раньше, чем испытает что–либо подобное.
35. Так точно и первым людям мила была жизнь; они, без сомнения, избегали потерять ее, и каким бы способом, какими бы словами ни обозначил им того Бог, они могли разуметь Его. Они не могли бы склониться и ко греху, если бы не были раньше убеждены, что от этого деяния не умрут, т. е. не потеряют того, что имели и обладание чем исполняло их радостью; о чем, впрочем, речь будет в своем месте. Пусть же те, кого беспокоит вопрос, каким образом [прародители] могли понимать Бога, угрожавшего им чем–то, ими неиспытанным, обратят свое внимание на то, что мы без малейшего колебания и сомнения понимаем названия всего, нами не испытанного, или путем противоположения тому, чтО уже знаем, если это — названия отрицательные, или путем сравнения, если это — названия видовые. Но, может быть, кого–нибудь тревожит вопрос о том, как могли говорить или понимать говорящего люди, которые не научились говорить, выросши ли среди говорящих, или же от какого–нибудь учителя. — Как будто для Бога было трудно научить говорить тех, которых Он так сотворил, что они могли бы научиться тому даже и от людей, если бы только было от кого!
ГЛАВА XVII
36. Совершенно основательно поднимают вопрос, мужу ли только дал Бог эту заповедь, или и жене? — Но пока еще не рассказано, как сотворена жена. Разве, может быть, она была уже сотворена, но как произошло то, что произведено было раньше, об этом в виде краткого повторения рассказано после? Ибо слова Писания располагаются так: И заповеда Господь Бог Адаму, глаголя, а не сказано: «заповедано им». Затем следует: От всякаго древа, еже в раи, снедию снеси, а не сказано: «снесте». Далее прибавлено: От древа же познания добра и зла, не снесте от него (Быт. II, 15–17). Здесь уже речь обращена как бы к обоим, во множественном числе, и самое окончание заповеди выражено во множественном же числе, словами: в оньже день снесте от него, смертию умрете. Разве, может быть, Бог, зная, что сотворит жену, заповедал ради порядка так, чтобы заповедь Господня до жены дошла чрез мужа? Такую дисциплину в Церкви поддерживает Апостол, говоря: Аще ли чесому научитися хотят, в дому своих мужей да вопрошают (Кор. XIV, 35).
ГЛАВА XVIII
37. Возможен вопрос и о том, как говорил Бог с человеком, которого Он создал, без сомнения, уже одаренным чувствами и умом, так что человек мог слышать и понимать говорящего? Ибо он не мог бы получить и заповеди, преступление которой делало его виновным, если бы не одарен был пониманием. Каким же образом Бог говорил с ним? Внутренне ли, в уме его, мысленно, т. е. так, чтобы человек умным образом разумел волю и заповедь Божию без всяких телесных звуков, или же при помощи материальных подобий? Но, думаю, не так говорил Бог с первым человеком. Ибо Писание повествует о таких предметах, что скорее, должны мы думать, Бог говорил с человеком в раю так, как говорил Он потом с праотцами, напр., с Авраамом и Моисеем, в некотором телесном виде. В этом именно заключается причина, что они услышали глас Бога, ходящего в раю пред вечером, и скрылись (Быт. III, 8).
ГЛАВА XIX
38. Здесь представляется нам важный и такой, какого не должно пропускать, случай — обратить, насколько мы можем и насколько удостоит помочь и даровать нам Бог, свой взор на двоякое действие божественного Промысла, которого выше, говоря о земледелии, по некоторому мимоходному доводу мы слегка коснулись, дабы ум читателя уже с того момента начал приучаться к рассмотрению того, что наиболее всего служит для нас поддержкою не мыслить чего–нибудь недостойного о самой субстанции Бога. Итак, мы говорим, что высший, истинный, единый и единственный Бог, — Отец, Сын и Святой Дух, т. е. Бог, Его Слово и Дух Обоих, неслиянная и нераздельная Троица, — Бог, Который один имеет бессмертие и живет во свете неприступном, Которого никто из людей не видел и видеть не может (I Тим. VI, 16), — сей Бог ни пространством конечным ли или бесконечным не содержится, ни в течение времен конечное ли или бесконечное не изменяется. Ибо в Его субстанции нет ничего такого, что было бы короче в части, чем в целом, как это необходимо бывает во всем, что находится в пространстве, или же было в Его субстанции то, чего уже нет, или будет, чего еще нет, как это бывает в тех природах, которые могут претерпевать временные изменения.
ГЛАВА XX
39. Сей Живущий в неизменной вечности сотворил разом все, от чего текут времена, наполняются пространства и временными и пространственными движениями вещей вращаются века. Из этих вещей одни Он сотворил духовные, а другие телесные, образовав материю, которую не кто–либо другой, а Сам Он создал бесформенною, но способною к форме, так что своему образованию она предшествует не по времени, а по началу. Духовную тварь Он поставил выше телесной, так как духовная тварь может изменяться только по времени, а телесная — во времени и пространстве. Так напр., наш дух приводится в движение благодатью, или воспоминая, что забыл, или научаясь, чего не знал, или желая того, чего не хотел; тело же движется в пространстве, с земли ли к небу, или с неба к земле, или с востока на запад, или другим каким–нибудь образом. А все, что движется в пространстве, может двигаться и во времени; все же, что движется во времени, не движется непременно и в пространстве. Отсюда, как субстанцию, которая движется в пространстве, превосходит субстанция, которая движется только во времени, так эту последнюю превосходит субстанция, которая не движется ни во времени, ни в пространстве. Отсюда, в свою очередь, как телом во времени и пространстве движет сотворенный дух, сам движущейся только во времени, так созданным духом движет во времени Дух–Создатель, Сам не движущийся ни во времени, ни в пространстве. Дух сотворенный движет самого себя во времени, телом — во времени и пространстве; Дух же Создатель Себя Самого движет, помимо времени и пространства, сотворенным духом — во времени помимо пространства, а телом — во времени и пространстве.
ГЛАВА XXI
40. Вот почему кто силится понять, каким образом вечно истинный и вечно бессмертный и непреложный Бог, Сам не двигаясь ни во времени, ни в пространстве, движет во времени и пространстве Свою тварь, тот, думаю, не может составить себе понятие об этом, не понявши прежде, как душа, т. е. сотворенный дух, движущийся не в пространстве, а только во времени, движет телом во времени и пространстве. Ибо если такой не в состоянии понять того, что происходит в нем самом, не тем ли менее он будет в состоянии понять то, чтО выше него?
41. Ибо душа, связанная привычкою телесных чувств, думает, что и сама она движется вместе с телом в пространстве, как скоро движется тело. Но если она в состоянии присмотреться с тщательностью, как посуставно расположены своего рода центры членов её тела, служащие точкой опоры движений, то откроет, что те из членов, которые движутся в известном промежутке пространства, движутся только от тех, которые сами неподвижны. Так, ни один палец не может двигаться, если не неподвижна рука, от которой, как от неподвижного центра, он может двигаться; точно также, когда движется ладонь от всего локтевого члена, локоть — от плечевого члена, плечо — от спины, то при неподвижности самых центров, на которые опирается движение, движущийся член проходит известный промежуток пространства. Равным образом, в пятке заключается член ступни, при неподвижности которого ступня движется, в колене — член голени, в бедренной кости — член всей ноги; да и вообще каждый член, которым движет воля, движется не иначе, как от какого–нибудь центра члена, коим первоначально управляет мановение воли, дабы от того, что не движется в известном промежутке пространства, могло приходить в действие то, что движется. Кратко сказать, нога при ходьбе не двигалась бы, если бы другая неподвижная нога не поддерживала всего тела, пока та, которая движется с места, откуда она движется, до пункта, куда опускается, опирается на этот неподвижный член своего центра.
42. Если уже в теле каждым членом воля движет не иначе, как от такого органа, которым он не движет, хотя как та часть тела, которая движется, так и та, от которой первая движется, имеют свои телесные количества, коими они занимают известные промежутки пространства; то тем более само мановение души, которому повинуются члены, так что какой ей из них угодно остается неподвижным, служа опорою для того, который должен двигаться, хотя душа — бестелесная природа и не наполняет тела пространственно, как вода наполняет мех или губку, а удивительным образом соприкасается с телом, оживотворяя его бестелесным мановением, коим она, как целью, а не тяжестью, и господствует над телом, — тем более, говорю, мановение воли для того чтобы двигать в пространстве телом, само в пространстве не движется, когда целым телом движет чрез его части, а известными частями не иначе движет, как чрез такие, которыми в пространстве не движет.
ГЛАВА XXII
43. Если понять это трудно, пусть верят тому и другому, т. е. и тому, что духовная тварь, не двигаясь в пространстве, движет в пространстве телом, и тому, что Бог, не двигаясь во времени, движет во времени духовную тварь. А если кто–нибудь не хочет этому верить относительно души, — чему, впрочем, он должен не только верить, но и понимать это, если только мыслит душу бестелесною, какова она есть. Ибо кому же может представляться трудным, что тО не может двигаться в пространстве, что не занимает пространства? А все, что занимает пространство, все это — тело. Отсюда следует, что душа не может двигаться в пространстве, если она не тело. Но если, как начал было говорить я, кто нибудь не хочет этому верить относительно души, нападать на него не следует слишком строго. Если же он не верит и тому, что субстанция Божия не движется ни во времени, ни в пространстве, то не вполне еще верит и в Её неизменяемость.
ГЛАВА XXIII
44. Но так как природа Троицы совершенно неизменяема и потому так вечна, что ей не может быть ничего совечного, то она у себя и в себе самой движет подчиненную ей тварь во времени и пространстве, творя природы благостью и промышляя о волях могуществом; так что в ряду природ нет ни одной, которая бы была не от неё, а между волями нет ни одной доброй, которой бы она не вспомоществовала, ни одной злой, которой бы она не могла употребить во благо. А так как не всем природам она дала свободную волю, те же, коим дала, выше и могущественнее, то природы, которые воли не имеют, необходимо должны быть подчинены тем, которые ее имеют, и это — по распоряжению Творца, Который никогда не наказывает злой воли до отнятия у неё естественного достоинства. Отсюда, всякое тело и всякая неразумная душа, раз они не имеют свободной воли, подчинены тем природам, которые одарены свободною волею, — подчинены не все и всем, а как распределило это правосудие Творца. Таким образом, провидение Божие, управляя и распоряжаясь всею тварью, природами и волями, — природами, чтобы они существовали, а волями, чтобы они не оставались бесплодно–добрыми и безнаказанно злыми, подчиняет сначала все себе, затем телесную тварь — духовной, неразумную — разумной, земную — небесной, женскую — мужской, менее сильную — более сильной, несовершенную — более совершенной. В ряду же волей добрые воли оно подчиняет себе, а остальные — добрым, Ему служащим, так чтобы злая воля претерпевала то, что по повелению Божию сделала бы добрая, чрез себя ли саму, или чрез злую волю, но [в последнем случае] только в кругу таких предметов, которые естественно подчинены злым волям, т. е. в телах. Ибо злые воли в себе самих носят свое внутреннее наказание и такую же свою порочность.
ГЛАВА XXIV
45. А отсюда высшим ангелам, услаждающимся смиренно Богом и блаженно Ему служащим, подчинена всякая природа, всякая неразумная жизнь, всякая, слабая ли или развращенная воля, так что они делают из подчиненных и с подчиненными им то, чего требует порядок природы, по повелению Того, Кому подчинено все. В Нем они видят непреложную истину и сообразно с нею направляют свою волю. Поэтому они всегда бывают участниками Его вечности, истины и воли, помимо времени и пространства. Двигаются же по Его повелению и временно, хотя Сам Он временно не движется, — двигаются не так, что отступают и удаляются от Его созерцания, но вместе с тем созерцают и Его помимо времени и пространства и исполняют Его повеления в кругу низших предметов, двигая себя во времени, а тела во времени и пространстве, насколько это соответствует их деятельности. И потому Бог Своим двучастным Промыслом присутствует при всей твари, — при природах, чтобы они были, а при волях, чтобы они ничего не делали без Его повеления или дозволения.
ГЛАВА XXV
46. Итак, телесная природа вселенной поддерживается не совне, телесным образом. Ибо вне её нет никакого тела; иначе она уже не вселенная. Но она поддерживается внутренне, бестелесным образом, так как то — дело Бога, что природа, (взятая) вообще, существует, ибо из Того, и Тем, и в Нем всяческая (Рим. XI, 36). Части же вселенной поддерживаются (или лучше сказать, происходят), с одной стороны, внутренне–бестелесным образом, что бы быть природами, а с другой — внешне–телесным образом, чтобы стать лучше, как напр., от питания, земледелия, медицины и всего, что только делается к украшению, чтобы они были не только здоровее и плодороднее, но и красивее.
47. Духовная же природа, если она совершенна и блаженна, как природа святых ангелов, — насколько это касается самой её в себе, т. е. чтобы она была и была мудрою, — поддерживается не иначе, как внутренне–бестелесным образом. Ибо Бог говорит с нею удивительным и неизреченным образом внутренне, а не при помощи ни Писания, переданного нам посредством телесных знаков, ни телесных звуков, доступных чувству слуха, ни наконец телесных подобий, какие образно происходят в духе, напр. во сне, или в некоем исступлении духа, которое по–гречески называется экстазис; этим словом воспользуемся и мы вместо латинского, потому что хотя этот род видений и происходит более внутренним образом, чем те, которые сообщаются душе посредством телесных органов, однако, — будучи настолько им подобен, что, когда он происходит, то или совершенно не может, или с трудом и весьма редко может быть отличен от них, а с другой стороны, будучи более внешним, нежели видения, которые разумный ум созерцает в самой непреложной и вечной истине и при её свете судит о всех них, — этот род видений, полагаю, должен быть поставлен в число тех, которые происходят внешним образом. Итак, говорю, духовная, разумная, совершенная и блаженная природа, какова природа ангелов, насколько дело касается её в себе самой, чтобы она была и была мудрою и блаженною, поддерживается не иначе, как внутренне — вечностью, истиною и любовью Творца. Если же надобно сказать и о том, что она поддерживается внешним образом, то поддерживается, может быть, тем, что ангелы видят взаимно друг друга и всем своим обществом радуются в Боге, а также и тем, что, созерцая все твари, они благодарят и славословят Творца. Что же касается деятельности ангельской природы, при посредстве которой провидение Божие наблюдает за родами всех вещей, в особенности за родом человеческим, то она сама является внешне поддерживающею при помощи, с одной стороны, видений, подобных телесным, а с другой — тел, подлежащих ангельской власти.
ГЛАВА XXVI
48. А если это так, если всемогущий, вседержащий и всегда Тот же непреложною вечностью, истиной и волею Бог, не двигаясь ни во времени, ни в пространстве, движет во времени духовную тварь, а телесную во времени и пространстве, так что, этим движением внутренне поддерживая природы, управляет ими и внешним образом, с одной стороны, при посредстве подчиненных Ему волей, которыми движет Он только во времени, а с другой — при посредстве подчиненных Ему и упомянутым волям тел, которыми Он движет во времени и пространстве (а причину этого времени и пространства в Самом Боге составляет жизнь без времени и пространства), — если, говорю, Бог делает нечто такое, то мы не должны думать, что субстанция Бога изменяема во времени и пространстве, или движима во времени и пространстве, а должны относить это к действию божественного Промысла, не к тому действию, коим Бог творит природы, а к тому, коим Он управляет сотворенными природами внешним образом, Сам будучи не пространственным расстоянием или промежутком, а непреложным и превосходным могуществом для всякой вещи и внутренним, так как все в Нем содержится, и внешним, так как Он превыше всего. Равным образом, не временным протяжением, а непреложною вечностью Он и древнее всего, потому что существует раньше всего, и новее всего, так как остается после всего Тем же Самым.
ГЛАВА XXVII
49. Поэтому, когда мы читаем слова Писания: И заповеда Господь Бог Адаму, глаголя: от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси, от древа же познания добра и зла не снесте от него, а в оньже день снесте от него, смертию умрете (Быт. II, 16–17), то, останавливаясь на вопросе о способе, как Бог говорил приведенные слова, мы хотя и не можем постигнуть самого этого способа, однако должны признать за несомненнейшую истину, что Бог говорит или чрез Свою субстанцию, или чрез подчиненную Себе тварь. Но чрез Свою субстанцию Он говорит только для творения всех природ, к духовным же и разумным природам — не только для их творения, но и для их просвещения, когда они могут понимать Его речь, какова она в том Его Слове, которое в начале бе к Богу и Бог бе Слово, чрез которое вся быша (Иоан. I, 1–3). С теми же, которые не могут понимать этой речи, Он говорит не иначе, как чрез тварь или только духовную, в сновидениях ли, или при экстазе — в подобиях телесным предметам, или же и чрез телесную, когда нашим телесным чувствам представляется какой–нибудь образ, или слышатся звуки. 50. Отсюда, если Адам был таким, что был в состоянии понять ту речь Бога, которую Он сообщает ангельским умам Своею субстанцией, то не следует сомневаться, что Бог удивительным и неизреченным образом приводил в движение ум его и начертал в нем полезную и спасительную заповедь истины, показав неизреченно этою истиной, какое должно быть наказание преступнику, подобно тому, как слышны и видимы бывают все благие заповеди в самой непреложной Премудрости, которая в известное время переходит в святые души (Прем. VII, 27), хотя в Ней Самой нет никакого движения во времени. Если же он не был настолько праведен, что для него необходим еще был авторитет другой более святой и мудрой твари, при помощи которой он мог бы познавать волю и повеление Божие, как нам необходим авторитет пророка, а пророкам — авторитет ангела, то почему же мы станем сомневаться, что Бог говорил с ним при посредстве какой–либо подобной твари, такими голосовыми знаками, какие он мог понять? Ибо кто разумеет кафолическую веру, тот ни в каком случае не должен сомневаться, что написанное дальше, именно — что согрешив [прародители] услышали голос Господа Бога, ходящего в раю (Быт. III, 8), было произведено не самою Его субстанцией, а при посредстве подчиненной Ей твари. Об этом предмете я хотел поговорить несколько подробнее, потому что некоторые еретики полагают, что субстанция Сына Божия, даже и без принятия тела, сама по себе видима и потому, раньше принятия тела от Девы, Он, думают они, был видим отцами, как если бы об одном только Отце сказано, что Его никто видел есть от человек, ниже видети может (I Тим. VI, 16), так как Сын был видим до принятия зрака раба даже и по Своей субстанции, — каковое нечестие кафолическими умами должно быть отметаемо. Но о сем, если будет благоугодно Господу, полнее скажем в другое время; теперь же, закончив настоящую книгу, перейдем к дальнейшему, как из ребра мужа сотворена была жена.
КНИГА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА I
1. И рече Господь Бог: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. И созда Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя, и приведе я ко Адаму, видети, что наречет я: и всяко еже аще нарече Адам душу живу, сие имя ему. И нарече Адам имена всем скотом и всем птицам небесным и всем зверем земным: Адаму же не обретеся помощник подобный ему. И наложи Бог изступление на Адама, и успе: и взя едино от ребр его, и исполни плотию вместо его. И созда Господь Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, и приведе ю ко Адаму. И рече Адам: се ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моея: сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину (Быт. II, 18–24). Если чтО рассмотрено и написано нами в предыдущих книгах служит некоторым для читателя пособием, то нет надобности долго останавливаться на словах: И созда Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя, потому что в предыдущих книгах (Кн. 6, гл. V), насколько было можно, мы объяснили, по какой причине сказано eще, т. е. — по причине совершённого в шесть дней создания тварей, в котором причинно все было разом и закончено и начато, дабы эти причины обнаруживались потом уже в своих действиях. A если кто–нибудь найдет, что этот предмет надобно изъяснить иначе, тот пусть только обратит тщательное внимание на все то, что мы имели в виду, составляя свое мнение, и буде при этом он в состоянии будет составить более вероятное мнение, мы с своей стороны не только не станем ему препятствовать, но скажем еще спасибо.
2. Если же кого–нибудь будет тревожить то обстоятельство, что [Писание] говорит не: «создал еще Бог из земли, всех зверей полевых, а из вод всех птиц небесных», но так, как бы оба эти рода Он сотворил из земли: И созда, говорит, еще Бог от земли вся звери сельныя и вся птицы небесныя, тот пусть знает, что в этом случае надобно понимать дело двояко — или так, что Писание умолчало здесь, из чего Бог создал птиц небесных, так как и при молчании его для нас может быть ясным, что из земли Бог создал не то и другое, а только зверей полевых, — что и без указания Писания мы понимаем, из чего Он создал птиц небесных, зная уже, что они произведены из вод при первом творении причин; или так, что земля в настоящем случае названа в общем смысле вместе с водами, подобно тому, как названа она в том Псалме, в котором, окончив похвалы со стороны небесных предметов, [писатель] обращает свою речь к земле и говорит: Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны (Пс. 148, 7), а не говорит: «хвалите Господа от воды». Само собою понятно, что все бездны находятся в водах, и однако они хвалят Господа от земли; в водах же находятся и пресмыкающиеся и летающие пернатые, и тем не менее они хвалят Господа от земли. Согласно с таким общим наименованием земли, применительно к которому и о целом мире говорится, что Бог создал небо и землю, — все, что сотворено из суши ли или из воды, все это правильно мы будем понимать как сотворенное из земли.
ГЛАВА II
3. Обратим теперь внимание на то, как надобно понимать слова Бога: Не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему — временным ли образом изрек Он эти слова, издав голос и слоги, или указывается здесь самая, существовавшая первоначально в Слове Бога, идея, по которой должна была произойти жена; каковую идею Писание подразумевало и тогда, когда говорило: «И рече Бог: да будет то и то», т. е. при первоначальном создании всего? Разве, может быть, не изрек ли Бог эти слова в уме самого человека, подобно тому, как говорит Он некоторым рабам Своим в самых рабах Своих? Из числа таких рабов Его был и тот, который сказал о себе в Псалме: Услышу, что речет о мне Господь Бог (Пс. 84, 9). Или, может быть, откровение о сотворении жены сделано человеку чрез ангела в подобиях телесных звуков, хотя Писание и умолчало, во сне ли оно было сделано или в экстазе (ибо так именно это происходит), или другим каким–нибудь образом, подобно тому, напр., как делаются откровения пророкам, к числу коих относится и следующее: И сказал мне ангел, глаголяй во мне (Зах. II, 3), или же Он издал и голос чрез какую–нибудь телесную тварь, как издал Он голос из облака: Сей есть Сын Мой (Mф. III, 17). Какой из всех этих способов имел тут место, этого ясно представить себе мы не можем; будем, однако, считать за несомненнейшую истину, что Бог изрек эти слова, и если изрек их телесным голосом или временно выраженным подобием, то говорил очевидно не субстанцией Своей, а при посредстве какой–либо твари, подчиненной Его власти, как об этом сказано в предыдущей книге (Гл. 27).
4. Ибо Бог был видим и после святыми мужами то с убеленною, как волна, главою, то с нижнею половиною тела, как медь (Апок. I, 14–15), то еще иначе; однако, для тех, которые блаженно веруют, или лучше других понимают, что непреложно вечная субстанция Троицы сама не движется ни во времени, ни в пространстве, но другие субстанции движет во времени и пространстве, совершенно несомненно, что эти видения Бог сообщал не субстанцией Своей, а при посредстве подчиненных ей сотворенных субстанций. Поэтому не будем уже доискиваться, как Бог говорил вышеприведенные слова, а лучше постараемся понять смысл их. Ибо что надобно было сотворить для человека подобную ему помощницу, это содержит в Себе Сама вечная Истина, и в Ней слышит об этом тот, кто может познавать в Ней, что сотворено и для чего.
ГЛАВА III
5. Если же мы спросим, для чего должна была явиться эта помощница, то какой еще другой вероятный ответ может нам представляться, как не тот, что [она явилась] ради рождения детей, подобно тому, напр., как земля служит помощницей семени, чтобы от обоих их вместе рождался кустарник? Об этом сказано и при первоначальном сотворении вещей в словах: Мужа и жену сотвори их и благослови их Бог, глаголя: раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте, ею (Быт. I, 27–28). Эта идея сотворения и соединения мужчины и женщины, а также и благословение остались и после греха человека и наказания. Благодаря им земля в настоящее время полна людьми, обладающими ею.
6. Ибо хотя и делается замечание, что они вступили в соитие и начали рождать уже по изгнании из рая, однако я не вижу основания, которое бы могло удерживать нас от мысли, что еще в раю у них была честна женитва, и ложе нескверно (Евр. XIII, 4). Если бы они жили верно и праведно и послушно и свято служили Богу, от семени их, по изволению Божию, могло бы рождаться потомство без всякого страстного волнения похоти и без всякой трудности и болезни чадорождения; причем дети не сменяли бы умирающих родителей, а в то время, как рождающие оставались бы еще в таком или ином состоянии формы, вкушая с произраставшего там древа жизни телесную силу, приходили бы в то же самое состояние и рождающиеся, доколе, по исполнении известного числа, не совершилась бы с ними, если бы все они жили праведно и послушно, такая перемена, что животные тела их, обратившись помимо смерти в другое качество, стали бы называться духовными, благодаря тому, что служили бы духу и жили духом, который оживлял бы их без всякой поддержки телесного питания. Все это могло быть, если бы преступлением заповеди они не заслужили наказания смерти.
7. А кто не верит, что так могло быть, тот имеет в виду только обычный ход природы, в который она вступила уже после греха и наказания человека; но мы не должны примыкать к числу людей, которые верят только тому, что привыкли видеть. Ибо кто же станет сомневаться, что все это, о чем мы сейчас говорили, могло быть сообщено человеку, живущему послушно и благочестиво, раз не сомневается, что одеждам израильтян сообщено было такое в своем роде состояние, что они в течение сорока лет не испытывали никакого ущерба от ветхости (Втор. XXIX, 5)?
ГЛАВА IV
8. Почему же они вступили в соитие только по изгнании из рая? Кратко можно ответить на этот вопрос так: «потому, что сейчас же по сотворении жены, прежде чем они вступили в соитие, последовало то преступление, за которое они, будучи осуждены на смерть, выведены были из этого блаженного места». Ибо Писание не определяет, сколько прошло времени от этого их деяния до рождения от них Каина. Можно сказать и так, что и Бог еще не разрешал им соития. Ибо, почему бы не ждать им божественного авторитета на такое дело, в котором не было никакой похоти, этого, так сказать, стимула неповиновения плоти? А Бог не разрешал этого потому, что Он располагал все по Своему предведению, коим без сомнения наперед знал их падение, после уже которого должен был распространяться смертный род человеческий.
ГЛАВА V
9. А если не для вспомоществования при рождении детей сотворена жена, то для чего же она сотворена? Если для того, чтобы вместе обрабатывать землю, то обрабатывание земли не было еще таким трудом, чтобы нуждалось в работнике (adjumento), а если бы это было нужно, то помощником скорее бы дан был мужчина; то же можно сказать и об утешении, если допустить, что муж скучал от одиночества. Ибо в интересах сожительства и собеседования гораздо сообразнее было жить вместе двум друзьям, чем мужчине и женщине. А если им надобно было жить вместе так, чтобы один приказывал, а другой повиновался, дабы враждебные воли не нарушали мира сожителей, то для поддержания этого мира достаточно было бы такого порядка, чтобы один был сотворен раньше, а другой позже, в особенности если бы младший был сотворен от старшего, как сотворена женщина. Разве только кто–нибудь скажет, что из ребра мужчины Бог мог сотворить только женщину, а и не мужчину, если бы даже и хотел того? Поэтому я не нахожу, для какой помощи жена сотворена мужу, если устранить причину деторождения.
ГЛАВА VI
10. Ибо, если нужно было, чтобы родители отходили из этой жизни, давая место детям, дабы человеческий род путем этой преемственности достиг своей известной численности, то люди, по рождении детей и по исполнении правды человеческого долга, могли переходить из настоящей жизни к лучшей не путем смерти, а путем некоторого изменения — высшего ли, в котором, соединившись с телами, они будут святыми как ангелы (Mф. XXII, 30), или, если таковое должно быть дано всем вместе только при конце века, какого–нибудь низшего, чем каким будет то, но однако же такого, которое могло иметь лучшее состояние, чем какое имеет настоящее ли наше тело, или даже и тела, созданные первоначально — тело мужа из персти земной, а жены — из плоти мужа.
11. Ибо нельзя думать, что Илия или находится уже в том состоянии, в каком будут святые, когда по совершении дневного труда получат по динарию (Mф. XX, 10), или в том, в каком находятся люди, которые еще не отошли из настоящей жизни, из коей однако он уже перешел, но не путем смерти, а путем перенесения [на небо] (4 Цар. II, 11). Таким образом, он занимает уже лучшее положение, чем какое мог бы иметь в настоящей жизни, хотя еще и не имеет того, что из настоящей жизни, праведно проведенной, получит при конце, потому что [Бог] предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства (Евр. XI, 40). А если станет кто–нибудь думать, что Илия не мог бы того заслужить, если бы был женат и имел детей (думают, что он не имел жены, так как Писание не говорит нам об этом, хотя, с другой стороны, оно не говорит ничего и о его безбрачии), то чтО он ответит нам на счет Эноха, который, имея детей, угодил Богу так, что не умер, а взят на небо (Быт. V, 24)? Почему же Адам и Ева не могли бы дать место своим преемникам не путем смерти, а путем перенесения [на небо], если бы они, живя праведно, безгрешно рождали детей? Ибо если Энох и Илия, будучи в Адаме смертны и нося в своей плоти отрасль смерти (Малах. IV, 5; Апок. XI, 3–7), — а чтобы от этого долга разрешиться, они, как полагают, возвратятся к настоящей жизни и после определенного срока умрут, — теперь находятся в другой жизни, где до воскресения плоти, прежде чем душевное тело их изменится в духовное, они не терпят недостатка ни от болезни, ни от старости; то во сколько же раз справедливее и вероятнее предположение, что первым, жившим без всякого собственного и наследственного греха, людям был возможен переход, по рождении детей, в лучшее состояние, из которого бы они, по исполнении века, вместе со всем сонмом святых могли быть изменены в ангельский образ не путем плотской смерти, а силою Божиею?
ГЛАВА VII
12. Итак, я не вижу, для какой другой помощи сотворена жена, если устранить причину деторождения; а тем не менее, не знаю почему, причина эта устраняется. Ибо, почему пред Богом имеет великую и великой чести достойную заслугу верное и благочестивое девство, если не потому, что воздерживаться от брака (amplexu) должны в такое уже время, когда из среды всех народов имеется величайшее множество для восполнения святых, т. е. когда желание получить нечистое удовольствие отказывает себе в том, чего не требует уже нужда размножения потомства? Затем, слабость того и другого пола, склонная к постыдному падению, поддерживается честным браком, так что то, что служит обязанностью для здоровых, является врачевством для больных. Даже самая невоздержность не потому представляет собою нечто злое, что брак, которым связываются хотя бы и невоздержные, не есть нечто доброе; напротив, не от зла невоздержности становится предосудительным добро брака, а, наоборот, от добра брака становится простительным и зло невоздержности, а потому то, что имеет брак доброго и от чего он — добро, ни в каком случае не может быть грехом. А добро это троякое: вера, поколение и таинство. В вере наблюдается то, чтобы не вступали помимо брака в соитие с иною или с иным; в поколении — чтобы [дети] с любовью зачинались, благодушно кормились и религиозно воспитывались; в таинстве — чтобы брак не расторгался и чтобы разведенный или разведенная не вступали в союз с другим лицом ради поколения. Таково как бы брачное правило, которым или украшается естественная плодовитость, или сдерживается невоздержная порочность. — Об этом предмете мы достаточно сказали в недавно изданной нами книге о брачном благе, в которой мы указали различие между воздержностью вдовства и превосходством девства по степени их достоинства; останавливаться долго на этом предмете в настоящем месте нет надобности.
ГЛАВА VIII
13. Перейдем теперь к вопросу, для какой помощи сотворена мужу жена, если им для рождения детей не дозволено было в раю вступать между собою в соитие? Те, которые так думают, считают, может быть, грехом всякое сожитие. Действительно, трудно, чтобы люди, превратно избегая пороков, не впадали быстро в противоположные пороки. Так, напр., тот, кто боится скупости, становится расточительным, — кто боится роскоши, делается скупым, — кого упрекаешь в лени, становится беспокойным, — кого укоряете в беспокойстве, делается ленивым, — кто, будучи упрекаем, начинает ненавидеть свою смелость, переходит к трусости, — кто старается не быть робким, как бы сбросив цепи, делается дерзким, как скоро все они смотрят на свои преступления с точки зрения не разума, а мнения. Подобным образом, как скоро люди не знают, чтО именно божественным судом осуждается в прелюбодеянии и блудодеянии, гнушаются брачного сожития даже и чадорождения ради
ГЛАВА IX
14. Те же, которые этого не делают, но полагают, однако, что плодовитость плоти дана свыше для возмещения смертности, с одной стороны не думают, чтобы первые люди могли сожительствовать, если бы, подлежа по причине совершенного ими греха смерти, не нуждались в преемниках путем рождения, с другой не обращают внимания на то, что, если могла быть справедливою нужда в преемниках для тех, которым предстояло умереть, то еще более справедливою могла быть нужда в сообщниках для тех, которым предстояло жить. Ибо, если и теперь, когда земля полна человеческим родом, является справедливою нужда в потомстве, которое могло бы возмещать умирающих, то чтобы земля наполнилась от двух людей, каким образом они могли исполнить этот общественный долг, если не путем рождения? А будет ли кто–нибудь настолько умственно слеп, чтобы не рассудить, каким украшением для земли служит род человеческий даже в том случае, если на земле не многие живут хорошо и похвально, и насколько бывает силен государственный порядок, превращающий в своего рода стройный земной союз и грешников? Ибо люди не настолько развращены, чтобы, будучи даже грешными, не превосходили скотов и птиц, породами которых наша низшая часть мира украшена в такой мере, что созерцание её способно привести каждого в восхищение. А кто же настолько безрассуден, чтобы стал думать, что она могла быть менее украшена, если бы была наполнена неумирающими праведниками?
15. А так как высшее общество ангелов весьма многочисленно, то они и не должны соединяться браком, если не должны умирать. Предвидя, что такая же полная многочисленность должна соединиться с ангелами и в воскресении святых. Господь говорит: «в воскресение ни женятся, ни посягают (ибо уже не будут умирать), но будут равными ангелам Божиим» (Mф. XXII, 30); но в настоящей жизни, когда земля должна наполниться людьми и, в видах напоминания о теснейшей необходимости родства и особенно о союзе единства, она должна была наполниться от одного человека, — для чего другого нужен был женский пол как помощник, если не для того, чтобы женская природа помогала насаждающему человеческий род, как [помогает] плодородие земле?
ГЛАВА X
16. Впрочем, гораздо приличнее и лучше думать, что душевное тело первых, обитавших в раю, людей, еще неповинное смерти, было таково, что они не имели стремления к плотскому удовольствию, какое имеют теперь наши тела, происшедшие уже от отрасли смерти. Ибо в них произошло уже нечто, лишь только вкусили они от запрещенного дерева, так как Бог сказал не: «аще снесте, смертию умрете», но: в онъже день снесте от него, смертию умрете (Быт. II, 17); так что в самый же этот день произошло в них все то, о чем воздыхая говорит Апостол: соуслаждаюся закону Божию по внутреннему человеку; вижду же ин закон во удех моих, противу воюющ закону ума моего, и пленяющ мя законом греховным, сущим во удех моих. Окаянен аз человек: кто мя избавит от тела смерти сея. Благодарю Бога моего Иисус Христом Господем нашим (Рим. VII, 22–25). Ему недостаточным казалось сказать: «кто мя избавит от сего смертного тела», но, говорит, от тела смерти сея. Подобным образом он говорит и следующее: плоть убо мертва греха ради (Рим. VIII, 10), — не смертна, а мертва, хотя конечно и смертна, так как подлежит смерти. Не таковы, надобно думать, были те тела: хотя они были тела душевные, а не духовные, однако и не мертвые, т. е. такие, которые необходимо должны умереть, что уже произошло в тот день, когда [прародители] прикоснулись к запрещенному дереву.
17. И наши тела называются в своем роде здоровыми, но если это здоровье бывает нарушено в такой степени, что наши внутренности пожирает смертельная болезнь, усмотрев которую врачи объявляют о наступлении смерти, то тело наше называется смертным, но в ином смысле, нежели когда было здорово, хотя и тогда оно рано или поздно имело умереть. Так и в телесных членах первых людей, облеченных телами хотя и душевными, но такими, которые, если бы [прародители] не согрешили, не подлежали смерти, а имели получить ангельскую форму и небесное качество, явилась, лишь только была нарушена заповедь, смерть, как некая смертельная болезнь, и изменила то качество, благодаря которому они господствовали над телом так, что не могли бы сказать: вижду ин закон во удех моих противу воюющ закону ума; потому что хотя тело их еще не было духовным, а только душевным, однако и не телом смерти сея, от которой и с которой мы рождаемся. Ибо мы, не скажу рождаясь, но даже еще зачинаясь, чему другому полагаем начало, как не некоторой болезни, от которой необходимо нам умереть, — не столько необходимо тому, кто заболевает водянкой или дизентерией или слоновою болезнью, сколько тому, кто получает это тело, в котором все мы становимся чадами гнева, потому что таким его сделало не что другое, как наказание за грех (Еф. II, 3).
18. А если так, то почему же нам не думать, что первые люди до греха могли управлять своими детородными членами для рождения детей так же, как душа является в каком–либо действии движущею силою без всякого затруднения и производит как бы зуд удовольствия? Ибо, если всемогущий и неизреченно достохвальный Бог, великий и в самомалейших делах, дал пчелам способность, чтобы они производили детей так же, как форму и жидкость меда, то почему же может казаться невероятным, что он устроил пepвым людям такие тела, чтобы они, если бы не согрешили и не получили тотчас же некоей болезни, от коей должны стали умирать, повелевали своими членами, которыми зачинается плод, силою того мановения, каким повелеваем мы своим ногам, когда ходим, так чтобы этот плод и засеменялся без страстного жара и рождался без болезни? Но, преступив заповедь, они получили в своих членах начавшейся смерти действие того закона, который противовоюет закону ума, — который упорядочивается браком, ограничивается и обуздывается воздержанием, так чтобы как от греха произошло наказание, так от наказания происходила заслуга.
ГЛАВА XI
19. Итак, всякий, кто только сомневается, что женщина сотворена мужу от мужа, в том своем поле, в той форме и с таким отличием членов, с какими женщины известны, — та женщина, которая родила Каина и Авеля и всех братьев их, от коих произошли все люди, а в ряду их — Сифа (Быт. IV, 1. 25), через которого мы доходим до Авраама и до вполне известного всем народам народа израильского, а чрез сынов Ноя — ко всем народам, — всякий такой неизбежно колеблет все то, чему мы верим, и должен быть отвергнут прочь умами верных. Поэтому, когда поднимается вопрос, для чего сотворен мужу женский пол, для меня, тщательно, насколько можно, все пересмотревшего, не представляется другой причины, кроме потомства, так чтобы от их ствола земля наполнялась людьми, — ствола рожденного не так, как рождаются люди теперь, когда их членам присущ греховный закон, противовоюющий закону ума, хотя благодатью Божией и превозмогаемый; а это, надобно думать, могло произойти только в теле смерти сея, ибо плоть мертва греха ради (Рим. VIII, 10). Да и что может быть справедливее такого наказания, чтобы тело не служило уже всякому мановению души, т. е. не было её рабою, как сама душа отказалась служить Своему Богу? Однако, творит ли Бог то и другое от родителей, тело от тела, а душу от души, или творит души каким–либо другим образом, во всяком случае Он творит их не для дела невозможного и не для малой награды, так что когда душа, с благоговением покорная Богу, побеждает по благодати Божией греховный закон, находящийся в членах тела смерти сея и полученный первым человеком в наказание, она получит для большей своей славы небесную награду, показывая тем, какой похвалы заслуживает послушание, которое могло своею силою превозмочь наказание за чужое неповиновение.
ГЛАВА XII
20. Но так как достаточно, мне думается, исследован вопрос, для чего сотворена была мужу жена, то подвергнем теперь рассмотрению вопрос о том, почему приведены были к Адаму все звери полевые и все птицы небесные, чтобы он дал им имена, но при этом так, как будто отсюда возникла необходимость сотворения ему жены из ребра его, потому что среди этих животных не нашлось для него подобной ему помощницы. Мне кажется, что это было сделано в видах некоторого пророческого знаменования, но, впрочем, сделано так, что, при несомненности совершившегося события, истолкование его остается открытым. В самом деле, что значит прежде всего, что Адам нарек имена птицам и земноводным животным, за исключением рыб и всех вообще плавающих? Ибо если мы обратимся к языку человеческому, то все это называется так, как люди дали ему в своей речи имя. Не только то, что существует в водах и на земле, но и сама земля, вода, небо и все, что мы на небе видим, чего не видим и чему верим, все это, смотря по различию человеческих языков, называется различными именами. Мы знаем, что первоначально, прежде чем гордость [строителей] воздвигнутой после потопа башни разделила человеческое общество на различные языки, существовал один язык (Быт. XI, 1–8). Какой бы ни был этот язык, это к нашему вопросу не относится. Несомненно только, что на нем говорил и Адам, и если этот язык существует еще доселе, то в нем находятся и те членораздельные звуки, при помощи которых первый человек дал имена земноводным животным и птицам. Вероятное ли теперь дело, чтобы имена рыб на этом языке установлены были не человеком, а свыше, и им научился потом человек от Самого Бога? Если даже допустим, что так дело и было, то почему оно так было, в этом без сомнения скрывается таинственный смысл. Между тем, надобно думать, что имена рыбам даны постепенно, после знакомства с породами их. Но если это сделано не тогда, когда звери, скоты и птицы приведены были к человеку, чтобы он всем им, к нему собранным и разделенным по породам, дал имена, и притом дал имена постепенно и раньше, чем рыбам, то какая тому была причина, кроме намерения обозначить что–нибудь такое, что имело бы значение, как предуказание будущего? — На этом пункте порядок повествования останавливает наше внимание главным образом.
21. Затем, неужели Бог не знал, что в породах животных Он не сотворил ничего такого, что могло бы быть помощницей, подобной человеку? Разве не нужно ли было, чтобы и сам человек это сознал и считал жену тем более дорогою, что во всей, сотворенной под солнцем плоти, он не нашел ничего ей подобного? И удивительно, если он мог узнать это тогда только, когда к нему приведены были животные, и он пересмотрел их. Ибо если он веровал Богу, то Бог мог сообщить ему об этом таким же образом, как дал ему заповедь, как вопрошал и судил его согрешившего. А если не веровал, то, конечно, не мог и знать, всех ли животных привел к нему Тот, Кому он не веровал, или же, может быть, скрыл в каких–нибудь отдаленнейших странах земли животных ему подобных, которых не показал ему. — Итак, думаю, не следует сомневаться, что так происходило дело ради какого–нибудь пророческого знаменования, но, однако, происходило именно так.
22. В своем настоящем произведении мы задались намерением не загадки пророческие разрешать, а дать оправдание достоверности совершившихся событий в их историческом смысле, так чтобы то, что может казаться для пустых и неверующих людей невозможным или, в качестве противного свидетельства, противоречащим самому авторитету священного Писания, обсудив по мере сил и при помощи Божией, показать и не невозможным и не противным; а что представляется возможным и не имеющим ни тени противоречия, но может, однако, некоторым казаться как бы излишним или даже глупым, относительно всего такого доказать, что оно происходило как бы не в естественном или обыкновенном порядке совершающихся событий и, на основании несомненнейшего, для наших сердец предпочтительного, авторитета священного Писания, должно быть считаемо таинственным, а потому и не глупым. Изъяснение или исследование этого последнего предмета мы или уже представили в другом месте, или отлагаем до другого времени.
ГЛАВА XIII
23. А что значит, что жена сотворена мужу из ребра его? Допустим, что так сделать необходимо было в видах одобрения силы самого брачного союза; но та же самая необходимость требовала ли и того, чтобы это сделано было у спящего и чтобы, затем, место вынутой кости заполнено было плотью? В самом деле, разве нельзя было взять часть самой плоти, чтобы образовать из неё жену еще более соответствующим образом, так как это — пол низший? Или, сотворив столь многое, Бог мог образовать в жену только ребро, а не плоть или прах, создав из праха мужчину? А если уже нужно было взять именно ребро, почему вместо этого ребра не вставлено другое ребро? Почему также не сказано: «сотворил» или «образовал», как во всех предыдущих делах, а созда, говорит, Господь Бог ребро, точно бы дом, а не человеческое тело? Несомненно таким образом, что раз все это так и было и глупым не может быть, то было оно ради знаменования чего–либо другого. И действительно, предвидящий Бог с самого уже начала человеческого рода милосердно предрекает в Своих делах плод будущего века; так что открытое и в Писании начертанное Им рабам Своим в такое или иное время через преемство ли людей, или чрез Духа Своего, или чрез служение ангелов представляет собою свидетельство как об обетовании будущего, так и о признании уже исполнившегося. В дальнейшем этот предмет будет раскрываться пред нами ясней и ясней.
ГЛАВА XIV
24. Обратимся, поэтому, к тому, что мы поставили задачею своего настоящего произведения, именно — как согласно не с предзнаменованием будущего, а с буквальным, не аллегорическим значением совершившихся событий, могут быть понимаемы дальнейшие слова. И созда, говорит, Бог еще от земли вся звери сельныя и вся птицы небесные; чтО из этих слов казалось нам нужным и насколько казалось, мы уже объяснили. И приведе я ко Адаму видети, что наречет я. Чтобы не мыслить плотским образом о том, как Бог привел зверей и птиц к Адаму, должно в этом случае помочь нам рассуждение о двояком действии божественного промышления, о котором мы вели речь в предыдущей книге (Гл. 9, 19–26). Не следует, в самом деле, думать, что это происходило так, как охотники или птицеловы наслеживают и подгоняют к тенетам животных, которых они ловят; не следует думать и так, что дан был какой–нибудь повелевающий голос в словах, слыша который разумные души поднимают и повинуются. Звери и птицы такой способности не получили; впрочем, и они в своем роде повинуются Богу не разумным произволением воли, а так, как Бог, не двигаясь Сам во времени, в благопотребное время двигает всем чрез ангельские служения, которые в Его слове получают ведение, что и в какое время должно быть, и Им, во времени не движущимся, движутся во времени, исполняя Его повеления в кругу подчиненных им тварей.
25. Ибо всякая живая душа, не только разумная, как в людях, но и не разумная, как в скотах и птицах, движется впечатлениями. Но разумная душа или сочувствует или не сочувствует впечатлениям произволением воли; неразумная же душа не имеет этого суждения, хотя и природа в своем роде движется под влиянием известного впечатления. Душа не властна над теми впечатлениями, которые ею воспринимаются или в телесное чувство, или глубже, в самый дух, и которыми движутся желания каждого одушевленного существа. Отсюда, когда впечатления внушаются при посредстве ангельского послушания, повеление Божие достигает не только до людей, не только до птиц и зверей, но и до всего, что скрывается под водами, как напр., до кита, проглотившего Иону (Ион. II, 1); да и не только до таких крупных животных, но даже и до червяка, ибо и ему, как читаем, повелено было свыше подгрызть корень тыквы, под тенью которой покоился пророк (Ион. IV, 6–7). И если человека Бог устроил так, что он, будучи облечен даже и греховною плотью, может при посредстве могущества своего разума, а не тела, ловить, приручать и держать удивительным образом в своей власти не только скотов и вьючных животных, покорно служащих его домашним надобностям, не только домашних, но и свободно летающих, птиц и даже диких зверей, когда, подмечая их желания и горести, приманивая, запирая в клетку и выпуская на свободу и, таким образом, мало–помалу их усмиряя, он отучает их от диких инстинктов и, так сказать, облекает человеческими нравами: то не тем ли более обладают могуществом ангелы, которые по повелению Бога, познаваемому ими в самой непреложной, постоянно ими созерцаемой, Его истине, двигая сами себя во времена, а подчиненные им тела во времени и пространстве, могут внушать всякой живой душе и впечатления, которыми она движется, и желание, вытекающее из её телесной недостаточности, так чтобы она, сама не зная, влеклась туда, куда должно ей идти.
ГЛАВА XV
26. Посмотрим теперь, как произошло самое образование жены, которое в таинственном смысле названо созданием. — Несомненно, природа женщины сотворена хотя от мужеской, уже существовавшей, природы, но не каким–нибудь движением существовавших природ. Ангелы же не могут творить никакой природы; один только есть творец всякой, великой и самомалейшей, природы — Бог, т. е. Сама Троица, — Отец, и Сын, и Дух Святой. Поэтому, поставим вопрос иначе, именно: каким образом был усыплен Адам и из состава его тела вынуто ребро без всякого болезненного ощущения? Ибо могут, пожалуй, сказать, что это в состоянии были сделать ангелы. Но даже образовать и кость, чтобы из неё явилась женщина, мог только лишь Бог, от Которого существует вся природа. Не думаю даже, чтобы ангелы могли произвести и ту прибавку в теле мужа, которая состояла в заполнении места взятой кости, точно так же, как не могли они образовать из персти земной и самого человека, не потому, что не дело ангелов — творить что–нибудь, а потому, что они не творцы, так как не называем же мы земледельцев творцами жатв и деревьев. Ни насаждаяй есть что, ни напаяй, но возращаяй Бог (1 Кор. III, 7). К этому возращению принадлежит и то, что в человеческом теле, когда из него была вынута кость, место её заполнено плотью, т. е. это было делом Бога, которым Он поддерживает природы, чтобы они существовали, и которым сотворил Он и самих ангелов.
27. Таким образом, дело земледельца приносить при поливке воду; но чтобы вода протекала чрез покатые места, это уже дело не земледельца, а Того, Кто все расположил мерою, числом и весом (Прем. XI, 21). Точно также дело земледельца подчищать сучки с дерева и засевать землю; но чтобы земля всасывала влагу, выпускала росток, одно, чем укрепляется его корень, отлагала в почве, а другое, чем питается ствол и развиваются ветви, гнала вверх, все это дело Того, Кто возращает. Равным образом, когда врач приписывает больному телу питание, а раненному лекарство, то [приписывает], прежде всего, не из тех веществ, которые сам сотворил, а которые находит сотворенными действием Творца; затем, если он может приготовить пищу и питье, составить пластырь и приложить его, то разве может он из веществ, которые приписывает, произвести и создать и силы или плоть? Это совершает внутренним, для нас сокровеннейшим, движением сама природа. И, однако, если бы Бог лишил природу того внутреннего действия, которым Он ее поддерживает и производит, то она, как бы мгновенно загаснув, перестала бы существовать.
28. Вот почему ввиду того, что Бог управляет всею тварью двояким в своем роде действием провидения, о коем мы говорили в предыдущей книге (Гал. 9, 19–26), проявляя это действие как в естественных, так и в произвольных движениях, ни один ангел не может создать природы столько же, сколько и самого себя. Но ангельская воля, будучи предана Богу и исполняя Его повеления, в кругу подчиненных предметов может в своем роде при посредстве естественных движений, подобно тому, как это бывает в земледелии или лечении, управлять материей, так чтобы творилось нечто во времени согласно с первоначальными, несотворенными в слове Бога, или с первыми, причинно заложенными в шестидневных делах, идеями. Итак, кто же осмелится сказать наверное, какое служение ангелы могли оказать Богу при образовании жены? С полною, впрочем, уверенностью могу сказать, что восполнение [взятой у мужа] плоти на место кости, тело и душа жены, сочетание членов, все внутренности, все чувства и вообще все, чем стали тварь, человек и женщина, все это совершено исключительно в том действии, которое Бог не чрез ангелов, а единственно Сам не совершил и потом оставил, а непрестанно так совершает, что природа как других каких–либо предметов, так и самих ангелов не могла бы и существовать, если бы Он не действовал.
ГЛАВА XVI
29. Но так как, насколько по мере человеческого разумения можно было для нас наследовать природу вещей, мы знаем, что одушевленная и чувствующая плоть рождается не иначе, как или из материальных элементов, т. е. воды и земли, или из листвы и плодов древесных, или даже из плоти животных (как напр., бесчисленные роды червей и пресмыкающихся), или же от совокупления родителей, а между тем не знаем ни одной, рождающейся от какого–либо животного, плоти, которая бы настолько была подобна ей, чтобы отличалась от неё только полом: то мы ищем, но в природе не можем найти подобия того творения, коим сотворена жена из ребра мужа. Причина этого заключается не в чем ином, а именно в том, что, как действуют на этой земле люди, мы знаем, а как в настоящем мире занимаются в своем роде земледелием ангелы, этого конечно не знаем. В самом деле, если бы известный род дерев совершал свое естественное движение помимо человеческого ухода, то мы, конечно, ничего бы больше не знали, кроме того, что деревья и травы рождаются из земли и из своих семян, падающих с них на землю, но было ли бы нам известно, какую силу имеет прививка, чтобы дерево другой породы, имеющее свой собственный корень, начало рождать чужие плоды, ставшие для него, в силу образовавшегося единства, его собственными? С этим явлением мы познакомились из садоводства, хотя сами садовники ни в каком случае не были творцами дерев, а представляли собою в некотором роде работников и служителей Творца–Бога. Ибо от их действия ничто бы не могло существовать, если бы оно не имело внутренней причины своей природы в действии Бога. Что же удивительного, что мы не знаем создания жены из ребра мужа, если не знаем, как ангелы служат Творцу–Богу, — мы, которые не могли бы знать и того, что дерево от древесного сучка приобретает чужую силу, если бы не знали, как в произведении этого явления служат Богу садовники?
30. Однако, ни в каком случае мы не должны сомневаться, что Творец и людей и деревьев не кто другой, как Бог, и твердо будем веровать, что жена сотворена из мужа помимо всякого посредства соития, хотя при этом действии Творца, может быть, и служили ангелы, как твердо веруем, что от жены помимо посредства соития произошел муж, когда Семя Авраама вчинен ангелы рукою Ходатая (Гал. III, 19). Для неверующих то и другое невероятно; но для верующих почему может казаться вероятным, что одно, в приложении ко Христу, Свершилось в собственном смысле, другое же, о Еве, написано в иносказательном только значении? Разве, может быть, без соития мог произойти только муж от жены, а не жена от мужа, и девственная утроба могла произвести мужа, а мужеский бок не мог произвести жены, хотя в первом случае родился от рабы Господь, а в последнем образовалась от раба рабыня! Мог, конечно, и Господь создать Свою плоть из кости или из какого–нибудь члена Девы, но Тот, Кто мог бы показать, что в Своем теле Он в другой раз совершил то, что уже было совершено, с большею пользою показал, что в теле матери не следует стыдиться ничего такого, что чисто.
ГЛАВА XVII
31. Если мы спросим, в каком отношении [к созданию жены] находится причинное творение, в коем Бог создал первого человека по образу и по подобию Своему (когда, без сомнения, сказаны слова: мужа и жену сотвори их), именно — самая та идея, которую сотворил и осуществил Бог в первых делах мира, заключала ли в себе уже и то, что согласно с нею необходимо должна была произойти жена из ребра мужа, или же лишь то, что она могла произойти, но чтобы так и должна была произойти необходимо, этого еще не было в той идее заложено, а было скрыто в Боге, — итак, если, говорю, мы спросим об этом, то я буду говорить, как представляется мне дело, без дерзкого утверждения; быть может, впрочем, что когда я выскажу свое мнение, люди с благоразумною рассудительностью, которых воспитала уже христианская вера, если даже они в настоящее время познакомятся с этим предметом впервые, не сочтут моего мнения сомнительным.
32. Всякое самое обычное движение природы имеет свои известные естественные законы, сообразно с которыми и дух жизни, представляющий собою тварь, имеет свои известные, некоторым образом определенные, стремления, от коих не может отступить даже и злая воля. С другой стороны, элементы настоящего телесного мира имеют определенную силу и свое качество, что каждый из них может [произвести], и что от каждого из них может произойти. Все, что рождается от этих как бы первооснов вещей, получает в свое время начало и развитие, конец и своего рода уничтожение. Отсюда происходит то, что от зерна пшеницы не рождается боб, от боба — пшеница, от скота — человек, или, наоборот, от человека — скот. Но власть Творца имеет могущество, сверх этого естественного движения и хода вещей, производит от всех этих предметов нечто иное, нежели что заключают в себе их как бы семенные причины, однако не такое нечто, чего Сам Он не заложил в них, чтобы оно могло происходить от них или от Него Самого. Ибо Его могущество не безрассудное; но Он всемогущ премудрою силою и в каждой вещи производит в свое время то, что сотворил в ней в возможности раньше. Поэтому существуют разные способы, какими одна трава, растет так, другая иначе, один возраст рождает, а другой не рождает, человек говорит, а скот говорить не может. Причины этих и подобных способов не только существуют в Боге, но заложены Им в вещах вместе с их сотворением. Но хотя Он и дал сотворенным природам возможность, чтобы вырубленное из земли, высушенное и отполированное, дерево без корня, земли и воды вдруг зазеленело и принесло плод (Числ. XVII, 8), чтобы женщина, с юности до старости бесплодная, начала рождать (Быт. XVIII, 11 и XXI, 2), чтобы ослица заговорила (Числ. XXII, 28) и т. под. (ибо даже и Сам Он не может произвести от них того, что, как раньше Он предназначил, не может от них происходить, так как Он не могущественнее Самого Себя), но дал другим способом, чтобы они заключали в себе эту возможность не в естественном движении, а в том движении, коим Он сотворил их так, чтобы их природа была покорна более могущественной власти.
ГЛАВА XVIII
33. Таким образом, причины некоторых сотворенных предметов Бог содержит сокровенно в Себе Самом, не заложив их в сотворенные вещи и осуществляя их не в том действии промышления, коим Он поддерживает бытие природ, а в том, посредством коего управляет, как хочет, теми из них, которые сотворил, как восхотел. Сюда принадлежит и благодать, которою спасаются грешники. Ибо что касается поврежденной, благодаря развращенной воле, природы, то свое возрождение она совершает не сама чрез себя, а чрез благодать Божию, которою она вспомоществуется и исправляется. И люди отнюдь не должны отчаиваться в виду изречения: вси бо ходящии к ней [чужой жене] не возвратятся (Притч. II, 19). Ибо так сказано о них сообразно с глубиною их развращенности, дабы тот, кто возвращается, свое возвращение приписывал не себе самому, а благодати Божией, не от дел, да никтоже похвалится (Еф. II, 9).
34. Посему, тайну этой благодати Апостол назвал сокровенною, не в мире, в котором скрыты причинные идеи всех вещей, имеющих возникнуть естественным образом (Еф. III, 9). Как, напр., скрыт был в чреслах Авраама Левий, приемляй десятины (Евр. VII, 9–10), но в Боге, Который сотворил все. Вот почему причины даже и всего того, что для обозначения этой благодати совершено было не путем естественного движения вещей, а чудесным образом, сокрыты были в Боге; к числу подобных дел относится и то, что из ребра мужа, и притом спящего, сотворена жена, которая чрез мужа стала крепкою, как бы утвердившись его костью, а он чрез жену стал немощным, потому что место кости заполнилось у него не костью, а плотью; первое творение, когда в шестой день сказано: мужа и жену сотвори их (Быт. I, 27), не заключало в себе того, что жена должна произойти именно так, а лишь то, что она может произойти и таким образом, так что ничего не произошло вопреки тем причинам, которые Бог установил Своею непреложною волею. А что это должно было произойти так, и иначе оно не будет, это скрыто было в Боге, Который сотворил все.
35. Но поелику [эту тайну Апостол] назвал сокровенною настолько, чтобы сделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия (Еф. III, 9–10), то представляется вероятным, что как Семя, Емуже обетовася, вчинен ангелы рукою Ходатая (Гал. III, 19), так и все, что в природе вещей, сверх обыкновенного естественного течения, совершено было чудесного относительно пришествия этого Семени, т. е. предвозвещения или возвещения о Нем, все это совершено было при помощи служения ангелов, но так однако, что нет иного творца и восстановителя природ, кроме Бога, Который чрез всякого насаждающаго и поливающаго один есть возращаяй (I Кор. III, 7).
ГЛАВА XIX
36. Отсюда и тот экстаз, который Бог навел на Адама, чтобы он заснул, приведенный в усыпление (Быт. II, 21), правильно будет разуметь как наведенный с тою целью, чтобы при помощи этого экстаза ум Адама сделался как бы участником ангельского воздействия и, вступив в святилище Бога, получил разумение будущего (Пс. 72, 17). Вследствие того, проснувшись и как бы исполненный пророчества, он, лишь только увидел приведенную к нему кость, т. е. жену свою, тотчас же сказал (Апостол [Еф. V, 31–32] слова эти представляет великою тайною): се ныне кость от костей моих и плоть от плоти моея. Сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей и будета два в плоть едину (Быт. II, 23–24). Хотя, по свидетельству Писания, эти слова были словами первого человека, однако Господь в Евангелии объявил, что их изрек Бог. Несте ли, говорит Он, чли, яко сотворивый искони, мужеский пол, и женский сотворил я есть. И рече: сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей и будета оба в плоть едину (Mф. XIX, 4–5). Отсюда мы можем думать, что вследствие экстаза, который наведен был на Адама, он мог сказать эти слова по вдохновению свыше, как пророк. — Но положим уже конец настоящей книге, чтобы с новой книги предложить вниманию читателей дальнейшее.
КНИГА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА I
1. Уже самый порядок [повествования], по–видимому, требует, чтобы мы приступили к рассуждению о грехе первого человека. Но рассказав, как образована была плоть жены и умолчав о её душе, Писание возбудило в нас гораздо более внимания к тщательнейшему исследованию вопроса, можно ли и как можно опровергнуть тех, которые полагают, что душа жены произошла от души мужа, как её тело — от его тела, на том основании, что семена тела и души в детей переходят от родителей. В этом случае они ссылаются на то, что Бог Своим дыханием в лицо образованного раньше из земли мужа создал одну душу, так что от неё уже творятся все прочие человеческие души, как от плоти его — всякая человеческая плоть. Так как сначала сотворен Адам, а потом Ева, то и сказано только о том, откуда Адам получил тело и откуда — душу, именно — тело из земли, а душу от дыхания Божия; но, сказав, что жена сотворена из ребра мужа, Писание не говорит, что и она получила душу так же от дыхания Божия, как бы и то и другое произведено в ней от раньше уже одушевленного мужа. Ибо, говорят, Писание или должно было умолчать и о душе мужа, дабы мы могли думать или верить, что душа его дана свыше; или если оно не умолчало об этом потому, чтобы мы не пришли к мысли, будто и душа, как тело, произошла из земли, то не должно было умолчать и о душе жены, чтобы, буде это мнение неверно, мы не считали ее происшедшею путем перехода (ex traduce). Поэтому, говорят, и не сказано, что Бог дунул в лицо жены, — не сказано в виду того, что душа её произошла от мужа.
2. Предположение это легко опровергается. Если, в самом деле, считать душу жены происшедшею от души мужа, в виду умолчания Писания, что Бог дунул в лицо жены, то почему же думать, что жена одушевлена от мужа, когда не написано и об этом? Отсюда, если все души рождающихся людей Бог творит так же, как сотворил первую душу, то Писание умолчало о прочих потому, что рассказанное об одной благоразумно понимать в приложении и ко всем остальным. Поэтому, если бы надобно было Писанию сообщить нам что–нибудь относительно этого предмета, то, скорее всего, оно сделало бы так в том случае, если бы в жене совершено было нечто такое, чего не было совершено в муже, т. е. если бы душа её выведена была из одушевленной плоти, а не как у мужа — плоть из одного источника, а душа из другого; об этом именно, что совершено было в ней иначе, Писание и не должно было бы молчать, дабы мы не пришли к мысли, что совершено снова то же, о чем уже мы знаем. Отсюда, раз в Писании не говорится, что душа жены произведена от души мужа, тем самым, не без основания можно полагать, оно хотело нам дать понять, что в этом случае мы должны думать то же самое, что нам уже известно о душе мужа, т. е. что так же дана и душа жены; а между тем, сказать об этом представлялся очевиднейший повод если и не тогда, когда жена получила образование, то позже, когда Адам говорит: се ныне кость от костей моих и плоть от плоти моея (Быт. II, 23). Ибо не тем ли с большею ясностью и любовью он прибавил бы: «и душа от души моей». — Впрочем, этот весьма важный вопрос не разрешается здесь настолько, чтобы мы держались одного чего–либо ясного и определенного.
ГЛАВА II
3. Поэтому, прежде всего, надобно обратить внимание на то, оставляет ли нам настоящая книга священного Писания, изъясняемая нами с самого её начала, с этой стороны место для сомнения; в таком случае мы в праве будем задаться вопросом, какое мнение лучше нам избрать, иди чего нам держаться относительно этого неопределенного предмета. — Несомненно, что Бог сотворил человека по образу Своему в шестой день; тогда же сказано и следующее: мужа и жену сотвори их (Быт. I, 27). Из этих изречений первое, в котором упоминается об образе Божием, мы приняли в приложении к душе, а второе, в котором указывается различие пола, в приложении к телу (См. выше, кн. 6 и 7). И так как при этом столькие и такие, рассмотренные и изъясненные нами, свидетельства не дозволяли нам принять, что муж из земли, а жена из ребра мужа образованы в шестой день, а совершено это было потом, после уже тех дел, в которых Бог сотворил все разом (Сир. XVIII, 1), то мы поставили тогда вопрос, что должны мы думать о душе человека, и, после всестороннего обсуждения этого спорного вопроса, пришли к наиболее вероятному и допустимому заключению, что душа человека сотворена в ряду упомянутых дел, основа же его тела, как бы в семени, сотворена в телесном мире. На этом заключении мы остановились, с одной стороны, из опасения сказать вопреки словам Писания, что как муж из земли, так и жена из его ребра сотворены в шестой день, или — что человек совсем не сотворен в ряду шестидневных дел, или — что тогда сотворена причинная основа только человеческого тела, но не души, хотя по образу Божию человек создан по душе; с другой стороны, в том изображении, что хотя и не было бы прямым противоречием словам Писания, но было бы грубо и не допустимо сказать, что основа человеческой души сотворена в такой духовной твари, которая для этой цели только и была сотворена, хотя о самой такой твари в делах Божиих и не упоминается, или — что основа души создана в какой–нибудь, среди дел Божиих упоминаемой, твари, подобно тому, как в людях уже существующих сокрыта основа долженствующих произойти от них детей: в таком случае мы должны бы были считать человеческую душу или дочерью ангела, или же (что еще недопустимее) порождением какого–нибудь телесного элемента.
ГЛАВА III
4. Но если утверждать, что жена получила душу не от мужа, а, как и он, от Бога, на том основании, что Бог творит душу для каждого человека особо, то душа жены, очевидно, не была сотворена в первых упомянутых выше делах; или если была сотворена общая основа всех душ, подобно тому, как в людях — причина деторождения, в таком случае дело сводится к той грубой и труднодопустимой мысли, что человеческие души суть порождения или ангелов, или (что еще недостойнее) телесного неба, или даже какого–нибудь низшего элемента. Отсюда, надобно рассмотреть (хотя это и сокровенно), что вернее, или, по крайней мере, допустимее сказать — то ли, что я сейчас сказал, или то, что в ряду первых дел Божиих сотворена только душа первого человека, от которой творятся все человеческие души, или же, наконец, то, что творятся каждый раз новые души, никакой основы которых в первых шестидневных делах Божиих не было. Из этих трех [предположений] два первые не стоят в противоречии с теми первыми творческими делами, в коих создано все разом. Согласно с этими предположениями или основа души сотворена в какой–нибудь твари, как бы в родоначальнике, так что все души уже от неё рождаются, а Богом творятся, когда даются каждому в отдельности человеку, как — тела от родителей; или же сотворена не основа души, как в родителях — основа потомства, а сама душа тогда, егда бысть день, — сотворена так же, как самый этот день, как небо и земля и небесные светила, сообразно с чем и сказано, что Бог сотворил человека по образу Своему.
5. Не так легко видеть, как согласуется третье предположение с тем мнением, с точки зрения которого человек сотворен по образу Божию в шестой день, а видимо — после седьмого дня. Ибо, если мы скажем, что творятся новые души, которые не сотворены в шестой день ни сами, ни основа их, как в родителях основа потомства, в ряду тех дел, от коих совершенных и вместе начатых Бог почил в седьмой день, в таком случае священное Писание, надобно опасаться, напрасно с такою настойчивостью напоминает нам, что Бог совершил в шестой день все дела Свои, сотворенные добро зело, если Ему предстояло еще творить новые природы, которые не были созданы тогда ни сами, ни причинно их основы. Такое опасение, впрочем, возможно в том только случае, если мы при этом будем разуметь, что причина сотворения души для каждого из рождающихся заключается не в Самом Боге, а создана Им в какой–нибудь твари; но так как душа представляет собою творение, по которому человек в шестой день создан по образу Божию, то не верно сказать о Боге, что Он творит теперь нечто такое, чего не сотворил тогда. Ибо Он еще тогда сотворил душу такою, какие творит и теперь, а потому не творит теперь ничего нового, чего не сотворил бы тогда в ряду совершённых дел Своих. И это Его действие совершается не вопреки тем причинным основам будущих вещей, которые Он заложил тогда во вселенной, а напротив — согласно с ними; так как в человеческие тела, распространение которых от первых [творческих] дел преемственно продолжается доселе, Он решил помещать такие именно души, которые теперь в них творит и помещает.
6. Потому, какое бы из этих трех мнений ни оказалось вероятнейшим, не опасаясь нисколько стать в противоречие со словами настоящей книги о первом шестидневном творении, войдем, насколько поможет Бог, в тщательнейшее рассмотрение этого вопроса. Может статься, что мы придем если не к твердому мнению, относительно которого нельзя уже я сомневаться, то, по крайней мере, к правдоподобному настолько, что держаться его, доколе не откроется что–нибудь несомненное, не будет нелепым. А если не придем, опираясь всюду и равномерно на документальных показаниях, то, по крайней мере, видно будет, что сомнение наше чуждо не труда исследования, а дерзости утверждения; так что, буде кто в себе уверен, пусть научит и меня, если же уверенность его коренится не на авторитете божественных изречений, или очевидных доводов, а на предубеждении, то пусть не погнушается и он вместе со мною остаться при сомнении.
ГЛАВА IV
7. И, прежде всего, будем твердо держаться мысли, что природа души не превращается ни в природу тела, так чтобы, бывши уже душою, она делалась телом, ни в природу неразумной души, так чтобы, бывши душою человека, она становилась душою животного, ни в природу Бога, так чтобы, бывши душою, она становилась Богом, и таким образом человеческая душа не обращается и не становится попеременно ни телом, ни неразумною душою, ни субстанцией Бога. Не менее несомненным должно быть и то, что душа — не что иное, как творение Божие. Отсюда, если человеческую душу Бог не сотворил ни из тела, ни из неразумной души, ни из Себя Самого, остается заключить, что Он сотворил ее или из ничего, или из какой–нибудь духовной, но разумной твари. Но самое уже желание доказывать, что нечто сотворено из ничего по совершении тех дел, в коих Бог совершил все разом, слишком грубо, и я не знаю, можно ли доказать это на основании ясных документов. Да от нас и не следует требовать того, чего человек понять не может, а если может, едва ли будет в состоянии убедить кого–нибудь, кроме разве того, кто сам по себе, хотя бы и никто не старался учить его, в состоянии разуметь подобные вещи. Поэтому безопаснее вести рассуждение о предметах подобного рода не на основании человеческих догадок, а на основании божественных свидетельств.
ГЛАВА V
8. Итак, что Бог творит души от ангелов, как бы от родителей, на это канонические книги не представляют мне никакого авторитета. Еще меньше, конечно, творит Он их из мировых телесных элементов, если только при этом нас не смущает то обстоятельство, что у пророка Иезекиля, когда он делает намек на воскресение мертвых, в восстановленные тела призывается дух, дыханием которого бы они оживились и встали, от четырех небесных ветров. Ибо тут написано: И рече ко мне Господь: прорцы о дусе, прорцы, сыне человечь, и рцы духови, сия глаголет… Господь: от четырех ветров небесных прииди, душе, и вдуни на. мертвыя сия, и да оживут. И прорекохъ, якоже повеле ми Господь, и вниде в ня дух жизни, и ожиша, и сташа на ногах своих, собор мног зело (Иезек. XXXVII, 9, 10). Здесь, мне кажется, пророчески обозначено, что люди воскреснут не только на поле, на котором указывается самое это происшествие, но на всем лице земли, что и представлено у пророка под образом дыхания ветра с четырех стран света. Ибо не было субстанцией Духа Святаго и то дуновение из тела Господа, когда Он дунул и сказал: приимите Дух Свят (Иоан. XX, 22), а этим действием Господь показал, что так от Него происходит и Дух Святый, как от Его тела происходит это дуновение. Но поелику мир не принимается Богом в личное с Собою единство так, как принята была плоть Его Словом, Сыном единородным, то мы не можем сказать, что душа происходит от субстанции Бога так же, как произведено было дуновение четырех ветров из природы мира; думаю, впрочем, что само это дуновение было одно, а означало собою другое, как это можно заключить из примера дуновения, изшедшего из тела Господа, хотя пророк Иезекииль в настоящем случае под образом откровения созерцал не воскресение плоти, каким оно будет, а неожиданное восстановление отчаявшегося народа духом Господним, который исполни вселенную (Прем. Сир. I, 7).
ГЛАВА VI
9. Посмотрим же теперь, какому мнению благоприятствуют больше божественные свидетельства — тому ли, с точки зрения которого говорится, что Бог сотворил одну душу, дал ее первому человеку и от неё начал творить остальные, как из его тела — все остальные тела, или же тому, с точки зрения которого говорится, что Он творит для каждого человека свою особую душу, как одну из них сотворил Он и для первого человека, а не от неё все прочие. — В самом деле, сказанное Богом чрез пророка Исаию (LVII, 16); всякое дыхание аз сотворих (а что это сказано о душе, достаточно ясно показывают дальнейшие слова) может быть принимаемо в смысле того и другого мнения. Ибо несомненно, что все души творит Бог или от одной души первого человека, или же каких–либо, Ему только ведомых, тайников.
10. Равным образом, и написанное: создавый на едине сердца их (Пс. 32, 15), если под сердцами мы будем разуметь души, не противоречит ни тому, ни другому из тех мнений, которые мы в настоящем случае имеем в виду. Ибо Бог или от одной души, которую вдунул в лице первого человека, образует отдельные души, как и тела, или же образует и посылает каждую отдельную душу, либо образует ее в том, в кого надобно послать, хотя, по моему мнению, слова эти имеют отношение к тому обновлению по образу Божию, которое сообщается нашим душам благодатно. Отсюда, Апостол говорит: благодатию бо есте спасени чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никтоже похвалится. Того бо есмы творение, создани во Христе Иисусе на дела благая (Еф. II, 8–10). Ибо не можем же мы думать, что благодатно творятся или образуются наши тела, но как написано в Псалме: сердце чисто созижди во мне Боже (Пс. 50, 12).
11. Сюда же, полагаю, относится и изречение: созидаяй дух человека в нем (Зах. XII, 1), как бы одно значит — послать созданную душу, а другое — создать ее в самом человеке, т. е. восстановить и обновить. Но если даже понимать это изречение не о благодати, которою мы обновляемся, а о природе, в которой рождаемся, его можно разуметь в смысле того и другого мнения; так как Бог или из одной души первого человека творит в человеке как бы семя души, чтобы оно оживляло тело, или же не из этого начала, а откуда–нибудь иначе, но Он же вливает в тело дух жизни чрез смертные органы, чтобы человек стал в душу живу.
ГЛАВА VII
12. Более тщательного рассмотрения требует место из книги Премудрости, где она говорит: душу же получих благу, паче же благ сый приидох в тело нескверно (Прем. Сол. VIII, 19–20). По–видимому, это место говорит больше в пользу того мнения, с точки зрения которого души происходят не от одной души, а являются в тела свыше. Но что же значат слова: душу же получих благу? Выходит как будто бы, что или в источнике душ, буде есть таковой, одни души добры, а другие не добры и что они выходят оттуда по некоему жребию такими, какие и кому из людей рождаются, или же Бог во время зачатия и рождения делает одни души добрыми, а другие недобрыми, и таким образом они каждым получаются по случайному жребию. По крайней мере, удивительно, если это место благоприятствует тем, которые полагают, что души, сотворенные где–то, посылаются Богом каждая в каждое отдельное человеческое тело, а не тем скорее, которые утверждают, что души посылаются в тела сообразно с заслугами своих дел, которые они совершили раньше тела. Ибо по чему иному одни из них входят в тела добрыми, а другие недобрыми, если не по своим делам? Во всяком случае — не по природе, в которой они создаются Тем, Кто все природы творит добрыми. Но не будем противоречить Апостолу, который, ведя речь о близнецах, находившихся еще во чреве Ревекки, говорит, что они, еще не будучи рождены, не могли сделать ничего доброго или худого, почему и утверждает, что не от дел их, но от призывающаго речеся ей, яко болий поработает меншему (Рим. IX, 10–13). Поэтому оставим пока это свидетельство книги Премудрости; ибо нельзя не обратить внимания и на тех, которые заблуждаются ли или говорят правду, но полагают, что это изречение собственно и исключительно сказано о душе Ходатая Бога и человеков, человека Христа Иисуса. Если будет нужно, рассмотрим после, чтО оно означает, и если окажется, что это изречение нельзя прилагать ко Христу, в таком случае исследуем, как мы должны разуметь его, чтобы не стать в противоречие с апостольскою верою, оставаясь при мысли, что души имеют некоторые заслуги за свои дела раньше, чем начинают жить в телах.
ГЛАВА VIII
13. Обратим теперь внимание на то, в каком смысле сказано: Отымеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа твоего, и созиждутся и обновиши лице земли. По–видимому, изречение это говорит в пользу тех, по мнению которых души, как и тела, творятся от родителей, если понимать его в том смысле, что дух называется здесь их духом по той причине, что они получают его от людей; когда же умирают, дух уже не может быть возвращен им людьми, чтобы они воскресли, ибо он не от родителей опять изводится, как при рождении, а возвращается Богом, воскрешающим мертвых (2 Мак. VII, 23). Поэтому, один и тот же дух назван и их духом, когда они умирают, и Божиим, когда воскресают. Но так как и те, по мнению которых души посылаются не от родителей, а от Бога, могут понимать это изречение в смысле своего мнения таким образом, что дух называется их духом, когда они умирают, ибо он в них был и из них вышел, а Божиим, когда они воскресают, ибо он от Бога посылается и от Него же возвращается: то ясно, что и это свидетельство не противно ни тем, ни другим.
14. Со своей стороны я, впрочем, думаю, что лучше понимать это изречение о благодати, которою мы внутренне обновляемся. В самом деле, собственный дух всех гордецов, живущих по земному человеку и превозносящихся своею тщетностью, некоторым образом отнимается, когда они совлекаются ветхого человека и, отогнав гордость, укрепляются на пути совершенствования, говоря Господу: помяну, яко персть есмы (Пс. 102, 14), ибо именно им было некогда сказано: почто гордится земля и пепел (Сир. X, 9)? Взирая очами веры на правду Божию, чтобы не желать свою правду поставити (Рим. X, 3), они, как говорит Иов, переводят свой взор на себя самих, уничижаются и считают себя землей и пеплом, а это и значит — и в персть свою возвратятся. Получив же Духа Божия, говорят: живу же не к тому аз, но живет во мне Христос (Гал. II, 20). Так чрез благодать нового завета обновляется лице земли, благодаря многочисленности святых!
ГЛАВА IX
15. Даже написанное у Екклесиаста: и возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, иже и даде его (XII, 7) не благоприятствует одному из этих мнений вопреки другому, а мирится с обоими. Ибо когда одни говорят: «этим изречением оправдывается мысль, что душа дается не от родителей, а от Бога, так как по обращении персти, т. е. плоти, созданной из персти, в свою землю, дух возвращается к Богу, который сообщил его», другие отвечают: «без сомнения, так Дух возвращается действительно к Богу, который даровал его первому человеку, когда вдунул в лице его (Быт. II, 7) — возвращается после того, как персть, т. е. человеческое тело, обращается в землю, из которой и сотворена первоначально (Быт. III, 19). Не к родителям же дух должен возвратиться, хотя он и от них творится из того духа, который был дан первому человеку, как и плоть после смерти не возвращается ведь к родителям, от коих, как это несомненно известно, она происходит. Отсюда, как плоть возвращается не к людям, от коих она сотворена, а в землю, из которой образована первому человеку, так и дух возвращается не к людям, от коих он был перелит, а к Богу, от которого был дан первой плоти».
16. Этим свидетельством мы достаточно ясно убеждаемся, что Бог сотворил душу из ничего и дал ее первому человеку, а не из какой–нибудь, уже созданной, твари, как тело — из земли; а потому, когда она возвращается, то не имеет куда возвратиться, кроме как к Творцу, который и дал ее, а не к твари, из которой она создана, так как создана она из ничего; потому–то когда она возвращается, то возвращается к Творцу, Коим сотворена из ничего. Ибо не все и возвращаются; есть такие, о коих говорится: дух ходяй и не обращайся (Пс. 77, 39).
ГЛАВА X
17. А потому собирать все относительно этого предмета свидетельства священного Писания трудно, а если бы можно было не только припомнить их, но и обследовать, они крайне затянули бы нашу речь; при чем, если бы они не представляли чего–нибудь настолько несомненного, насколько несомненными представляются показания, что душу сотворил Бог, или что Он дал ее первому человеку, я все же таки не знал бы, каким образом должен быть разрешен этот вопрос на основании свидетельства божественных изречений. Ибо если бы было написано, что Бог вдунул дыхание и в лице жены и она стала в душу живу, то это, без сомнения, пролило бы весьма много света для нашей веры, что душа каждой образуемой человеческой плоти дается не от родителей; но и в таком случае нам все еще желательно было бы знать, чего мы должны держаться относительно потомства, которое представляет для нас обычный способ происхождения человека; между тем как жена сотворена иначе, и можно еще сказать, что душа дана Еве свыше, а не от Адама потому, что она не произошла от него как потомство. Но если бы Писание упомянуло, что тот человек, который от них был рожден первым, свою душу получил не от родителей, а свыше, это необходимо было бы разуметь уже относительно всех прочих, хотя бы Писание на этот счет и молчало.
ГЛАВА XI
18. Рассмотрим теперь, подтверждает ли то и другое мнение, хотя конечно и может быть приспособляемо к ним, изречение: единым человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако [смерть] во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша. И несколько дальше: Якоже единаго прегрешением, во вся человеки вниде осуждение, такожде и единаго оправданием во вся человеки вниде оправдание жизни. Якоже бо ослушанием единаго человека грешни быша мнози, сице и послушанием единаго праведни будут мнози (Рим. V, 12. 18–19). Защитники происхождения душ (от родителей] стараются вывести свое мнение из этих слов Апостола таким образом: «Если, говорят, в понятие о грехе или грешнике может быть вводима одна только сторона плоти, то нет необходимости видеть в этих словах мысль, что душа происходит от родителей, но если, хотя и по подстрекательству плоти, грешит не кто иной, как душа, то какой смысл должны иметь слова; в немже вси согрешиша, если и душа не происходит, как плоть, от Адама? Или каким образом чрез ослушание Адама сделались многие грешниками, если они в нем были только по плоти, а не по душе?»
19. И в самом деле, надобно опасаться, как бы не показалось, что или Бог — виновник греха, если Он дает душу такой плоти, в которой она становится в необходимость грешить, или, кроме души Христа, существует другая, для освобождения которой от греха не необходима христианская благодать, так как она не согрешила в Адаме, если сказано, что в нем все согрешили только по плоти, от него сотворенной, а те по душе; а это уже противно той церковной вере, что родители стремятся к получению благодати святого крещения даже со своими малыми детьми и младенцами. Но если в детях иго греха разрешается в плотской, а не в духовной стороне, то естественно спросить, какой будет вред, если они оставят тело в этом возрасте, не получив крещения? Если этим таинством доставляется польза их телу, а не и душе, то следовало бы крестить и мертвых; но видя всеобщий в Церкви обычай притекать [в сему таинству] с живыми и [с сим таинством] к живым, в опасении, что для умерших от него не может быть никакой пользы, мы можем объяснить себе этот обычай лишь так, что каждый младенец — не что иное, как Адам телом и душой, а потому и необходима для него благодать Христа. Ибо сам по себе этот возраст не делает ничего доброго или худого; следовательно, в нем душа самая невинная, раз она не происходит от Адама. Поэтому достоин удивления всякий, придерживающийся подобного мнения о душе, кто мог бы нам объяснить, каким образом младенец может заслуживать осуждение, если он оставляет тело, не получив крещения.
ГЛАВА XII
20. Конечно, совершенно верно и совершенно истинно написано: плоть похотствует на духа, дух же на плоть (Гал. V, 17), но, думаю, всякий ученый и неученый согласится, что плоть без души похотствовать решительно не может. Отсюда, причина похоти заключается не в одной душе, еще меньше — в одной плоти. Она происходит от них обеих, именно — от души потому, что без души нет чувства удовольствия, от плоти потому, что без плоти нет ощущения плотского удовольствия. Таким образом, плотью, похотствующею против духа, Апостол, без сомнения, называет плотское удовольствие, которое дух имеет от плоти и с плотью вопреки удовольствию, которое он имеет один. Один он, если не ошибаюсь, имеет то, чуждое плотского удовольствия или не соединенное с плотским пожеланием, желание, которым желает и скончавается душа во дворы Господни (Пс. 83, 3). Один он имеет и то, о чем ему говорится: возжелев премудрости, соблюди заповеди, и Господь подаст ю тебе (Сир. I, 26). Ибо когда дух повелевает членами тела, так что они служат тому желанию, коим проникнут он один, когда, напр., берется кодекс, что–нибудь пишется, читается, слушается, когда преломляется хлеб голодному и совершаются другие дела человеколюбия и милосердия, то плоть оказывает повиновение духу, а не возбуждает похоть. Когда этим и подобным добрым желаниям, которыми проникнута одна душа, противоборствует что–нибудь такое, чем услаждается душа плотским образом, тогда говорится, что плоть похотствует на духа, а дух на плоть.
21. И действительно, когда Апостол говорит: плоть похотствует, то плоть принимается у него в смысле того, что делает сама душа по плоти, подобно тому, как мы говорим: «ухо слышит», «глаз видит». Ибо кто же не знает, что и чрез ухо слышит, и чрез глаз видит скорее сама душа? В таком же роде выражаемся мы и в таком случае, когда говорим: «рука твоя помогает человеку», когда простертою рукою дается что–нибудь такое, что служит кому–либо помощью. А если даже и об очах веры, которым усвояется способность веровать тому, что плотью невидимо, сказано: узрит всяка плоть спасение Божие (Лук. III, 6), — узрит, конечно, душою, которою плоть оживляется, так как благоговейно созерцать Христа чрез нашу плоть, т. е. чрез ту форму, которою Он ради нас облечен был, относится не к похоти, а к служению, оказываемому плотью душе (а разве кто–нибудь не захочет так понимать изречение: узрит всяка плоть спасение Божие?): то гораздо уместнее сказать, что плоть похотствует, когда душа не только сообщает плоти животную жизнь, но и желает чего–либо сообразно с плотью; потому что не в её власти — не желать таким образом, пока живет во удех грех, т. е. некая неотразимая прелесть плоти в теле смерти сея, проистекающая из наказания за этот грех, откуда и ведем мы свое начало, по которому все мы до благодати — чада гнева (Еф. II, 3). Состоящие под благодатью воинствуют против этого греха, не с тем, чтобы его не было в их теле, доколе оно настолько смертно, что справедливо называется даже и мертвым, а с тем, чтобы он не царствовал над ними. А он уже не царствует над ними, когда их тело не повинуется его желаниям, т. е. тем желаниям, которые похотствуют по плоти на дух. Поэтому Апостол не говорит: «да не будет греха в вашем смертном теле» (ибо он знал, что природе, поврежденной первым преступлением, присуще греховное услаждение, чтО собственно он и называет грехом), но: да не царствует, говорит, грех в мертвеннем вашем теле, во еже послушати его в похотех его: ниже представляйте уды ваша оружия неправды, греху (Рим. VI, 12–13).
ГЛАВА XIII и XIV
22. Оставаясь при этом мнении, мы, с одной стороны, не высказываем такой крайне нелепой мысли, что плоть похотствует без души, с другой не соглашаемся с манихеями, которые, видя, что плоть не может похотствовать без души, пришли к мысли, что плоть имеет какую–то другую, свою, душу из иной, противной Богу, природы, почему она и похотствует на духа. Не вынуждены мы высказывать и такую мысль, будто некоей душе необходима благодать Христа, когда говорим — чтО сделала душа младенца, за что ей, не получив христианского крещения, опасно было бы выходить из тела, если она не совершила никакого собственного греха и не происходит от той души, которая первая согрешила в Адаме?
23. В самом деле, мы говорим не о больших детях, которым не хотят приписывать собственного греха раньше четырнадцатилетнего возраста, когда губы их начинают покрываться пухом. Такое воззрение было бы правильным, если бы не существовало грехов, кроме грехов, совершаемых детородными членами; но кто же осмелится утверждать, что воровство, ложь, клятвопреступление — не грехи, кроме разве того, кто хочет совершать их безнаказанно? А между тем, детский возраст переполнен подобными грехами, только в детях они не считаются настолько заслуживающими наказания, как в больших так как есть надежда, что с течением лет, когда станет у них разум зрелее, они могут лучше понимать спасительные наставления и охотнее им повиноваться. Но мы ведем речь не об отроках, которые в случае, если бы правда и справедливость стесняли их плотское и ребяческое удовольствие тела и души, начинают противиться им всеми возможными силами слова и действия, так как только ложью и неправдой, на их взгляд, они могут обеспечить себе или достижение того, чего желают, или устранение того, что им не нравится. Мы говорим о младенцах, не потому, что весьма часто они рождаются от блуда (ибо и среди испорченных нравов не должны быть порицаемы дары природы: разве не должны всходить зерна потому, что они посажены рукою вора или разве повредит родителям распутство, если они, обратившись к Богу, исправятся, а тем более — детям, если они живут честно?), но потому, что этот возраст возбуждает жгучий вопрос, именно: если душа младенца не имеет никакого греха по собственному своему произволению, то каким образом может он оправдаться послушанием одного человека, если не виновен в послушании другого одного? Так говорят те, по мнению которых души людей, творятся от родителей, а не одним Творцом–Богом, как и тела. Ибо и тела творят не родители. но и не Он один, Который говорит: прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя (Иер. I, 5).
24. На это надобно ответить так, что Бог дает телам людей каждый раз новые души для того, чтобы в греховной плоти, происходящей от первородного греха, они доброю жизнью и покорением плотских похотей под иго благодати Божией снискали награду, дабы вместе с тем наследовать в день воскресения лучшую участь и жить вечно во Христе с ангелами. С земными и смертными, от греховной плоти происходящими, членами они должны быть удивительным образом соединены для того, чтобы могли сначала оживлять их, а затем, с течением возраста, управлять ими: это для душ как бы состояние забытья. Если бы это состояние было для них безысходным, оно должно бы быть приписано Творцу. Но так как, приходя во время этого забытья понемногу в себя, душа может обратиться к Своему Богу и заслужить Его милосердие и истину сначала самым благочестием своего обращения, а затем постоянством в исполнении Его заповедей, то чем может повредить ей временное погружение в этот как бы сон, от которого понемногу пробуждаясь к свету разумения, для чего и создана разумная душа, она может по доброй воле избрать добродетельную жизнь, впрочем, не иначе, как при помощи благодати Ходатая? Если человек этого не делает, он будет не только по плоти, но и по духу Адамом; живя же правильно по духу, он и то, что досталось ему предосудительного от Адама, очистив от греховной скверны, заслужит получить в том изменении, которое обещает святым воскресение.
25. Но прежде чем с возрастом он может жить по духу, для него необходимо таинство Ходатая, дабы то, чего он не может еще [сделать] по своей вере, совершалось верою тех, которые его любят. Этим Его таинством разрешается уже в младенческом возрасте кара первородного греха; не будучи этим таинством подкреплен еще в младенчестве, человек не в состоянии будет обуздывать плотскую похоть; да и покорив ее, может получить награду вечной жизни не иначе, как только в доме Того, Кого он старается снискать. Поэтому–то он и должен креститься, будучи еще младенцем, чтобы душе не вредно было сообщество с греховной плотью, разделяя которое душа не может разуметь ничего по духу. Эта–то именно привязанность и тяготит душу, разлучающуюся с телом, если только, живя в теле, душа не будет искуплена единым жертвоприношением Священника–Ходатая.
ГЛАВА XV
26. А если бы, возразит кто–нибудь, родные не позаботились об этом или по неверию или по небрежности, тогда что? — Такое возражение возможно и относительно взрослых. И они могут или внезапно умереть, или заболеть у таких людей, где некому позаботиться об их крещении. Но, скажут, взрослые имеют и свои собственные грехи, в отпущении которых нуждаются, и если таковые разрешены не будут, всякий согласится, что они будут заслуженно мучиться за грехи, содеянные в течение жизни по своей собственной воле; между тем, душа, которой ни в каком случае не может быть вменяема некая, проистекающая от греховной плоти, зараза, если только душа сотворена не от первой души–грешницы (следовательно, без всякого греха, а с такою природою, которая создана и дарована Богом), почему же такая душа будет отчуждена от вечной жизни, если никто не позаботится окрестить младенца? Или, может быть, ему в таком случае не будет никакого идеала? Какая же польза тому, которому помогут креститься, если нет вреда тому, которому не помогут?
27. Что в этом случае могли бы ответить в свою пользу те, которые, согласно со священным Писанием, на основании ли того, что в нем находится, или же того, что ему непротивно, стараются утверждать, что телам даются новые душе не от родителей, этого, признаюсь, я еще не слышал или не читал нигде. За этим недостатком не следует, конечно, бросать самое дело, если бы мне представлялось что–нибудь такое, чем на мой взгляд можно помочь ему. Пока они могут сказать так, что Бог наперед зная, как будет жить каждая душа, если будет оставаться в теле дольше, заботится о совершении спасительной бани над тою, о которой предвидит, что она будет благочестивою, когда достигнет лет, способных к вере, если только по какой–либо сокровенной причине не предварит их смертью. Отсюда, сокрыта и человеческому, моему по крайней мере, разумению совершенно недоступна причина, для чего рождается младенец, сейчас или вскоре имеющий умереть, но сокрыта так, что это обстоятельство не дает перевеса ни тому, ни другому из тех мнений, разбором которых мы в настоящем случае заняты. Ибо если отвергнуть мнение, по которому души посылаются в тела за заслуги предшествовавшей жизни, так что скорейшего разрешения, казалось бы, заслуживает душа мало согрешившая, — отвергнуть из опасения стать в противоречие с Апостолом, по свидетельству коего еще не родившиеся не совершили ничего доброго или худого (Рим. IX, 11), то не могут объяснить, почему смерть одних ускоряется, а других замедляется, ни те, которые утверждают переход души [от родителей], ни те, по мнению которых в каждом отдельном случае даются новые души. Таким образом, причина эта, по моему мнению, одинаково и тем и другим ни благоприятствует, ни противоборствует.
ГЛАВА XVI
28. Поэтому, если те, которые по поводу смерти младенцев задавались вопросом, почему таинство крещения необходимо для всех, души коих происходят не от той души, преступлением которой многие стали грешниками (Рим. V, 19), на этот вопрос ответят так, что все соделались грешниками по плоти, а по душе только те, которые жили худо в то время, когда могли бы жить хорошо, все же души, т. е. души и младенцев, необходимость в таинстве крещения, без которого [человеку] приходится оставлять настоящую жизнь даже и в этом возрасте, имеют потому, что греховная зараза от греховной плоти, облекающей душу, внедряясь в нее чрез телесные органы, будет ей вредить и по смерти, если еще при жизни в сей плоти не очищена будет таинством Ходатая; а эта помощь свыше даруется той душе, о которой Бог наперед знает, что, достигши лет, способных в вере, она будет жить благочестиво, для чего собственно Он и родиться ей соизволил в теле и вскоре вывел ее из тела, — если, говорю, они ответят на этот вопрос таким образом, то что же можно сказать против них кроме того разве, что мы остаемся в неизвестности на счет спасения и тех, которые, проведши настоящую жизнь добродетельно, почили в мире Церкви, раз каждый подлежит суду не только за то, как жил бы, но и за то, как жил бы, если бы прожил дольше? В очах Божиих имеют значение не только прошлые, но и будущие преступления, от ответственности в коих не освобождает и смерть, если она наступает раньше, чем они совершены; нет пользы и тому, кто восхищается [из этой жизни], да не злоба изменит разум его (Прем. IV, 11). Ибо Бог, наперед зная его будущую злобу, почему не будет судить его за эту злобу, раз благоволил чрез крещение доставить пользу близкой к смерти душе младенца, дабы не повредила ей полученная от греховной плоти скверна, потому, что наперед знал, что она, если проживет дольше, будет жить благочестиво и верно?
29. Но, может быть, это соображение будет отвергнуто скорее всего потому, что оно мое, те же, которые утверждают, что они в этом мнении уверены, приводят, быть может, или свидетельства Писания, иди разумные основания, которыми устраняется его сомнительность, или по крайней мере показывает, что оно не противно Апостолу, который, останавливая внимание на благодати, спасающей нас говорить: Якоже о Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут (1 Кор. XV, 22), и: Якоже ослушанием единаго человека грешни быша мнози, сице и послушанием единаго человека праведницы, будут мнози (Рим. V, 19)? Желая показать, что под этими грешниками разумеются люди не за исключением некоторых, а все, Апостол говорит: в немже вси согрешиша (Рим. V, 12), откуда нельзя, очевидно, исключать и душ младенцев, в виду, с одной стороны, того, что сказано вси, а с другой — того, что над младенцами совершается крещение, как не без основания и полагают те, которые думают, что души происходят от одной, если только это их мнение не опровергается или какими–нибудь ясными и согласными со священным Писанием данными, или же авторитетов самих этих Писаний.
ГЛАВА XVII
30. Посмотрим же теперь (насколько это дозволяют нам нужды настоящего сочинения), что означает изречение, которое мы несколько выше отложили на время. Именно, в книге Премудрости написано: Отрок бех остроумен, душу же получих благу, паче же благ сый приидох в тело нескверно (VIII, 19, 20). По–видимому, это свидетельство благоприятствует тем, которые говорят, что души творятся не от родителей, а посылаются в тело Богом; но, с другой стороны, этому мнению их мешают слова: душу же получих благу, так как с их точки зрения души, посылаемые Богом, или выходят из одного источника, как в своем роде ручейки, или творятся одинаковой природы, а не одни добрыми или более добрыми, а другие недобрыми или менее добрыми. Откуда же являются они добрыми или более добрыми, недобрыми или менее добрыми, если не вследствие своих нравов согласно с свободным произволением воли, или различия в сложении тел, отягощаясь одни больше, а другие меньше телом, которое повреждается и бременит душу? Но раньше, чем души входят в тела, не существовало никакого действия отдельных душ, которым бы различались их нравы; с другой стороны, и не в виду тела, менее бременящего, мог свою душу назвать доброю тот, кто говорит: душу же получих благу, паче же благ сый приидох в тело нескверно. Ибо говорит, что соединился с благостью, по которой был добр, т. е. получил добрую душу чтобы уже и войти в тело нескверное; следовательно, стал добр раньше, чем вошел в тело, а не вследствие различия в нравах, так как не имел еще никакой заслуги раньше настоящей жизни, а также и не вследствие различия тела, так как был добр раньше, чем явился в тело. Откуда же?
31. С другой стороны, хотя слова: приидох в тело, по–видимому, не говорят в пользу тех, которые утверждают, что души творятся путем перехода от первой души–ослушницы, но с остальными словами мнение их не стоит в разладе; так что сказав: отрок бех остроумен, он в объяснение того, по какой причине был остроумен, непосредственно прибавляет: душу же получих благу, т. е. от душевных способностей родителей или от телесного сложения. Затем, говорит: паче же благ сый приидох в тело нескверно: если под этим телом разуметь тело матери, то и слова: приидох в тело не будут препятствовать их мнению, если понимать дело так, что он пришел в чистое тело матери, — чистое или от месячных кровей, так как, говорят, они отягощают душевные способности, или от прелюбодейной скверны. Таким образом, приведенные слова книги Премудрости или благоприятствуют больше тем, которые говорят о переходе душ, или же если могут толковать их в свою пользу и первые, то не вредят ни тем, ни другим.
ГЛАВА XVIII
32. Если бы мы захотели это изречение применить к Господу по человеческой, принятой Словом, твари, то хотя в составе самого изречения и есть черты, которые не соответствуют Его превосходству, в особенности то, что само лицо, от коего в этой книге ведется речь несколько выше слов, на которых мы теперь останавливаем свое внимание, говорит о себе, что он от семени мужа в крови сгустился (VII, 2); а такого способа рождения чужд родившийся от Девы, которая зачала плоть Христа не от семени мужа, как не сомневается в этом ни один христианин. Но так как и в псалмах, в которых Он говорит о Себе: ископаша руце мои и нозе, исчетоша вся кости моя, тии же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и о одежди моей меташа жребий (Пс. 21, 17–19), что в собственном смысл приличествует Ему одному, Он говорит и так: Боже мой, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси? далече от спасения моего словеса грехопадений моих (Пс. 21, 2), что уже приличествует Ему в том только смысле, что Он преобразует тело смирения нашего, ибо мы — члены Его тела; и так как в самом Евангелии [говорится]: Отрок преуспеваше премудростию и возрастом (Лук. II, 42–52); то, если и слова, читаемые в книге Премудрости, могут быть прилагаемы к Господу ради уничиженного зрака раба и единства тела Церкви с Его главою, что, действительно, может быть остроумнее того Отрока, премудрость которого еще в двенадцать лет приводила в удивление старцев? что лучше той души, относительно которой, хотя бы утверждающие переход душ оказались победителями не в споре только, но и в своих доказательствах, непоследовательно будет думать, что и она произошла от первой души–ослушницы, ибо в таком случае чрез непослушание одного оказался бы грешником и Сам Тот, послушанием которого одного многие, очистившись от этой виновности, стали праведниками? что чище утробы той Девы, плоть которой, хотя и происходит от греховного источника, зачала однако не от греховного источника, ибо в таком случае и тело Христа в утробе Марии порождено тем законом, который, будучи заложен в членах смертного тела, противовоюет закону ума и, обуздывая который, святые отцы, состоявшие в супружеском союзе, хотя и разрушали его, насколько это дозволительно, в сожитие, но и в этих, только дозволительных границах не терпели его страстного возбуждения? Поэтому тело Христа, хотя и получено от плоти жены, зачатой от греховного источника, однако как зачатое не так, как зачата была та, само было не плотью греха, а подобием плоти греха. Ибо Он получил от неё не подсудность смерти, которая обнаруживается в невольном, хотя волею и превозмогаемом, плотском движении, против которого похотствуетъ дух (Гал. V, 37), но получил то, что не заразе ослушания подлежало, а довлело в разрушении недолжной смерти и показанию бессмертия, а это имеет значение для нас в том отношении, что мы не должны бояться смерти и чаять воскресения.
33. Наконец, если бы спросили у меня, откуда Иисус Христос получил душу, то я предпочел бы послушать в этом случае людей получше и поученее меня; по своему же разумению ответил бы охотнее «откуда и Адам», чем «от Адама». Ибо если взятая от земли персть, из которой раньше никто из людей не был образован, заслужила быть одушевленною свыше, то не тем ли более тело, взятое от плоти, из которой вторично никто из людей не был образован, получило душу благу, так как там воздвигнут был тот, кто имел пасть, а тут низошел Тот, Кто имел восстановить? И, может быть, слова: получих (sortitus sum) душу благу Он (если только эти слова надобно понимать в приложении к Нему) говорит потому, что то, чтО дается по жребию (sorte), дается обыкновенно свыше; а может быть, так надобно было сказать для того, чтобы даже и эту душу не считать поставленною некоторыми предшествовавшими делами на такую высоту, что с нею именно Слово стало плотью и обитало среди нас (Иоан. I, 14), т. е. имя жребия прибавлено с целью устранить предположение о предшествовавших заслугах.
ГЛАВА XIX
34. В послании, надписываемом к Евреям, есть одно место, в высшей степени заслуживающее тщательного рассмотрения. Это — когда по поводу Мельхиседека, который представлял в себе образ будущего, [писатель] различает священство Христа от священства левитского. Видите, говорит, елик сей, емуже и десятину, дал есть Авраам патриарх от избранных. И приемлющии убо священство от сынов Левиин, заповедь имут одесятствовати люди по закону, сиречь братию свою, аще и от чресл Авраамовых изшедшую. Не причитаемый же родом к ним, одесятствова Авраама, и имущаго обетования благослови. Без всякаго же прекословия меньшее от большаго благословляется. И зде убо десятины человецы умирающии приемлют: тамо же свидетельствуемый, яко жив есть. И да сице реку, Авраамом и Левий приемляй десятины, десятины дал есть: еще бо в чреслах отчиих бяше, егда срете его Мелхиседек (VII, 4–10). Итак, если для определения, насколько священство Христа превосходит священство левитское, имеет значение и то, что священник Христос предизображался тем, кто получил десятину от Авраама, в котором дал десятину и Левий, то очевидно Христос не дал десятины в лице Авраама. Но если Левий дал десятину потому, что находился в чреслах Авраама, то Христос не дал десятины потому, что не был в чреслах Авраама. Между тем, если Левий был в Аврааме не по душе, а только по плоти, то там же был и Христос, так как и Христос по плоти — от семени Авраама; следовательно, и Он дал десятину. Почему же в пользу великого различия священства Христа от левитского священства приводится то обстоятельство, что Левий дал десятину Мелхиседеку, так как находился в чреслах Авраама, где был и Христос, следовательно, оба они одинаково дали десятину, — почему, если не потому, что Христос, необходимо думать, в некотором отношении в Аврааме не был? А кто же станет отрицать, что по плоти Он был в нем? Значит, Он не был в нем по душе. Итак, душа Христа явилась не путем перехода от непослушания Адама, иначе и она была бы в Аврааме.
ГЛАВА XX
35. Здесь выступают защитники перехода душ и говорят, что их мнение получает подтверждение, раз Левий и по душе был в чреслах Авраама, в котором он дал десятину Мельхиседеку, так что в этом обстоятельстве дачи десятины можно проводить различие между ним и Христом, именно: так как Христос не дал десятины, и, однако, по плоти был в чреслах Авраама, то остается заключить, что по душе Он там не был, а отсюда следует, что Левий был в чреслах Авраама по душе. Меня это мало касается: я скорее готов слушать прение обеих сторон, чем защищать мнение какой–либо одной из них. Между тем, посредством этого свидетельства я хочу устранить душу Христа от этого перехода. Найдутся такие, которые, может быть, за всех остальных из них ответят и скажут так, что для меня немаловажное затруднение заключается в том, что хотя душа ни единого человека не находится в чреслах своего отца, однако Левий находился в чреслах Авраама по семенному началу, по которому он имел явиться в матери от соития [родителей]; но Христос по нему там не был, хотя плоть Марии и находилась по этому началу в чреслах Авраама. Поэтому ни Левий, ни Христос по душе не были в чреслах Авраама, по плоти же были как Левий, так и Христос, но Левий — по плотской похоти, а Христос — по телесной субстанции. Ибо, если в семени заключаются и видимая телесность и невидимое начало, в таком случае как то, так и другое от Авраама и даже от самого Адама доходят до тела Марии, потому что и оно зачато таким же образом; но Христос видимую субстанцию тела заимствовал от плоти Марии, между тем как причина Его зачатия получена не от мужеского семени, а совершенно иначе и свыше. Отсюда, Он находился в чреслах Авраама по тому, что получил от матери.
36. Итак, дал в Аврааме десятину тот, кто хотя только по плоти, но находился в его чреслах так же, как сам Авраам находился в чреслах своего отца, т. е. кто родился от отца Авраама точно так же, как родился и сам Авраам, т. е. по действии закона, противовоюющего в членах закону ума, и невидимой похоти, хотя чистые и добрые права брака не мешают этому закону иметь свое значение, насколько при его посредстве [люди] могут достигать возмещения рода; но не дал десятины Тот, плоть которого заимствовала от Авраама не язву воспаленной раны, а материю для врачевания. Ибо если дачу десятины мы отнесем к предизображению врачевания, то в плоти Авраама давалось то, что требовало лечения, а не то, что служило лечением. А такова плоть не только Авраама, но и самого первого земного человека: она в одно и тоже время заключает себе и язву неповиновения и врачевство этой язвы; язву неповиновения — в законе противовоюющем в членах закону ума, — законе, который как бы переписывается на всю, происходящую от него, плоть, врачевания же язвы — в том, что без действия похоти в одной телесной материи, действием божественного зачатия и образования, заимствовано от Девы для безвинного понесения смерти и неложного примера воскресения. Поэтому, думаю, даже и сами защитники перехода душ согласятся, что душа Христа явилась не путем перехода от первой души–ослушницы, ибо, по их мнению, от семени отца в соитии изливается и семя души (а такого рода зачатия чужд Христос), — согласятся и с тем, что если бы Он был в Аврааме по душе, то и Он дал бы десятину, но Писание свидетельствует, что Он не дал десятины, полагая в этом различие Его священства от священства левитского (Евр. VII, 6).
ГЛАВА XXI
37. Но, может быть, возразят, почему же он не мог быть в чреслах Авраама по душе без дачи десятины подобно тому, как мог быть там по телу и не дать десятины? — Потому, ответим, что и те сами, которые считают душу телом (а из их числа преимущественно и выступают те, по мнению которых душа творится от родителей), не допускают мысли, чтобы простая субстанция души увеличивалась с телесным ростом. В телесном семени может быть не видимая сила, которая бестелесным образом приводит в движение числа и которая должна быть отличаема не глазами, а умом от телесности, доступной нашему зрению и осязанию; самая уже величина человеческого тела, несравненно превышающая меру семени, достаточно показывает, что из него может быть заимствуемо нечто такое, чтО содержит в себе не семенную силу, а только телесную субстанцию, которая свыше, а не от вступающих в соитие, и была получена и образована в плоть Христову. Но кто же может утверждать о душе, что она имеет и то и другое, т. е. и видимую материю семени и скрытое начало семени? Впрочем, к чему трудиться над предметом, в котором словами едва ли кого можно убедить, кроме, разве, человека с таким острым умом, который бы мог наперед схватывать мысль говорящего, не ожидая полного её выражения словами? Скажу поэтому кратко, что если и с душою может происходить то, что мы сказали о плоти (буде сказанное нами понятно), то душа Христа явилась путем перехода так, что не принесла с собою пятна непослушания; а если путем перехода она не могла явиться без этой подсудности, значит — явилась не путем перехода. Что же касается происхождения остальных душ, то пусть, кто может, оспаривает, от родителей ли они или свыше: я остаюсь пока в сомнении между тем и другим мнением и направляюсь, иногда так, иногда иначе, к той единственно несомненной идее, что не верю и, не смотря ни на какую болтовню, надеюсь, при помощи Божией и не поверю, что душа — или тело, или какое–нибудь телесное свойство, либо согласие, если только так должно быть названо то, что греки называют армониа.
ГЛАВА XXII
38. Не следует упускать из внимания другое свидетельство, которое могут приводить в свою пользу те, которые полагают, что души являются свыше, именно — слова Самого Господа: рожденное от плоти, плоть есть; и рожденное от духа, дух есть (Иоан. III, 6). Что, скажут, еще яснее этого изречения, что душа не может рождаться от плоти? Ибо что такое душа, как не дух жизни, конечно сотворенный, а не творческий? — А что же, возразят им другие, думаем и мы иное, говоря, что плоть происходит от плоти, а душа — от души? Ибо человек состоит из того и другого: так мы и думаем, что от него происходит и то и другое, плоть — от плоти производящего, а дух — от духа похотствующего; не надобно при этом опускать из вида и то, что Господь говорил эти слова не о плотском рождении, а о духовном возрождении.
ГЛАВА XXIII
39. Итак, исследовав вышеприведенные места священного Писания, насколько по обстоятельствам можно было это сделать, я назвал бы все частные пункты доводов и свидетельств равными или почти равными с той и другой стороны, если бы мнение тех, которые полагают, что души творятся от родителей, не имело преимущества со стороны крещения младенцев. Пока мне не представляется ничего, что можно бы ответить им в этом пункте; но я не сочту для себя трудом [это сделать], если что–нибудь откроет Бог впоследствии, если даже предоставит какой–либо случай написать об этом для людей, интересующихся подобного рода предметами. В настоящем случае я, однако, наперед заявляю, что нельзя считать свидетельства младенцев настолько малозначительным, что не стоит, так сказать, и опровергать его, раз против [защитников самого этого мнения] говорит истина. Об этом предмете или совсем не нужно поднимать вопроса, считая для нашей веры достаточным знать, куда мы пойдем после благочестивой жизни, если даже и не будем знать, откуда явились; или же, если разумная душа стремится знать о себе и это, пусть отбросит дерзость утверждения, запасется тщанием исследования, смирением прошения и постоянством стучания, так что если она умеет объяснить нам это, то это умение дает ей Тот, Кто лучше нас знает, что требует для нас объяснения, т. е. Тот, Кто дает даяния блага чадом Своим (Mф. VII, 7, 11). Однако, обычай матери–Церкви крестить младенцев ни в каком случае не следует из–за этого ни отметать, ни мыслить излишним, а надобно считать его не иначе, как апостольским преданием. Ибо и этот малый возраст имеет великое значение свидетельства, так как он первый удостоился пролить за Христа свою кровь.
ГЛАВА XXIV
40. Насколько могу, я советовал бы тем, которые держатся мнения, что души происходят от родителей, обратить, насколько для них возможно, внимание на самих себя, и думать на время так, что их души — не тела. Ибо нет более близкой природы, внимательно всматриваясь в которую можно бы и Бога. неподвижно пребывающего превыше всей Своей твари, мыслить бестелесным образом, как природа, сотворенная по Его образу, и, наоборот, нет ничего настолько последовательного, как мысль, что душа — тело, мыслить, что и Бог — тело. Поэтому, люди, привыкшие и привязанные к телесным чувствам, не хотят считать душу чем–либо иным, как телом, в опасении, что если она не тело, то и ничто; отсюда, они насколько боятся считать и Бога не телом, настолько боятся считать Его ничем. Они до такой степени погружены в призраки или фантастические образы, которые их мышление почерпает из тел, что, отрешившись от них, страшатся исчезнуть как бы в пустоте. Отсюда, необходимо, они рисуют в своих сердцах и правду и мудрость со своего рода формами и окраской, так как не могут их мыслить бестелесными, хотя, будучи одушевлены правдой и мудростью настолько, что иди хвалят их, или делают что–нибудь согласно с ними, они и не говорят, под каким цветом, с каким ростом, под какими чертами или формами их себе представляют. Но об этом мы говорили уже в другом месте и много, и, если угодно будет Богу, скажем еще, когда потребуют того обстоятельства. Теперь же мы начали об этом говорить на тот конец, что уверены ли некоторые относительно перехода душ, или не уверены, пусть они не отваживаются ни думать, ни говорить, что душа — тело, в особенности в виду мною сказанного, чтобы и Самого Бога не счесть телом, правда, превосходнейшим, особой, стоящей выше всего остального, природы, но все же телом.
ГЛАВА XXV
41. Наконец, Тертуллиан, считая душу телом единственно потому, что он не мог ее мыслить бестелесною, а потому боялся, чтобы она, если не тело, не была ничто, не мог мыслить иначе и о Боге; но, обладая проницательностью мысли, он по временам возвышался над своим мнением, приближаясь к истине. Что, напр., мог сказать он вернее следующих, выказываемых им в одном месте слов: «Все телесное подвержено страданию»? [18]. Отсюда, он должен был изменить свое, несколько выше высказанное, мнение, что и Бог — тело. Ибо, думаю, не настолько же он был глуп, чтобы представлял и природу Бога подверженною страданию, чтобы считал и Христа не только во плоти, и притом по плоти и душе, но и в Самом Слове, которым сотворено все, подверженным страданию и изменяемым: мысль, которая да будет далека от христианского сердца! Равным образом, как скоро он приписывает душе воздушный и прозрачный цвет, дело доходит и до чувств, которыми он старается почленно снабдить душу, как тело: «Это, говорит, будет внутренний человек, а другой — внешний, один двояко, имея и первый свои глаза и уши, которыми народ должен был слушать и видеть Господа, и прочие члены, которыми он пользуется при мышлении и в сновидениях» [19].
42. Вот какими ушами и глазами должен был слушать и видеть Господа народ, вот какими душа пользуется во сне, хотя если бы кто–нибудь увидел во сне самого Тертуллиана, ни в каком случае не сказал бы, что и Тертуллиан видел его, разговаривал с ним, кого сам не видел! Затем, если душа видит себя во сне, хотя в то время, как члены её тела находятся в одном месте, сама она уносится в различные образы, которые видит, кто же когда–нибудь видел ее во сне облеченную воздушным и прозрачным цветом, кроме разве человека, который видит и все остальное точно так же ложно? Может он, конечно, видеть ее и такою, но пусть не считает такою пробудившись: в противном случае, т. е. если он будет видеть себя иначе, в большинстве случаев или изменяется уже его душа, иди же им видима бывает тогда не субстанция души, а бестелесный образ тела, который как бы слагается удивительным образом в его мышлении. Ибо, какой же эфиоп не видит себя во сне почти всегда черным, или, если бы увидал себя окрашенным в другой цвет, не был тем больше изумлен, если бы находился в памяти? Впрочем, я не знаю, видел ли бы кто–нибудь себя окрашенным в воздушный и прозрачный цвет, если бы никогда не читал и не слыхал о таком цвете…
43. Что же значит, что люди привязываются к подобным видениям и в свое оправдание ссылаются на Писания, что ничто подобное представляет собою не душа, но Сам Бог, каким Он образно являлся духу святых и каким представляется даже в аллегорической речи? Действительно, видения их имеют сходство с подобною речью. Но они ошибаются, составляя в своем сердце призраки пустого мнения и не понимая, что святые судили о своих видениях так же, как стали бы судить о них, если бы читали или слышали о них как об изреченных свыше, напр., о том, что семь колосьев и семь коров означают семь годов (Быт. XLI, 26), полотно, привязанное за четыре угла, или плащаница, полная разных животных, означает всю землю со всеми народами (Деян. X, 11), да и все прочее, в особенности то, что относительно бестелесных предметов обозначается телесными не вещами, а образами.
ГЛАВА XXVI
44. Впрочем, Тертуллиан не хотел [допускать], что душа по своей субстанции возрастает как тело, приводя даже и причину своего страха: «чтобы, замечает он, не сказали, что она возрастает по субстанции и, таким образом, не считали ее могущею умереть». Однако, растягивая ее по телу местным образом, он хотя и не полагает конца её возрастанию, но думает, что из малого семени она становится равною величине тела: «Сила её, говорит, в человеке, в котором сохраняются естественные дары, при здравом состоянии субстанции, действием Того, Кем она в начале была вдунута, возрастает постепенно вместе в плотию» [20]. Этого мы не поняли бы, если бы он сам не пояснил нам своих слов при помощи сравнения из области видимых предметов: «Возьми, говорить, известной тяжести кусок золота или серебра в необработанной массе: в нем сосредоточено свойство [металла] и хотя в меньшем сравнительно с будущим виде, но содержится все, что принадлежит природе золота или серебра; затем, когда масса растягивается в лист, она становится больше, чем в начале, но чрез расширение, а не прибавление известной тяжести, растягиваясь, а не увеличиваясь, хотя растягиваясь она в то же время и увеличивается. Ибо она может увеличиваться не по объему, а по качеству. Так, возвышается самый блеск золота или серебра, который существовал и раньше, но был темнее, хотя и не совсем отсутствовал; прибавляются и другие новые свойства по мере обработки материи, до которой доводит ее мастер, сообщая её объему только наружный вид. Так надобно понимать и возрастание души, т. е. в смысле не субстанции, а проявления'' [21].
45. Кто бы поверил, что с таким [легким] сердцем он мог быть в такой степени красноречивым? Но надобно ужасаться, а не смеяться этому. В самом деле, пришел ли бы он к подобного рода воззрениям, если бы мог мыслить, что есть нечто такое, что и существует и не есть тело? Между тем, что может быть нелепее мысли, будто масса какого–нибудь металла может возрастать с одной стороны не иначе, как убывая с другой, или увеличиваться в длину не иначе, как умаляясь в толщину, или — что существует такое тело, которое, сохраняя качества своей природы, со всех сторон возрастает не иначе, как делаясь более и более разреженным? Каким же образом, сравнивается, из капли семени душа наполнит величину одушевляемого ею тела, если она и сама тело, субстанция которого не увеличивается никакими приростами? Каким образом, говорю, наполнит она плоть, которую одушевляет, если не будет тем все реже и реже, чем больше и больше становится то, что она оживляет? Тертуллиан боялся, как бы не допустить в душе недостатка со стороны уменьшаемости, допустив, что она возрастает, и в то же время не побоялся допустить в ней недостаток со стороны разрежаемости, раз она возрастает. Но к чему мне долго останавливаться на этом пункте, когда и речь моя затянулась настолько, что надобно уже ее окончить, и мнение мое, чего мне держаться, или с какой стороны сомневаться и почему сомневаться, достаточно уже выяснилось? Поэтому закончим и эту книгу, чтобы перейти к рассмотрению дальнейшего.
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
1. И беста оба нага, Адам же и жена его, и не стыдястася. Змий же бе благоразумнейший из всех зверей сущих на земли, иже сотвори Господь Бог. И рече змий жене: что яко рече Бог: да не ясте от всякаго древа райскаго? И рече жена змию: от плода древа, которое в раю, ясти будем, от плода же древа, еже есть посреде рая, рече Бог, да не ясте, от него, ниже прикоснетеся ему, да не умрете. И рече змий жене: не смертию умрете. Ведяше бо Бог, яко в оньже… день снесте от него, отверзутся очи ваша, и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое. И виде жена, яко добро древо в снедь, и яко угодно очима видети, и красно есть еже разумети: и вземши от плода его, яде: и даде мужу своему с собою и ядоста. И отвервошася очи обема и разумеша, яко нази беша: и сшиста листвие смоковное, и сотвориста себе препоясания. И услышаста глас Господа Бога ходяща в раи к вечеру: и скрыстася Адам же и жена его от лица Господа Бога посреде древа райскаго. И призва Господь Бог Адама и рече ему: Адаме, где ecu? И рече Ему: глас слышах Тебе ходяща в раи, и убояхся, яко наг есмь и скрылся. И рече ему Бог: кто возвести тебе, яко наг ecu, аще не бы от древа, егоже заповедах тебе сего еди–наго не ясти, от него ял еси? И рече Адам: жена юже дал еси со мною, та ми даде от древа, и ядох. И рече Господь Бог жене: что сие сотворила ecu? и рече жена: змий прельсти мя, и ядох. И рече Господь Бог змию: яко сотворил ecu сие, проклят ты от всех скотов, и от всех зверей, сущих на земле. На персех твоих и чреве твоем ходити будеши и землю снеси вся дни живота твоего. И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим и семенем тоя: она твою блюсти будет главу, и ты будеши блюсти его пяту. И жене рече: умножая умножу печали твоя, и воздыхания твоя: в болезнех родиши чада: и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладати будет. Адаму же рече: яко послушал ecu гласа жены твоея, и ял ecu от древа, егоже заповедах тебе сего единаго не ясти, от него ял ecu: проклята земля в делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от неяже взят еси, яко земля ecu и в землю отидеши. И нарече Адам имя жене своей, Жизнь, яко та мати всех живущих. И сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаны, и облече их. И рече Бог: се Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою и возмет от древа жизни, и снест, и жив будет во веки. И изгна его Господь Бог из рая удовольствия делати землю, от неяже взять бысть. И изрине Адама, и всели его прямо рая удовольствия: и пристави Херувима и пламенное оружие обращаемое хранити путь древа жизни.
2. Прежде, чем приступим к рассмотрению текста приведённого Писания по–порядку, мы, думается мне, должны (как уже, помнится, раньше я и говорил об этом в настоящем произведении) напомнить о том, что для нас обязательно защищать события, о которых повествует сам писатель, в буквальном смысле. Если же в словах Бога или какого–либо, облеченного пророческим служением, лица выражается нечто такое, что при буквальном понимании было бы нелепо, тогда конечно надобно признать их за сказанное в переносном смысле ради какого–нибудь преобразования; но что оно сказано, в том, во всяком случае, нельзя сомневаться: за это ручаются и добросовестность писателя и обещание изъяснителя.
3. Итак, беста оба нага (а несомненно, что тела обоих, обитавших в раю, людей были наги) и не стыдястася. Ибо чего им было стыдиться, когда в своих членах они не ощущали никакого закона, противовоюющего закону ума их (Рим. VII, 23)? Это наказание за грех явилось в них уже после совершения преступления, как нечто возбраненное своевольным непослушанием и попущенное наказующею правдою. Прежде же чем это случилось, они, как сказано, были наги, и не стыдились: в их теле не было ни одного движения, которого им следовало бы стыдиться; они не считали нужным покрываться, потому что не чувствовали ничего, что надобно было обуздывать. Вопрос, как они рождали бы детей, уже рассмотрен раньше (выше, кн. IX, гл. 3–11); во всяком случае, надобно думать, не так, как они начали рождать после, когда за учиненным преступлением последовало предизреченное отмщение, хотя, впрочем, еще раньше, чем они начали умирать, зародыш смерти по справедливейшему [закону] отражения уже начал производить в теле ослушавшихся людей возмущение непослушных членов. Но Адам и Ева не были еще такими, когда оба были наги и не стыдились.
ГЛАВА II
4. Змий же бе там благоразумнейший, но из всех зверей, сущих на земли, иже сотвори Господь Бог. — Благоразумнейшим или, как стоит во многих латинских кодексах, мудрейшим он назван в переносном смысле слова (а не в собственном, в каком принимается обыкновенно в добрую сторону мудрость Бога ли, или ангелов, или разумной души), подобно тому, как мы называем мудрыми пчел и даже муравьев за их действия, представляющие подобие мудрости. Впрочем, змий тот может быть назван мудрейшим из всех зверей не по своей неразумной душе, а по чужому, т. е. диавольскому, духу. Ибо хотя ангелы–отступники и свергнуты с горних седалищ за свою извращенность и гордость, однако по превосходству своего разума они гораздо выше всех зверей. А что же удивительного, если диавол, исполнив змия своим инстинктом и сообщив ему свой дух, как обыкновенно исполняет он демонских пророков, сделал его мудрейшим из всех зверей, живущих сообразно с живой и неразумной душою? Ибо метафорически мудрость именуется в дурном смысле так же, как хитрость — в добром; хотя в собственном и наиболее употребительном в латинском языке значении мудрыми называются в похвальном смысле, а под хитрыми разумеются умные в дурном. Отсюда, как мы встречаем во многих кодексах, некоторые, употребляя по обычаю латинской речи в переносном смысле не слово, а скорее значение, предпочитают называть этого змия хитрейшим, нежели мудрейшим из всех зверей. А что означает в буквальном смысле еврейское слово и могут ли быть названы по–еврейски мудрые в дурном, не иносказательном, а собственном смысле, пусть смотрят те, которые хорошо знают еврейский язык. Впрочем, в другом священном Писании мы ясно читаем о мудрых и в дурном, а не в хорошем смысле (Иер. IV, 22), и Господь называет сынов века сего более мудрыми, чем сынов света (Лук. XVI, 8), в смысле забот о самих себе, впрочем обманным, а не законным образом.
ГЛАВА III
5. Само собою понятно, мы не должны думать, что диавол сам избрал змия, при посредстве которого он мог искусить и склонить ко греху. Хотя, по причине извращенной и завистливой воли, в нем не было желания обольстить, однако он мог это [сделать] только при посредстве того животного, чрез которое ему попущено было совершить обольщение. Ибо во всяком духе может быть извращенная воля вредить, но власть [вредить] только от Бога и потому от сокровенного и высшего правосудия, так как у Бога нет несправедливости.
ГЛАВА IV
6. Поэтому, если спросят, почему Бог попустил подвергнуть человека искушению, хотя и предвидел, что он уступит искусителю, то я не могу проникнуть в глубину этого совета и признаюсь, что он превышает мои силы. Есть, может быть, некая сокровеннейшая тому причина, которая блюдется для людей лучших и более святых и скорее по благодати Божией, нежели по их заслугам. Насколько, однако, мне Богом предоставлено иметь разумение или дозволено говорить, человек, мне кажется, не заслуживал бы большей похвалы, если бы мог жить добродетельно потому только, что никто бы не склонял его жить порочно, раз он имел и в природе возможность и в воле желание не следовать внушению, при помощи, впрочем, Того, Кто гордым противится, смиренным же подает благодать (Иак. IV, 6). Итак, почему же бы Бог не попустил подвергнуть человека искушению, хотя и предвидел, что он уступит [искусителю], раз человек добровольно имел это сделать по своей вине и должен был стать предметом правосудного промышления чрез наказание, дабы Бог и таким образом мог показать гордой душе, к назиданию будущих святых, насколько Он правильно пользуется даже и злою волею душ, тогда как они превратно пользуются добрыми природами?
ГЛАВА V
7. Не должны мы думать и так, что искуситель совратил бы человека, если бы в душе этого последнего не было некоторого превозношения, которое необходимо было обуздать, чтобы путем унижения чрез грех он научился, как ошибочно превозносился. Ибо весьма истинно сказано: «Прежде падения сердце превозносится и прежде славы смиряется» (Притч. XVI, 18). Может быть, голос этого именно человека и слышится в Псалме: Аз рех во обилии моем: не подвижуся во век (Пс. 29, 7). Затем, наученный уже опытом, сколько зла в гордом превозношении собственною силою и сколько блага в помощи со стороны благодати Божией, он говорит: Господи, волею твоею подаждь доброте моей силу, отвратил же ecu лице твое, и бых смущен (ст. 8). Но о нем ли или ином человеке так сказано, во всяком случае душе превозносящейся и слишком, так сказать полагающейся на свою собственную силу надобно было путем испытания наказам дать почувствовать, как нехорошо бывает для сотворенной природы, если она отвращается от своего Творца. Этим–то преимущественно путем и внушается, какое благо представляет Собою Бог, как скоро никому, от Него отвращающемуся, не бывает хорошо; потому что и те, которые услаждаются смертоносными удовольствиями, не могут быть свободными от страха скорбей, и те, которые, вследствие большей оцепенелости гордости, решительно не чувствуют зла своего отпадения, на взгляд других, могущих замечать подобное состояние, представляются совершенно несчастнейшими; так что если сами не хотят принять лекарства для избежания такого состояния, то пусть служат примером для избежания его другими. Ибо, как говорит Апостол Иаков, кийждо искушается, от своея похоти влеком и прельщаем. Таже похоть заченши раждает грех, грех же содеян раждает смерть (I, 14, 15). Исцелившись этим примером от язвы гордости, человек восстановляется, если его воля, которая прежде была слаба пребывать с Богом, стала после испытания сильна по крайней мере возвратиться к Богу.
ГЛАВА VI
8. Между тем, вопрос об искушении первого человека с той стороны, что Бог попустил ему совершиться, смущает некоторых в такой мере, как будто они и теперь не видят, что весь род человеческий постоянно искушается коварством диавола. Почему же Бог допускает и это? Не потому ли, что таким образом укрепляется и упражняется добродетель и что награда за нее бывает гораздо славнее в том случае, если она не поддалась искушению, нежели в том, если не могла быть подвергнута искушению, так как те, которые, оставив Творца, идут за искусителем, в свою очередь и сами более и более искушают остающихся верными слову Божию, представляют им пример для уклонения от пожелания и внушают благочестивый страх пред гордостью. Отсюда Апостол говорит: блюдый себе, да не и ты искушен 6удеши (Гал. VI, 1). Ибо удивления достойно, с какою постоянною заботою всеми божественными Писаниями внушается нам это смирение, которое делает нас покорными Творцу, дабы мы не полагались на собственные силы, как бы не нуждаясь в Его помощи. Итак, если чрез неправедных усовершаются даже и праведные и чрез нечестивых благочестивые, то напрасно говорят: «Пусть бы Бог не творил тех, которые, как Он предвидел, будут злыми». Ибо почему же Ему не творить тех, которые, как Он предвидел, будут полезны добрым, рождаясь для полезной цели упражнения и вразумления добрых волей и правосудно наказываясь за свою злую волю?
ГЛАВА VII
9. «Пусть бы, говорят, Он сотворил человека таким, который бы совершенно не хотел грешить». — Да, мы согласны, что та природа лучше, которая совершенно не хочет грешить: пусть же согласятся и они, что не зла и та природа, которая сотворена так, что могла бы, если захотела, не грешить, и что правосуден приговор, которым она наказана, согрешив по воле, а не по необходимости. Отсюда, как здравый разум нас учит, что та природа лучше, которую не прельщает уже ничто недозволительное, так здравый же разум учит, что добра и та природа, которая может обуздывать недозволительное увлечение, буде оно в ней появляется, услаждаясь не только всем дозволительным и правильно содеянным, но даже и обузданием самого этого порочного увлечения. Итак, если эта природа добра, а та лучше, то почему бы Бог сотворил ту только одну, а не обе? Поэтому те, которые готовы прославлять Бога за ту одну, тем более должны прославлять Его за обе. Первая принадлежит святым ангелам, а последняя — святым людям. Что же касается тех, которые предпочли порочность и по собственной предосудительной воле извратили достохвальную природу, то они должны были быть сотворены отнюдь не потому, что такими их Бог предвидел. Они имеют свое место, которое занимают в мире к пользе святых. Ибо Сам Бог не нуждается ни в праведности добродетельного человека, ни тем менее в неправедности порочного.
ГЛАВА VIII
10. Кто же, руководствуясь здравым смыслом, скажет: «Лучше бы Бог не творил уже того, кто, как Он предвидел, может исправиться при посредстве порочности другого, нежели творить еще и того, кто, как Он предвидел, должен быть за свою порочность наказан». — Это значило бы сказать, что лучше уже не быть тому, кто, пользуясь хорошо злом другого, получит по милосердию венец, нежели быть еще и тому, кто по заслуге будет правосудно наказан. Ибо если здравый разум указывает два известные блага не равные, а одно высшее, другое же низшее, то, говоря: «Пусть то и другое из них будет таким–то», не понимают но тупости сердца, что это значило бы сказать: «Пусть будет одно только это». Но раз хотят подобным образом уравнять два рода благ, уменьшают число их и, увеличивая без меры один род, вычеркивают другой. А кто же станет слушать их, если они скажут: «Так как чувство зрения превосходнее чувства слуха, то пусть будут четыре глаза и ни одного уха»? Точно так же если превосходнее та разумная природа, которая покорна Богу помимо всякого примера наказаний, помимо гордости; напротив, в людях она сотворена так, что может познавать благодеяние Божие к себе не иначе, как видя только наказание другого, не высокомудрствуя, но бояся (Рим. XI, 20), т. е., не на себя полагаясь, а возлагая упование на Бога: то кто же с здравым смыслом скажет: «Пусть будет и эта такою же, как та», и не поймет, что это значило бы сказать: " Пусть этой не будет, а будет только одна та»? Если же так сказать невежественно и глупо, то почему же не может Бог творить и тех, которые, как Он предвидел, будут злыми, желая показать гнев и явить могущество Свое и потому с великим долготерпением щадя сосуды гнева, готовые к погибели, дабы явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе (Рим. IX, 22–23)? Таким образом, хваляйся о Господе да хвалится (2 Кор. X, 17), сознавая, что не только бытие его не от него самого, а от Бога, но и благобытие его от Того же. от Кого и бытие.
11. Итак, крайне неуместно говорят: «Пусть не будет тех, которым бы Бог сообщал такое благодеяние Своего милосердия, если они могут быть только при бытии тех, на которых бы проявлялось правосудие отмщения».
ГЛАВА IX
Ибо почему же не могут быть и те и другие, когда в тех и других обнаруживаются и благость и правосудие Божие?
12. С другой стороны, если бы Бог хотел, то были бы добрыми и злые. Тем лучше восхотел Он, чтобы они были такими, какими хотят быть сами, но чтобы при этом добрые не оставались бесплодными, а злые безнаказанными и тем бесполезными для других. Но Он предвидел, что воля их будет злою? — Конечно, предвидел, и так как Его предведение погрешать не может, то зла не Его, а их воля. Почему же Он сотворил их, хотя и предвидел, что они будут такими? — Потому, что предвидит и то, сколько они сделают зла, и то, сколько из их деяний извлечет Он добра. Ибо Он сотворил их так, что у них остается нечто такое, благодаря чему они могут делать кое–что и сами и что бы предосудительного ни избрали, могут однако находить Его действующим в них похвально. Злую волю они имеют от себя, от Него же — добрую природу и правосудное наказание, [занимая] должное им место и [служа] другим опорой для упражнения и примером для страха.
ГЛАВА X
13. Но, говорят, Он мог обратить и волю их на добро, потому что всемогущ. — Конечно, мог. Почему же не сделал так? Потому что не хотел. А почему не хотел, это Его дело. Мы должны не мудрствовати паче, еже подобает мудрствовати (Рим. XII, 3). Но несколько выше мы, полагаю, достаточно показали, что не малое благо представляет собою даже и та разумная природа, которая избегает зла путем сравнения зол; а этого рода доброй природы, конечно, не было бы, если бы Бог обратил все злые воли во благо и не карал порочности заслуженным наказанием: в таком случае оставался бы тот только один род [доброй природы], который остается совершенным без всякого сравнения греха и наказания за зло. Таким образом, с уничтожением так сказать численности превосходнейшего рода умалялось бы число самых родов [доброй природы].
ГЛАВА XI
14. Значит, говорят, в делах Божиих есть нечто такое, что нуждается во зле другого, которым Бог пользуется ко благу? — Можно ли людям настолько быть глухими и ослепленными какою–то, не знаю, страстью к спору, чтобы не слышать и не видеть того, как многие исправляются при виде наказаний других? Какой язычник, какой иудей, какой еретик не испытывает этого ежедневно в своем доме? Между тем, когда дело доходит до рассмотрения и наследования этой истины, люди не хотят и знать, от какого действия божественного промышления происходит в них это возбуждение к восприятию дисциплины, [забывая], что, если даже наказываемые и не исправляются, все же примером их держатся в страхе остальные и правосудная гибель других споспешествует их спасению. Ужели же Бог — виновник злобы и непотребства тех, правосудное наказание которых Он направляет к пользе других, о коих решил пещись именно таким образом? Хотя Он и предвидел, что они по собственной порочной воле будут злыми, однако не отказался сотворить их, имея в виду пользу тех, которых Он сотворил такими, что они могут преуспевать в добре не иначе, как имея пред собою пример злых. Ибо если бы не было этих, то те, конечно, были бы совершенно бесполезны. А разве маловажное дело, чтобы существовали те, которые несомненно полезны этому роду, и всякий, кто хочет, чтобы существовал этот род, чего другого хочет, как не того, чтобы и самому не быть в нем?
15. Велия дела Господня, изыскана во всех волях Его (Пс. 110, 2): предвидит, что будут добрыми, и творит; предвидит, что будут злыми, и творит, добрым предоставляя Самого Себя для наслаждения, а злых ущедряя многими своими милостями, милосердо прощая и правосудно карая, а также милосердо карая и правосудно прощая, нисколько не боясь ничьей злобы и нисколько не нуждаясь ни в чьей праведности, ничего не извлекая для Себя даже из дел добрых и обращая самые наказания ко благу добрых. Почему же бы Он не попустил искусить человека, которого путем этого искушения надобно было испытать, победить и наказать, раз высокомерным вожделением собственной власти он достиг того, что раньше задумал, своим деянием привел себя в расстройство, а правосудным наказанием внушал ко злу гордости и неповиновения страх в своих потомках, которым эта история должна была быть описана и поставлена в известность?
ГЛАВА XII
16. Если же спросят, почему диаволу попущено было совершить искушение именно чрез змия, то кого же не убедит Писание, что сделано так не без значения, — Писание столь высокого авторитета, пользующееся в пророческих целях столькими же доказательствами божества, сколькими наполнен действиями мир? Не то [мы хотим сказать], что диавол желал показать нам что–нибудь для нашего назидания; но так как он не мог приступить к искушению иначе, как по попущению, то и сделать это мог только при том посредстве, которое ему было дозволено. Отсюда, что бы ни значил змий, все это надобно приписывать тому промышлению, находясь под властью которого диавол хотя и имел желание вредить, но способность вредить получает только ту, которая дается ему или для совращения и погибели сосудов гнева, или для смирения и утверждения сосудов милосердия. Мы знаем, откуда происходит природа змия; по слову Божию, земля произвела скотов, зверей и пресмыкающихся, и вся эта тварь, имея в себе живую неразумную душу, по закону божественного промышления подчинена разумной, доброй или злой природе (Быт. I, 20–26). Что же удивительного, если диаволу попущено было совершить нечто при посредстве змия, когда и Христос попустил демонам войти в свиней (Mф. VIII, 32)?
ГЛАВА ХIII
17. Еще более тонкие вопросы поднимаются обыкновенно о самой природе диавола, которую некоторые еретики, поражаясь бесконечно–злою волею его, стараются совсем вывести из ряда тварей всевышнего я истинного Бога и дать ему другое, противное Богу, начало. Очи не могут понять, что все существующее, поскольку оно есть какая–нибудь субстанция, представляет собою нечто доброе и может быть только от того истинного Бога, от Которого происходит все доброе, но злая воля движется беспорядочно, предпочитая низшие блага высшим; так и произошло, что дух разумной природы, увлекшись по превозношению своею властью, надмился гордостью, вследствие которой и лишился блаженства духовного рая и начал мучиться завистью. Однако и в нем есть нечто доброе и именно то, что он живет и оживляет тело — воздушное ли, как дух самого диавола или демонов, или же земное, как душа какого–нибудь злого и извращенного человека. Таким образом, не допуская, чтобы что–нибудь сотворенное Богом грешило, они называют субстанцию Самого Бога поврежденною и извращенною, сначала по необходимости, а потом и упорно по воле. — Но об этом безумнейшем заблуждении их мы уже сказали многое в другом месте.
ГЛАВА XIV
18. В настоящем же произведении мы должны вести речь о диаволе на основании свящ. Писания. И, прежде всего, с самого ли начала мира, увлеченный своею властью, он отпал от того общества и той любви, какими блаженны ангелы, услаждающиеся Богом. или же он находился некоторое время в сонме ангелов, будучи и сам также праведным и блаженным? Некоторые говорят так, что он ниспал с высших степеней, позавидовав человеку, сотворенному по образу Божию. Но ведь зависть следует из гордости, а не предшествует ей: так как не зависть — причина гордости, а гордость — зависти. Отсюда, так как гордость есть любовь к собственному превосходству, а зависть — отвращение к чужому благополучию, то ясно, что от чего рождается. Ибо вследствие любви к собственному превосходству каждый завидует или равным себе за то, что они ему равны, или низшим, чтобы они не были ему равными, или высшим, что сам им не равен. Итак, от гордости каждый бывает завистлив, а не от зависти — горд.
ГЛАВА XV
19. Отсюда, Писание определяет гордость, как начало всякого греха, говоря: Начало всякого греха гордыня (Сир. X, 15). С этим свидетельством согласуется и то, что говорит Апостол: Корень всем злым сребролюбие есть (1 Тим. VI, 10), если в этом случае понимать вообще жадность, вследствие которой каждый желает чего–либо больше, чем следует, во имя своего превосходства и по причине некоторой любви к собственности, — любви, которой латинский язык мудро дал имя, назвав ее частною (privatus), так как, очевидно, свое имя она получила скорее от потери, чем прибытка. Ибо всякая потеря части (privatio) делает меньшим. Отсюда, чем гордость хочет возвыситься, то повергает ее в тесноту и недостаточность, как скоро предосудительною любовью к себе она направляется от общего к своему собственному. Но есть жадность особенная, которая называется сребролюбием. Обозначая этим названием частный вид, Апостол хотел дать понять, что, говоря: Корень всем злым сребролюбие есть, он разумеет вообще жадность. Ибо вследствие жадности пал и диавол, который любил конечно не деньги, а собственную власть. Посему превратная любовь к себе лишает возгордившийся дух святого общества и, когда он желает уже пресытиться от неправды, повергает его в злополучие. Отсюда, в другом месте сказав: будут бо человецы самолюбцы (2 Тим. III, 2), Апостол вслед затем прибавляет: сребролюбцы, переходя от жадности в общем смысле, глава которой — гордость, к жадности в частном смысле, которая свойственна людям. Ибо люди не были бы и сребролюбцами, если бы не считали себя превосходнее богатых. Противоположная этому недугу любовь не ищет своих си (1 Кор. XIII, 5), т. е. не услаждается частным превосходством, а потому и не превозносится.
20. Эти два рода любви, из коих одна святая, а другая нечистая, одна общественная, а другая частная, одна пекущаяся об общей пользе во имя высшего общества, а другая даже и общее благо направляющая к собственной власти во имя самолюбивого господствования, одна покорная Богу, а другая страстная, одна мирная, а другая мятежная, одна предпочитающая истину похвалам заблуждающихся, а другая жадная ко всевозможным похвалам, одна дружелюбная, а другая завистливая, одна желающая ближнему того же, чего и себе, а другая желающая подчинения ближнего себе самой, одна управляющая ближним во имя пользы ближнего, а другая — во имя своей пользы, — эти два рода любви существовали еще в ангелах, один в добрых, а другой в злых, и положили различие между двумя градами, образовавшимися в человеческом роде под дивною и неизреченною властью управляющего всею тварью промысла Божия, — град праведных и град нечестивых. Из их временного смешения проходит [настоящий] век, пока на последнем суде они будут разделены и один, соединившись с добрыми ангелами, наследует с своим Царем вечную жизнь, а другой, соединившись со злыми ангелами, будет отослан с своим царем в огонь вечный. — Об этих двух градах, если благоволит Господь, мы, может быть, скажем подробнее в другом месте.
ГЛАВА XVI
21. Когда же именно гордость склонила диавола извратить порочною волею свою добрую природу, об этом Писание не говорит нам; впрочем, очевидное соображение показывает, что это случилось раньше, а потом уже он позавидовал человеку. Ибо для всех, останавливающих на этом предмете свое внимание, очевидно, что не от зависти рождается гордость, а от гордости зависть. А не без основания можно думать, что в гордость диавол впал искони времен и что не было раньше времени, когда бы он жил мирно и блаженно с ангелами, но что он отпал от своего Творца с самого начала; так что в словах Господа: он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит (Иоан. VIII. 44), «искони» надобно понимать в приложении к тому и другому, не только к тому, что он был человекоубийцею, но и к тому, что не устоял в истине. Впрочем, человекоубийцею он стал с того времени, с какого мог быть убит человек, а человек не мог быть убит раньше, чем явился тот, кого можно было убить. Таким образом, диавол — «человекоубийца искони» потому, что убил первого человека, раньше которого не было никого из людей. В истине же он не устоял с самого того времени, с которого был сотворен сам он, который мог бы, если бы захотел, устоять в ней.
ГЛАВА XVII
22. А как возможна мысль, что тот наслаждался блаженною жизнью среди блаженных ангелов, кто наперед не знал о будущем своем грехе и наказании за него, т. е. отпадении и вечном огне? Если же он наперед об этом не знал, то естественно спросить, почему не знал? Святые ангелы знают же о своей вечной жизни и о своем блаженстве. Ибо как бы они были блаженны, если бы не имели этого знания? Разве, может быть, скажем, что Бог не хотел ему открыть, когда он был еще добрым ангелом, ни того, чем он будет, ни того, что ему предстоит терпеть; тогда как остальным открыл, что они вечно пребудут в Его истине? А если так, значит — он не был блажен в равной с ними степени, даже совсем не был блажен, потому что вполне блаженные уверены в своем блаженстве, так что не смущаются уже никаким страхом. Каким же злом он отличался от остальных так, что Бог не открыл ему того будущего, которое его касалось? Неужели Бог был мстителем раньше, чем диавол стал грешником? Да не будет! Бог не наказывает невинных. Разве, может быть, диавол принадлежал к другому роду ангелов, которым Бог не сообщил предведения их будущего? Но я не понимаю, как могли бы они быть блаженными, если бы им не известно было их собственное блаженство. Думали некоторые, что диавол принадлежал не к той высшей природе ангелов, которые превыше небес, а к природе тех, которые были сотворены и облечены служением в несколько низшей части мира. Допустим, что такие ангелы могли увлечься чем–нибудь и недозволительным; однако подобное увлечение они, если бы не захотели грешить, могли бы обуздать при помощи свободной воли, как и — человек, в особенности первый человек, еще не имевший в членах наказаний за грех, так как, при помощи благодати Божией, даже и это наказание превозмогается благочестием святых, преданных Богу, людей.
ГЛАВА XVIII
23. Затем, вопрос, может ли быть назван кто–либо блаженным, кому неизвестно, будет ли он постоянно проводить блаженную жизнь, или же когда–нибудь она сменится для него злополучием, — вопрос этот может возникнуть и относительно блаженной жизни самого первого человека. В самом деле, если он знал наперед о своем будущем грехе и божественном наказании, то как же он мог быть блаженным? Стало быть, в раю он не был блаженным. Но, может быть. он не знал о будущем грехе своем? Стало быть, вследствие этого незнания он или не уверен был в своем блаженстве, и в таком случае каким образом был истинно блаженным? или уверен ложною надеждой, и в таком случае каким образом не был глупым?
24. Но мы можем однако иметь представление о блаженной в своем роде жизни человека, который находится еще в душевном теле и которому за послушную жизнь должны быть даны сообщество ангелов и изменение душевного тела в духовное, хотя бы он и не знал о будущем грехе своем. Ибо не знали этого и те, которым Апостол говорит: Вы духовнии исправляйте таковаго духом кротости, блюдый себе, да не и ты искушен будеши (Гал. VI, 1), и тем не менее нисколько не будет странным и нелепым, если мы скажем, что они были блаженными потому уже, что были духовными, не телом, а праведностью веры, упованием радующеся, скорби терпяще (Рим. XII, 12). Тем больше и полнее был блажен в раю первый человек, хотя и не знал о своем будущем падении, так как награда будущего изменения наполняла его такою радостью, что в нем не было никакой скорби, для перенесения которой ему нужно было бы терпение. Ибо его уверенность была не тщетным упованием на неизвестное, как у глупого, но верующею надеждою; прежде чем достигнуть той жизни, когда ему надлежало бы быть вполне уверенным в своей вечной жизни, он мог радоваться, как написано, с трепетом (Псал. 2, ст. 11), и этою радостью быть в раю гораздо больше блаженным, чем блаженны святые в настоящей жизни, некоторым, конечно, низшим образом, чем будут блаженны святые в вечной жизни святых и пренебесных ангелов, но во всяком случае — своим образом.
ГЛАВА XIX
25. Сказать же о некоторых ангелах, что они могли быть в своем известном роде блаженными, не будучи уверены в своей будущей несправедливости и в осуждении, или, по крайней мере, в постоянном благополучии, так как для них в таком случае не существовало бы надежды, что и они некогда вследствие известного изменения на лучшее будут в этом уверены, — сказать так едва ли допустимо; разве уже мы скажем, что эти ангелы так были сотворены и в своем мировом служении подчинены другим более высшим и блаженным ангелам, чтобы за правильное прохождение возложенных на них обязанностей могли получить ту блаженную и высшую жизнь, относительно которой могли бы быть вполне уверены и, радуясь надеждой на которую, могли бы быть уже названы блаженными. Если из числа их ниспал диавол с сообщниками своей неправды, то это подобно тому, как отпадают от праведности веры и люди, которые уклоняются с правого пути вследствие подобной же гордости, или обольщая самих себя, или же послушно следуя за тем же обольстителем.
26. Но пусть, кто может, утверждает эти два класса ангелов — пренебесных, в числе которых никогда не был тот, кто вследствие падения стал диаволом, и мирских, в числе которых он находился, — я с своей стороны признаюсь, что пока не встретил данных утверждать эти два класса на основании Писаний, но в виду вопроса, знал ли диавол прежде, чем пал, о своем падении, я, чтобы не сказать, будто ангелы теперь не уверены или были когда–нибудь не уверены в своем блаженстве, высказался так, что есть основание думать, что диавол пал и не устоял в истине с самого начала творения, т. е. или с самого начала времени, или с начала своего создания.
ГЛАВА XX
27. Отсюда, некоторые полагают, что он впал в эту злобу не по своей свободной воле, а был и сотворен с нею, хотя сотворен всевышним и истинным Господом Богом, Творцом всех природ, и приводят свидетельство из книги Иова, в которой, когда речь идет о диаволе, написано (XL 14 по XXL): Си есть начало создания Господня: сотворен поруган быти ангелы Его (а этому изречению соответствует написанное в Псалме: Змий сей, егоже создал ecu ругатися ему [Пс. 103 26], если только выражение: егоже создал ecu тожественно с выражением: Си есть начало создания Господня, т. е. как бы так, что Богом в начале он создан злым, завистливым, обольстителем, совершенно диаволом, не своею волею развратился, а таким и сотворен.
ГЛАВА XXI
28. Но как согласить это мнение с написанным, что Бог сотворил все добро зело (Быт. 1, 31)? Правда, они стараются оправдать себя и с некоторой нескладицей и ненаучностью утверждают, что не только в первом своем творении, но даже и в настоящее время, при существовании стольких развращенных волей, в общем все сотворенное, т. е. вся решительно тварь, добро зело не потому, что злые в ней добры, а потому, что они не проявляют своей злости настолько, чтобы красота и порядок вселенной под властью, премудростью и силой Бога–Промыслителя, безобразились и нарушались в какой–либо части, ибо каждой из волей, даже и злой, определены известные и соответственные границы власти и известное количество заслуг, так что и при существовании этого рода волей, соответствующим и справедливым образом упорядочиваемых, вселенная остается прекрасною. Но так как каждому представляется истинным и очевидным, что было бы противоречием справедливости, если бы Бог без всякой предшествующей заслуги осуждал в ком–либо то, что Сам Он сотворил, и так как об осуждении диавола и ангелов его мы встречаем несомненный и ясный рассказ в Евангелии, в котором Господь предвозвестил, что Он скажет сущим ошуюю Его: Идите… во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его (Mф. XXV, 41): то во всяком случае надобно думать, что осуждения на вечный огонь должна ожидать с диаволом не природа, которую сотворил Бог, а собственная его злая воля.
ГЛАВА XXII
29. И словами: Си есть начало создания Господня: сотворен поруган быти ангелы Его указывается вовсе не на природу его, а или на воздушное тело, которым Бог приличным образом снабдил подобную волю, или на тот порядок, по которому Он сотворил его невольным орудием пользы для добрых, или на то, что хотя Бог и предвидел, что он будет злым по собственной своей воле, однако сотворил его, не щадя Своей благости для жизни и субстанции, которая должна будет обнаружить себя вредною волею, и в то же время предвидя, сколько добра Он сделает из неё по Своей удивительной благости. Началом же создания Господня, которое Бог сотворил быть поруганным ангелами Его, он назван не потому, что Бог первоначально или в начале создал его злым, а потому, что хотя Бог и знал, что диавол по своей воле будет злым, дабы вредить добрым, однако сотворил его, дабы он тем самым был полезен добрым. Ибо это и значит для диавола быть поруганным ангелами Его, что, когда приносят святым пользу его искушения, которыми он старается совратить их, он остается поруганным так, что злоба, в которой захотел он сам быть, против его воли является полезною для рабов Божиих: предвидя это, Бог и сотворил его. А началом для поругания он [назван] потому, что и злые люди, сосуды диавола и как бы тело головы его, о которых хотя Бог и предвидел, что они будут злыми, однако сотворил их для пользы святых, точно таким же образом бывают поруганы, когда, не смотря на их желание вредить, примером их внушается святым предостережение, благоговейная покорность Богу, разумение благодати, упражнение в терпимости по отношению к злым и в любви ко врагам. Но началом создания, которое подвергается такому поруганию, он является потому, что превосходит их и древностью времени, и первенством злобы. Это поругание устрояет ему Бог через святых ангелов, по действию Своего промышления, по которому Он управляет сотворенными природами, подчиняя злых ангелов добрым так, чтобы нечестие злых, и притом злых не только ангелов, но и людей, имело силу не настолько, насколько оно стремится иметь ее, а насколько допускается, доколе та самая правда, которою бывают живы от веры (Рим. I, 17) и которая в настоящее время с долготерпением обнаруживается на людях, обратится на суд (Пс. 98, 15), дабы и они могли судить не только двенадцать колен Израиля (Mф. XIX, 28), но и самих ангелов (1 Кор. VI, 3).
ГЛАВА XXIII
30. Таким образом, мысль, что диавол никогда не стоял в истине и что он никогда не проводил блаженной жизни с ангелами, а пал с самого начала своего сотворения, надобно понимать так, что он развратился по собственной воле, а не сотворен Богом злым; в противном случае не следовало бы и говорить, что он искони пал (Иоан. VIII, 44), ибо он не пал, раз таким и сотворен. Но будучи сотворен, он постоянно отвращается от света истины, надмеваясь гордостью и развращаясь вожделением собственной власти; почему он не вкусил сладости блаженной и ангельской жизни, которой он не возгнушался, уже получив ее, а оставил и обошел ее, не пожелав принять. Отсюда, он не мог наперед знать о своем падении, так как мудрость есть плод благочестия. Он же, будучи постоянно нечестивым и, следовательно, по уму слепым, отпал не от того, что уже получил, но от того, что получил бы, если бы пожелал быть покорным Богу, а так как он этого не пожелал, то и от того отпал, что имел получить, и от Того не укрылся, Кому не захотел покориться. Поэтому совершенно заслуженно случилось с ним, что он не может ни услаждаться светом правды, ни освободиться от её приговора.
ГЛАВА XXIV
31. Отсюда, слова пророка Исайи: Како спаде с небесе Денница восходящая заутра? сокрушися на земли посылаяй ко всем языком. Ты же рекл ecu в уме твоем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких, яже к северу, взыду выше облак, буду подобен Вышнему. Ныне же во ад снидеши, и проч. (Иса. XIV, 12–15), — слова, которые под образом Вавилонского царя разумеют диавола, весьма во многом относятся к его телу, которое он набирает и из человеческого рода, и в особенности к тем, кои, по отпадении от заповедей Божиих, соединяются с ним гордостью. Ибо как человеком называется в Евангелии тот, кто был диаволом, напр, в словах: враг человек сие сотвори (Мф. XIII, 28), так в Евангелии же называется диаволом тот, кто был человеком, напр, в словах: не аз ли вас дванадесяте избрах, и един от вас диавол есть (Иоан. VI, 70)? И как тело Христово, т. е. Церковь, называется Христом, напр, в словах: убо Авраамле семя есте (Гал. III, 29), так как несколько выше [Апостол] сказал: Аврааму речени быша обеты, и семени его. Не глаголет же: и семенем, яко о мнозех, но яко о едином: и семени твоему, иже есть Христос (Гал. III, 16). И еще: якоже тело едино есть, и уды имать многи, вcu же уди единаго тела, мнози суще, едино суть тело: тако и Христос (1 Кор. XII, 12). Так точно и диаволово тело, глава коему диавол, т. е. все множество нечестивых, в особенности тех, которые отпадают от Христа или Церкви, как бы спадал с неба, называется диаволом, и многое, что приличествует не столько голове, сколько телу и членам, в иносказательном смысле относится к этому телу. Таким образом, под Денницей, которая всходила утром и пала, можно разуметь род отступников или от Христа, или от Церкви; ибо он точно так же обращается ко тьме, лишившись света, носителем которого был, как те, которые обращаются к Богу, переходят от тьмы к свету, т. е. бывши тьмою, становятся светом.
ГЛАВА XXV
32. Точно также под образом князя Тирского разумеют диавола и слова пророка Иезекииля. Ты ecu печать уподобления… и венец доброты, в сладости рая Божия был ecu, всяким камением драгим украсился ecu (Иез. XXVIII, 12–13), и проч., которые приличествуют не столько самому духу — князю лукавства, сколько телу его. Ибо раем называется Церковь, как читаем в Песни Песней: вертоград заключен… источник запечатлен, кладезь… воды живы… сад… с плодом яблочным (IV, 12. 15. 13). От неё отпали или видимо и телесным образом все еретики, или скрыто и духовным образом, хотя невидимому в ней оставаясь, все возвратившиеся на блевотину свою (Прит. XXVI, 11; 2 Петр. II, 22), если они после отпущения всех грехов очень недолго следовали по пути правды, — в которых последующее стало хуже прежнего и которым нужно было не столько познать путь правды, сколько, познавши его, опять отвратиться от преданной им святой заповеди. Этот непотребнейший род описывает Господь, когда говорит, что нечистый дух выходит из человека, пoтом возвращается с другими семью и водворяется в доме, который нашел уже вычищенным; так что последняя человеку тому будут горша первых (Mф. XII, 45). К такому роду людей, который уже становится телом диавола, могут быть приложимы следующие слова: От негоже дне создан ecu ты, с Херувимом (т. е. с престолом Божиим, который в переводе означает «многоразличное знание») вчиних тя в горе святей Божии (т. е. в Церкви, откуда: И услыша мя от горы святыя своея, Пс. 3, 5), был ecu среди коменей огненных (т. е. святых, духом служащих живых камней), был ecu ты непорочен во днех твоих, от негоже дне создан ecu, дондеже обретошася неправды, в тебе (Иез. XXVIII, 13–15). — эти места могут быть подвергнуты более тщательному рассмотрению, которое, быть может, показало бы, что не только такое понимание их возможно, но иное понимание к ним решительно и неприложимо.
ГЛАВА XXVI
33. Но так как это завело бы нас слишком далеко, а между тем вопрос наш требует от нас другой речи, то в настоящем случае достаточно будет сказать вкратце, что или диавол, по нечестивой гордости, с самого начала отпал от блаженства, которое он имел получить, если бы захотел, или существуют в настоящем мире другие ангелы низшего служения, среди которых он жил, наслаждаясь, сам того не зная, некоторым блаженством и от сообщества с которыми отпал по гордому нечестию вместе со своими ангелами, как архангел. Если это каким–нибудь образом возможно утверждать (а удивительно, если возможно), то нужно найти объяснение или тому, каким образом все святые ангелы, если некогда диавол жил среди них вместе со своими ангелами такою же блаженною жизнью, еще не знали наверное о своем постоянном блаженстве, а получили это знание уже после его падения, или тому, за какое преступление отлучен он с своими сообщниками от остальных ангелов раньше своего греха, раз он не знал о своем будущем падении, а они были уверены в своей твердости, если только мы нисколько не сомневаемся, с одной стороны, что согрешившие ангелы свергнуты как бы в темницу сего воздушного, лежащего поверх земли, мрака, согласно с апостольскою верою, что они сохраняются для наказания на суде (2 Петр. II, 4), с другой — что в высшем блаженстве ангелов нет неизвестности касательно вечной жизни, да и нам, по милосердию и благодати Божией и по неложнейшему обетованию, не неведома будущая жизнь, когда мы, по воскресении и изменении настоящих тел, соединены будем с святыми ангелами. Для этой надежды мы живем и ради этого обетования воссозидаемся. А что можно еще сказать о диаволе, именно — почему сотворил его Бог, когда предвидел, что он будет таким, и почему, будучи всемогущим, не обратил его воли на добро, — все это или объяснится или станет вероятным или откроется, если может быть открыто что–нибудь лучшее, на основании предыдущих рассуждений, когда мы будем говорить о злых людях.
ГЛАВА XXVII
34. Итак, Тем, Кто имеет высшую власть над всею тварью через святых ангелов, которыми диавол бывает поруган, когда даже и самая неприязнь его обращается к пользе Церкви Божией, попущено было ему искусить жену не иначе, как при посредстве змия, а мужа — не иначе, как чрез жену; но в змие он говорил, пользуясь им как органом и двигая его природу так, как может он ее двигать, а она двигаться, для выражения словесных звуков и телесных знаков, при помощи коих жена могла бы понять волю обольстителя. В жене же, природе разумной, которая может пользоваться своим собственным движением для произведения слов, говорил уже не диавол, а его действие и убеждение, хотя при помощи сокровенного инстинкта он более внутренне способствовал тому, что при помощи змия раньше произвел внешним образом. В душе, охваченной гордою любовью к собственной власти, он мог бы произвести это и при помощи одного только инстинкта внутренне, как действовал он в Иуде, чтобы тот предал Христа (Иоан. XIII, 2); но, как уже сказал я, диавол имеет волю искушать, но не в его власти — ни чтобы совершить искушение, ни как его совершить. Отсюда, он совершил искушение потому, что ему было попущено, и совершил так, как было попущено; но он не знал и не хотел, чтобы какому–нибудь роду людей было полезно то, что он сделал, и вот этим–то самым он и был поруган ангелами.
ГЛАВА XXVIII
35. Таким образом, змий не понимал тех словесных звуков, которые слышала от него жена. Ибо немыслимо, чтобы его душа была превращена в разумную природу, так как и сами люди, хотя природа их и разумна, не знают, что говорят, когда в них говорит демон в болезненном их состоянии, при котором бывают нужны заклинатели; тем меньше змий понимал словесные звуки, которые через него и из него производил диавол, так как он не понял бы и говорящего человека, если бы слышал его в состоянии, свободном от диавольского влияния. Даже и в том случае, когда, как думают, змеи слышат и понимают слова марсов [22], выползая при их заклинаниях из своих логовищ, — даже и в этом случае действует диавольская сила, к показанию, что и чему всеобщее промышление подчиняет по естественному порядку и что оно с премудрою властью дозволяет даже злым волям; вследствие чего змеи чаще повинуются заклинаниям людей, чем какой–либо другой род животных. Последнее обстоятельство служит даже немалым свидетельством, что человеческая природа первоначально была прельщена речью змия. Демоны радуются такой, данной им, власти, что, по заклинанию людей, они могут употреблять змей для обмана тех, кого хотят они обмануть. Людям же дозволяется это в целях увековечить в них воспоминание об изначальном событии, которое устанавливает некоторое их содружество с этим родом животных. А самое это событие попущено было для того, чтобы человеческому роду, для назидания которого надобно было описать это происшествие, при посредстве змия дать образец и всякого искушения, что станет яснее, когда мы будем говорить о божественном приговоре на змия.
ГЛАВА XXIX
36. Поэтому благоразумнейшим из всех зверей, т. е. хитрейшим, змий назван по причине диавольской хитрости, которая в нем и от него производила коварство, подобно тому, как благоразумным или хитрым называется язык, которым движется благоразумный или хитрый человек, чтобы благоразумно или хитро убедить в чем–нибудь. Ибо языком называется не сила телесного органа, а без сомнения сила ума, которая языком пользуется. Подобным образом называется стиль писцов лживым, хотя быть лживым составляет свойство только [существа] живого и чувствующего; но стиль называется лживым потому, что при его посредстве действует лживо лживый, подобно тому, как если бы и тот змий был назван лживым потому, что им, как стилем, лживо пользовался диавол.
37. Об этом я счел необходимым напомнить потому, чтобы кто–нибудь, выходя из представления, что животные, лишенные человеческого разума, имеют разумение, или вдруг превращаются в животное разумное, не увлекся странным и вредным мнением о превращении душ или людей в зверей, или зверей в людей. Если же змий говорил с человеком, и ослица, на которой сидел Валаам (Числ. XXII, 28), то первое было действием диавольским, а последнее — ангельским.
Ибо добрые и злые ангелы имеют некоторые сходные действия, как — Моисей и волхвы фараона (Исход. VII, 10–11). Но в этих действиях добрые ангелы гораздо могущественнее, и если злые ангелы могут производить что–нибудь подобное, то потому только, что им дозволяет это Бог через добрых ангелов, дабы каждому было воздано по сердцу его, или по благодати Божией, но в том и другом случае правосудно и милостиво, чрез глубину богатства премудрости Божией (Рим. XI, 33).
ГЛАВА XXX
38. И рече змий жене: что яко рече Бог: да не ясте от всякаго древа райскаго? И рече жена змию: от плода древа, которое в раю, ясти будем, от плода же древа, еже есть посреде рая, рече Бог: да не ясте от него, ниже прикоснетеся ему, да не смертию умрете (Быт. III, 1–3). — Сначала спрашивает змий, а потом отвечает жена для того, чтобы преступление было неизвинительным и чтобы никак уже нельзя было сказать, будто жена забыла заповедь Божию. Хотя уже и забвение заповеди, в особенности одной и столь необходимой, делало бы ее виновною в предосудительном небрежении; но преступление этой заповеди является очевиднее, когда она удерживается памятью и когда оскорбляется как бы присутствующий в памяти Бог. Отсюда, в Псалме к словам: и помнящих заповеди Его необходимо было прибавить: творити я (102, 18). Ибо многие помнят их, чтобы нарушать, впадая в большой грех преступления, когда нет никакого извинения забвению.
39. И рече змий жене: не смертию умрете. Ведяше бо Бог, яко в оньже… день снесте от него, отверзутся очи ваши, и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое (Быт. III, 4–5). Если на основании этих слов она поверила, что им воспрещено от Бога нечто доброе и полезное, то не существовало ли уже в душе её любви к собственной власти и гордого самопревозношения, которые нужно было этим искушением победить и уничтожить? Затем, не удовольствовавшись словами змия, она взглянула на дерево: и виде, яко добро древо в снедь, и яко угодно очима видети (Быт. III, 6) и, не веря, чтобы можно было от него умереть (вероятно, она подумала, что слова: вонъже аще день снесте от него смертию умрете изречены Богом для какого–нибудь знаменования), взяла от плода его, ела и дала мужу своему, с каким–нибудь, может быть, словом убеждения, о чем Писание умолчало и оставило догадываться. А может быть, впрочем, муж не имел уже и надобности в убеждении, раз видел, что жена не умерла от этого вкушения.
ГЛАВА XXXI
40. И ядоста, и отверзошасл очи обема (Быт. III, 6–7). Ha что? Не на что иное, как на взаимное похотствование — это, порожденное смертью, наказание самой плоти за грех; так что их тело было уже не душевным (I Кор, XV, 44), которое, если бы они сохранили послушание, могло и без смерти измениться в лучшее и духовное свойство, а телом смерти, в котором закон, сущий в членах, противовоюет закону ума (Рам. VII, 23). Ведь не были же они сотворены с закрытыми глазами, и в раю сладостей не оставались же слепыми и не ощупывали дороги, чтобы дойти, не зная пути, до запрещенного дерева и ощупью сорвать запрещенный плод. Как же приведены были бы к Адаму животные и птицы видети, что наречет я (Быт. II, 19), если он не видел? И как приведена была бы к мужу жена, когда была сотворена, чтобы он, не видя её, сказал о ней: се ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моея (Быт. II, 23), и пр.? Наконец, как бы разглядела жена, яко добро древо в снедь и яко угодно очима видети, и красно есть еже разумети (Быт. III, 6), если очи их были закрыты?
41. Однако из–за переносного значения одного слова ни в каком случае не следует принимать в иносказательном смысле все. Не мое дело, в каком смысле сказал змий: отверзутся очи ваши; что он сказал так, об этом рассказывает писатель книги, а в каком значении сказал, это предоставлено обсуждению читателя. Но написано: и отверзошася очи обема, и разумеша, яко нази беша, написано в том же смысле, в каком повествуется о всех совершившихся тогда событиях, и не должно вести нас к аллегорическому повествованию. Ибо и Евангелист–повествователь не чьи–нибудь иносказательные изречения приводит от чужого лица, а рассказывает от своего лица о том, что случилось, когда говорит о двух учениках, из коих один был Клеопа, что в то время, как Господь преломлял им хлеб, у них отверзосшася очи, и познаста Его, Кого не узнали в продолжение пути (Лук. XXIV, 13–31): без сомнения, они шли с глазами не закрытыми, а такими, которые не могли узнать Его. Таким образом, как там, так и в этом месте повествование иносказательное, хотя Писание в настоящем случае пользуется переносным выражением для того, чтобы назвать отверстыми глаза, которые и раньше были открыты, — отверстыми конечно для созерцания и познания чего–нибудь такого, чего они дотоле не замечали. Ибо там возникло жадное любопытство к преступлению заповеди, страстно желавшее испытать неизвестное, именно — что последует за запрещенным вкушением, и услаждавшееся вредною свободою сбросить узы запрещения, в вероятном предположении, что не последует смерти, которой они боялись. Действительно, яблоко на запрещенном дереве, надобно думать, было таким же, какое на других деревах они по опыту знали как безвредное; отсюда, они скорее думали, что Бог легко простит их, когда они согрешат, нежели терпеливо могли сносить незнание чего–нибудь, даже и того, почему Бог запретил им брать с этого дерева плод. Поэтому сейчас же вслед за преступлением заповеди, они, лишившись внутренне оставившей их благодати, которую они оскорбили надмением и гордою любовью к собственной власти, остановили взоры на своих членах и почувствовали в них похоть, какой раньше не знали. Итак, их глаза открылись на то, на что раньше они не были открыты, хотя на все другое и были открыты.
ГЛАВА XXXII
42. В тот же самый день, в который совершилось то, чтО Бог воспретил, явилась смерть. Ибо с утратой дивного состояния, их тело, которое поддерживалось таинственною силою и от древа жизни, благодаря которой они не могли ни подвергаться болезни, ни изменяться в возрасте, так что вкушением с древа жизни в их плоти, хотя еще душевной и долженствовавшей измениться потом к лучшему, обозначалось то, что в ангелах, вследствие участия их в вечности, происходит от духовного питания мудростью (символом чего служило древо жизни), так что они не могут изменяться к худшему, — итак, говорю, с утратой дивного состояния, их тело получило болезненное и смертное свойство, присущее и плоти скотов, а отсюда и — самое то движение, вследствие которого в скотах возникает стремление к соитию, дабы рождающиеся преемствовали умирающим; но будучи и в самом этом наказании показательницей своего благородства, разумная душа почувствовала стыд пред этим скотским движением, — стыд, который проник в нее не только потому, что она почувствовала, постыдное движение там, где раньше не чувствовала ничего подобного, но и потому, что это движение явилось следствием преступления заповеди. Ибо она почувствовала теперь, какою раньше облечена была благодатью, когда в наготе своей не испытывала ничего непристойного. В этом случае исполнились слова: Господи, волею твоею подаждь доброте моей силу, отвратил же ecu лице твое, и бых смущен (Пс. 29, 8). В состоянии этого смущения они прибегли к фиговым листьям, сшили передники и, утратив достославное, прикрыли ими срамное. Не думаю, чтобы в этих листьях они видели что–нибудь такое, чем считали приличным прикрыть свои уже зудевшие члены; но в своем тогдашнем смущении они, сами того не зная, тайным инстинктом расположились устроить такое обозначение своего наказания, которое бы обличало деяние грешников и, будучи описано, назидало читателя.
ГЛАВА XXXIII
43. И услышаста глас Господа Бога, ходяща в раи к вечеру (Быт. III, 8). В этот именно час прилично было посетить тех, которые отпали от света истины. Может быть, прежде Бог говорил с ними другими удобоизъяснимыми или не удобоизъяснимыми способами, внутренне, как говорит Он с ангелами, непреложной истиной просвещая умы их, которым дано знать разом все, что происходит во времени даже и не разом. Может быть, говорю, Он говорил с ними хотя и не с таким уделением божественной премудрости, которую получают ангелы, но, по человеческой мерке, с гораздо меньшим, однако под тем же самым образом посещения и беседования, а может быть и таким, который совершается при посредстве твари или в состоянии экстаза чрез телесные образы, или же чрез телесные органы, когда является какой–нибудь образ или зрению, или слуху, как Бог обыкновенно бывает видим в образе Своих ангелов, или звучит из облака. Но в настоящем случае они услышали голос Бога, ходящего в раю пред вечером не иначе, как видно, при посредстве твари, дабы не возникло в них мысли, что их телесным чувствам явилась местным и временным движением сама невидимая и всюду целая субстанция Отца, и Сына, и Святого Духа.
44. И скрыстася Адам же и жена его от лица Господа Бога посреде древа райскаго (Быт. III, 8). Если человек, когда Бог отвращает от него лицо Свое, бывает смущен, то мы не должны удивляться, что тут происходит нечто похожее на безумие, вследствие крайнего стыда и страха, а также и по беспокойному тайному инстинкту, под влиянием которого они бессознательно делали то, что имело значение для потомков, ради которых эти события и описаны.
ГЛАВА XXXIV
45. И призва Господь Бог Адама, и рече ему: где ecu (Быт. III, 9)? Это голос упрекающего, а не незнающего, и без сомнения имеет некоторое знаменование, потому что как заповедь была дана мужу, чрез которого она дошла до жены, так и спрашивается вперед муж. Ибо заповедь от Господа доходит чрез мужа до жены, а заповедь от диавола доходит чрез жену до мужа. Все это полно таинственных знаменований не со стороны самих действующих лиц, с которыми это случилось, а со стороны действовавшей в них всенощной премудрости Божией. Но в настоящем случае мы не таинственные значения раскрываем, а защищаем совершившиеся события.
46. Адам отвечает: Глас слышах Тебе ходяща в раи, и убояхся, яко наг есть, и скрыхся (Быт. III, 10). Достаточно вероятно, что Бог явился первым людям обыкновенно в человеческой форме чрез приличную для этого действия тварь; но, направляя их внимание к высшему, Он дозволил им заметить наготу свою только тогда, когда они после греха почувствовали постыдное движение в членах. Поэтому они оказались в таком состоянии, в какое обыкновенно приходят люди, когда на них бывают устремлены взоры людей, и это состояние, как следствие наказания за грех, было таким, что они хотели утаиться от Того, от Кого нельзя ничего утаить, и Кто видит сердце, от Того хотели скрыть свою плоть. Но что же удивительного, если гордецы, желавшие стать яко бози, осуетишася помышлении своими и омрачися неразумное их сердце. Они называли себя во обилии своем мудрыми, а когда Он отвратил от них лице Свое, стали глупы (Рим. I, 21–22). В самом деле, им стыдно было уже и самих себя, почему они и сделали себе опоясания; тем сильнее они боялись показаться даже в этих своих опоясаниях пред Тем, Кто при посредстве видимой твари как бы с дружеским щадением возводил на них как бы человеческие взоры. Ибо если Он являлся для того, чтобы люди говорили с Ним как с человеком, подобно тому, как говорил с Ним Авраам при дубе Мамврийском (Быт. XVIII, 1), то эта дружественность, служившая до греха для них источником дерзновения, после греха была подавлена стыдом, и они уже не смели показать Его очам наготы своей, которая оскорбляла и их собственные взоры.
ГЛАВА XXXV
47. Господь, желая допрашиваемых, по обычаю, принятому в судопроизводстве, наказать большим наказанием, нежели каким было то, от которого они уже принуждены были придти в стыд, говорит: Кто возвести тебе, яко наг еси, аще не бы от древа, егоже заповедах тебе сего единаго не ясти, от него ял ecu (Быт. III, 11)? Начавшаяся уже с этого мгновения по грозному приговору Божию смерть заставила их обратить похотливое внимание на члены, от чего их глаза названы открытыми, и последовало то, что привело их в стыд. И рече Адам: жена, юже дал ecu со мною, та ми даде от древа, и ядох (Быт. III, 12). Вот какова гордость! Сказал ли: «Согрешил я»? Hет, — чувствует все безобразие смущения и не обнаруживает смиренного сознания. Все это описано потому, что и самые вопросы были сделаны с тою без сомнения целью, чтобы описание было правдивым и полезным (ибо раз оно лживо, то и бесполезно), дабы мы видели, в какую болезнь гордости впали теперь люди, стараясь сложить на Творца то, что сделали худого, и желая приписать себе то, что сделали бы доброго. Жена, говорит, юже ми дал ecu со мною, т. е. которую Ты дал, чтобы она была со мною, та ми даде от древа, и ядох: как будто она для того была дана, чтобы не повиновалась мужу, а оба они — Богу!
48. И рече Господь Бог жене: что сие сотворила ecu? и рече жена: змий прельсти мя, и ядох (Быт. III. 13). Не сознается в грехе и она, а сваливает на другого, по полу отличного, но равного по лживости. Однако же, от них родился, им не подражал, а был, очевидно, удручен множеством зла тот, кто сказал и будет говорить до скончания века: Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших к Tи (Пс. 40, 5). Не тем ли более должны были так поступить и они? Но Господь не посек еще выи грешников (Пс. 128, 4). Остались труды, скорби смертные, всякое сокрушение века и, наконец, благодать Божия, в благопотребное время помогающая людям, которых она удручая научает, что они не должны превозноситься самими собою. Змий, говорит, прельсти мя, и ядох: как будто чье–либо убеждение она должна была предпочесть заповеди Божией!
ГЛАВА XXXVI
49. И рече Господь Бог змию: яко сотворил ecu сие, проклят ты от всех скотов, и от всех зверей, сущих на земле. На персех твоих и чреве твоем ходити будеши, и землю снеси вся дни живота твоею. И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим и семенем тоя. Она твою блюсти будет главу, и ты блюсти будеши его пяту (Быт. III, 14. 15). Bсe это изречение иносказательное, и если добросовестность писателя и истинность повествования могут чем–либо служить для него, то разве тем только, что мы не должны сомневаться, что оно было сказано. Ибо только слова: И рече Бог змию суть слова писателя и должны быть принимаемы в собственном их значении. Несомненно, отсюда, что это изречение обращено к змию. Дальнейшие слова суть уже слова Бога, которые предоставляются свободному пониманию читателя, в собственном ли или переносном смысле надобно понимать их, как и говорили мы в начале настоящей книги. Из того, что змий не спрашивается, почему он так сделал, можно заключить, что он сделал это не по своей природе и своей воле, но от него, чрез него и в нем действовал диавол, который по причине греха нечестия и гордости уже предназначен был вечному огню. Отсюда, что в настоящем случае говорится змию и, конечно, относится к тому, кто действовал чрез змия, без сомнения, иносказательно; ибо в этих словах искуситель описывается таким, каким он будет для человеческого рода, который начал распространяться тогда, когда эти слова, в лице змия, обращены были к диаволу. Но как, после объяснения иносказания, надобно понимать эти слова, об этом, насколько могли, мы сказали в двух, изданных против манихеев, книгах о книге Бытия и, если бы мы могли сказать о сем что–нибудь более тщательным и более соответственным образом в другом месте, готовы сделать это при помощи Божией; теперь же наше внимание должно быть обращено на другое.
ГЛАВА XXXVII
50. И жене рече: умножая умножу печали твоя, и воздыхания твоя: в болезнях родиши чада, и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладати будет (Быт. III, 16). И эти, обращенные к жене, слова гораздо удобнее принимать иносказательно и пророчески. Но так как жена еще не рождала, и болезнь и стоны рождающей происходят только от тела смерти, которая началась со времени преступления заповеди, хотя и тогда члены тела были душевными, но не подлежавшими, если бы человек не согрешил, смерти и имевшими жить в другом более счастливом состоянии, доколе, после хорошо проведенной жизни, не заслужили бы изменения к лучшему (как мы выше не один уже раз на это указывали), то [изрекаемое жене] наказание можно понимать и буквально, за исключением слов: и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладати будет, которые требуют рассмотрения, как понимать их в собственном смысле. Ибо жена, надобно думать, и до греха была сотворена не иначе, а так, что муж господствовал над ней, а она имела к нему служебное отношение. Но настоящая зависимость по справедливости может быть понимаема как зависимость преобразовательная, которая представляется скорее делом известного состояния, нежели любви, так что и самое рабство, вследствие которого люди потом начали быть рабами людей, возникло от наказания за грех. Апостол сказал: любовию работайте друг другу (Гал. V, 13), но ни в каком случае не сказал бы: «господствуйте друг над другом». Таким образом. супруги могут служить друг другу любовью, но жене Апостол не дозволяет владети мужем (1 Тим. II, 12). Это обладание по приговору Божию предоставляется мужу, и муж удостоился получить господство над женой, от несохранения им которого будет больше развращаться природа и увеличиваться вина.
ГЛАВА XXXVIII
51. Сказал Бог Адаму: Яко послушал ecu гласа жени твоея, и ял ecu от древа, егоже заповедах тебе сего единого не ясти, от него ял ecu, проклята земля в делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твои, дондеже возвратишися в землю, от неяже взят ecu, яко земля ecu, и в землю отыдеши (Быт. III, 17–19). Кто не знает, что труды человеческого рода имеют отношение к земле? И так как их не было бы, если бы человек сохранил блаженство, которым наслаждался в раю, то несомненно, что слова эти должно принимать в собственном значении. Впрочем, нужно сохранить за ними и значение пророчества, которое особенно имеется здесь в виду вниманием говорящего Бога. Не напрасно же и сам Адам по какому–то удивительному инстинкту дал теперь своей жене имя «Жизнь», присовокупив, яко та мати всех живущих (Быт. III, 20). Ибо и эти слова надобно понимать как слова не повествующего или утверждающего писателя, а самого первого человека; сказав: яко та мати всех живущих, он как бы приводит причину, почему он назвал ее Жизнью.
ГЛАВА XXXIX
52. И сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаны, и облече их (Быт. III, 21). И это хотя сделано было ради знаменования, но все же сделано, как и то, что было сказано, хотя ради знаменования, но все же сказано, Ибо, как часто я говорил и не перестану говорить, от повествователя о совершившихся событиях требуется, чтобы он рассказывал о том, что совершилось, как о совершившемся, и о том, что сказано, как о сказанном. Но как в действиях различается, что сделано и что оно означает, так различается и в словах, что сказано и что оно значит. Ибо в иносказательном ли или в собственном значении сказано то, о чем повествуется как о сказанном, однако не следует считать его сказанным иносказательно.
53. И рече Бог: се Адам быстъ яко един от Нас, еже разумеет доброе и лукавое (Быт. III, 22). Так как эти слова, как бы они ни были сказаны, изречены Богом, то выражение: един от Нас надобно понимать не иначе, как так, что множественное число поставлено здесь по причине Троицы, подобно тому, как раньше сказано: сотворим человека (Быт, I, 26), и как Господь говорит о Себе и Отце: приидем к нему и обитель у него сотворим (Иоан. XIV, 23). Итак, напоминается гордецу, по какому поводу он возжелал внушенного змием: будете яко бози. Се, говорит, Адам быстъ яко един от Нас. Это — слова Бога не столько посмеивающегося над ним, сколько устрашающего других, чтобы они не были такими же гордецами: ради них все это и описано. Бысть, говорит, яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. Что другое надобно разуметь здесь, как не пример, представленный для возбуждения страха, потому что он не только не стал таким, каким хотел быть, но не сохранил даже и того, чем сотворен был?
ГЛАВА XL
54. И ныне, говорит Бог, да не когда прострет руку свою и возмет от древа жизни, и снест, и жив будет во век. И изгна его Господь Бог из рая сладости, делати землю, от неяже взят быстъ (Быт. III, 22–23). Первая половина содержит в себе слова Бога, а вторая — действие, последовавшее за этими словами. Само собою понятно, что отчуждившись от жизни не только той, которую имел получить наравне с ангелами, если бы сохранил заповедь, но даже и той, которую в некотором блаженном состоянии тела проводил в раю, Адам подлежал удалению и от древа жизни, И это или потому, что древо жизни поддерживало бы в нем прежнее блаженное состояние тела, или же потому, что в этом дереве заключалось и видимое таинство невидимой мудрости; почему и надлежало удалять от него Адама, или как подлежавшего уже смерти, или как бы отлученного, подобно тому, как и в настоящем раю, т. е. в Церкви, обыкновенно люди отлучаются церковною дисциплиною от видимых таинств алтаря.
55. И изрине Адама, и всели его прямо рая сладости (Быт. III, 24), И это сделано хотя ради знаменования, но все же сделано, чтобы грешник и в злополучии жил против рая, которым знаменовалась блаженная жизнь и духовно. И пристави Херувима, и пламенное оружие обращаемое хранити путь древа жизни (Быт. III, 24). Нет сомнения, по устроению небесных Властей и в видимом раю была некоторая огненная стража при посредстве ангельского служения; однако не следует сомневаться, что так сделано было, за исключением известного знаменования, и по отношению к духовному раю.
ГЛАВА XLI
56. Некоторые, как мне небезызвестно, думают, что первые люди слишком рано поддались желанию знать добро и зло и преждевременно захотели получить то, что было отсрочено для них до более благоприятного времени; овладев под влиянием искусителя раньше времени тем, что им было еще несвойственно, они оскорбили Бога и, будучи изгнаны и наказаны, лишились такой полезной вещи, которою, если бы они соответственно воле Божией обратились к ней своевременно, могли бы пользоваться спасительно. — Мнение это с точки зрения правой веры и истины имело бы некоторую вероятность в том случае, если бы мы хотели понимать древо познания добра и зла не в собственном значении, как дерево истинное с истинными плодами, а иносказательно.
57. Некоторые думают и так, что первые люди тайком совершили свой брак и имели совокупление раньше, чем соединил их Творец; что и означено было именем древа, которое было воспрещено им до своевременного союза. Как будто, должны мы думать, они сотворены были в таком возрасте, что нужно было ждать им половой зрелости, — как будто не было это законным тогда, когда оно могло совершиться, а если не могло, то конечно и не совершилось бы! Или, может быть, нужно было выдать невесту из рук отца, ожидать торжественности обетов, совершения брачного пиршества, счета приданного и описи реестров?! Странное мнение, и, кроме того, оно отступает от буквального смысла событий, который мы предприняли защищать и защищали, насколько это благоволил нам даровать Бог.
ГЛАВА XLII
58. Гораздо более интереса представляет вопрос, каким образом Адам, если бы он был духовным хотя только по духу, а не и по телу, мог поверить словам змия, будто Бог воспретил им вкушать плоды с того древа, зная, что если они это сделают то будут как боги по способности различения добра и зла: Творец как бы завидовал Своей твари в этом благе. Удивительно было бы, если бы человек одаренный духовным умом, мог этому поверить. Разве не потому ли, что он сам не мог этому поверить, ему и дана была жена, которая одарена была меньшим разумением и жила, может быть, еще по чувству плоти, а не по духу ума, почему Апостол и не приписывает ей образа Божия? Муж убо, говорит он, не должен есть покрывати главу, образ и слава Божия сый: жена же слава мужу есть (1 Кор. XI, 7). И так было не потому, чтобы женский ум не мог воспринять того же самого образа, так как по слову Апостола в благодати нет ни мужского, ни женского пола, а потому, что жена, быть может, еще не получила того, что создается в познании Бога, и должна была получать это постепенно под управлением и распоряжением мужа. Не напрасно Апостол говорит: Адам прежде создан быстъ, потом же Ева. И Адам не прельстися, жена же прелъстившися, в преступлении впаде (1 Тим. II, 13–14), т. е. чрез жену впал в преступление и муж. Ибо Апостол называет и его преступником, когда говорит: по подобию преступления Адама, иже есть образ будущего (Рим. V, 14). Но не называет его прельстившимся. Ибо и будучи спрошен, Адам не говорит: Жена, юже дал ecu со мною, прельстила меня, и ядох, а: Та ми даде от древа, и ядох. Между тем, жена говорит: Змий мя прельсти.
59. Разве вероятное дело, что Соломон, этот муж великой мудрости, признавал какую–нибудь пользу идолов? И, однако, он не мог устоять пред любовью к женам (3 Цар. XI, 4), которая влекла его к этому злу, делая то, чего, как он знал, не следует делать, чтобы не омрачить своих смертоносных удовольствий, в которых он утопал и погибал. Так точно и Адам после того, как жена прельстившись ела от запрещенного древа и ему дала, чтобы ели оба, не захотел опечалить ее, полагая, что она может затосковать без его утешения, раз он будет чужд её душе, и совершенно погибнет вследствие этого разъединения. Он побежден был не похотью плоти, которой еще не чувствовал в законе членов, противовоюющем закону ума, а некоторым дружеским благоволением, вследствие которого [человек] весьма часто оскорбляет Бога, опасаясь, как бы из друга не стать врагом; а что Адам не должен был так делать, это показало правосудное совершение божественного приговора.
60. Отсюда, он обманут был некоторым иным способом; но коварством змия, которым была прельщена жена, он, по моему мнению, не мог быть прельщен так, как могла она. Между тем, Апостол имел в виду в собственном смысле прельщение, вследствие которого то, чем жена была убеждаема, сочтено было ею истинным, хотя оно было ложно, т. е. будто Бог воспретил им прикасаться к древу познания добра и зла, зная, что, если они к нему прикоснутся, будут как боги, и таким образом как бы завидуя божеству тех, коих сотворил людьми. Но если даже мужем овладело некоторое желание сделать опыт вследствие своего рода умственного превозношения, которое не могло укрыться от Бога, так как муж видел, что жена не умерла, вкусив от запрещенного древа, как уже выше мы о том сказали, то все же, по моему мнению, он, раз одарен был умом духовным, ни в каком случае не мог поверить тому, будто Бог воспретил им плоды этого дерева по зависти. Что же больше? Склонение ко греху произошло так, как и могло оно произойти в них, а описано так, как оно должно читаться всеми, хотя бы и не многими понималось так, как должно.
ГЛАВА XLII
58. Гораздо более интереса представляет вопрос, каким образом Адам, если бы он был духовным хотя только по духу, а не и по телу, мог поверить словам змия, будто Бог воспретил им вкушать плоды с того древа, зная, что если они это сделают то будут как боги по способности различения добра и зла: Творец как бы завидовал Своей твари в этом благе. Удивительно было бы, если бы человек одаренный духовным умом, мог этому поверить. Разве не потому ли, что он сам не мог этому поверить, ему и дана была жена, которая одарена была меньшим разумением и жила, может быть, еще по чувству плоти, а не по духу ума, почему Апостол и не приписывает ей образа Божия? Муж убо, говорит он, не должен есть покрывати главу, образ и слава Божия сый: жена же слава мужу есть (1 Кор. XI, 7). И так было не потому, чтобы женский ум не мог воспринять того же самого образа, так как по слову Апостола в благодати нет ни мужского, ни женского пола, а потому, что жена, быть может, еще не получила того, что создается в познании Бога, и должна была получать это постепенно под управлением и распоряжением мужа. Не напрасно Апостол говорит: Адам прежде создан быстъ, потом же Ева. И Адам не прельстися, жена же прелъстившися, в преступлении впаде (1 Тим. II, 13–14), т. е. чрез жену впал в преступление и муж. Ибо Апостол называет и его преступником, когда говорит: по подобию преступления Адама, иже есть образ будущего (Рим. V, 14). Но не называет его прельстившимся. Ибо и будучи спрошен, Адам не говорит: Жена, юже дал ecu со мною, прельстила меня, и ядох, а: Та ми даде от древа, и ядох. Между тем, жена говорит: Змий мя прельсти.
59. Разве вероятное дело, что Соломон, этот муж великой мудрости, признавал какую–нибудь пользу идолов? И, однако, он не мог устоять пред любовью к женам (3 Цар. XI, 4), которая влекла его к этому злу, делая то, чего, как он знал, не следует делать, чтобы не омрачить своих смертоносных удовольствий, в которых он утопал и погибал. Так точно и Адам после того, как жена прельстившись ела от запрещенного древа и ему дала, чтобы ели оба, не захотел опечалить ее, полагая, что она может затосковать без его утешения, раз он будет чужд её душе, и совершенно погибнет вследствие этого разъединения. Он побежден был не похотью плоти, которой еще не чувствовал в законе членов, противовоюющем закону ума, а некоторым дружеским благоволением, вследствие которого [человек] весьма часто оскорбляет Бога, опасаясь, как бы из друга не стать врагом; а что Адам не должен был так делать, это показало правосудное совершение божественного приговора.
60. Отсюда, он обманут был некоторым иным способом; но коварством змия, которым была прельщена жена, он, по моему мнению, не мог быть прельщен так, как могла она. Между тем, Апостол имел в виду в собственном смысле прельщение, вследствие которого то, чем жена была убеждаема, сочтено было ею истинным, хотя оно было ложно, т. е. будто Бог воспретил им прикасаться к древу познания добра и зла, зная, что, если они к нему прикоснутся, будут как боги, и таким образом как бы завидуя божеству тех, коих сотворил людьми. Но если даже мужем овладело некоторое желание сделать опыт вследствие своего рода умственного превозношения, которое не могло укрыться от Бога, так как муж видел, что жена не умерла, вкусив от запрещенного древа, как уже выше мы о том сказали, то все же, по моему мнению, он, раз одарен был умом духовным, ни в каком случае не мог поверить тому, будто Бог воспретил им плоды этого дерева по зависти. Что же больше? Склонение ко греху произошло так, как и могло оно произойти в них, а описано так, как оно должно читаться всеми, хотя бы и не многими понималось так, как должно.
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
1. В одиннадцати предыдущих книгах мы рассмотрели текст свящ. Писания, надписываемого Бытие, с самого его начала до того пункта, как первый человек был изгнан из рая, и внесли из него в свое сочинение то, что могли, и так, как могли, или утверждая и защищая известное для нас, или же исследуя и разбирая неизвестное, — не столько предписывая, что каждый должен мыслить о темных предметах, сколько показывая необходимость изучения того, относительно чего мы остались в сомнении, и не позволяя себе пред читателем дерзости утверждения там, где не в состоянии были дать ему утвердительное суждение. Настоящая же двенадцатая книга, обработанная с таким же тщанием, какого требовал от нас подлежащий рассмотрению текст свящ. Писаний, будет посвящена подробнейшему раскрытию вопроса о рае, дабы не показалось, будто мы уклонились от разъяснения слов Апостола, в которых он разумеет, по–видимому, рай под третьим небом, говоря: Вем человека о Христе, прежде лет четыренадесяти: аще в теле, не вем, аще ли кроме тела, не вем, Бог весть, восхищена бывша таковаго до третиаго небесе. И вем такова человека: аще в теле, или кроме тела, не вем, Бог весть: яко восхищен бысть в рай, и слыша неизреченны глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати (2 Кор. XII, 2–4).
2. Спрашивают обыкновенно, прежде всего, что в этих словах Апостол называет третьим небом, а затем — хотел ли он, чтобы в них разумелся рай, или же после того, как был восхищен на третье небо, он восхищен был и в рай, где бы этот рай ни находился, так что если он был восхищен на третье небо, это не значит то же, что был восхищен и в рай, но сначала — на третье небо, и потом — в рай. Этот вопрос настолько обоюден, что, мне кажется, может быть разрешен в том только случае, если кто–нибудь на основании не настоящих слов Апостола, а других мест свящ. Писаний или очевидных данных, найдет что–нибудь такое, чем докажет, находится ли рай на третьем небе или не находится, так как представляется неясным что такое и само третье небо и как понимать его — относительно ли телесных или духовных вещей. Можно бы, конечно, сказать, что человек телом может быть восхищен только в какое–нибудь телесное место, но так как Апостол выражается таким образом, что он не знает, в теле ли, или вне тела был он восхищен, кто же осмелится сказать о себе, что знает то, чего не знал Апостол? При всем том, если не могут быть восхищены ни дух без тела в телесные места, ни тело — в духовные, то самое уже сомнение его (если только допустить, что Апостол пишет о самом себе) как бы вынуждает нас разуметь таким же образом и место, куда он был восхищен, т. е. так, что нельзя определить и распознать, телесное ли оно или духовное.
ГЛАВА II
3. Ибо когда представляются нам во сне или в экстазе телесные образы, то мы совершенно не отличаем их от самых тел, пока, возвратившись к телесным чувствам, не приходим к сознанию, что имели дело с образами, которые воспринимали не при помощи телесных чувств. Кто, в самом деле, пробудившись от сна, не чувствует сейчас же, что видел грезы, хотя, когда видел их спящий, он не мог отличить их от телесных воззрений бодрствующих? Со мною, впрочем, знаю, случалось, (а потому, не сомневаюсь, могло или может случаться и с другими), что, видя [что–нибудь] во сне, я чувствовал, что вижу именно во сне, и даже сонный я чувствовал и был твердо убежден, что образы, которые во сне обыкновенно поражают нас своею несообразностью, не истинные тела, а представляются мне во сне. Но иногда, однако, я и ошибался: видя, напр., своего друга во сне, я старался убедить его, что видимые нами тела не истинные тела, а образы спящих во сне, хотя и сам он представлялся мне во сне же, как и они, — даже и то самое, что мы говорим с ним вместе, не истинно, а он видит теперь, сонный, что–нибудь иное, и не знает, вижу ли то же самое и я; впрочем, когда я усиливался убедить его, что это не сам он, я отчасти склонялся думать и так, что это именно он, с которым я, конечно, не говорил бы, если бы был убежден, что это не он. Таким образом, душа сонного, хотя удивительно и бодрствующая, может обманываться образами тел, как если бы это были самые тела.
4. В экстазе же я имел случай слышать только одного человека, и притом простолюдина, который едва мог выражать свои ощущения, но знал, что он и бодрствует, и видит нечто не глазами: «видела его, говорил он (пользуюсь, насколько могу припомнить, его собственными словами), душа моя, а не глаза''. Но он не знал, тело ли то было или же телесный образ. Ибо не был таким, чтобы мог различать подобные вещи, но в то же время был настолько простодушно искренним, что я слушал его с таким доверием, как если бы сам видел то, что, по его словам, видел он.
5. Вот почему, если Павел видел рай так, как Петру виделась спускающаяся с неба корзина (Деян. X, 11), или Иоанну все то, что он описывает в Апокалипсисе (Апок. I, 12), или Иезекиилю поле с костями мертвых и их воскресение (Иез. XXXVlI, I–10) или Исайи сидящий Бог, окрест Его серафимы и жертвенник, взятый с которого уголь очистил уста пророка (Иса. VI, 1–7), то ясно, что он мог и не знать, в теле ли он видел, или вне тела.
ГЛАВА III
6. Но если он видел вне тела и не телА, то возможен вопрос, были ли это телесные образы, или же субстанция, которая не представляет никакого подобия тела, как напр. Бог, как ум, или понимание или разум человека, как добродетели — благоразумие, справедливость, чистота, любовь, благочестие и все то, что только мы мысленно исчисляем, расчленяем, определяем, не видя ни их очертания, ни цвета, ни того, как они звучат, чем пахнут, какой имеют вкус во рту, чем оказываются для осязания со стороны тепла или холода, мягкости или твердости, тонкости или жесткости; а [созерцая их] при помощи зрения, света и представления другого рода, и притом такого, который гораздо превосходнее и несомненнее остальных.
7. Возвратимся же опять к словам Апостола и paссмотрим их с большею тщательностью, признав сначала за несомненное, что Апостол гораздо больше и несравненно полнее нас знал то, что мы стараемся знать так или иначе о бестелесной природе. Итак, если он знал, что ни в каком случае нельзя видеть ни духовных предметов посредством тела, ни телесных помимо тела, то почему же из того, что видел, он не распознал и того, как это мог он видеть? Ибо если он был уверен, что тО были духовные предметы, то почему не был в то же время и уверен, что видел их вне тела? Если же знал, что тО были предметы телесные, то почему не знал, что мог видеть их только посредством тела? Откуда же в нем возникает сомнение, в теле ли или вне тела он их видел, разве уж не сомневался ли и в том, были ли то тела, или телесные образы? Итак, посмотрим, прежде всего, что в составе его слов есть такого, относительно чего он не сомневается, и если потом останется в них что–нибудь такое, относительно чего он сомневается, то, может быть, из того, относительно чего он не сомневается, разрешится и вопрос, каким образом сомневается он и в этом.
8. Вем, говорит, человека о Христе, прежде лет четыренадесяти: аще в теле, не вем, аще кроме тела, не вем, Бог весть, восхищена, бывша таковаго до третияго небесе. Итак, он знает человека о Христе, четырнадцать лет тому назад восхищенного до третьего неба: в этом он нисколько не сомневается; не должны, следовательно, сомневаться и мы. Но в теле ли или вне тела человек тот был восхищен, в этом он сомневается, а отсюда, раз сомневается он, кто же из нас осмелится быть в том уверен? Разве не будет ли в этом случае последовательным с нашей стороны сомнение относительно третьего неба, куда, как он говорит, был человек тот восхищен?
Ибо если [в словах Апостола] указывается нечто действительное, то указывается в них и третье небо; если же в них дан только некоторый образ телесных предметов, не было и третьего неба, а указание на него сделано в том смысле, что Апостол, как ему казалось, достиг до первого неба, выше которого видел опять небо, достигши которого видел новое небо, и уже достигши последнего, он мог сказать, что был восхищен до третьего неба. Но что существовало третье небо, куда он был восхищен, в этом он не сомневается, и не хочет, чтобы сомневались и мы, ибо говорит вначале: вем, и затем ведет дальнейшую речь; так что тО, что, как говорит Апостол, он знает, может не считать истинным разве лишь тот, кто не верит Апостолу.
ГЛАВА IV
9. Итак, Апостол знает человека, восхищенного до третьего неба; след. небо, куда [человек тот] был восхищен, было действительно третье небо, а не какой–нибудь телесный знак, который Моисей отличал и от самой субстанции Бога, и от видимой твари, в какой Бог являлся человеческим и телесным чувствам, настолько, чтобы сказать: покажи мне Тебе Самого (Исх. XXXIII, 13), а также и не какой–нибудь образ телесной вещи, который видя в духе, Иоанн спрашивал, что он собою означает, и получал в ответ, что это или город, или люди, или что–нибудь другое, когда видел зверя, или жену, или воды, или что–нибудь другое подобное (Апок. XIII, 1 и XVII, 3); но, говорит, вем человека восхищена бывша до третияго небесе.
10. Если же небом он хотел назвать духовный образ, подобный телесному [небу], в таком случае и его тело было также только образом тела, в котором он был туда восхищен; след. и своим телом он называл образ тела, как небом — образ неба. В таком случае он не старался бы и различать, что он знает и чего не знает, — знает человека, восхищенного до третьего неба, не знает же, в теле ли восхищенного, или вне тела, а просто рассказывал бы о видении, называя, что видел, именами тех предметов, которые видел. И мы, когда рассказываем о своих снах или о каких–нибудь откровениях в них, говорим: «Я видел гору, видел реку, видел трех человек» и т. п., приписывая этим образам те имена, которые имеют самые предметы, подобие коих мы видели; Апостол же говорит: «то знаю, а этого не знаю».
11. А если и то и другое представлялось ему образно, в таком случае то и другое он одинаково знал иди не знал; если же небо представлялось ему в своем собственном виде и потому он знал о нем, то каким образом тело того человека могло представляться ему образным?
12. В самом деле, если виделось ему телесное небо, почему же он скрыл, виделось ли оно ему телесными глазами? Если же он не уверен был, телесными ли глазами или в духе оно ему виделось, а потому и сказал: в теле или кроме тела, не вем, то каким образом не уверен был и в том, действительно ли телесное небо виделось ему, или же оно представлялось ему образно? С другой стороны, если виделась ему бестелесная субстанция не в образе какого–нибудь тела, а так, как созерцаются нами правосудие, мудрость и т. п., и таким было и небо, то, ясно, ничего подобного нельзя видеть телесными глазами, а потому, если он знал, что видел что–нибудь подобное, то не мог сомневаться, что видел не при помощи тела. Вем, говорит, человека… кроме, тела, не вем, Бог весть.
ГЛАВА V
13. Что де ты знаешь и, из опасения ввести верующих в заблуждение, отличаешь от того, чего не знаешь? — Человека, говорит, восхищенного до третьего неба. Но это небо было или тело, или дух. Если оно было телом и было видимо телесными глазами, почему же он знает, что оно существует, а не знает, что было им видимо в теле? А если оно было духом, в таком случае или представляло собою телесный образ, и тогда одинаково неизвестно как то, было ли оно телом, так и то, было ли видимо им в теле, или же было видимо так, как умом созерцается мудрость, т. е. без всяких телесных образов, и в таком случае известно, что не могло быть видимо при посредстве тела; след. или известно и то и другое, или то и другое неизвестно, или же известно то, что видимо было, а неизвестно то, при посредстве чего было видимо. Ибо бестелесная природа, очевидно, не могла быть видима при посредстве тела. Тела же хотя и могут быть видимы вне тела, но, конечно, не так, как при помощи тела, а совершенно отличным способом (если такой существует), почему было бы удивительно, если бы этот способ мог ввести Апостола в такое заблуждение или сомнение, чтобы, видя телесное небо не телесными глазами, он мог сказать, что не знает, в теле ли или вне тела его видел.
14. Остается поэтому допустить, что так как Апостол, с такою тщательностью различающий, что он знает, от того, чего не знает, не мог ошибаться, то, когда был восхищен на небо, он не знал и сам, в теле ли он был, как существует душа в живом теле сонного ли или бодрствующего человека, или в отрешении от телесных чувств в экстазе; или же совершенно вышел из тела, оставив его мертвым до тех пор, пока его душа, по окончании видения возвратилась в мертвые члены и он не то, чтобы пробудился, будучи раньше сонным, или пришел в чувства, будучи раньше погруженным в экстаз, а ожил, как бы совершенно мертвый. Поэтому, что, будучи восхищен на небо, он там видел, и что, как утверждает, знает, то он видел в собственном смысле, а не мечтательно. Но так как душа его, отрешенная от тела, совершенно ли мертвым его оставляла, или же сама находилась в нем каким–нибудь свойственным живому телу способом, а ум её был восхищен для созерцания и слышания неизреченных [тайн] видения, то он и не знал этого, а потому, может быть, и сказал: аще в теле или кроме тела, не вем, Бог весть.
ГЛАВА VI
15. А что бывает видимо не образно, а в собственном смысле, и в то же время не при посредстве тела, то видимо бывает в зрении, которое превосходит все прочие. Постараюсь, при помощи Господа, выяснить виды и различия этого зрения. В одной заповеди: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе (Мф. XXII, 39), когда мы ее читаем, встречаются три рода зрения: во–первых — посредством глаз, которыми мы видим самые буквы, затем — посредством человеческого духа, которым мысленно представляется ближний и отсутствующий, наконец — посредством умственного созерцания, которым зрится самая мыслимая (intellecta) любовь. В ряду этих трех родов первый самый очевидный: к нему принадлежит созерцание неба и земли и вообще всего, что видят на них наши глаза. Нетрудно подойти и ко второму роду, которым мыслятся отсутствующие телесные предметы, ибо и небо, и землю со всем, что на них можем видеть, мы представляем себе и в темноте, когда, не видя ничего телесными глазами, духом созерцаем образы тел истинные ли, как видим мы и самые тела и удерживаем их памятью, или вымышленные, как может составлять их наше мышление. Ибо иначе мы представляем себе мысленно Карфаген, который знаем, и иначе — Александрию, которой не знаем. Третий же род, коим созерцается мысленная любовь, обнимает собою предметы, которые не имеют подобных себе образов. Ибо человека, дерево, солнце и вообще все небесные ли или земные тела, когда они присутствуют пред нами налицо, мы видим в их собственных формах, а когда отсутствуют, мысленно представляем себе в их, отпечатлевшихся в нашем духе, образах: все эти предметы образуют два рода зрения — один при посредстве телесных чувств, а другой при посредстве духа, в котором содержатся их образы. Но видим ли мы любовь иначе как присутствующую, в её собственном виде, и иначе как отсутствующую, в каком–нибудь подобном ей образе? Конечно, нет; но насколько может быть созерцаема умом, она может быть созерцаема одним больше, а другим меньше, а если мыслится как некоторый телесный образ, то не созерцается вовсе.
ГЛАВА VII
16. Об этих трех родах зрения, насколько, по нашему мнению, требовало дело, мы кое–что сказали уже в предыдущих книгах, но не указали числа их. В настоящем же случае в виду того, что затронутый вопрос требует с нашей стороны несколько более подробного раскрытия, мы, после краткого указания на роды этого зрения, должны обозначить их точными и соответственными именами, чтобы потом уже не возвращаться к их описанию. — Итак, первый род мы называем телесным (corporale), потому что он созерцается при помощи тела и воспринимается телесными чувствами. Второй — духовным (spiritale), так как все, что не тело и однако существует, справедливо назвать духом; а образ отсутствующего тела, хотя и подобен телу, не есть конечно ни тело, ни зрение, которым тело различается. Третий же — разумным (intellectuale), потому что назвать его mentale (умственным), от слова mens (ум), крайне нелепо в виду новизны этого названия.
17. Если бы я обратился теперь к более тонкому объяснению этих названий, то речь моя и затянулась бы, и была бы от того непонятнее; да в этом нет никакой, по крайней мере настоятельной, надобности. Достаточно знать, что телесным что–нибудь называется или в собственном смысле, когда речь идет о телах, или в переносном, как напр. сказано: яко в Том живет всяко исполнение божества телесне (Кол. II, 9). Божество не тело, но, называя таинства ветхого завета тенью будущего (Кол. II, 17), Апостол, ввиду этого сравнения с тенями, сказал, что во Христе обитает полнота божества телесно, так как в Нем исполнилось все то, что прообразовано было в тех тенях и, таким образом, Он представляет Собою в некотором роде тело этих теней, т. е. истину образов и прообразований. Отсюда, как самые образы названы им тенями иносказательно и в переносном смысле, так и в словах, что во Христе обитает полнота божества телесно, он пользуется переносным же слововыражением.
18. Название же «духовный» употребляется многоразличным образом. Так, тело, которое будет в воскресении святых, Апостол называет духовным, говоря: сеется тело душевное, востает тело духовное (1 Кор. XV, 44), — духовное в том смысле, что удивительным образом прилажено будет к духу для полного блаженства и нетления, и будет оживляться одним духом помимо всякой потребности в телесной пище, а не в том, что будет иметь бестелесную субстанцию, ибо и тело, которым облечены теперь, не имеет душевной субстанции и называется душевным потому, что в нем обитает душа. Точно также духом называется воздух сам ли или его дуновение, т. е. движение, как сказано: огнь, град, снег, голоть, дух бурен (Пс. 148, 8). Называется духом и душа скотов или человека, как написано: И кто весть дух сынов человеческих, аще той восходит горе, и дух скотский, аще низходит той долу в землю (Еккл. III, 21). Называется духом и самый разумный ум, в котором заключается некоторое как бы око души, и которому принадлежат образ и подобие Бога. Отсюда, Апостол говорит: «обновляйтесь духом ума вашего и облекайтесь в новаго человека, созданнаго по Богу» (Еф. IV 23–24), и в другом месте о внутреннем человеке: «и облекшись в новаго, который обновляется в познании по образу Создавшаго его» (Кол. Ill, 10). Точно также говоря: темже убо сам аз умом моим работаю закону Божию, плотию же закону греховному (Рим. VII, 25) и в другом месте, припоминая то же изречение, в словах: плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть… да не яже хощете, сия творите (Гал. V, 17), Апостол тО, что раньше назвал умом, назвал потом и духом. Наконец, духом называется и Бог, как говорит Господь в Евангелии: дух есть Бог, и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися (Иоан. IV, 24).
ГЛАВА VIII
19. Но не из этих, приведенных мною, случаев, где встречается название духа, мы заимствовали слово, от которого назвали духовным второй род зрения, о коем теперь идет у нас речь, а из одного места в послании к Коринфянам, где очевиднейшим образом дух отличается от ума: Аще бо, говорит Апостол, молюся языком, дух мой молится, а ум мой без плода есть (1 Кор. XIV, 14). Если этим местом дается такая мысль, что язык изрекает сокровенные и таинственные знаменования, которыми, если они непонятны уму, никто не назидается, слыша то, чего не понимает, почему раньше и сказано: глаголяй языки, не человеком глаголет, но Богу, никто же бо слышит, духом же глаголет тайны (1 Кор. XIV, 2): то достаточно видно, что в этом месте Апостол имеет в виду такой язык, на котором изрекаются значения, как бы образы и подобия телесных вещей, для уразумения коих требуется зрение (obtuitum) ума. А раз они не понимаются, в таком случае, по словам Апостола, они суть в духе, а не в уме, почему он с большею ясностью говорит: Аще благословиши духом, исполняяй место невежды, како речет: аминь, по твоему благодарению, понеже не весть что глаголеши (1 Кор. XIV, 16)? Отсюда, так как языком, т. е. членом тела, который мы движем во рту, когда говорим, даются, конечно, знаки вещей, а не самые вещи произносятся, то Апостол в переносном смысле назвал языком такое или иное произнесение знаков прежде, чем они бывают понятны; когда же соединяется с ними разумение, составляющее уже принадлежность ума, является откровение, или познание, или пророчество, или научение. Поэтому Апостол говорит: Аще прииду к вам языки глаголя, кую вам пользу сотворю, аще вам не глаголю или во откровении, или в разуме, или в пророчествии, или в поучении (1 Кор. XIV, 6)? Или в разуме, или в пророчествии, т. е. когда со знаками, т. е. с языком, соединяется понимание, так, чтобы это было делом не только духа, но и ума.
ГЛАВА IX
20. Поэтому те еще не обладают пророчеством, которые при посредстве каких–либо подобий телесных предметов изрекают знамения в духе, если при этом не присоединяется еще в разумения (obtuitum) ума для их понимания; и тот, кто истолковывает видение другого, больше пророк, чем тот, кто сам видит видение. Отсюда ясно, что пророчество принадлежит больше уму, чем духу в особенном его смысле, как некоторой низшей в сравнении с умом душевной силе, в которой отпечатлеваются представления о телесных предметах. Таким образом, Иосиф, истолковавший, что означали собою семь колосьев и семь коров, был больше пророк, чем фараон, который видел их во сне (Быт. XLI, 1–32). Фараон имел дух, настроенный к видению, а Иосиф — ум, просвещенный к уразумению. У фараона был язык, а у Иосифа — пророчество, потому что у первого было представление только предметов, а у последнего — истолкование представлений. Отсюда, меньше пророк тот, кто в духе при посредстве образов телесных предметов видит только лишь знаки означаемых ими вещей, и гораздо больше пророк тот, кто одарен только лишь пониманием этих образов, но пророк собственно тот, кто превосходит и тем и другим, т. е. и видит в духе знаменующие подобия телесных предметов, и живо понимает их умом, как напр. испытано и доказано было превосходство Даниила, который и рассказал царю виденный им сон, и объяснил, что этот сон значил (Дан. II, 27–45; IV, 16–24). Ибо и телесные образы отпечатлены были в его духе, и уму его открыто было их понимание. На основании именно этого различия духа, в виду которого Апостол сказал: помолюся духом, помолюся же и умом (1 Кор. XIV, 15), дабы и знаки предметов отображались в духе, и понимание их отражалось в уме, — на основании этого, говорю, различия мы теперь и назвали духовным такой род зрения, каким мы мысленно представляем образы предметов даже и отсутствующих.
ГЛАВА X
21. Разумный же тот превосходнейший род, который принадлежит собственно уму. Мне вовсе не встречалось случаев, чтобы разум мог называться таким же многоразличным образом, как дух. А употребляем ли мы слово разумный (intellectuale) или разумопостижимый (intelligibile), мы обозначаем одно и тоже. Некоторые, правда, допускают между этими словами такое различие, что разумопостижимое это предмет, который может быть воспринимаем одним только разумом, а разумное это самый разум, который постигает; но то — еще вопрос и вопрос важный и трудный, чтобы существовал какой–либо предмет, который бы мог быть созерцаем разумом и в то же время сам не понимал. Я не думаю, чтобы кто–нибудь стал мыслить и говорить так, что существует предмет, который бы воспринимал разумом, а сам не мог бы воспринимаем разумом. Ум созерцается не иначе, как умом. Отсюда, так как ум может быть созерцаем, то он разумопостижим, а так как согласно с вышеуказанным различием, он и созерцаем, то и разумен. Поэтому, оставив в стороне весьма трудный вопрос, существует ли что–нибудь такое, что только постигалось бы, а и не постигало, мы в настоящее время разумное и разумопостижимое соединяем под одним и тем же названием и значением.
ГЛАВА XI
22. Рассмотрим теперь эти три рода зрения — телесный, духовный и разумный — порознь, восходя от низшего к высшему. Раньше мы привели пример, как в одном изречении усматриваются все три рода зрения. Ибо, когда мы читаем: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе (Mф. XXII, 39), то телесно видим буквы, духовно мыслим ближнего, а разумом созерцаем самую любовь. Но могут быть духовно мыслимы и отсутствующие буквы, может быть, телесно видим и присутствующий ближний; любовь же по своей субстанции не может быть ни видима телесными глазами, ни представляема духом в подобном телу образе, а может быть познаваема и воспринимаема только умом, т. е. разумом. Телесное зрение не управляет ни одним из этих родов, но получаемое при его помощи ощущение передается духовному [роду], как управляющему. Ибо когда мы видим что–нибудь глазами, то образ видимого тотчас же отпечатлевается в духе, но распознается нами как такой только тогда, когда, отнявши глаза от видимого глазами предмета, мы находим в духе образ виденного. И если это — дух неразумный, как дух скотов, то образ видимого так и остается в духе. А если — разумная душа, то он передается разуму, который управляет и духом; так что тО, что видели глаза и передали духу, чтобы в нем составился образ виденного, представляет собою знак такой или иной вещи, тотчас ли его значение понимается или же только отыскивается, ибо оно может быть понято и найдено только при помощи деятельности ума.
23. Царь Валтасар видел пальцы пишущей на стене руки (Дан. V, 5), и тотчас же при посредстве телесного чувства в его духе отпечатлелся образ этого, телесно представившегося ему, предмета, и остался в его мысли после того, как самое видение уже совершилось и прошло. Этот образ он созерцал в духе, но еще не понимал его, — не понимал и тогда, когда этот знак представлялся ему телесно и видим был его глазами; однако, при помощи ума он уже догадывался, что это — знак. И так как он доискивался, что этот знак означает, то и самое это искание было делом ума же. Ничего об этом видении не зная, явился Даниил и, имея просвещенный в пророческом духе ум, открыл смущённому царю значение этого знака (Дан. V, 25, 28), будучи по тому роду зрения, которое составляет принадлежность ума, больше пророком, нежели тот, кто и знак, телесно ему представлявшийся, телесно видел и мысленно созерцал его образ в дух, но разумом мог только знать, что это — знак и только доискиваться, чтО он означает.
24. Петр видел в исступлении ума, что с неба спускается сосуд, за четыре угла привязанный и наполненный различными животными, я услышал голос: заколи и яждь (Деян. X, 11 и след.). Когда, пришедши в чувства, он размышлял о видении, Дух возвестил ему о мужах, присланных Корнилием, говоря: се мужие… ищут тебе, но востав сниди, и иди с ними…, зане Аз послах их (Деян. X, 19–20). Как понят был слышанный им в видении голос: яже Бог очистил есть, ты не скверни (Деян. X, 15), он показал это, пришедши к Корнилию, в словах: и мне Бог показа ни единаго скверна или нечиста глаголати человека (Деян. X, 28). Таким образом, когда, отрешившись от телесных чувств, он видел сосуд, то в духе слышал и слова: заколи и яждь, а также: яже Бог очистил есть, ты не скверни. Пришедши же в чувства, он начал размышлять в духе о том, что из слышанного им и виденного им в видении удержала память: все это были не телесные предметы, а образы телесных предметов как тогда, когда он видел и слышал их в исступлении, так я теперь, когда стал припоминать их и мысленно представлять. Но когда он недоумевал и доискивался, стараясь понять их значение, это было уже делом пытливого ума, хотя решение и не было еще найдено, пока не явились пришедшие от Корнилия; и когда к телесному присоединилось еще видение, в котором Дух Святый, и опять в духе, сказал ему: иди с ними, то свыше озаренным умом он понял, наконец, значение всех, бывших ему, знаков. — После тщательного рассмотрения этих и подобных им примеров явствует, что телесное зрение имеет отношение к духовному, а последнее к разумному.
ГЛАВА XII
25. Но когда в бодрственном состоянии, в то время, как ум наш не бывает отрешен от телесных чувств. мы остаемся при телесном зрении, то от этого зрения отличаем зрение духовное, при помощи коего мысленно представляем себе отсутствующие тела, вспоминая ли такие, какие знали, или каким–нибудь образом составляя в духе представление о таких, каких не знали, но какие, однако, существуют, или, наконец, выдумывая произвольно или по догадке такие, каких никогда не существовало. От всего этого мы отличаем телесные, видимые нами и подлежащие нашим телесным чувствам, предметы так, что в нас не возникает никакого сомнения, что это — тела, а то — образы тел. Когда же вследствие ли крайнего напряжения мысли, или в силу какой–нибудь болезни, как напр. это случается обыкновенно с френетиками [23] при лихорадке, или, наконец, вследствие привмещения какого–нибудь, доброго или злого, духа образы телесных предметов отражаются в духе так, как будто бы тела подлежат самым телесным чувствам, причем и в телесных чувствах сохраняется напряжение: в таком случае являвшиеся в духе телесные образы созерцаются так же, как созерцаются тела при посредстве тела; так что в одно и то же время бывают видимы глазами какой–нибудь присутствующий человек, а другой отсутствующий — духом, но как бы глазами. Мы знали людей, находившихся в подобном состоянии и разговаривающих и с присутствующими налицо и с другими отсутствующими, но как бы присутствующими. Пришедши в себя, одни сообщают, что они видели, а другие не могут этого сделать. Так и сны — одними вспоминаются, а другими забываются. Когда же внимание духа совершенно отрешается от телесных чувств, такое состояние обыкновенно называется экстазом. В этом состоянии человек ни присутствующих тел не видит, даже и с открытыми глазами, ни звуков не слышит: все внимание его души устремлено или на телесные образы при помощи телесного зрения или на бестелесные, не представляемые ни в каком телесном образе, предметы при помощи зрения духовного.
26. Но когда духовное зрение при совершенном отрешении души от телесных чувств в сновидениях ли или в экстазе, останавливается на образах телесных предметов, то созерцаемое, если оно ничего собою не означает, составляет воображение самой души, как и бодрствующие, здоровые и не находящиеся в состоянии отрешения создают образы многих тел, которые не подлежат их чувствам; разница только та. что они твердо обличают эти образы от присутствующих налицо и истинных тел. Если же оно что–нибудь собою означает, представляет ли сонным или бодрствующим, когда они и глазами видят присутствующие тела, и духом созерцают образы отсутствующих тел, но так, как бы эти последние находились пред их глазами, или же, наконец, в так называемом экстазе, при совершенном отрешении души от телесных чувств: в таком случае это — чрезвычайный способ [зрения]; но вследствие привмешения другого духа возможны случаи, что то, чтО знает сам дух, он посредством подобного рода образов внушает и тому, с кем соединяется, понимает ли его этот последний, или же получает разъяснение от другого. Ибо раз подобные откровения получаются и, конечно, от тела получаться не могут, то что же остается, как не предположить, что они получаются от какого–нибудь духа?
ГЛАВА XIII
27. Некоторые полагают, что человеческая душа в самой себе имеет некоторую силу прорицания. Но если так почему же она не всегда может, хотя и всегда хочет? Может быть потому, что не всегда получает помощь, чтобы могла? А когда получает, возможно ли, чтобы эта помощь никому не принадлежала, или принадлежала телу? Остается, поэтому, думать, что она принадлежит духу. Затем, как получается эта помощь? В теле ли происходит что–нибудь такое, что внимание души как бы отвлекается и отступает от тела, вследствие чего она приходит в состояние, когда в самой себе созерцает знаменующие образы, которые в ней существовали и раньше, но не замечались ею, подобно тому, как в памяти мы имеем много такого, чего не замечаем, или в этом случае возникает что–нибудь такое, чего раньше в самой душе не было, а существовало оно в каком–нибудь дух, в котором, отрешаясь и освобождаясь от тела, она эта образы и видит? Но если они в душе уже были, как нечто ей принадлежащее, почему же она их, как следует, и не понимает? Ибо иногда, и даже в большинстве случаев, она не понимает их. Разве сделать такое предположение, что как дух её получает помощь, чтобы видеть их, так, в свою очередь, и ум её не может их понимать, если не получает помощи? Или же, может быть, устраняются и как бы развязываются не телесные препятствия, мешающие душе в её стремлении к видениям, а она непосредственно уносится в эти видения, или только духовно их созерцая, или же понимая и разумно? Или, наконец, иногда она видит эти образы в себе самой, иногда же чрез привмешение какого–либо духа. Какое бы из этих предположений мы ни приняли, во всяком случае оно не должно быть дерзко утверждаемо. Одно только не подлежит сомнению, что телесные образы, созерцаемые духом у бодрствующих ли, или сонных или больных, не всегда служат знаками других предметов; между тем, было бы удивительно, если бы экстаз мог когда–нибудь иметь место так, чтобы образы телесных предметов при этом чего–либо не означали.
28. Не удивительно, что и одержимые демоном говорят иногда истину относительно того, что не подбежит чувствам присутствующих; потому что вследствие какого–то, наверно не знаю, сокровенного привмешения этого духа происходит то, что он становится как бы одно с духом страждущего и одержимого. Когда же в эти видения человеческий дух восхищается духом добрым, то ни в каком уже случае не следует сомневаться, что созерцаемые им образы служат знаками других предметов, и притом таких, которые полезно знать, ибо это уже — дело Божие Различие [между этими состояниями] весьма трудно в том случае, когда дух злобы действует спокойно и говорит, что может, не причиняя никакого телесного страдания, а обдержа только дух человека, — когда говорит даже истину и предсказывает полезные вещи, преобразуясь, как написано, в ангела светла (2 Кор. XI, 14), с целью уловить в свои сети, снискав доверие в очевидно добром. Думаю, что это различие возможно только при помощи того дара, о котором ведет речь Апостол, когда говорит о дарах Божиих: другому же разсуждение духовом (1 Кор. XII, 10).
ГЛАВА XIV
Ибо не трудно распознать его, когда он доводит до чего–либо такого, что противно добрым нравам и правилу веры: в таком случае он распознается многими. При помощи же упомянутого дара он в самом уже начале, когда многим кажется еще добрым, тотчас же распознается как злой.
29. Однако, и посредством телесного зрения, и при помощи открывающихся в дух образов телесных предметов как добрые научают, так и злые обманывают. Разумное же зрение не ошибается. Ибо или тот не понимает, кто принимает что–нибудь за иное, чем оно есть, или же если понимает оно непременно истинно. Глаза не знали бы, что им делать, если бы видели тело, которого не могли бы отличить от другого, или что стало бы делать внимание души, если бы в духе получилось такое представление тела, которого она не могла бы отличить от самого тела? Но является на помощь разум, отыскивая, что все это означает и чему полезному оно учит, и или, нашедши, достигает своей цели, или, не нашедши, оставляет спорным вопросом, чтобы какая–нибудь опасная крайность не завела его в пагубное заблуждение.
30. Трезвый же, свыше вспомоществуемый, разум судит о том, чтО или сколько есть такого, относительно чего думать даже и иначе, чем оно есть, для души не опасно. Ибо если со стороны добрых считается кто–нибудь добрым, хотя бы скрытно был и дурным, то тут нет ничего ни пагубного для него самого, ни опасного для думающих так о нем, если только он не погрешает относительно самых предметов, т. е. самого добра, от которого каждый бывает добр. В противном случае, в каком–нибудь отношении было бы вредно для всех людей, что они во время сна считают истинными тела, подобия коих во сне видят, или было бы вредно в каком–нибудь отношении Петру, что, когда по неожиданному чуду он был освобожден от оков и веден ангелом, мняше видение зрети (Деян. XII, 9), или когда он в экстазе отвечал: никакоже, Господи, яко николиже ядох всяко скверно или нечисто (Деян. X, 14), считая все, что находилось в сосуде, за истинных животных. Все это, раз оно оказывается иначе, чем как принималось во время видения, не должно вызывать в нас чувство раскаяния, что было так видимо, если только в этом не обнаруживается грубое неверие, или суетное и даже безбожное настроение. Поэтому, когда и диавол вводит в обман телесными видениями, нет ничего вредного в том, что в обман вводятся глаза, если только при этом [человек] не погрешает против истины веры и здравого разумения, которым Бог научает покорных Ему. Если он вводит в обман чудесными образами даже и душу в духовном зрении в такой степени, что она представляет себе существующим тело не существующее, то и это нисколько не вредно душе, если она не соизволяет на такое опасное склонение.
ГЛАВА XV
31. Отсюда поднимается иногда вопрос о соизволениях сонных, когда они видят во сне, будто вступают в совокупление или против своего намерения, или даже и против дозволенных нравов. — Случается это только тогда, когда предметы, о которых мы думаем в бодрственном состоянии не по желанию воли, а как говорим почему–либо и о подобных вещах (как, напр., и я в настоящем случае не мог бы, конечно, говорить об этом, если бы о том не думал), во сне представляются нам и отпечатлеваются в нас настолько, что ими естественно возбуждается и плоть и что она в себе естественным образом собирает, испускает детородными каналами. Допустим теперь, что образы телесных вещей, о которых я помыслил по необходимости, чтобы говорить о них, представляются во сне с такою силою, с какою представляются бодрствующим самые тела: в таком случае и происходит то, чего у бодрствующего не может происходить безгрешно. Кто, в самом деле, ведя речь и по необходимому течению речи говоря что–нибудь о своем совокуплении, может не мыслить о том, о чем говорит? Но раз фантазия, действующая и в мышлении разговаривающего, выступает в сновидении настолько, что исчезает различие между нею и действительным телесным смещением, в таком случае немедленно же возбуждается и плоть и следует то, что обыкновенно за тем следует, хотя совершается это без греха настолько же, насколько без греха служит предметом речи бодрствующего то, что, без сомнения, им мыслится, чтобы быть предметом его речи. При всем том, благодаря доброму настроению души, когда она, очищенная лучшим желанием, умерщвляет многие пожелания, не относящиеся к естественному движению плоти, которую бодрствующие люди, чистые духом, обуздывают, а сонные не могут этого сделать, потому что не имеют власти над тем, что представляется им как отпечатление телесного, ничем не отличного от самого тела, образа, — благодаря такому доброму настроению души, некоторые её заслуги отображаются и во сне. Так, Соломон и сонный предпочел всему мудрость и, оставив без внимания все прочее, испросил её у Господа и тем, как свидетельствует Писание, угодил Богу и за свое доброе желание получил вознаграждение (3 Цар. III, 5–15).
ГЛАВА XVI
32. Если все это так, то к телесному зрению имеет отношение телесное, разделяющееся как бы на пять, отдельно действующих, каналов, чувство. Так как самый тонкий и потому наиболее, чем другие, близкий к душе элемент в теле, т. е. свет распространяется сперва один посредством глаз и в зрительных нервах светит для созерцания видимых предметов, а потом — в некотором смешении, во–первых с чистым воздухом, во–вторых с воздухом бурным и туманным, в–третьих, с более плотною влажностью, в–четвертых, с земною массою, то с чувством зрения, в котором свет действует по преимуществу, он образует пять чувств; как об этом я сказал в четвертой и седьмой книге. Между тем, над всеми телесными элементами первенствует видимое небо, с которого блещут светила и звёзды, как чувство зрения первенствует в теле. А так как всякий дух, без сомнения, превосходнее всякого тела, то следует, что духовная природа, даже и та, в которой отпечатлеваются образы телесных предметов, превосходнее и самого телесного неба, не местоположением конечно, а достоинством природы.
33. Здесь мы встречаемся с некоторым удивительным явлением, именно: хотя дух существует раньше тела, а телесный образ является позже самого тела, однако возникая по времени позже, но являясь в существующем по природе раньше, телесный образ в духе превосходнее, чем само тело в своей субстанции. И отнюдь не следует думать так, что в духе производит что–нибудь тело, как будто бы дух был подчинен производящему телу, как материи. Бесспорно, то, что производит, превосходнее того, из чего оно что–нибудь производит, и ни в каком случае тело не превосходнее духа, а напротив дух несомненно превосходнее тела. Отсюда, хотя какое–нибудь тело, которого мы раньше не видали, мы видим прежде, а потом уже его образ является в нашем духе, при помощи которого воспоминается нами то, что было прежде отсутствующим; однако, этот образ производит не тело в духе, а сам в себе дух с удивительною быстротою, далеко опережающею медлительность тела, которое чуть глаз завидит, как образ его уже возникает в духе видящего без всякого промежуточного момента времени. То же самое надобно сказать и относительно слуха: если бы дух не воспринимал в себе тотчас же образа воспринятого ухом звука и не удерживал его памятью, то уже о втором слоге нельзя было бы сказать, второй ли он, так как первый, коснувшись уха, уже исчез и его не существует; а в таком случае пропадали бы всякая фраза, всякое приятное впечатление от пения, всякое, наконец, телесное движение в наших действиях, и не было бы никакого усовершенствования, если бы совершаемые телом движения не задерживались в духе при помощи памяти. А они не удерживались бы в дух, если бы он образно не воспроизводил их в себе. В нас составляются образы даже будущих наших движений еще раньше окончания наших действий. Ибо что делаем мы при посредстве тела такого, чего не предварял бы мысленно дух, не созерцал бы раньше в себе и некоторым образом не предустроял подобий всех наших видимых действий?
ГЛАВА XVII
34. Но, с другой стороны, трудно объяснить, каким образом мысленные подобия телесных предметов становятся известными духам даже нечистым, и что служит для нашей души в её земном теле препятствием, что мы, наоборот, не можем их видеть в своем духе. Тем не менее, однако, на основании несомненнейших показаний у нас известны случаи обнаружения помыслов людей демонами, которые, впрочем, если бы могли видеть в людях внутренний вид добродетелей, то не искушали бы их, как напр. если бы диавол мог видеть в Иове благородное и удивительное терпение, то не захотел бы, конечно, быть побежденным со стороны искушаемого (Иов. I, 10). Не следует, однако, удивляться, что они открывают то там, то здесь о таких событиях, которые чрез несколько дней действительно подтверждаются. Это могут делать благодаря не только способности видеть телесные предметы с остротою, несравненно более превосходною, чем наша, но и удивительной быстроте самых тел своих, гораздо более тонких, чем наши.
35. Нам известно, что одержимый нечистым духом. находясь у себя в доме, указывал время, когда собирается выйти к нему из своего, отстоящего на расстоянии двенадцати миль, дома пресвитер, где он в данную минуту находится в своем пути, как приближается и когда входит во двор, в дом и спальню, пока не является к нему на глаза. Все это больной видит не глазами; однако, если бы он этого каким–нибудь образом не видел, то не давал бы таких верных показаний; а был он болен лихорадкой и говорил как бы в френетическом бреду. Может быть, он и действительно был френетик, но его по этой причине считали за одержимого демоном. От своих домашних он не принимал никакой пищи, а только от пресвитера. Домашним своим, насколько мог, оказывал жестокое сопротивление и только с приходом пресвитера успокаивался, ему только был послушен и отвечал с покорностью. Однако, и самому пресвитеру умоисступление и бешенство больного уступили только тогда, когда он выздоровел от лихорадки, как обыкновенно выздоравливают френетики, и никогда уже потом не испытывал ничего подобного.
36. Знаем мы и такой случай, что несомненный уже френетик предсказал будущую смерть одной женщины, и предсказал не в виде прорицания, а в виде рассказа о совершившемся и прошлом событии. «Умерла, говорил он, ведя свой рассказ, — я видел, как ее вынесли и с телом пронесли вот тут», хотя она была жива; чрез несколько дней она вдруг умерла и ее пронесли по тому месту, как он предсказал.
37. Был также у нас мальчик, который, при вступлении в юношеский возраста, жестоко страдал болезнью половых органов; причем, врачи никак не могли догадаться, что с ним такое, — видели только, что самый член скрыт внутри, так что, не обрезав крайней, чрезвычайно длинной отвислой плоти, нельзя было его видеть, да и после едва он был найден. Между тем, пах и шулята жгла вытекавшая клейкая и вонючая жидкость. Но острую боль испытывал он не постоянно, а когда испытывал её приступы, страшно выл, трясясь всеми членами, хотя и сохраняя полное сознание, как обыкновенно бывает это при физических страданиях. Затем, среда своих воплей он лишался чувств и падал с закрытыми глазами, нечувствительный ни к каким щипаниям. Чрез несколько времени как бы пробудившись и уже не чувствуя боли, он рассказывал, что видел. Потом, чрез несколько дней, снова подвергался тем же страданиям. Во всех, или почти во всех своих видениях он, как рассказывал, видел кого–то двух, одного пожилого, другого мальчика, которые ему и говорили или показывали то, что, по его словам, он видел и слышал.
38. Однажды видел он сонм поющих и ликующих в дивном свете праведников и различные жесточайшие муки нечестивых; причем, те двое вели его и показывали ему блаженство одних и мучение других. Видел он это в день Пасхи Господней, когда в течение всей Четыредесятницы он не испытывал страданий, от которых раньше едва освобождался и на три дня. Накануне Четыредесятницы он видел тех двоих, обещавших ему, что чрез сорок дней он не будет чувствовать никакой болезни, и затем они дали ему врачебный совет — обрезать крайнюю плоть, после чего он долгое время не болел. Когда же опять заболел и начал видеть подобные видения, то получил от них снова совет — войти в море до бороды и чрез несколько времени оттуда выйти, причем обещали, что, наконец, он не будет уже подвержен сильной болезни, а только лишь неприятному истечению клейкой жидкости. Так и случилось; после он не подвергался уже никогда прежним умоисступлениям и не видел ничего такого, что видел раньше, когда, вдруг среди страданий и ужасных криков утихнув, он уносился в видения. Впоследствии, впрочем, когда врачи выпользовали и излечили его и от остального, он не устоял в святых расположениях.
ГЛАВА XVIII
39. Если бы кто–нибудь мог исследовать и верно понять причины и способы подобных видений и прорицаний, то мне хотелось бы скорее послушать его, чем самому рассуждать. Однако, не буду скрывать и того, что сам я думаю об этом предмете; пусть только ни ученые не поднимают меня на смех, как человека утверждающего, ни неученые не принимают за человека поучающаго, а те и другие пусть считают меня скорее исследующим, чем знающим. Все эти видения я приравниваю к видениям сонных. Как эти последние бывают иногда ложны, а иногда истинны, иногда совершенно подобны будущему, или ясно рассказаны, иногда тревожны, а иногда спокойны, а когда истинны, предуказываются в темных намеках и как бы иносказательно: таковы точно и те. Но люди любят распытывать неизведанное и исследовать причины необычных явлений, оставляя без внимания явления ежедневные, хотя весьма часто эти имеют более сокровенное происхождение. Как в области звуков, т. е. знаков, коим мы пользуемся в своей речи, они, слыша неупотребительное слово, спрашивают, что оно означает, а познакомившись с его значением, спрашивают дальше, откуда взялось такое слово, хотя относительно многих, имеющихся в словоупотреблении, выражений не стараются знать, откуда они взялись: так точно старательно ищут причин и оснований и требуют разъяснения у людей ученых, когда встречают что–нибудь необычное и в области вещей телесных ли или духовных.
40. Когда кто–нибудь спрашивает меня, что значит, напр., слово catus (умный), а я отвечаю — prudens (благоразумный), или acutus (острый), но он этим не удовлетворяется, а продолжает спрашивать, откуда взялось слово catus, то я обыкновенно спрашиваю его в свою очередь, откуда взялось слово acutus? чего, конечно, он не знает, но так как это слово употребительное, то он терпеливо остается при незнании его происхождения, полагая в то же время, что будет знать значение нового, поражающего его ухо, слова, если доищется, откуда оно происходит. Отсюда, всякого, кто только меня спрашивает, откуда в редко случающемся с душою экстазе происходят видения, подобные телесным предметам, я спрашиваю в свою очередь у него, откуда происходят у спящих видения, которые душа испытывает ежедневно и, однако, никто вовсе не старается или мало старается входить в исследование этого предмета. Как будто природа этих ведений меньше удивительна потому что ежедневна, или меньше заслуживает внимания потому, что свойственна всем, или если правильно поступают те, которые не входят в исследование этих явлений, то менее бы правильно поступили они, если бы не интересовались теми! А я гораздо больше удивляюсь и изумляюсь тому, с какою быстротою и легкостью душа составляет в себе образы тел, которые она видит при помощи глаз, нежели видениям сонных и даже находящихся в экстазе. Впрочем, какова бы ни была природа видений, несомненно, что они не тело. А для кого этого недостаточно, тот пусть от других распытывает, откуда они происходят; я со своей стороны признаюсь, что этого не знаю.
ГЛАВА XIX
41. Говорят, что это выводится прямо из примеров, взятых из опыта; так, напр., бледность, краснота, дрожание, даже болезнь тела имеют причину иногда в теле, а иногда в душе, — в теле, когда или разливается по нему влага, или же со вне входит в него пища или что–нибудь другое, — в душе, когда она или волнуется страхом, или смущается стыдом, или гневается, или любит, или испытывает что–нибудь подобное, и совершенно естественно: сильнее волнуясь сама, она естественно сильнее потрясает и то, что любит и чем управляет. Так точно, если и душа погружается в видения, которые открываются ей не телесными чувствами, а бестелесною субстанцией, и погружается так, что не различает, тела ли это, или подобия тел, то причина этого происходит иногда со стороны тела, а иногда со стороны духа, — со стороны тела или вследствие происходящих в нем естественных перемен, как напр. происходят видения сонных (потому что спать свойственно человеку по телу), или вследствие какого–либо болезненного его состояния, когда телесные чувства или приходят в расстройство, напр. когда френетики видят разом и тела и видения, настолько подобные телам, как будто пред глазами у них находятся самые тела, или же бывают совершенно закрыты, напр. когда крайне изможденные какою–нибудь постепенно усиливающеюся болезнью, долго отсутствуя из находящегося тут же тела и, затем, в него возвращаясь, часто рассказывают, что видели многое, — в духе, когда при совершенно здоровом теле [люди] или впадают в такое исступление, что видят при посредстве телесных чувств тела и в духе — некоторые подобия, коих не обличают от тел, или же совершенно отрешаются от телесных чувств и, ничего решительно не ощущая, остаются в течение этого духовного видения в области телесных подобий. Но когда в подобные состояния ставит человека нечистый дух, то являются или бесноватые или же ложные пророки, а когда — дух добрый, то являются верные, глаголющие тайны, пророки ли истинные, когда при этом присоединяется еще и разумение, или же мужи, видящие видения и повествующие о них в приложении к тому времени, которое ими должно быть указываемо.
ГЛАВА XX
42. Но если причина подобных видений происходит со стороны тела, то производит их не само тело, потому что тело не имеет силы образовать что–нибудь духовное; но, при усыплении, или расстройстве, или даже закрыли пути внимания [души] от стороны мозга, откуда направляется движение ощущения, сама душа (которая по собственному побуждению прекратить своей деятельности не может), будучи поставлена или почти поставлена в невозможность получать ощущения от телесных предметов или направлять к ним силу своего вникания при посредстве тела, создает подобия телесных предметов при помощи духа, или созерцает те, которые сообщаются ей духом; при чем, если сама создает их, это будут только фантазии, а если созерцает сообщаемый духом, это будут знаки [телесных предметов]. Так, когда болят иди совершенно слепнут глаза, то хотя в этом случае препятствие к, созерцанию телесных предметов существует в теле, однако зрения этого рода не бывает отнюдь не потому, что причина заключается в седалище мозга, откуда направляется само чувствующее внимание души. Действительно, слепые видят больше во сне, нежели в бодрственном состоянии. У сонных у них путь ощущения, ведущий внимание [души] к глазам, в мозгу усыплен, а потому это внимание, будучи отвлечено на нечто другое, созерцает сновидения, как будто телесные формы существуют у них на лицо, так что сонный видит себя бодрствующим и думает, будто он видит не подобия тел, а самые тела; когда же слепые находятся в бодрственном состоянии, то зрительное внимание идет по своему пути, но, доходя до глаз, не выходит наружу, а здесь и остается, так что они чувствуют, что бодрствуют, и в бодрственном состоянии остаются больше в темноте даже и днем, чем в сонном, днем ли, или ночью. И не слепые весьма часто спят с открытыми глазами, ничего ими не видя, и все же их нельзя назвать ничего не видящими, потому что они духом видят сновидения; а если бы они в бодрственном состоянии захотели быть с закрытыми глазами, то остались бы не способными к зрению ни сонных, ни бодрствующих. Впрочем, тут имеет значение только то обстоятельство, что у них от мозга до самых глаз идет нерв не усыпленный, не расстроенный и не закрытый и приводит внимание души до самых, хотя и закрытых, дверей тела, так что они мысленно представляют себе образы тел, но ни в каком случае не принимают их за тела, которые видят глазами.
43. Важно только, где происходит препятствие к созерцанию телесных предметов, когда оно имеет место в теле. Если оно происходит при самом входе, так сказать при дверях чувств, напр. в глазах, ушах и других телесных чувствах, то затрудняется только лишь восприятие телесных предметов, внимание же души не отвлекается на что–нибудь другое, что бы могло принимать телесные образы за тела; а если причина находится внутри в мозгу, откуда направляются пути к ощущению того, что находится во вне, то ослаблены, расстроены и закрыты бывают орудия самого внимания души, при помощи которых она стремится к созерцанию и ощущению того, что находится во вне. А так как этого стремления душа не теряет, то она образует подобия с такою ясностью, что, не в состоянии будучи отличить образов телесных предметов от самых тел, не знает, в области ли образов находится она, или тел, а когда знает, то знает совершенно другим способом, чем когда имеет дело с подобиями тел при мышлении. Этот способ может быть понятен до известной степени только людям опытным. Ибо со мною бывало, что я сонный знал, что вижу во сне, и, однако, те подобия телесных вещей, которые видел, я не отличал от самых тел так, как обыкновенно мы отличаем их, мысля даже с закрытыми глазами, или находясь в темноте. Здесь имеет значение только то обстоятельство, доводится ли внимание души до самых, хотя бы и закрытых, чувств, или же в самом уже мозгу, откуда оно в ним направляется, оно по какой–либо причине отвлекается на что–нибудь другое, так что хотя иногда душа и знает, что видит не тела, а подобия тел, или, считая их, как менее опытная, за самые тела, чувствует, что видит их не телом, а духом, однако находится далеко не в том состоянии, в каком она присутствует в своем теле; отсюда, и слепые знают; что бодрствуют, когда мысленные подобия тел ясно обличают от тел, которых не могут видеть.
ГЛАВА XXI
44. А если душа, при совершенно здоровом теле и не усыпленных чувствах, восхищается в видения некоторым сокровенным духовным действием, то этот способ отличен от предыдущего отнюдь не потому, что отлична и самая причина видений, так как и в причинах со стороны тела существует, конечно, различие и иногда до противоположности. Так, френетики имеют расстроенные пути ощущения в голове скорее в бодрственном состоянии, так что видят такие вещи, какие видят спящие, внимание которых во сне отвлечено от ощущения бодрствования и обращено к созерцанию сновидений. Отсюда, хотя первое происходит в бодрственном состоянии, а последнее в сонном, однако то, что видят те и другие, принадлежит не другому роду, а той же природе духа, от которого или в котором получаются подобия тел. Таким образом, хотя причина отвлеченного внимания и отлична в том случае, когда в здоровом теле бодрствующего душа восхищается какою–нибудь сокровенною духовною силою так, что вместо тел видит отпечатлевшиеся в духе подобия телесных предметов, однако природа видений одна и та же. И нельзя сказать, что, когда причина [видений] заключается в теле, тогда душа без всякого предощущения будущего производит образы тел из себя самой, как обыкновенно производит их при мышлении; а когда восхищается в эти видения духом, они открываются свыше, ибо Писание ясно говорит: излию от духа моего на всяку плоть… и старцы ваши сония узрят, и юноты ваши видения увидят (Иоил. II, 28), приписывая и то и другое божественному действию, и ангел Господень явился Иосифу во сне, говоря: не убойся прияти Мариам жены твоея, а также: поими отроча и… бежи во Египет (I, 20 и II, 13).
ГЛАВА XXII
45. Итак, когда дух человека восхищается в созерцаниe образов добрым духом, то, думаю, эти образы что–нибудь означают, а когда причина, что дух человеческий стремится к их созерцанию, заключается в теле, то не всегда, надобно думать, они что–нибудь означают, а означают тогда, когда внушаются указующим духом сонному ли или претерпевающему что–нибудь со стороны тела такое, что он отрешается от плотских чувств. Да и людям бодрствующим, не одержимым никакою болезнью и не подверженным беснованию, как нам известно, внушаемы были некоторым сокровенным инстинктом такие мысли, которые они высказывали, не только делая в этом случае нечто другое, как, напр., Каиафа изрек пророчество (Иоан. XI, 51), хотя и не имел желания пророчествовать, но и начиная говорить что–нибудь в виде прорицания.
46. Так, некоторые юноши во время путешествия выдали себя, с целью ради шутки ввести в обман, за математиков, хотя не имели ни малейшего понятия о двенадцати знаках. Когда они заметили, что их хозяин удивляется их словам и подтверждает их, как чистейшую правду, они пошли смелее дальше. Он же все удивлялся им, подтверждая слова их. Наконец, он спросил их о здоровье своего сына, которого он ждал из долгого отсутствия и беспокоился в виду его неожиданного замедления, не случилось ли с ним что–нибудь. Они же, не обращая внимания, что будет после их отхода, и желая, пока присутствовали, поддержать этого человека в радостном настроении, ответили, готовые уже отправиться в свой путь, что [сын его] здоров, что он близко и придет в тот самый день, как они это говорили, не допуская мысли, чтобы, по истечении этого дня, на следующий день он вздумал догнать их с целью уличить во лжи. Да что много говорить? Лишь только они собрались уйти, как вдруг сын действительно явился.
47. Другой юноша плясал пред оркестром, расположившимся на таком месте, где по случаю какого–то языческого праздника было много идолов, не духом каким–нибудь восхищенный, а представляя исступленных с потешным передразниванием знакомых, около стоящих и зрителей. Ибо в обычае было не воспрещать, если кто–нибудь из юношей, после совершённого пред завтраком жертвоприношения и при возбужденном состоянии фанатиков, хотел забавляться подобным образом. Между тем, среди пляски, сделав себе передышку, шутя и окруженный смеющейся толпой, он предсказал, что наступающею ночью в ближайшем лесу будет умерщвлен львом человек, смотреть на труп которого с наступлением дня сбежится толпа, и место настоящего празднества опустеет. Так и случилось, хотя всем присутствующим по всем его движениям видно было, что он сказал это шутя и не находясь в состоянии умственного расстройства или исступления; и даже сам он тем более дивился случившемуся, что не знал, в каком душевном состоянии произнес свое предсказание.
48. Каким образом возникают эти видения в человеческом духе — в нем ли они первоначально и образуются, или же сообщаются ему и им созерцаются как уже готовые, благодаря какому–нибудь привмешению (так что ангелы как сообщают людям свои познания и подобия телесных предметов, какие они наперед по предведению составляют в своем духе, так видят и наши мысли, конечно, не глазами, а духом, с тем, впрочем, различием, что наши мысли они знают, хотя мы того и не желаем, а мы их мысли можем знать в том только случай, когда они их нам открывают, потому что, думаю, они обладают властью скрывать свои мысли каким–либо духовным способом так же, как мы по каким–нибудь встречающимся препятствиям скрываем свои тела, чтобы их не видели чужие глаза), и чтО в нашем духе служит причиною, почему он иногда только созерцает знаменующие образы, но не знает, имеют ли эти образы какое–нибудь значение, иногда же чувствует, что они имеют значение, но какое именно, не знает, а иногда душа человеческая, как бы в силу более полного откровения, созерцает в дух самые эти образы, а в уме — их значениe, — все это для нас знать в высшей степени трудно, и разобрать и объяснить, если даже и знаем, весьма не легко.
ГЛАВА XXIII
49. На то только достаточно, думаю, указать теперь, как на несомненное, что в нас существует некая духовная природа, в которой образуются подобия телесных предметов, когда или мы касаемся какого–нибудь тела телесным чувством и сейчас же его образ составляется в духе и воспроизводится памятью; или мысленно представляем тела отсутствующие, но нам уже известные, так что у нас составляется некоторый духовный облик того, что в духе существовало еще прежде, чем мы стали мыслить о нем; или созерцаем подобия таких тел, каких мы не знаем, но в которых, однако, не сомневаемся, — созерцаем не так, как они существуют, а как это кажется нашей мысли; или произвольно представляем другие, как не существуют, или же не знаем, существуют ли; или откуда бы то ни было возникают в нашем духе различные формы телесных подобий, хотя мы ничего подобного не делали и не желали; или, готовясь что–нибудь сделать телесным образом, мы делаем распорядок тому, что имеет быть в этом действии, и мысленно все это предупреждаем; или в самом уже действии, говорим ли мы иди делаем что–нибудь, телесные движения внутренне предваряются своими подобиями в духе, ибо не было бы ни одного, даже самого короткого, слога, если бы он не был предусматриваем; или сонным видятся сновидения, ничего ли не означающие; или, при расстройстве и преграждении путей ощущения вследствие состояния телесного здоровья, телесные образы духа так переплетаются с действительными телами, что почти или совсем не могут быть от них отличаемы, все равно имеют ли они значение или же не имеют; или при какой–нибудь удручающей телесной болезни или же скорби, преграждающей внутренние пути, которыми направляется внимание души к ощущению внешних предметов, образы этих предметов, означающие ли что–нибудь или же не означающие, выступают в дух гораздо глубже, чем при бесчувственном сне; или без всякой причины в теле, восхищаемая каким–нибудь духом и в то же время пользуясь и телесными чувствами, душа уносится в подобные видения, примешивая к ним и телесные видения; или, наконец, при этом восхищении дух в такой степени отвлекается и отрешается от всякого телесного чувства, что имеет дело с одними только телесными подобиями при помощи духовного зрения, причем не знаю, может ли быть созерцаемо что нибудь, не имеющее значения.
ГЛАВА XXIV
50. Таким образом, духовная природа, в коей отпечатлеваются не тела, а телесные подобия, имеет зрение низшего рода в сравнении с умственным или разумным светом, которым и предметы этого низшего зрения обсуждаются и созерцается то, что — не тела и не имеет форм, подобных телам, как напр., сам ум и всякая душевная добродетель, которой противоположны справедливо обвиняемые в осуждаемые пороки души. Ибо, каким другим образом созерцается сам разум, если не при помощи разума? Точно также [созерцаются] и любовь, радость, великодушие, благосклонность, доброта, вера, обычай, воздержание, и прочее тому подобное, чем мы приближаемся к Богу (Гал. V, 22–23), а, наконец, и Сам Бог, из Которого все и в Котором все (Римл. XI, 36).
51. Итак, хотя в одной и той же душе происходит зрение или того, что ощущается при помощи тела, напр. телесное небо, земля и все, что только может быть на них познаваемо, или того, что созерцается духом как подобия тел (о чем нами уже сказано немало), или того, что, будучи постигаемо умом, не представляет собою ни тел, ни их подобий; однако, все эти роды зрения имеют свой порядок в один превосходит другой. Так, духовное зрение превосходнее телесного, а разумное превосходнее духовного. Телесного не может быть без духовного, ибо в тот самый момент, когда тело ощущается при помощи телесного чувства, в душе получается нечто такое, что представляет собою не само тело, а его подобие; а не будь этого, не существовало бы и самого чувства, при помощи которого ощущаются вне находящиеся предметы. Ибо ощущает не тело, а душа при посредстве тела, которым она пользуется, как вестником, для образования в себе того, что сообщается ей со вне. Поэтому телесное зрение может быть только одновременно с духовным, и отделяется от этого последнего только тогда, когда чувство отвлекается от тела, чтобы видимый при посредстве тела предмет отпечатлелся в духе. Напротив, духовное зрение может совершаться и помимо телесного, когда в духе являются подобия отсутствующих предметов, при чем многие из них или измышляются произвольно, или открываются невольно. В свою очередь, духовное зрение нуждается для своего обсуждения в разумном, разумное же в духовном, как низшем, не нуждается, а потому телесное зрение подчинено духовному, а оба они — разумному. Отсюда, когда мы читаем: духовный возстязует вся, а сам той ни от единаго возстязуется (1 Кор. II, 15), то эти слова должны понимать не в смысле того духа, от которого отличается ум, как напр. слова: помолюся духом, помолюся же и умом (1 Кор. XIV, 15), но в том смысле, как сказано: «обновляйтесь духом ума вашего» (Еф. IV, 23). Ибо выше мы показали, что духом называется и самый ум, которым духовный возстязует вся. Поэтому, мне кажется, будет вполне уместно думать, что духовное зрение занимает как бы посредствующее место между разумным и телесным зрением. Ибо то, чтО не тело, а подобное телу, полагаю, уместно назвать средним между тем, чтО представляет собою истинное тело, и тем, что не есть ни тело, ни его подобие.
ГЛАВА XXV
52. Между тем, душа бывает игрушкою телесных подобий, впрочем, не по их, а собственной вине, когда, за недостатком разумения, принимает подобия за самые предметы, подобиями которых они служат. Отсюда она впадает в обман при телесном зрении, когда полагает, что тО происходит в самых телах, что происходит в телесных чувствах, когда напр. мореплавателям кажется, будто на суше движется то, что стоит на одном месте, а смотрящим на небо, будто стоят на одном месте светила, которые на самом деле движутся; или когда считает что–либо существующим такое, что подобным образом окрашено, или подобным образом пахнет, звучит, кажется на вкус и осязание, ибо в этом случае и какой–нибудь сваренный в горшке пластырь принимается за горох, грохот проезжающей повозки — за гром, а если другие чувства в расчет не принимаются и дело ограничивается одним только осязанием, то тыква принимается за траву, известную под названием пчелиной, пища, приправленная сладковатым соком, за приготовленную из меду, дешевое кольцо в потемках за золотое, хотя оно только медное или серебряное; или когда, расстроенная внезапными и неожиданными телесными видениями, душа думает, что она или видит во сне, или находится в состоянии какого–нибудь подобного духовного видения. Вот почему во всех телесных видениях требуется свидетельство как других чувств, так особенно ума, т. е. разума, чтобы находить, насколько находить можно, то, что в этого рода предметах истинно. В духовном же зрении, т. е. в телесных подобиях, которые созерцаются духом, душа обманывается тогда, когда думает, что созерцаемые ею образы суть самые тела, или то, что она представляет себе по предположению и ложной догадке, относит и к телам, которые не видя предполагает по догадке. Но в видениях разумных душа не ошибается, ибо или она понимает, и в таком случае это истинно, или если оно не истинно, значит — она не понимает; отсюда, иное для души — ошибаться в том, что она видит и иное — ошибаться потому, что не видит.
ГЛАВА XXVI
53. Поэтому, когда душа восхищается в видения, которые созерцаются духом, как подобия телесных предметов, так что отрешается от всех телесных чувств гораздо полнее, чем во сне, но меньше, чем при смерти, то будет делом уже божественного внушения и вспомоществования, если она знает, что видит духом не тела, а видения, подобные телам, подобно тому, как сонные раньше пробуждения знают, что видят именно во сне. А если она созерцает еще и будущее, и притом вполне зная, что это — именно будущее, образы которого созерцаются ею, как настоящие, — зная при посредстве ли самого человеческого, свыше вспомоществуемого, разума, или же по чьему–либо, сообщаемому во время самых видений, изъяснению, как подобные изъяснения делались Иоанну в Апокалипсисе (I, 10): в таком случае это будет уже великое откровение, хотя тот кому делаются подобные откровения, быть может, и не знает, вышел ли он из тела, или же находится еще в теле, а видит все это отрешенным от чувств духом, ибо восхищенный может не знать этого, если о том не будет ему сообщено.
54. Но если душа, как она восхищена от телесных чувств настолько, что находится в области телесных подобий, созерцаемых духом, восхищается подобным образом и от этих подобий, так что переносится в ту как бы страну разумных и разумопостижимых предметов, в которой истина созерцается без всяких телесных подобий и не затемняется никаким туманов ложных мнений: в таком случае уже не трудны и не тяжелы добродетели душевная, ибо там нет ни пожеланий, которые бы обуздывались при помощи умеренности, ни несчастий, которые бы переносились при помощи мужества, ни непотребств, которые бы наказывались при помощи правосудия, ни неудач, которые бы отклонялись при помощи благоразумия. Там существует единственная добродетель — любить то, что видишь, и высшее блаженство — обладать тем, что любишь. Там блаженная жизнь пьется из самого её источника, которым орошаются некоторые стороны и здешней человеческой жизни, чтобы люди в испытаниях века сего жили умеренно, мужественно, правосудно и благоразумно. Ибо для получения награды там, где будет покой и неизреченное видение истины, и предпринимается здесь труд и воздержания от удовольствий, и перенесения несчастий, и вспоможения неимущим, и удержания заблуждающихся. Там зрится слава Господня не чрез телесное зрение, как она была видима на Синае (Исх. XIX, 18), или чрез духовное, как видел ее Исайя (Иса. VI, 1), или Иоанн (Апок. I, 10), но яве и не гаданием, насколько она может быть воспринимаема умом человеческим, по благодати Бога, приемлющего говорить усты ко устом с тем, кого Он сделает достойным такого собеседования, — усты не телесные, а умственные.
ГЛАВА XXVII
Как, думаю, надобно понимать написанное о Моисее (Числ. ХII, 8).
55. Ибо, как. читаем в книге Исход (XIX, 18 и ХХХIII, 9), Моисей пожелал видеть Бога, не так, конечно, как видел Его на горе, и не так как видел в скинии, но в самой Его сущности, без всякого посредства телесной твари, которая представляется чувствам смертной плоти, и не при посредстве образовавшихся в духе телесных подобий, а под Его видом, насколько может Его воспринять разумная тварь, отрешившись от всякого телесного чувства, и от всякого знаменующего гадания духа. Ибо написано так: аще обретох благодать пред Тобою, яви ми Тебе Самого, да… вижду Тя (Исх. ХХХIII, 13), хотя несколько выше говорится, что Господь глагола к Моисею лицем к лицу, якоже аще бы кто возглаголал к своему другу (ст. 11). Следовательно, Моисей чувствовал, что он видел, и желал того, чего еще не видел. Ибо и несколько ниже, когда Бог сказал Моисею: обрел еси благодать предо Мною, и вем тя паче всех (ст. 17), Моисей отвечает Богу: покажи ми славу Твою (ст. 18). И получил от Господа знаменательный (о котором теперь было бы долго рассуждать) ответ, когда Бог сказал ему: не возможеши видети лица Моего, не бо узрит человек лице Мое и жив будет (ст. 20). И потом прибавил и сказал: се место у Мене, и станеши на камени. Егда же прейдет слава Мол, и положу тя в разселине камене, и покрыю рукою Моею над тобою, дондеже мимоиду. И отъиму руку Мою, и тогда узриши задняя Моя: лице же Мое не явится тебе (ст. 21–23). Однако дальше Писание не говорит, чтобы так и произошло телесным образом; а отсюда достаточно доказывается, что это сказано в значении Церкви. Ибо она — место у Господа, так как Церковь — храм Его и создана на камне, да и все остальное, тогда сказанное, соответствует такому именно пониманию. Но, с другой стороны, если бы Моисей не удостоился видеть желанной им славы Господней, то в книге Чисел Бог не сказал бы Аарону и Мариами, брату и сестре его: послушайте словес Моих: аще будет в вас пророк Господень, в видении ему познаюся, и во сне возглаголю ему. Не тако якоже раб Мой Моисей, во всем дому Моем верен есть: усты ко устом возглавлю ему лечь, и не гаданием, и славу Господню виде (Чис. ХII, 6–8). Это надобно понимать уже не по телесной субстанции, которая представляется плотским чувствам, ибо чрез телесную тварь, конечно, говорил Бог с Моисеем лицом к лицу, дружественно, и тогда, когда Моисей сказал ему: покажи мне Тебе Самого; так же точно, т. е. при посредстве телесной, телесным чувствам доступной, твари говорил Он и в настоящем случае с теми, которых укорял и пред которыми восхвалял заслуги Моисея. Поэтому, несравненно таинственнее и явственнее говорит Он неизреченным глаголанием в том Своем виде, в котором никто не может Его видеть и остаться живым в своей настоящей жизни (которою живут люди смертным образом в своих телесных чувствах), если он некоторым образом не умирает от сей жизни, совершенно ли выходя из тела или же отрешаясь от телесных чувств так, что, как говорить Апостол, уже не знает, в теле ли или вне тела находится (2 Кор. VII, 3), когда бывает восхищен и перенесен в подобное видение.
ГЛАВА XXVIII
56. Поэтому, если Апостол третьим небом назвал тот третий род зрения, который превосходнее не только телесного зрения, каким ощущаются тела при посредстве телесных чувств, но и всякого духовного зрения, каким созерцаются телесные подобия при посредстве духа, а не ума; то этим родом зрения созерцается слава Божия, для лицезрения которой очищаются сердца, как написано: блажени чистыи сердцем, яко тии Бога узрят (Mф. V, 8), — созерцается не под каким–нибудь, телесно или духовно представляемым, знаком, яко зерцалом в гадании, но лицем к лицу (1 Кор. XIII, 12), или, как написано о Моисее, усты ко устом, т. е. под тем видом, в каком так или иначе существует Бог, как бы мало ни способен был постигать Его наш разум, отличный от Него даже и в том случае, когда очищен от всякой земной скверны и отрешен от всякого тела в телесного подобия, ибо пока верою ходим, а не видением (2 Кор. V, 6–7), мы находимся в дальнем от Него странствовании, даже когда живем здесь и праведно. Почему же не думать нам, что великому Апостолу, учителю языков, восхищенному в такое чрезвычайное видение, Бог хотел показать ту жизнь, в которой мы будем жить вечно после сей жизни? Почему не назвать ее раем, в замену того, в котором жил телесно Адам среди тенистых и плодовитых деревьев? Ибо и Церковь, которая собирает нас в лоно своей любви, называется раем с плодом яблочным (Песн. Песн. IV, 13).
Но так названа она иносказательно, как бы тем раем, в котором Адам находился в собственном смысле, под образом будущего предуказана была Церковь, хотя, быть может, при более внимательном обсуждении откроется, что раем, в котором телесно находился Адам, предуказана была и жизнь святых, которая проводится ими теперь в Церкви, и жизнь, которая после настоящей будет и будущем. Так, Иерусалим, который в переводе значит «видение мира», и в то же время представляет собою город, означает и Иерусалим вечный — наше отечество на небесах, вместе ли с теми, которые спасены надеждою и с терпением ожидают, надеясь на то, чего не видят (Рим. VIII, 24, 25) в смысле коих многа чада пустыя паче, нежели имущия мужа (Гал. IV, 27), или же чрез Церковь многоразличной премудрости Божией (Еф. III, 10) вместе со святыми ангелами с которыми после настоящего странствования предстоит созерцать ее без труда и конца.
ГЛАВА XXIX
57. Но если третье небо, куда был восхищен Апостол, принят в таком смысле, что выше него существуют, как думают, четвертое и даже еще несколько небес, в числе коих третье занимает низшее место (одни насчитывают их семь, другие — восемь, третьи — девять, а некоторые даже десять, утверждая, с другой стороны, что и в том небе, которое называется твердью, существуют последовательно многие, а потому или полагают, что все они телесны, о каком умозаключении или мнении их было бы долго рассуждать в настоящем случае): то возможно, что кто–нибудь станет настаивать или, пожалуй, доказывать, что существует много степеней и в духовном и в разумном роде зрения, и притом степеней различных, смотря по большей или меньшей степени откровений. Но как бы каждый не принимал и не представлял себе этот предмет, один так, другой — иначе, я, кроме указанных трех родов зрения — телом, духом и умом — доселе не знаю и не могу говорить. Признаюсь, не знаю и того, сколько существует и различий в каждом из этих родов, так чтобы в каждом из них, взятом в отдельности, одно постепенно было выше другого.
ГЛАВА XXX
58. Но как в телесном свете есть небо, которое мы видим выше земли, с которого блещут светила и звезды, представляющие собою тела гораздо лучшие земных, так и в духовном роде зрения, в котором созерцаются подобия тел при помощи бестелесного и свойственного им света, бывают некоторые чрезвычайные и поистине божественные видения, которые удивительным образом открывают ангелы, делая ли свои собственные видения нашими путем какого–либо мощного, для них удобного, привмешения или соединения, или же каким–нибудь неизвестным образом умея образовать в нашем духе наше собственное видение, — трудно понять и еще труднее выразить словами. Бывают и обыкновенные, человеческие видения, которые или возникают многоразличным образом из нашего духа, или же каким–нибудь образом возбуждаются в духе со стороны тела. Ибо люди не только в божрственном состоянии обращают внимание своей мысли на телесные подобия, но и в сонном состоянии грезят о том, чего не достает им; своими делами они занимаются, движимые душевным желанием, а если засыпают голодными и жаждущими, упорно грезят о яствах и питиях. Все это в сравнении с ангельскими откровениями, полагаю, надобно рассматривать так, как если бы в видимой природе мы стали сравнивать земные тела с небесными.
ГЛАВА XXXI
59. Так точно и в разумном роде зрения одно — то, чтО созерцается в душе, как напр. добродетели с противоположными им пороками, останутся ли он и на будущее время, как напр. благочестие, или же только полезны в настоящей жизни, а потом их не будет, как напр. вера, при помощи которой мы верим тому, чего еще не видим, надежда, при помощи которой мы с терпением надеемся на будущее, и самое терпение, при помощи которого мы переносим несчастья, доколе не приходим туда, куда хотим. Этих и подобных им добродетелей, весьма необходимых в настоящей жизни по нуждам совершаемого нами странствования, не будет в будущей жизни, для получения которой они необходимы, и однако они созерцаются разумным образом, ибо не суть ни тела, ни подобные телам образы. Иное же — самый свет, которым освещается душа, чтобы все, разумно мыслимое, она могла созерцать в себе ли, или в нем: то — уже Сам Бог а эта — хотя и разумная, созданная но образу Его, но все же тварь, которая, когда стремится созерцать этот свет, борется со своей слабостью, и тем меньше успевает. Отсюда, впрочем, и все разумеет она так, как может. Поэтому, когда она восхищается к созерцанию того света, и, отрешившись от телесных чувств, живее уносится к этому видению, конечно, не чрез пространственные расстояния, а своим особенным образом, то даже и там, на верху всего, если видит, наконец, то, при помощи чего все видит, она видит так, как сама в себе разумеет.
ГЛАВА XXXII
60. Если теперь спросят меня, в телесные ли какие–нибудь места переносится душа, когда она выходит из тела, или в бестелесные, но подобные телесным, или даже и не сюда, а туда, что превосходнее и тел и телесных подобий, то я вкратце отвечу так, что в телесные места она или переносится только с каким–либо телом, иди же не переносится. А имеет ли она какое–нибудь тело, когда выходит из своего тела, это пусть доказывает, кто может, а я так не думаю: я считаю ее духовною, а не телесною. В духовные же места она переносится смотря по заслугам, т. е. или в подобные телесным места наказания, на какие часто ссылаются люди, которые были восхищаемы от телесных чувств и, оставаясь подобными мертвым, видели адские наказания, так как и они имели на себе подобие своего тела, благодаря которому могли переноситься в те места и подобиями чувств испытывать мучения. А я не вижу основания, почему бы душа, имея подобие своего тела, когда тело её лежит без чувств, хотя и не совершенно мертво, между тем как сама видит вещи, о каких рассказывают люди, находившиеся в состоянии подобного восхищения, не имела этого подобия тогда, когда в минуту совершенной смерти выходит совсем из тела. Итак, она переносится или в эти места мучений, или в подобные же телесным места покоя и радостей.
61. Между тем, неверно будет назвать ни эти наказания, ни этот покой и радость ложными: они ложны тогда, когда, по ошибочному мнению, принимаются за нечто другое. Так, Петр ошибался не только тогда, когда видел сосуд и принимал его содержимое не за подобия тел, а за самые тела (Деян. X, 11–12), но и тогда, когда, освобожденный ангелом от оков, он шел за ним телесным образом и, поставленный лицом к лицу с телесными формами, мняше видение зрети (Деян. XII, 7–9). Ибо как в сосуде находились духовные, подобные телам, образы, так и телесное изведение освобожденного от оков по причине чуда было подобно духовному. Но душа его ошибалась только потому, что принимала то и другое за нечто иное. Отсюда, хотя то, чтО души, разлучившись от тел, испытывают хорошего или дурного, не телесно, а подобно телесному, так как и сами души представляются самим себе подобными своим телам, однако и радость эта и это томление истинны, происходя от духовной субстанции. Так и в снах дело весьма не безразличное, видим ли мы себя в радостном, или тягостном состоянии. Некоторые жалеют, что просыпаются на таких вещах, которых они желали, и, наоборот, напуганные и потрясенные ужасами и муками, проснувшись, боятся заснуть, чтобы не привиделись им снова те же самые страхи. А само собою понятно, что адские ужасы гораздо разительнее, а потому и чувствуются они гораздо сильнее. И действительно, люди, которые находились в отрешении от телесных чувств, хотя и не таком, какое бывает при действительной смерти, однако более глубоком, чем во сне, рассказывают, что видели вещи более разительные, чем какие видятся во сне. Итак, ад существует несомненно, но сущность его, думаю, не телесная, а духовная.
ГЛАВА XXXIII
62. Не следует слушать и тех, которые утверждают, будто ад имеет место в настоящей жизни, и нет его после смерти. Пусть такие представляют его себе так, как толкуют его поэтические измышления, — мы не должны отступать от авторитета божественных Писаний, которым только и надобно верить относительно этого предмета. Впрочем, мы могли бы показать, что их мудрецы нисколько не сомневались относительно сущности ада, который принимает души умерших после этой жизни. Между тем, уместно спросить, почему говорят, что ад находится под землей, если он не представляет собою телесного места, или почему он называется преисподней, если нет его под землей. Смею сознаться, что не только думаю, а и положительно знаю, что душа бестелесна; однако, если кто может отрицать, что душа имеет подобие тела и всех телесных чувств, то может отрицать и то, что душа во сне видит, или ходит, или сидит, или туда и сюда движется и переносится посредством хождения или летания, чего не может происходить без некоторого подобия тела. А если это подобие она носит на себе и в ад, то и он не телесен, а подобен телу, а равно и сама она, мне кажется, находится не в телесных, а подобных телесным местах, в покое ли, или скорбях.
63. Сознаюсь, впрочем, я еще не встретил случая, чтобы место, где почиют души праведников, называлось адом. Правда, и душа Христа сходила до самых тех мест, в которых грешники претерпевают муки, чтобы освободить от этих мук тех, спасти которых, мы веруем, судил Он по Своей, сокрытой для нас, правде. Но я не знаю, как иначе понимать изречение: Егоже Бог воскреси, разрешив болезни смертныя, якоже не бяше мощно держиму быти Ему от нея (Деян. II, 24), если не так, что Он властию, по которой Господь есть, Ему же всяко колено поклонится, небесных, земных и преисподних (Фил. II, 10), разрешил скорби некоторых в аде, но Сам по сей же власти не мог подлежать этим скорбям. Этим скорбям не подлежали также Авраам и оный на лоне его, т. е. в тайне его покоя, бедняк, между покоем которых и адскими муками, как читаем, пропасть велика, утвердися (Лук. XVI, 26), и не сказано, чтобы они были в аде. Бысть же, говорит, умрети нищему, и несену быти ангелы на лоно Авраамле, умре же и богатый, и погребоша, его. И во аде возвед очи свои, сый в муках (Лук. XVI, 22–26), и проч. Отсюда видно, что упоминание об аде сделано в приложении не к покою нищего, а к наказанию богатого.
64. Даже и слова, сказанные Иаковом сыновьям: сведете старость мою с печалию во ад (Быт. XLIV, 29), сказаны им, мне кажется, скорее из боязни, как бы не впасть ему в такую чрезмерную печаль, чтобы отойти не в покой блаженных, а в муки грешных. Ибо печаль представляет собою немалое зло для души, если и Апостол с такою великою заботливостью опасался за некоего, да не многою скорбию пожерт будет (2 Кор. II, 7). Но, как замечено выше, я еще не нашел, доселе еще ищу, но не встречаю случая, чтобы каноническое Писание употребило где–нибудь слово ад в добрую сторону; не знаю, слыхал ли кто–нибудь, чтобы лоно Авраамово и тот покой, куда отнесен был ангелами нищий, надобно было принимать не в добрую сторону, а потому не понимаю, как можно думать, что этот покой находится в аде.
ГЛАВА XXXIV
65. Но в то время как мы это ищем и пока найдем или не найдем, длиннота настоящей книги требует от нас, чтобы мы когда–нибудь ее закончили. Поэтому, так как мы завели речь о рае по поводу слов Апостола, что он знает человека, восхищенного до третьего неба, но не знает, в теле ли или вне тела восхищенного, и так как человек тот восхищен был в рай и слышал там неизреченны глаголы, ихже, не лет есть человеком глаголати, то мы не утверждаем с дерзостью, находится ли рай на третьем небе, или же человек тот восхищен был на третье небо, а оттуда уже потом в рай. Ибо если раем называется в собственном смысле тенистое место, а в переносном и всякая духовная страна, где душа благополучна, то раем будет не только великое, бесспорно высоко–прекрасное, третье небо, что бы оно ни было такое, но и некоторая в самом человеке радость, проистекающая от чистой совести. Отсюда и Церковь святых, умеренно, праведно и благочестиво живущих, правильно называется раем, исполненным благословений и чистых удовольствий (Сир. XL, 28), ибо и в самых скорбях она прославляется терпением, радуясь наипаче тому, что по множеству болезней в сердце её утешения Божии веселят душу её (Пс. 93, 19). Не тем ли больше можно назвать раем после сей жизни лоно Авраамово, где нет уже никаких испытаний, и где наступает покой после всех скорбей настоящей жизни? Есть там и свой особенный свет, свет великий, который богач тот хотя и из тьмы ада и, конечно, издали, так как его отделяла от этого света великая пропасть, однако видел настолько, чтобы разглядеть нищего.
66. Если все это так, то потому, как думают, ад находится под землей, что так именно представляется он нашему духу по указанию подобий телесных вещей: души умерших, достойные ада, грешили плотскою любовью, а потому, руководясь подобием телесному, они представляют и ад тем же, что обычно самой мертвой плоти, т. е. нисхождением под землю. Затем, по–латыни преисподняя (inferi) называется от того, что находится внизу (infra); отсюда, как по отношению к телам, если держаться порядка их тяжести, ниже лежат те, которые тяжелее, так и по отношению к духу ниже те, которые наиболее удручены печалью. Поэтому и на греческом языке слово, которым называется ад (avdoz), происходит, как утверждают, от того, что не имеет ничего приятного. Однако, Спаситель наш, за нас умерший, не возгнушался посетить и эту область вещей, дабы освободить отсюда тех, которые, как Он но мог не знать, должны были быть спасены по божественному и сокровенному правосудию. Поэтому, душе разбойника, которому Им было сказано: днесь будеши со мною в раи (Лук. ХХIII, 43), Он предуготовил не ад, конечно, где происходят наказания грешников, а или покой на лоне Авраама, ибо Христос — всюду, так как Он — Сама Премудрость Божия, проницающая сквозь всяческая ради (своея) чистоты (Прем. VII, 24), или рай на третьем ли небе, или где–нибудь в другом месте, куда после третьего неба был восхищен Апостол, если, впрочем, это — не одно и тоже, только различными именами называемое, место, где находятся души блаженных.
67. Итак, если под первым небом разуметь все то телесное, что только находится выше воды и земли, а под вторым то, что созерцается духом в телесном подобии, как и то небо, откуда спускалась к Петру в экстазе корзина полная животных (Деян. X, 10–12), наконец, под третьим то, что зрится умом настолько сосредоточенным и углубленным, отрешенным и очищенным от всех телесных чувств, что все там сущее, самую субстанцию Божию и Слово Божие, Которым сотворено все (Иоан. I, 3), в любви Духа Святого он может неизреченным образом видеть и слышать: то не неприлично думать, что сюда именно и был восхищен Апостол (2 Кор. ХII, 2–4) и здесь находится и рай наилучший из всех и, если так можно выразиться, рай раев. Ибо если добродетельной душе радость открывается во всякой доброй твари, то что может быть для неё выше той радости, которая заключается в Слове Божием, Которым сотворено все?
ГЛАВА XXXV
68. А если кого интересует вопрос, какая надобность для умерших принимать на себя свои тела в воскресении, если для них возможно высшее блаженство и без тел, то хотя вопрос этот по своей трудности и не может быть раскрыт полным образом в настоящей речи, однако, ни в каком случае не следует сомневаться, что ум человека, отрешенный от плотских чувств и после смерти сложивший с себя самую плоть, даже перешедши и за черту подобий телесному, не может видеть непреложную Субстанцию так, как видят ее святые ангелы, по иной ли более сокровенной причине, потому, что ему присуще некоторое естественное желание управлять телом, каковое желание до известной степени мешает ему с полным напряжением проходить к высшему небу, доколе не соединен он с телом, управление коим дает удовлетворение этому желанию. Но если тело таково, что управлять им трудно и тяжело, как наше настоящее тело, которое, получая свое бытие от преступного начала, повреждается и бременит душу (Прем. IX, 15), то тем более ум отвращается от созерцания этого неба: необходимо, потому, отрешиться ему от чувств плоти, чтобы получить указание, как может достигать он зрения неба. Вот почему, когда ум наш получит тело не душевное, а вследствие будущего изменения духовное, то, ставши равным с ангелами, он достигнет полного равновесия своей природы, повинуясь и повелевая, оживляясь и оживляя, с такою неизреченною легкостью, что для него будет славою то, что раньше было бременем.
ГЛАВА XXXVI
69. Ибо и тогда останутся, без сомнения, те же три рода зрения, но они будут показывать одно вместо другого без всякой ошибки и в телесных и в духовных видениях, а тем более в видениях разумных, которые будут настолько ясны и очевидны, что в настоящее время с гораздо меньшею очевидностью представляются нам самые, подлежащие нашим телесным чувствам, телесные формы, которым многие преданы так, что их только и считают существующими, а все, что не таково, совершенно не существующим. Мудрецы же стоят к телесным видениям в таком отношении, что хотя и считают их более очевидными, однако более уверены в том, что так или иначе мысленно представляют себе дальше телесной формы и телесного подобия, хотя, впрочем, не могут созерцать этого умом так, как созерцают те телесным чувством. Между тем, святые ангелы заведуют судом и управлением в области телесного, но не склоняются к ней, как к более очевидной, а представляют в своем уме её знаменующие подобия и, так сказать, дотрагиваются до них с такою властью, что могут сообщать их в откровении даже и человеческому духу; наконец, и непреложную субстанцию Творца созерцают так, что лицезрение Её и любовь к Ней предпочитают всему, сообразно с Ней судят о всем, в Ней направляются в своей деятельности и из Неё почерпают все, что ни делают. Словом, у Апостола, хотя и восхищенного от телесных чувств на третье небо и в рай, для полного совершенного познания вещей, которое присуще ангелам, то именно и оказалось недостатком, что он и не знал, в теле ли он был, иди вне тела. Этого недостатка, конечно, уже не будет, когда, по получении тел в воскресении мертвых, тленное сие облечется в нетление и мертвенное сие облечется в бессмертие (I Кор. XV, 53). Тогда все будет очевидно без всякой ошибки, без всякого незнания, телесное, духовное и разумное будет разграничено по своим порядкам в чистой природе и совершенном блаженстве.
ГЛАВА XXXVII
70. Знаю, что некоторые, которые славятся своими, до нас бывшими в кафолической вере, занятиями священным Писанием, изъясняли слова Апостола о третьем небе так, что в этом де случае разумеются различия телесного, душевного и духовного человека и что Апостол восхищен был к соединенному с преимущественною очевидностью созерцанию порядка бестелесных предметов, каковой порядок и в настоящей жизни духовные люди предпочитают всем другим и желают им наслаждаться. Но в первой половине настоящей книги я достаточно показал, почему предпочёл названия «духовный» и «разумный», которые они, может быть, назвали бы «душевным» и «духовным», так что я дал только другие названия тем же самым предметам. — Если мы по мере сил обсудили этот предмет правильно, то или читатель подтвердит нас, если он духовный, или же при помощи Духа Святаго воспользуется чем–нибудь из этого чтения, чтобы быть духовным. На этом мы и закончим совсем настоящее свое, в двенадцати томах заключающееся, сочинение.
Проповеди и поучения
Беседа 1. О том, что Христос в Писании изображается неодинаково. Против ариан
1. Господь наш Иисус Христос, братия, неодинаково обозначается в Писании, поскольку могли проникнуть мы в смысл священных страниц, говорится ли о Нем в законе и пророках, или в посланиях апостольских, а также в событиях, о которых повествует Евангелие. Во–первых, изображается Он, как Бог, по божеству равный Отцу и совечный Ему прежде воплощения Своего. Во–вторых, с принятием плоти, Он изображается столько же Богом, как и человеком, и столько же человеком, как и Богом, хотя, по некоторому свойству превосходства, и не сравнивается с прочими людьми, будучи ходатаем и главою Церкви. В–третьих, иногда Христос изображается в смысле всей полноты Церкви, т. е. как глава и тело, по образу некоего мужа совершенного, коего мы являемся отдельными членами. Все это несомненно для верующих и для разумных вполне понятно. Конечно, не все многочисленные свидетельства Писания, за недостатком времени, можем мы привести и изъяснить здесь: свидетельства, которые говорят о трех указанных способах изображения Христа. Однако, не хотим и опустить некоторых, чтобы, зная их, остальные вы сами могли подметить и отыскать в Писании.
2. К первому способу изображения Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, Единородного Сына Божия относится то, что является самым главным и самым выдающимся в Евангелии от Иоанна, а именно: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит и тьма не объяла его (Ин.1:1–5). Замечательны и дивны слова эти, и, прежде чем изъяснить их, необходимо хорошенько продумать. Если бы, например, предложена была вам пища, то один одну часть ее взял бы, другой — другую. Все вкушали бы одну пищу, но не всем досталась бы вся пища. Так и теперь, как бы некоторая словесная пища и питье предлагаются вам. Но до всех и вся доходит она. Разве, когда говорю я, один из вас получает один слог, а другой — иной? Или разве один воспринимает одно слово, другой — другое? Если так, то мне нужно было бы сказать столько слов, сколько людей здесь, чтобы до каждого дошло хотя по одному слову. На самом деле, я безпрепятственно высказываю гораздо больше слов, чем сколько предстоит предо мной людей, и все это делается достоянием всех. Итак, слово человеческое не уделяется по слогам каждому, но все его слышат. Слово ли Божие может делиться на части так, чтобы везде быть понемногу? И неужели, братия, можно приравнять звучащие и преходящие слова наши к тому, неизменно пребывающему Слову? И неужели я уже приравнял, когда привел вышеуказанный пример слова? Но я в возможной мере хотел убедить вас только, что Бог употребляет явления из чувственного мира, для уверения вас в том, чего вы не видите в мире духовном. Впрочем, остановимся на другом, более важном. Ведь слова наши звучат и преходят. Представьте из духовных отвлеченных предметов, напр., справедливость. Вот один, помышляющий о справедливости, на западе, другой — на востоке. Откуда происходит, что и тот представляет всю справедливость и этот? И тот созерцает всю ее и этот? Кто думает о справедливости, сообразно с которой следует поступать ему, справедливо поступает. Созерцает он ее внутренне, а проявляет внешне. Как он созерцает внутренне, когда нет ничего перед ним? И ужели, если он находится в одном месте, до того места не дойдет помышление другого? И вот, когда ты, находясь здесь, мысленно созерцаешь то же, что и другой, находящийся в другом отдаленном месте, и притом все представляешь ты, все и тот, так как, что сверхчувственно и безтелесно, всюду все, верь тогда, что Слово (Божие) все во Отце, все в матери (in utero). Верь этому о Слове Божием, которое есть Бог у Бога.
3. Но выслушай далее и о другом способе изображения Христа в Писании. То, что выше сказал я, относится к Нему прежде Его вочеловечения. Теперь же послушай, что еще говорит Писание: «И Слово стало плотью и обитало с нами. Тот, кто сказал раньше: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть», напрасно стал бы изображать нам божество Слова, если бы умолчал о Его человечестве. Для того, чтобы можно было видеть то Слово, Оно здесь со мною вселяется. Чтобы сделать способным меня к созерцанию того (божества), Бог Сам нисходит к моему недостоинству. Приняв естество человеческое от естества же человеческого, Он стал Человеком, приходит с бременем плоти к тому, кто лежал израненный на пути (Лк.10:30–37), чтобы таинством воплощения Своего утвердить слабую веру нашу, просветить наш разум, сделать его способным к созерцанию того, чего никогда не лишался Он через то, что принял. Начал быть Человеком, но не перестал быть и Богом. Вот это есть изображение Христа Иисуса как ходатая нашего, и как Главы Церкви, именно, что Бог стал человеком, который вместе является и Богом, по слову св.Иоанна: «И Слово стало плотью и обитало с нами.
4. Теперь узнайте о том и другом способе изображения Христа из следующих слов апостола Павла: Он, будучи образом Божиим, — говорит апостол, — не почитал хищением быть равным Богу. Это то же, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Как апостол сказал бы: Не почитал хищением быть равным Богу, если бы Он (Сын) был не равен Богу? И если Отец Бог, а Тот не Бог, то как же Он равен Ему? Там евангелист говорит: Слово было Бог, а здесь апостол говорит: Не почитал хищением быть равным Богу. И где тот пишет: И Слово стало плотью и обитало с нами, там этот сказал: Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба (Флп.2:6–7). Обратите внимание: чрез то именно, что сделался человеком, чрез то, что Слово стало плотью и обитало с нами, через это Сын Божий уничижил Себя Самого, приняв образ раба. Чем уничижил? Не тем, что потерял божество, но тем, что принял человечество, явившись людям тем, чем был прежде, пока не сделался человеком. Так явлением Своим Он уничижил Себя, т. е. сохраняя достоинство величия, принял плоть — одеяние человечества. Через то именно, что Себя Самого уничижил, приняв образ раба (не образ Бога принял. Об образе Бога, когда говорит апостол, не сказал: приняв, — но будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу), через это именно Он явился посредником (mediator) и Главою Церкви. При посредстве Его мы соединяемся с Богом чрез таинство воплощения, чрез Его страдания, воскресение, вознесение на небо и будущее славное пришествие Его, когда услышим те два решения, которые некогда произнес Господь[24]. Когда услышатся эти два решения? Когда воздаст Он каждому по делам его (Мф.16:27).
5. Итак, помня это, не увлекайтесь пустословием людей, которое, как рак, распространяется, как сказал об этом апостол (2 Тим.2:17), но оберегайте слух ваш и целость мысли вашей, как торжественно обрученные одному мужу Христу. Если телесное целомудрие бывает лишь у немногих членов Церкви, то целомудрие духовное, чистота мысли должна быть у всех; этой чистоты и хочет лишить вас змей, о чем тот же апостол говорит: Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змей хитростию своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе (2 Кор.11:2–3). Боится апостол, чтобы не повредились умы, т. е. мысли наши, и не оказалась поврежденной чистота веры.
Итак, бодрствуй душа, храни чистоту свою, имеющая плодоносить потом в объятиях твоего жениха. Ограждайте от терний слух ваш. Вот, смутила немощных членов Церкви ересь арианская. Но, по милости Божией, победила вера кафолическая. Не оставил Он (Господь) Церкви Своей. Если и послал ей на некоторое время испытания, то для того послал, чтобы она молилась Тому, чрез Кого утверждается на твердом основании. И доселе еще шипит змей и не смолкает. Старается обещанием какого–то знания увлечь из рая Церкви того, кого не хочет допустить возвратиться в тот рай, откуда изгнан был первый человек.
6. Заметьте, братия: что было в том раю, это есть теперь в Церкви. Пусть же никто обманом каким–либо не увлекает вас из этого рая. Довольно того, что тогда мы пали. Опытом изведав это, хоть теперь исправимся. Лукавый всегда старается ввести нас в искушение и соблазн. Иногда успокаивает он безнаказанностью, как и там успокаивал, говоря: Неужели смертию умрете? (Быт.3:4)[25]. Того лишь хочет он, чтобы христиане проводили порочную жизнь. Неужели всех, говорит он, погубит Бог? Неужели всех осудит? Да, говорит Господь, осужу; прощу лишь тех, которые изменятся. Пусть оставят порочные дела свои — и Я изменю угрозы. Он же (лукавый) обольщает и внушает именовать Отца большим Сына. Вот, говорит он, написано: Отец Мой более Меня (Ин.14:28), а ты называешь Его равным Отцу. Соглашаюсь с тобой. Но следует признать не только это, но и другое, потому что о том и о другом написано. Почему же одно ты признаешь, а другого не хочешь принять? Ведь о том и другом можно читать в Писании. Вот говорится в одном месте: Отец Мой более Меня. Принимаю это не от тебя, а от Евангелия. Но и ты также признай с апостолом, что Сын равен Богу Отцу. Соедини вместе и то и другое — и то и другое может быть согласовано; потому что Кто говорит чрез евангелиста в Евангелии, Тот же Самый говорит и чрез апостола в послании. Не может Он противоречить Сам Себе, а ты не хочешь допустить согласия в Писании, так как сам любишь разногласить. Но вот в Евангелии говорится: Отец более Меня. И я из Евангелия доказываю, что Сын и Отец равны («Я и Отец — одно» — Ин.10:30). Как же согласить и то и другое? Так, как говорит апостол: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба. Вот я доказываю, почему Отец более. Ты же докажи, в чем Он не равен? Ведь и о том и другом читаем мы в Писании. Меньше Он Отца, поскольку есть Сын Человеческий. Равен Отцу, поскольку есть Сын Божий, потому что Слово было Бог. Он (Сын) посредник: Бог и Человек. Как Бог, Он равен Отцу; как Человек, менее Его. Равен в образе Бога, меньше в образе раба. Теперь ты докажи: почему Он (Сын) не равен Отцу и менее Его? Или, думаешь ты, что в одной части равен, а в другой — не равен? Покажи мне, как Он, с принятием плоти, является и равным Отцу и меньшим Его. Хотелось бы знать, как это стал доказывать бы ты.
7. Но обратите внимание на безумие плотских помышлений, о которых сказано, что они (помышления плотские) суть смерть (Рим.8:6). Не буду говорить пока о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Божия. Останавливаюсь на словах: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Останавливаюсь и на словах апостола: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу (Флп.2:6). Вот тут покажи мне большего и меньшего. Что скажешь? Будешь ли различать Бога по свойствам телесным или духовным, коими определяем мы разные предметы? Именно, — могу сказать я. Но так ли и вы мыслите, Бог знает. Итак, как я уже сказал, прежде принятия плоти, прежде чем Слово стало плотью и обитало среди нас, покажи меньшего, покажи равного. Неужели в том и другом случае Сын был бы Бог, хотя бы в одном отношении был меньше Отца, а в другом равным, — как, например, говорим мы о каких–нибудь телах: меньше одно другого в отношении длинноты, но равно в отношении крепости? Такими ли какими–либо телами следует представлять нам Бога и Его Сына? Так ли будем представлять себе Того, Который весь был в Марии, Весь у Отца, Весь во плоти и Весь превыше ангелов? Но пусть отвратит Господь такие помыслы от сердец христианских. Или, может быть, так ты будешь мыслить, что по длине и крепости они равны, но различны по цвету? Но где цвет, как не в телах? А там сияние мудрости. Покажи мне, каков цвет правды? Если же они (мудрость и правда) не имеют цвета, не скажешь того ты и о Боге, если только есть в тебе совесть.
8. Итак, что же ты скажешь теперь? Могуществом Они равны, но меньше Сын мудростью?! Однако, если мудростью Они равны, но меньше Сын могуществом, то Бог выходит завистливым, если равному в отношении мудрости Он дает меньшую власть. Но в Боге все, что ни мыслится, равнозначно (idipsum). Не одно в Боге могущество и другое мудрость, одно сила и другое правда или чистота. Что из всего этого ни назовешь ты, не отдельно все это мыслится и ничем таковым не определяется достойно существо Божие, потому что все эти свойства суть свойства душ, которые свет тот проникает некоторым образом и по их качествам влияет на них подобно тому, как это бывает, когда поднимается над телами свет этот видимый. Если он исчезает, все тела получают один цвет темный, или, лучше сказать, лишаются совсем цвета. Когда же, поднявшись, он снова осветит тела, хотя сам и одинаков, однако же освещает тела соответственно их свойствам, различным блеском. Так и состояния тех душ, которые производятся и образуются светом изначальным и непроизводным.
9. И все это, братия, говорим мы о Боге потому, что не можем высказаться лучше. Называю Бога праведным, потому что на языке человеческом не нахожу ничего лучшего: Он выше правды. «Ибо Господь праведен, любит правду», — говорится в Писании (Пс.10:7). Но там говорится, что и кается Бог (Быт.6:7), говорится, что и не знает Бог (Быт.18:21).
Кто однако же не устрашится этого? Неужели не знает Бог? Неужели кается Бог? Но потому Писание снисходит до таких выражений, чтобы не думал ты, что и тем, что считаешь ты за великое, достойно обозначаются свойства Божии. Таким образом, когда ты спросишь: Чем достойно обозначается Бог?, быть может, кто–нибудь ответит тебе и скажет, что Бог праведен. Другой же, более его понимающий, скажет, что и это слово далеко от сияния славы Его, так что, когда тот начнет доказывать от Писания и будет говорить: тактам написано, — справедливо ему будет отвечено, что в том же Писании написано, что и кается Бог. И как это последнее употребляется там не в том смысле, как обыкновенно понимают люди, так и то, когда Бог называется праведным, не обнимает величия Его. Впрочем, Писание хорошо установило, чтобы хотя через такие слова дух постепенно восходил к тому, чего нельзя выразить. Праведным ты называешь Бога, но представляй себе то, что больше праведности. Писание назвало Бога праведным, но оно назвало Бога кающимся и незнающим, чего ты, однако же, не хочешь сказать. Итак, как то, чего ты не хочешь приписать Богу, сказано по причине твоей немощи, так и это сказано вследствие некоторой, хотя и меньшей, немощи. Кто же и это преступит и о Боге, насколько то доступно человеку, будет мыслить достойно, тот в несказанном голосе сердца найдет достойное похвалы молчание.
10. Итак, братия, так как в Боге то же благость, что и правда, нельзя говорить, поэтому, что Сын равен Отцу в отношении правды и не равен в отношении благости, или равен в отношении могущества (per virtutem) и не равен в отношении ведения, и все, что бы ты ни сказал о Боге, все в Нем едино и равнозначно. Таким образом, довольно того, что ты не можешь сказать, каким образом Сын может быть не равным Отцу, если только не хочешь допускать каких–либо разностей в самом существе Их. Когда же признаешь эти разности, то согрешаешь против истины и удаляешься от того общения с Богом, когда присутствие Его становится наиболее ощутительным. Если же невозможно говорить о Боге, что Он равен в одном отношении и не равен в другом, то невозможно утверждать, что Он в одном отношении таков, а в другом меньше, потому что в Боге нет разностей. Нельзя именовать Бога равным иначе, как только во всех отношениях, и если можно называть Его меньшим, то почему как не потому, что Он принял образ раба?
Итак, братия, постоянно помните это. Если будете руководиться Писанием, все вам объяснит оно. И когда станете читать там, что Сын равен Отцу, относите это к Божеству. По воспринятой же Им на Себя форме раба почитайте Его меньшим Отца — применительно к словам: Я есмь сущий (Исх.3:14) и к другим: Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова (там же Исх.3:15) — первое относится к Его существу, второе — к Его милосердию. Теперь, думаю, достаточно сказано о том, почему Господь наш Иисус Христос, наш Спаситель, Глава Церкви, ставши посредником, чрез Которого мы соединяемся с Богом, именуется в Писании Богом и человеком.
11. Третий способ, когда Христос обозначается в Писании Главою и телом, указывает на отношения Его к Церкви. Здесь Глава и тело един Христос не потому, и что без тела Ему недостает целостности, но потому, что единым с нами благоволил бытьТот, Кто и без нас всегда остается невредимым не только в том, что касается Его Божества, но и в том, что касается Его человечества, когда Он стал вместе и Богом, и человеком. Однако, братия, каким образом мы составляем Его тело, и Он едино есть с нами? Где находим мы, что Единый Христос есть и глава, и тело, т. е. корпус вместе с Главою? Послушайте, что говорит Исаия: Как на жениха возложил (Он) венец и, как невесту, украсил убранством (Ис.61:10). Вот и жених и невеста. Одного и того же называет пророк и женихом в отношении к главе и невестой в отношении к телу. По–видимому, два и вместе один. Но каким образом мы члены Христовы? Апостол весьма ясно говорит: И вы — тело Христово, а порознь — члены (1 Кор.12:27). Тело Христово и члены Его все мы, не мы только, которые здесь находимся, но все вообще, не ныне только живущее, но все праведные, начиная с Авеля праведного, жившие, живущие и имеющие жить до конца века, все — одно тело Христово. Если же все тело, то порознь члены, Но, конечно, должна быть и глава, телом коей являемся мы. И Он (Сын Божий) есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство (Кол.1:18). И так как о Нем также говорит далее апостол, что Он есть глава всякого начальства и власти (Кол.2:10), то, следовательно, Церковь земная, воинствующая (peregrina), присоединяется к той небесной Церкви, где мы имеем своими согражданами ангелов, с коими непостыдно, как раньше, соединимся по воскресении тела, согласно обетованию, что сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, будут равны ангелам (Лк.20:36), и будет единая Церковь, царство Великого Царя.
12. Итак, Христос изображается в Писании иногда, как Слово, равное Отцу, иногда, как посредник, когда говорится, что Слово стало плотью и обитало с нами (Ин.1:14), или когда говорится, что Единородный Сын Божий не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба…, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп.2:6–8). Иногда же изображается Иисус Христос так, что мы видим главу и тело, когда апостол объясняет, например, слова, сказанные о муже и жене в книге Бытия: И будут одна плоть. Вникните в объяснение апостола. Будут, — говорит, — двое одна плоть, и далее прибавляет: Тайна сия велика. И чтобы кто не подумал тут о плотском соединении мужеского и женского пола, апостол добавляет: Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви (Еф.5:31–32). Сообразно с этим нужно понимать и слова Евангелия: И будут два одною плотию, так что они уже не двое, а одна плоть (Мф.19:5–6). И что жених и невеста, то глава и тело, потому что муж есть глава жены. Итак, скажу ли я: глава и тело, или: жених и невеста, считайте это за одно. И потому тот же апостол, когда был еще Савлом, услышал такие слова: Савл, Савл, что ты гонишь Меня (Деян.9:4), так как тело одно с главою. И когда, будучи уже апостолом Христовым, он стал терпеть от других то, что сам причинял, будучи гонителем, он говорит: Ныне… восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых (Кол.1:24), тем показывая, что к страданиям Самого Христа относится то, что претерпевал он. Этого нельзя относить к главе, которая на небе и уже ничего такого не терпит, не к телу, т. е. к Церкви, которая, будучи соединена со своею главою, есть единый Христос.
13. Итак, постарайтесь представить из себя достойное тело для такой главы, достойную невесту для такого жениха. Не может иметь глава та иного тела, как только достойного себя, ни муж столь великий не может иметь иной, кроме как только достойной жены, чтобы представить ее Себе славною Церковью? не имеющею пятна или порока, или чего–либо подобного (Еф.5:27). Церковь — эта невеста Христова, не имеющая пятна или порока. Не хочешь иметь пятна? — Исполняй, что написано: Омойтесь, очиститесь, удалите нечистоту из сердец ваших (Ис.1:16) [Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих]. Не хочешь иметь порока? — Распинай себя; не только нужно, чтобы ты омывался, но чтобы старался быть без пятна и порока. Чрез баню омовения очищаются грехи, чрез распятие является желание будущего блаженства (спасения), ради коего и Христос пострадал. Слушай самого апостола, которого, по его словам, спас Господь не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения (Тит.3:5). Слушай его, сораспявшегося Христу: Я, — говорит он, — забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Флп.3:13–14).
Беседа 2. О жертве вечерней — Изъяснение Евангелия от Иоанна (пролог)
1. В настоящий раз, братие, должна быть речь о жертве вечерней. Молились мы, воспевая, и молясь, воспевали: Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя (Пс.140:2). В молитве познаем мы здесь человека, в воздеянии рук — крест. Это есть знак, который изображаем мы на челе, знак, коим спасаемся. Знак осмеянный, чтобы сделаться достойным почтения, презренный, чтобы стать славным. Бог является, чтобы, подобно человеку, молиться об избавлении от опасности. Бог приходит, чтобы, подобно человеку, умереть. И если бы познали Его люди, никогда не распяли бы Господа славы (1 Кор.2:8). Это жертвоприношение, где священнодействующий есть в то же время и жертва, избавляет нас пролитою кровию Создателя. Создал нас, когда был безкровным, а искупил нас кровию. Создал нас Тот, о Ком говорится в словах: В начале было Слово… и Слово было Бог. Им мы созданы. Все, — говорится далее, — чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Вот Кем созданы мы. Теперь послушай, кем мы избавлены. В Нем, — говорит евангелист, — была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Все это относится еще к Божеству, к тому, что пребывает неизменным, к тому, для созерцания чего должно иметь сердце предочищенное. Свет, — говорит, — во тьме светит, и тьма не объяла его. Но пусть мрак обымет Его, чтобы не было мрака. Мрак — это грешники, неверующие. Итак, чтобы не было мрака, Слово стало плотью и обитало с нами. Видите Слово, видите Слово — плоть, видите Слово прежде плоти. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть. Где тут кровь? Вот Он виновник бытия твоего, но еще не цена твоя. Когда же стал Он Спасителем твоим? Когда Слово стало плотью и обитало с нами?
2. Но усильте ваше внимание. Свет, — говорит, — во тьме светит, и тьма не объяла его. Так как тьма не могла объять света, потребовалось для людей свидетельство от людей. Не могли люди видеть света дневного. Быть может, могли они вынести свет светильника. Так как для восприятия истинного света (diem) они были менее способны, а свет светильника все–таки кое–как выносили, явился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете. Кто же такой он? Откуда приходит, чтобы свидетельствовать о свете? Почему не был он светом, а только светильником? Прежде узнай, что такое был этот светильник. Хочешь ли слышать о светильнике от света и о свете от светильника? — Вы, — говорит Господь, — посылали к Иоанну и хотели малое время порадоваться при свете его. Он был светильник горящий и светящий (Ин.5:33, 35). Но что же видел тот Иоанн, который говорит о светильнике? Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. О каком свете? Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Если всякого человека, следовательно, и Иоанна, Тот, кто не хотел оказать в себе света дневного, явил светильник свой, как бы, свидетелем для себя. Но таков это был светильник, который мог возгореться лишь от самого света. Послушай самого Иоанна, исповедующегося. И от полноты Его, — говорит он, — все мы приняли. Признавали его, Иоанна, за Христа, а он себя признает человеком, признавали Господом, а он исповедует себя рабом. Хорошо, светильник, исповедуешь ты смирение свое, так что не погасило тебя дуновение гордости, потому что был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, т. е. всякое живое существо, способное к восприятию света, всякого человека, имеющего разум, при посредстве коего он может быть причастником Слова.
3. Где же был тот свет, который просвещает всякого человека, имеющего разумную душу и приходящего в мир? Он в мире был. Но ведь и земля была в мире, солнце и луна были в мире. Слушай, однако же, о свете твоем, свет мысли человеческой! — В мире был, и мир чрез Него начал быть. Так был он, что нельзя думать, что не было как бы места для Него прежде, чем мир не стал быть. Бог все содержит, но Сам ничем не содержится (Deus enim habitando continent, non continetur). Итак, дивным и несказанным образом пребывал Он в этом мире: И мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Какой же это мир, который чрез Него начал быть? В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.1:1), и все чрез Него начало быть. Какой мир не познал Его? Есть разница в словах: мир и мир, подобно тому, как под словом «дом» можно разуметь разное: дом, как строение, и дом, как обитающих в нем. Когда говорится о доме, как здании, говорят: «большой дом сделан», «прекрасный дом». Когда говорят об обитающих в доме, говорят: «добрый дом, благословит его Бог», — или «дурной дом, пусть помилует его Бог». Когда говорится, что мир чрез Него начал быть, разумеется мир, как жилище вместе с обитающими в нем. А когда говорится: «и мир Его не познал», — имеются в виду живущие.
4. Зачем же приходит Он, как бы не ведая, что свои не примут Его? Слушай, для чего приходит. Тем, которые приняли Его… Свои не приняли и свои приняли. Мир не уверовал в Него и весь мир уверовал. Ведь когда говорим мы, например: «все дерево покрыто листьями», — неужели следует из этого, что на дереве нет места для плодов? И то и другое можно понимать тут, и то и другое признается — и то, что дерево покрыто листьями, и то, что оно полно плодов. Дерево одно и в том, и в другом: и в листьях, и в плодах. Итак, верующие в Него, рабы Его, любящие Его, для коих является Он славою и надеждой, не скорбите, когда слышите о том, что свои Его не приняли, потому что чрез веру и вы становитесь для Него своими. Кто разумеется здесь под своими? Надо полагать, что Иудеи, некогда изведенные из Египта, перешедшие чудесно чрез Чермное море, странствовавшие по пустыне, избавившиеся от врагов преследующих, напитавшиеся манной, освобожденные от рабства, приведенные в землю обетованную и осчастливленные столь многими благодеяниями. Вот кто свои, которые Его не приняли и чрез это неприятие стали Ему чужими. Были они ветвью масличною, но возгордились и стали отверженными. Весь остальной мир был дикой маслиной, пренебрегаемой вследствие горечи ее ягод. Горечью той дикой маслины пропитан был мир, но за смирение она была привита, а настоящая ветвь вследствие гордости была отрублена (Рим.11:17). Смотри на ветвь гордящуюся и готовую отломиться. Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда. Если бы вы были дети Авраама, — сказал им Господь, — то дела Авраамовы делали бы… Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. [Вы считаете себя свободными, но], всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин.8:33–39). Видите, насколько безопаснее для человека быть рабом другого человека, нежели быть в рабстве греховной страсти. Те, иудеи, вследствие гордости, отвергли смиренного. А смотри, как дикая ветвь делается достойной прививки, смотри на сотника не из среды израильтян, а из язычников. Господи, — говорит он, — я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой… Истинно говорю вам, — сказал Господь, — и в Израиле не нашел я такой веры (Мф.8:8, 10). В родной ветви не нашел Я того, что нашел в дикой. Так родная ветвь чрез гордость отсекается, а дикая чрез смирение прививается. Смотри на ветвь прививающуюся и на ветвь отсекаемую: Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном — вот дикая ветвь, прививающаяся чрез смирение. А вот ветвь родная, отсекаемая гордостью: А сыны царства, — говорит Господь, — извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Мф.8:11–12). Почему? Потому что свои не приняли Его. Почему дикая ветвь прививается? Потому что тем, которые приняли Его… дал власть быть чадами Божиими (Ин.1:12).
5. Ободрись же сердцем своим, род человеческий; дохни дыханием жизни и блаженной свободы. Что слышишь ты, и что обещается тебе? Дал власть. Какую власть? Может быть, ту, коей гордятся люди, власть жизни и смерти, права приговоров над виновными и невинными? Дал, — сказано, — власть быть чадами Божиими. Были они раньше не чадами и стали чадами, потому что Тот, чрез Кого делаются люди детьми Божиими, будучи Сыном Божиим, стал Сыном Человеческим, и сыны человеческие становятся детьми Божиими. Нисходит Он до того, чем не был. Возвел тебя в то, чем ты не был. Ободрись! Великое обещано тебе и от Великого обещано. Невероятным кажется и как бы невозможным, чтобы сыны человеческие становились сынами Божиими. Но более невозможное случилось, когда Сын Божий сделался Сыном Человеческим. Ободрись же, человек, удали неверие от сердца твоего. Случилось уже более невероятное, чем то, что обещано тебе. Дивишься ты, что человек будет иметь жизнь вечную; дивишься, что он может достигнуть ее. Но дивись скорее тому, что Бог за тебя снисходит до смерти. Зачем сомневаешься в обещании, получивши такое ручательство? Смотри, как он (евангелист) поддерживает тебя, как подкрепляет обещание Божие. Тем, — говорит, — которые приняли Его… дал власть быть чадами Божиими. По какому рождению? Не по обычному, не по ветхому, тленному или плотскому. Которые, — говорится далее, — ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились (Ин.1:13). Дивишься?! Не веришь?! Но вот Слово стало плотию и обитало с нами… Вот что означает, братия, жертва вечерняя. Приблизимся к ней! Пусть возносится с нами Тот, Который, как жертва, принесен был за нас. Пусть с вечерней жертвой прежняя жизнь проходит и является, как бы с рассветом, новая.
Беседа 3. О Сусанне и Иосифе, с увещанием о целомудрии
1. Святые чтения и божественные изречения, которые мы только что слышали, братия, пусть напечатлеются в мыслях наших. Пусть не исчезнут они без следа для нас, но послужат нам к некоторому назиданию; потому что, если и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих (Пс.83:4), то не тем ли более слово Божие и милосердие Божие должны находить место у нас?
Вот мы слышали чтение о Сусанне. Пусть же возрастает стыдливость супружеская; пусть опирается она на такой крепкий фундамент и укрепляется такою стеною, чтобы изгонять всех злоумышляющих против нее и изобличать лживых свидетелей. Осталась чистой женщина, которая должна бы умереть, если бы не было того, кто видел, что скрыто было от судей. Записаны слова, сказанные ею в саду, месте ее прогулки, каковые слова не слышал никто, кроме тех двух, хотевших посягнуть на честь чужой женщины и измысливших ложное свидетельство на нее. Только они двое слышали эти слова: Тесно мне отовсюду; ибо, если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом (Дан.13:22–23). С презрением отнеслась она к тому, что слышала, потому что боялась Того, Кого не видела. Конечно, Божественному взору Его она была видима, а не так, чтобы Бог не видел ее, как она не видела Бога. Видел Бог то, что Сам создал, наблюдал за созданием Своим, обитал в храме Своем, Сам был в нем и отвечал злоумышленникам. Потому что, если бы оставил женщину — источник целомудрия, погибло бы и самое целомудрие ее. Тесно мне отовсюду, говорит она, Однако же, знала Того, Кто мог удержать ее от малодушия и оградить от коварства лукавых свидетелей, как бы от пагубного ветра. Целомудрие ее не потерпело крушения, потому что Господь был кормчим. Вот послышался крик, сбежались и пошли на суд. Домашние поверили лживым свидетелям. И хотя прежняя ее чистота, незапятнанная жизнь, казалось, представляла достаточное доказательство ее целомудрия, однако не верить тем старейшинам (свидетелям) казалось нечестием. Никакого подобного слуха никогда не было о Сусанне. Они — ложные свидетели, но пока это было известно лишь Богу. Одному верили домашние, а другое видел Бог. Но что видел Господь, того не знали люди. Казалось справедливым верить старейшинам — лжесвидетелям. Итак, предстояло для Сусанны умереть. Впрочем, даже если бы и умерла плоть, целомудрие все–таки было бы увенчано. Но услышал Господь молящуюся, не допустил умереть ей, удержал ее от прелюбодеяния. Господь возбудил святый дух Даниила, юного возрастом, но крепкого благочестием. Так как почивал в нем дух пророческий, он тотчас же заметил коварство свидетелей. Но нужно было доказать другим то, что ему самому было видно. Они — ложные свидетели, — сказал пророк. — Возвратитесь в суд! Но что они были ложные, это знал лишь тот, коему открыто было Духом Святым. Нужно было показать это другим. И вот, желая обличить лжесвидетелей, Даниил просит, чтобы они отделены были один от другого. Затем спросил их поодиночке. Хотя и была у них одна страсть, но не успели они придти еще к полному единомыслию. Один, будучи спрошен, под каким деревом видел он прелюбодеев, ответил, что под мастиковым, а другой — что под дубом. Разногласие свидетелей открыло истину и спасло невинность.
2. Впрочем, невинность, как я сказал уже, братия, все равно была бы увенчана и прославлена, хотя бы тело, некогда имеющее умереть, и было умерщвлено. Ведь все мы умрем. И всякий, кто хочет избежать смерти, не то делает, чтобы уничтожить смерть, но лишь откладывает то, что должно быть. Всех держит смерть в своей власти. Все мы должны воздать долг, унаследованный нами от Адама. И если не умираем, Заимодавцем дается не освобождение от этого долга, а лишь некоторая отсрочка его. Сусанна была благочестивая женщина и целомудренная супруга, а все же некогда должна была умереть. Но если бы она и умерщвлена была даже, то в чем пострадало бы ее целомудрие, когда бы тело предано было погребению, а невинность ее была бы принесена Богу и награждена Им? И станете ли вы думать, что безценным чем–то является то, что ложные свидетели не одержали верха над невинной? Нет, не составляет это чего–нибудь особенно великого. Великая заслуга ее в том, что она не погрешила пред Богом. Сам Господь наш Иисус Христос был оклеветан и распят. Но хотя ложные свидетели на один момент и восторжествовали, однако, какой вред могли причинить они имеющему воскреснуть Господу? Итак, примером Своим Господь наш Иисус Христос в немощной плоти Своей, в образе раба, который принял для освобождения раба, для отыскания заблудшего, для искупления тленного, для спасения погибающего, показал пример рабу, чтобы не страшиться ложных свидетелей и не бояться, когда другие верят им. Могут они пустить ложный слух, но не могут уязвить чистую совесть. Ведь спасены же были три отрока из пещи огненной; Господь был с ними. В огне ходили они невредимыми, кругом охваченные пламенем, и не сгорая, в самом пламени воздавая хвалу Богу, и вышли оттуда целыми; Господь был с ними (Дан.3). Но разве не был Господь и с братьями Маккавейскими (2 Мак.7)? Те вышли из огня невредимыми, а эти скоро сгорели. И те и другие испытаны были — эти, лишившись своей плоти, а те, оставшись с неповрежденным телом, но те и другие получили награду. Навуходоносор дал обещание, что, если три мужа останутся целыми в пламени, он уверует в Бога их. И Кто мог спасти их на глазах всех, мог и увенчать втайне. Но если бы Он прославил их втайне, не спас бы царя, который, был столь жестоким. Спасение тела их, таким образом, послужило к спасению его души. Те, прославляя Бога, избежали огня вещественного; этот же, уверовав в Бога, избежал геенны огненной. Больше, следовательно, дано было царю, нежели отрокам. Антиох же, подвергший мучению Маккавеев, не был достоин такой милости. Поэтому, в то время как они умирали от огня и мучений, он ликовал. Но всякий, возвышающий сам себя, унижен будет (Лк.18:14).
3. Кто избавил целомудренную Сусанну, верную жену, от ложного свидетельства старейшин, Он же очистил и Деву Марию от ложного подозрения обручника Своего. Оказалась Она непраздной, хотя и не имела мужа. Чрево Ее было непраздным, а девственное целомудрие оставалось нетронутым. Начальника веры зачала Она верою, приняла в тело Свое Бога, Который не допустил до осквернения этого тела. Обручник же Ее, как человек, пришел в подозрение. Он, с одной стороны, знал, что это не от него; с другой — подозревал прелюбодеяние и вразумлен был уже ангелом. Почему он достоин был получить вразумление от ангела? Потому что подозрение в нем было не злорадное, не то лукавое подозрение, о котором говорит апостол (1 Тим.6:4). Лукавые подозрения свойственны клеветникам, доброжелательные подозрения — руководителям. Позволительно всякому иметь дурные подозрения о сыне, но неприлично клеветать на сына, и хотя подозревают иногда дурное, но все же желают найти доброе. Кто имеет доброжелательное подозрение, тот хочет, чтобы оно не оправдалось, и очень радуется, когда подозрение его окажется ложным. Таков был Иосиф по отношению к Марии, с Которой он не имел телесной связи, хотя духовно (верою) и был соединен с Нею. Так явилось ложное подозрение и относительно Девы Марии. Но как Сусанну в лице Даниила защитил Дух Святой, так и Деву Марию защитил ангел, который сказал Иосифу: Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго (Мф.1:20). Снято подозрение, потому что нашлось заступление.
4. Итак, если несколько ранее могли радоваться супруги за Сусанну, то пусть также теперь радуются и девы за Марию. И те и другие пусть хранят целомудрие, первые — супружеское, вторые — девическое: то и другое имеет цену в очах Божиих, хотя девическое целомудрие и большую, нежели супружеское. Однако, то и другое приятно Богу, потому что есть дар Божий. И те, и другие достигают вечной жизни, но не одну и ту же честь получат, не одно и то же достоинство, не одну и ту же награду. Ведь так же точно будет в жизни вечной и в царстве небесном, как бывает, например, на небе. На небе сияют звезды — так и в царстве небесном будут одни лишь достойные верующие. Жизнь будет равно вечная для всех. Не будет жить там один больше, другой — меньше, когда все мы будем жить безконечно. Динарий, который получат делатели в винограднике и те, которые пришли в виноградник рано, и те, которые пришли поздно (Мф.20:9–10), — означает награду жизни вечной, которая одинакова будет для всех. Но посмотрите на небо, вспомните слова апостола: Есть, — говорит он, — тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится во славе. Так и при воскресении мертвых (1 Кор.15:40–42). Итак, братия, каждый пусть подвизается в этом веке, соответственно тем способностям, какие получил, чтобы наследовать блаженство в веке будущем. В супружестве ты ожидай меньшего блаженства, низшей награды, но не отчаивайся в вечном царстве. Однако же удовольствия супружества должны быть, по возможности, уменьшены у тебя. Разве от того, что женат ты, не следует сознавать тебе, что ты странник в этом мире, разве не должно помнить о смерти и о том, что придется оставить ложе удовольствия? Будь внимателен и смотри, куда ты направляешься, — к бедствиям ли мучений или к блаженству вечности. Будь же бдителен и сохраняй, что получил; неси бремя свое, потому что легко оно, если любишь его, и тяжело, если ненавидишь. Потому что не напрасно говорит Господь и только истинно воздержанным говорит: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф.11:28–30), — легко для любящего, тяжко для отвергающего. Возложил ли ты иго Господне на шею свою? Легко оно, если охотно принимаешь, и тяжко, если неохотно возлагаешь его. И разве Сусанна та не искушалась в своем целомудрии оттого, что была замужем? Неужели те только в этом отношении не испытываются, которые состоят в замужестве? Вот Сусанна имела мужа, однако искушалась и боролась в своем искушении. «Тесно мне отовсюду», — говорит она. Страшилась умереть вследствие ложного свидетельства, но вместе с тем страшилась получить действительную духовную смерть от Бога. Вследствие ложного свидетельства лишилась бы она этой временной жизни, а судом Божиим подвергнута была бы вечному наказанию. Взвешивает она свое положение, борется. Испугалась сначала и обдумывает; обдумывает и борется, борется и побеждает. Тем самым научила она женщин, состоящих в супружестве, противиться искушению, научила бороться, научила страдать и молиться.
5. Но если такие свидетельства Священное Писание представляет о женщинах, то не забыло оно и о мужах и у них находит оно пример для подражания. Мы видели Сусанну, подвергшуюся соблазну со стороны мужей, посягавших на ее честь, видели ее борющуюся. Это чтение о Сусанне было как бы зрелищем для души нашей; видели мы борца, с целомудренным духом, вступившую в битву героиню. Будем же торжествовать вместе с победительницей победу над побежденным. Вот имеют благочестивые жены пример, которому могут подражать. Но пусть они считают себя обязанными Богу тем, что сохраняют, Тому, Кто видит то, чего супруг может и не заметить. Муж часто отсутствует, а Бог всегда видит. И если иногда супруг, так как он — человек, подозревает ложное, пусть молится тогда жена за мужа своего, подозревающего ложное. Пусть молится, чтобы он избавился от подозрения. Ложное подозрение мужа не замыкает очей Божиих. Совесть ее открыта перед Творцом. За временные страдания воздает Он вечное блаженство. Но пусть молится она и за мужа и постарается иметь не только добрую жизнь, но и добрую славу. Доброй жизнью невинность освобождается от осуждения, а добрая слава и других спасает от заблуждения и греха, от ошибочного приговора, подобного тому, как ошиблись судьи, осудившие Сусанну; и Даниил, или лучше, чрез Даниила Господь избавил от греховной смерти скорее судей тех, нежели Сусанну. Избавил ее, но от временной муки. Избавил их, чтобы они, вследствие дурного суда и осуждения, не подверглись вечному наказанию от Того Судьи, Коего никто не может обольстить, и от Которого никак нельзя укрыться.
6. Я уже сказал о мужах, что и они не оставлены без примера. Мужи целомудренные, мужи боящиеся Бога, мужи, довольствующиеся своими женами, мужи, не оскверняющие того, относительно чего не желаете, чтобы оно у вас было осквернено, мужи, соблюдающие верность, которую требуете от других, ждите и вы от меня того, чего ожидали жены ваши во время чтения о Сусанне. Не оставило и вас без примера Божественное Писание. Они, жены, слышали о Сусанне и радовались ее победе. Посмотрите на Иосифа, не того Иосифа, коему обручена была Дева Мария, родившая Христа, потому что и он подвергся искушению подозрения и исправлен был после того ангелом. О другом Иосифе Писание свидетельствует еще, о том, коего хотела обольстить жена безстыдная. Полюбила она его, прекрасного, не чистым, но развращенным пожеланием, неспособным видеть красоты внутренней, духовной. Полюбила красоту тела, но не чистоту духа. Полюбила чужого, раба своего мужа, но не возлюбила хранящего верность господину своему. Как тебе кажется, его ли любила она или скорее себя самое? Я думаю, что ни его, ни себя. Если бы его любила, зачем хотела его погубить? Если бы себя любила, зачем хотела погибнуть? Таким образом, не любила она ни его, ни себя. Ядом похоти горела она, а не огнем любви. Но он мог видеть то, чего она не могла. Еще прекраснее он был душою, чем телом, прекраснее красотою сердца, нежели наружной красотою тела. Куда не могли проникнуть взоры той женщины, там сам наслаждался он собственною красотою. Дорожа внутреннею красотою целомудрия, как он мог бы допустить осквернить ее, обезчестить грязным поползновением той женщины? Любила она, но любил и он; и выше было то, что он любил, нежели, что любила она, потому что видел он, чего она не видела.
7. Если хочешь знать ты, что такое духовная красота целомудрия, если имеешь некоторую способность глаз различать ее, я несколько поясню тебе это: красоту ту любишь ведь ты и в жене твоей. Не старайся же издеваться в чужой жене над тем, что любишь в своей. Но что именно любишь ты в твоей жене? Конечно, целомудрие. Не терпишь его в чужой жене и любишь в своей?! Его, целомудрия, не терпишь в чужой, когда хочешь погубить чистоту ее. Но не то ли хочешь погубить в чужой жене, что ценишь в своей? Как будешь требовать чистоты, будучи убийцей целомудрия? Охраняй же и в другой то, что оберегаешь в твоей. Люби целомудрие более, нежели тело. Но, может быть, воображаешь ты, что в жене твоей более ценишь ты тело ее, а не чистоту души — низкое это оправдание. Но и здесь я не оставляю тебя без примера, так как, думаю, что ты именно целомудрие более ценишь в жене твоей, нежели красоту ее тела. Но чтобы показать тебе, что ты безусловно ценишь чистоту души более, нежели тело, вот указываю тебе на дочь твою, в которой ты целомудрие уважаешь более, нежели красоту тела. Кто из людей не хочет, чтобы дочери их были целомудренными? Кто не радуется целомудрию дочерей своих?
Неужели и здесь любишь ты тело? Но разве ты вожделеешь прекрасного тела там, где ужасаешься преступного кровосмешения? Вот доказал я тебе, что ты ценишь чистоту душевную. Если же так, то чем ты досадил себе, что не любишь чистоты душевной в себе самом? Ведь ты же получаешь пользу от этого. Итак, люби в себе то, что любишь в твоей дочери, — это же люби и в чужой жене, потому что и дочь твоя будет некогда чужою женою. Люби чистоту и в себе самом. Если полюбишь ты чужую жену, не будешь тотчас иметь ее. Если же полюбишь целомудрие, тотчас будешь владеть им. Итак, люби целомудрие, чтобы достигнуть блаженства.
8. Но может быть, случится тебе подвергнуться так искушению: полюбит тебя женщина безстыдная, поймает тебя где–нибудь наедине и постарается вынудить у тебя объятия. Если не согласишься, будет угрожать наказанием вследствие наговора. Так поступили лжесвидетели с Сусанной. Так же поступила с Иосифом жена господина его. Но взирайте при этом на Того, на Кого взирали Сусанна и Иосиф. Неужели оттого, что нет ни одного свидетеля, и Бога нет там? Его именно взора не хотел оскорбить Иосиф, взора Господа Своего, пребывающего с ним. Не хотел он согласиться на недозволенное соложничество с безстыдной женщиной, отогнал чужое вожделение, сохранил свое целомудрие. Сделала она, однако, то, чем угрожала, наклеветала мужу своему, и он поверил ей, до такой степени долготерпит Господь. Иосиф заключается в темницу, содержится как преступник, хотя и не согрешил пред Господом. Но и там Господь был с ним, потому что он не был виновен. Помогал Господь Иосифу, страждущему. А что не тотчас помог, сделал это для того, чтобы больше прославить его, и достойно прославил того, кого испытал терпением. Правда, должен был праведный Иосиф за свое целомудрие претерпеть нечто жестокое и обидное. Но если бы полюбил он безстыдную женщину, готов был бы, конечно, претерпеть за нее горечи; и она не оценила бы его любви к ней, если бы он не готов был потерпеть за нее, и не отвечал бы взаимностью на любовь ее, или, лучше сказать, не на любовь, а на злую похоть. Еще более она воспылала бы к нему, когда бы видела, что он возгорелся такою любовью к ней, что не отказался бы перенесть за то какие бы то ни было страдания. Если так за безстыдную женщину, то насколько же более следовало быть готовым пострадать за целомудрие? Поэтому, хорошо, что Господь не поспешил здесь со своей помощью, с целью ободрить человека, чтобы он и сам собой доходил до сознания истинной славы. От Бога же ничто не скрыто.
9. Итак, в том хочу убедить любовь вашу, братия, чтобы прежде всего вожделениям плотским и радостям этого века, суете, непостоянству и прелестям настоящей жизни предпочитали вы красоту, сладость и удовольствие мудрости, красоту стыдливости и чистоты. Это — сокровища, хранящиеся в сокровищнице небесной. Это — драгоценные светлые алмазы, блестящие пред очами Божиими, и вы увидите их, если взоры ваши будут способны к тому. Предпочитайте же их превратным и непозволенным удовольствиям. И если испытание достигнет такой меры, что вам нужно пострадать, братия мои, то кто не будет страдать за свои сокровища? Кто не будет страдать за поле свое и даже за одну пядь земли своей? Если готовы страдать вы за эти предметы, коими вы даже не можете распорядиться, которых часто еще при жизни лишаемся мы, и которые после нашей смерти переходят к нашим врагам, — если за эти блага (если только можно назвать благами то, что не делает никого блаженным) люди спокойно переносят разные невзгоды, то почему не страдать за сокровища небесные, за те сокровища, которых никакие несчастья не могут лишить нас? Праведник, лишившийся имущества, становится и бедным и богатым.
10. Таким богатством изобиловал праведный Иов. Все погибло у него вдруг; ничего не осталось в доме, чем богат он был перед тем. Внезапно стал он нищим, во прахе, с головы до ног покрытый червями. Что больше этого несчастия? Но что больше и внутреннего блаженства Иова? Потерял он все, что дал ему Бог, но имел Самого, давшего все Бога. «Наг, — сказал он, — я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» Конечно, он был беден? Конечно, ничего не имел. И если ничего не имел, то о каком сокровище возносились эти драгоценные хвалы Богу? После того, как уже было все отнято, Он оставил ему еще жену — искусительницу, оставил Еву. Но то был не Адам. И каким он оказался тогда? Как отвечал на злословие жены? Ты говоришь, — сказал он ей, — как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? (Иов.2:10) О, муж сгнивающий и невредимый! О, зловонный и прекрасный! О, изъязвленный и здравый! О, в пепле сидящий и на небе царствующий! Если любим мы его, будем ему подражать, а чтобы подражать, будем терпеть. И если в терпении станем ослабевать, будем молиться о помощи. Поможет борющемуся Тот, Кто допустил борьбу. Не так требует Бог от тебя борьбы, как толпа от гладиатора: кричит, но не умеет помочь; не так, как любитель зрелищ ожидает атлета, — приготовляет венок из цветов, но не знает, как поддержать силы атлета, когда он будет ослабевать, не знает, потому что человек он, а не Бог. И, может быть, сам он, пока смотрит, более страдает, нежели тот, кто борется. Бог же помогает слугам Своим, когда они взывают к Нему. Вот голос подвижника Его в псалме: Когда я говорил: «колеблется нога моя», — милость Твоя, Господи, поддерживала меня (Пс.93:18).
Итак, не будем же лениться, братия мои — станем просить, искать, стучать. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Мф.7:8).
Беседа 4. О любви к Богу и о любви к миру
1. Два рода любви существуют в этом мире, которые постоянно между собою враждуют: любовь к миру и любовь к Богу. Которая из них победит, та и влечет любящего как бы своей тяжестью. Потому что не на крыльях или не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу. Равным образом не телесными путами или узами, но противоположными тем чувствами привязываемся мы к земле. И Христос приходит для того, чтобы изменить твои привязанности и, вместо любви к земному, возбудить в тебе любовь к жизни небесной. Сделался по причине нас Человеком Тот, Кто создал человека; Бог принимает образ человека, чтобы обожествить человека. Здесь, на земле, предстоит нам борьба, борьба с плотью, борьба с диаволом, борьба с миром. Но станем надеяться, что Тот, Кто установил эту борьбу, не оставит нас без Свой помощи; Он увещевает нас не кичиться своими силами. Кто надеется на свои силы, надеется на силы человеческие. Но проклят человек, который надеется на человека (Иер.17:5). Пылая пламенем этой чистой святой любви, мученики силою духа сжигали сено плоти. Невредимые духом восходили они к Тому, от Кого были вдохновлены. Полная же слава получена будет ими вместе с самою презренною ими плотью в воскресение мертвых. Потому и сеется в уничижении, чтобы возстать во славе (1 Кор.15:43).
2. Возбужденным этой любовью или, скорее, для того, чтобы возбудить, Господь говорит следующее: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня и… кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф.10:37–38). Не уничтожает Он любви к родителям, жене и детям, но упорядочивает ее. Не сказал: «кто любит», но: кто любит более… Меня. Это есть то же, что и Церковь говорит в книге Песнь Песней: И знамя его надо мною — любовь (Песн.2:4). Люби отца своего, но не более Господа. Люби родителя, но не более Создателя. Отец хотя и родил, но не сам образовал тебя. Потому что, кто и каков ты будешь, — не знал он, когда ты рождался. Отец воспитал тебя, но не он произвел хлеб для тебя, голодающего. В конце концов, кое–что оставив для тебя на земле, отец твой уходит, чтобы ты последовал ему, и смертью своею освобождает место для твоей жизни. Отец же — твой Бог — все, что ни сохраняет для тебя, сохраняет вместе с Собой, как что ты получаешь наследство вместе с отцом и не ждешь в ожидании наследства, когда владелец уйдет, но соединяешься с Тем, Кто всегда пребывает, ты, имеющий также всегда пребывать. Люби отца, но не более Бога твоего. Люби мать твою, но не более Церкви, которая родила тебя для жизни вечной. Из самой любви к родителям заключи, наконец, как нужно любить Бога и Церковь. Если так должно любить тех, которые родили тебя для того, чтобы ты умер, то как же следует любить тех, кои родили тебя для вечности, чтобы ты всегда пребывал. Люби жену твою, люби детей твоих во имя Бога, научая их чтить вместе с тобою и Бога, с Коим, когда соединишься ты, не будешь бояться никакого разделения. Поэтому не следует любить детей своих более Бога, и худо любил бы ты их, если бы не позаботился привести к Богу вместе с собою. Придет и для тебя, быть может, час мученичества. Ты захочешь исповедывать Христа. Исповедав, получишь, может быть, временную смерть. Но вот отец, жена или сын соблазняют тебя, чтобы ты избег страданий, но прельщениями своими производят они то, что ты действительно умираешь. Тогда лишь исполняешь слова Христовы: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, тот не достоин Меня, — когда такие прельщения не действуют на тебя.
3. Однако на прельщения от своих все же склоняется иногда плотское чувство, и некоторым образом поддается им наша впечатлительность. Но исправь неровности тленной одежды и опояшься добродетелью. Терзает ли тебя любовь плотская? — Возьми крест свой и следуй за Господом. Ведь и Сам Спаситель твой, хотя и Бог во плоти, хотя и Бог вместе с плотью, однако же показал немощь человеческую, когда говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия (Мф.26:39). Знал Он, что не минует Его эта чаша. Для испития ее и пришел Он по воле Своей, а не по принуждению должен был выпить эту чашу. Был Он всемогущ и, если бы желал, мог бы миновать ее, потому что Он — Бог со Отцом, и потому что — Он и Отец — один Бог. Но, будучи в образе раба, в том именно, что воспринял от тебя и за тебя, Он издал голос плоти. Тебя в Себе благоволил Он изобразить, так что и в Нем находишь ты немощь, чтобы научиться терпению. Показал Он желание, коим можешь и ты искушаться, и в то же время научил, какую волю и какому желанию ты должен отдавать предпочтение. Отче Мой! — говорит Он, — если возможно, да минует Меня чаша сия. Это — воля человеческая; «человека показываю», как бы говорит Господь, в форме раба говорю: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия. Это та воля, о которой и Петру сказано: А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь (Ин.21:18). Но тем ли мученики побеждали, когда воле плотской предпочитали волю духовную? Любили они эту жизнь и заключали отсюда, как нужно любить ту вечную жизнь, если так любится эта преходящая. Имеющий умереть не хочет умирать, и все–таки неизбежно умрет, хотя постоянно отгоняет мысль о смерти. Ничего не поделаешь, хотя и не хочешь умереть, ничего не можешь предпринять, потому что нет у тебя никакой возможности избежать смерти. Против твоего желания придет то, чего ты боишься. Случится то, чего ты избегаешь. Много трудишься ты, чтобы отсрочить смерть. Но неужели хочешь совсем избежать ее? Итак, если привязанные к этой жизни так много заботятся о том, чтобы только отсрочить смерть, то как много следует заботиться о том, чтобы избегнуть смерти? Вот, не хочется умереть тебе?! Измени свои привязанности и увидишь, что есть смерть, не та, которая будет, хочешь ты или не хочешь ее, но та, которой избегнуть от твоей воли зависит.
4. Итак, наблюдай, есть ли в сердце твоем и какая любовь, блестит ли искра из пепла плоти, крепко ли сердце твое настолько, чтобы не только не падать под тяжестью искушения, но еще более гореть любовью, наблюдай, не тлеешь ли ты, как пакля, которая гаснет от легкого дуновения, или горишь, как твердое дерево, как уголь, от дуновения сильнее разгорающийся. Пойми, что есть две смерти: одна временная — это смерть первая, а другая вечная — это смерть вторая. Первая смерть определена для всех, а вторая только для злых, нечестивых, неверующих, ругателей и всех противящихся здравому учению. Смотри же, помни об этих двух родах смерти. Может быть, обеих их хотел бы избегнуть ты. Знаю, что любишь жизнь и не хочешь умереть, и из этой жизни так хотел бы перейти ты в другую жизнь, лучшую, чтобы живым измениться к лучшему, а не воскресать, предварительно умерши. Этого хотел бы ты. Так настроено чувство человеческое. Таковы, как бы, воля и вожделения самой души нашей. Любя жизнь, она ненавидит смерть, любит тело свое и не желает, чтобы с ним произошло то, что она ненавидит. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти (Еф.5:29). На это свойство апостол указывает и в другом месте, когда говорит: Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище… потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью (2 Кор.5:1–4). Не хочешь ты совлечься, но хочешь быть облеченным. Но о том следует заботиться, чтобы, совлекшись, вследствие смерти, плотской одежды, ты оказался облеченным в броню веры, на что указывая, апостол говорит: Только бы нам и одетым не оказаться нагими (2 Кор.5:3). Первая смерть совлечет с тебя плоть, которая истлеет и в свое время опять возстанет. Хочешь — не хочешь, будет это, так как не потому ты воскреснешь, что хочешь этого, а если не хочешь или не веришь тому, то и не воскреснешь. Старайся лучше о том, чтобы по воскресении иметь то, что хочешь иметь. Ведь Сам Господь Иисус Христос сказал: Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут…, — без различия и добрые, и злые — все находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия — и изыдут, изринуты будут из бездны. Никакая тварь не в состоянии будет удержать мертвых, когда раздастся голос Творца. Все, — говорит Господь, — находящиеся в гробах, услышат глас… и изыдут… Сказав все, Он как бы произвел слияние или смешение. Но слушай дальше о разделении. Изыдут, — говорит, — творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин.5:28–29). Это осуждение, для которого воскреснут нечестивые, и есть вторая смерть. Зачем, христианин, боишься ты этой первой смерти? Придет она непременно к тебе, против воли твоей придет. Вот, хочешь освободиться ты от варваров, чтобы не быть убитым. Хочешь избавиться от сильного, не щадишь имения твоего, заставляешь терпеть лишения детей твоих и, избавившись, на другой день умираешь. Должно более стараться тебе о том, чтобы избавиться от власти диавола, который влечет тебя вместе с собою ко второй смерти, когда нечестивые, стоящие по левую сторону, услышат: Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф.25:41). Об избавлении от этой второй смерти и следует позаботиться тебе. Может быть, скажешь: Как? Не имуществом, конечно, не деньгами; будь лишь справедлив, если хочешь избежать второй смерти. Деньги может отнять у тебя враг твой и потом уведет тебя в плен, и ты не будешь иметь, чем выкупить себя, так как всем имуществом твоим владеть будет тот, кто будет владеть и тобой. Справедливости же не потеряешь ты, если не захочешь. Во внутренней сокровищнице сердца твоего обитает она. Ее старайся иметь, ею старайся овладеть, чтобы потом избавиться от второй смерти. Если ты не захочешь этой второй смерти, ее не будет, так как будет у тебя, если захочешь, средство, коим можешь избавиться от нее. Правду же получает воля наша от Бога и пьет ее, как бы, из своего источника. Всякий безпрепятственно приближается к этому источнику, если достойно приближается. Обрати внимание и на помощь, которая подается тебе. От неприятеля спасает тебя серебро твое. От первой смерти избавляешься ты иногда имением твоим. От второй смерти избавляет тебя кровь Господа твоего. Имел Он кровь и для того принял кровь, чтобы пролить для спасения нашего. Кровь Господа твоего за тебя проливается, если хочешь, и не за тебя, если ты не хочешь этого. Может быть, скажешь ты: имел кровь Господь мой, чтобы избавить меня. Но когда страдал, Он всю ее отдал. Что осталось еще у Него, чтобы Он мог дать еще и за меня? Но, однажды проливши кровь, Он пролил ее за всех. Кровь Христа — спасение для следующих за Ним и наказание для отвергающихся от Него. Будешь ли сомневаться еще ты, боящийся смерти, что лучше избавиться от второй смерти? А от нее избавляешься тогда, если берешь крест твой и следуешь за Господом, потому что Он подъял Свой крест и взыскал раба Своего.
5. И не убеждают ли вас, братия мои, в том, что нужно любить жизнь вечную, те, которые так привязаны к настоящей временной жизни? Сколь многое делают люди для того только, чтобы жить эти немногие дни? Кто может исчислить труды и усилия всех, желающих жить и вскоре потом умирающих? Сколь многое делают они даже из–за немногих дней? А что делаем мы для жизни вечной? Что сказать, если вспомнишь, что делается из–за этих немногих дней на земле? Может быть, ныне живущий завтра умрет?! И вот, из–за неизвестного, ради немногих дней неизвестных, — что делают люди, что измышляют? И если вследствие болезни тела, впадают они в руки врача, если ожидается спасение от знающих и опытных лиц, если находится врач, могущий утешить отчаявшегося, — чего только не обещают ему и сколь многое отдают вперед, хотя бы ничего еще не было известно! Чтобы только немного пожить, отдают средства, на которые живут. Или, когда кто впадет в руки неприятеля и разбойника, если это будет отец, то сыновья, желая защитить и избавить его, спешат к нему на помощь и отдают то, что оставил бы он им, думая спасти его, чтобы схоронить затем. Сколько домогательств, сколько просьб, сколько усилий употребляют они — кто может исчислить все это? Но я хочу сказать нечто более ужасное и даже невероятное, если бы оно не случалось. Для чего говорить, что люди отдают, лишь бы жить, и ничего не оставляют себе?! Чтобы прожить только немногие неизвестные дни под постоянным страхом и в трудах — сколь многое они тратят? Сколь многое отдают? О, люди, люди! Я сказал уже, что тратят они даже и то, чем живут, лишь бы продлить жизнь свою. Но выслушайте о худшем и более тяжком, более преступном, даже маловероятном, как я сказал, если бы оно не случалось. Чтобы только немного пожить, жертвуют они даже тем, чем могли бы обезпечить себе постоянную жизнь. Выслушайте и вникните в то, что скажу я. Вот еще не сказано это, и однако многие уже заволновались из тех, коим Господь наперед благоволил открыть это, хотя оно еще и не высказано мной. Оставьте тех, кои для того, чтобы приобрести возможность недолго пожить, отдают и губят то, чем поддерживают самую жизнь свою. Посмотрите на тех, кои, чтобы приобрести себе возможность недолгой жизни, губят то, чем обезпечивали бы себе право вечной жизни, а именно: веру и благочестие, что есть как бы имущество, коим приобретается жизнь вечная. Вот неожиданно выйдет к тебе враг и, устрашая тебя, скажет не так: «Дай мне денег, и ты будешь жив», а заставит тебя отвергнуться от Христа, обещая сохранить тебе жизнь. Но когда ты сделаешь это, то, хотя и получишь право пожить еще немного, однако лишишься права на вечную жизнь. Скажи ты, боящийся смерти, это ли значит любить жизнь? Почему ты испугался смерти, если не потому, что любишь жизнь? Но Христос есть жизнь. И зачем ты домогаешься этой ничтожной, непродолжительной жизни, чтобы потерять жизнь блаженную? Или, может быть, ты не терял веры и не имел чего терять?! Итак, держись же того, чем можешь достигнуть вечной жизни. Посмотри на ближнего твоего, сколь многое делает он для того, чтобы хотя немногое время прожить. Подумай ты, уже отрекшийся от Христа, какое великое зло сделано тобой ради этих немногих дней жизни? И неужели не хочешь ты презреть эти недолгие дни, чтобы уже никогда не умирать, чтобы пребывать в вечном дне и чтобы под покровом Создателя твоего, в вечном царстве, сделаться равным ангелам? Что погубил ты, чего не сделал? Не взял ты креста твоего для того, чтобы следовать за Господом.
6. Смотри же, сколь благоразумным хочет видеть тебя Тот, Кто сказал тебе: Возьми крест свой, и следуй за Мною (Лк.9:23), и еще: Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее (Мф.10:39). Кто сбережет душу свою, тот потеряет ее. А кто потеряет, тот сбережет ее. Для того чтобы погубить душу, будешь беречь ее, а когда погубишь, в конце концов, сбережешь ее. Два есть способа сбережения, и между ними указывается одна погибель. Никто не может потерять души своей ради Христа, если сначала не сбережет ее. И никто не может сберечь души своей во Христе, если сначала не погубит ее. Итак, береги, чтобы потерять. Теряй, чтобы сберечь. Но каким образом ты прежде сберегаешь ее, так что имеешь ту, которую теряешь? Когда думаешь, что ты в одном лишь отношении действительно смертен, когда помышляешь о Том, Кто создал тебя и вдуновением создал тебе душу, и помнишь, что ею обязан Тому, Кто дал ее, что Тому должна быть она возвращена, Кто направил ее и устроил. Сберегаешь ты душу свою, когда содержишь ее в вере; если веруешь, сбережешь ее. Ты был погибшим прежде, нежели стал веровать. Сберег ты душу свою, бывши мертвым в неверии и оживши в вере. Таков ты теперь, что можно сказать тебе: Был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк.15:32). Обрел ты душу свою в вере истинной, когда ожил от смерти неверия. Вот что значит, что сберег ты душу свою. Губи ее, но пусть душа твоя будет семенем для тебя. Потому что и земледелец молотьбою и веянием находит пшеницу и опять при посеве теряет ее. Находится на гумне то, что погибает в семени. Погибает при посеве то, что находится в жатве. Итак, тот сбережет душу свою, кто потеряет ее. Но если хочешь жать, зачем ленишься сеять?
7. Замечай же, когда сберегаешь душу свою и когда губишь ее. Но как ты сберег бы ее, если бы не возжег в тебе света Тот, о Ком говорится в псалме: Ты возжигаешь светильник мой, Господи (Пс.17:29)? И сберег ты душу свою, если только Он возжигает в тебе этот светильник. Смотри также, как ты можешь губить ее. Не следует легкомысленно терять того, что так тщательно должно оберегаться. Не сказал Господь: «кто потеряет ее, тот сбережет», но: кто потеряет ее ради Меня. Может быть, когда увидишь на берегу тело потерпевшего кораблекрушение торговца, с сожалением поплачешь о нем и скажешь: Несчастный человек! Из–за золота погубил ты душу свою. Справедливо скорбишь тут, справедливо жалеешь. Поплачь о том, кому не можешь теперь оказать помощи. Вот из–за золота мог потерять он душу свою, из–за золота не мог сберечь ее. К погибели души своей был он способен, к приобретению ее оказался менее годным. Следует подумать при этом не о том, что погубил, но почему погубил. Если из–за корысти, то вот лежит бездыханное тело, и где то, что казалось так привлекательным? И все–таки возобладала корысть, ради золота погублена душа, ради же Христа она не погибла и о, если бы погибла! Не будь же неразумен и будь тверд: слушайся Творца своего. Тот научит тебя и сделает мудрым, Кто создал тебя. Не смущайся ради Христа потерять душу свою. Создателю своему вверяешь то, что, по–видимому, теряешь. Конечно, теряешь ты; но берет Тот, у Кого ничто не пропадет. И если любишь ты жизнь, губи ее, чтобы сберечь. Потому что, когда сбережешь, хотя уже и не будет того, что губил ты, но останется навсегда причина, из–за которой губил. Во всяком случае, сберегается при этом та жизнь, которая уже не может погибнуть. Потому что и Христос, Который показал тебе пример в рождении, смерти и воскресении, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Рим.6:9).
Беседа 5. О презрении к миру
1. Хочу говорить любви вашей, братия, о том, что относится к презрению жизни настоящей и надежде жизни будущей. Если хочешь знать, что следует презирать, то посмотри на мучеников, которые презрели эту земную жизнь. Если хочешь знать, на что нужно надеяться, то указываю тебе на воскресение, так как ныне Господь воскрес из мертвых[26]. И если ты, человек, колеблешься теперь, то будь тверд в надежде, и если смущает тебя труд, пусть ободрит награда. К этому призывает нас апостол, когда заповедует Тимофею, говоря: Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни (1 Тим.6:17–19). Это особенно должно помнить богатым. Слушайте это, богатые, имеющие золото и серебро и пламенеющие страстию, богатые, на которых с упованием взирают иногда бедные, ропщут, вздыхают, хвалят, завидуют, с коими хотят сравняться, скорбят о своем неравенстве с ними и среди похвал богачам говорят лишь: Вот, они одни счастливы, они одни живут лишь. Но вы, богачи, берегитесь, чтобы из–за этих слов, коими льстят вам люди бедные, не впасть вам в гордость; слушайте скорее апостола, целителя болезни, а не льстеца на словах. Настоящая жизнь ваша есть сон, и богатства эти, как бы во сне протекают. Апостол Павел убеждает достигать вечной жизни. Слушайте же Павла и не гордитесь. Слушай и псалмопевца ты, богач и вместе бедняк. Что имеешь ты, если Бога нет у тебя? И чего нет у тебя, если Бог с тобой? О богатых говорит псалмопевец: Уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих (Пс.75:6). Иногда и нищий, лежащий на земле и дрожащий от холода, во сне видит сокровища, радуется, восторгается, гордится и даже пренебрегает отцом своим в лохмотьях. Сон — это то, что видишь ты, нищий, когда спишь и радуешься. Однако пока не проснется он, чувствует себя богачом. Когда уснет, находит то, о чем, видимо, скорбит. Также и богач, имеющий умереть, подобен бедняку, спящему и видящему во сне сокровища. Ведь и тот богач, который одевался в порфиру и виссон, и остался неизвестным по имени, презирал бедняка, лежащего у ворот, каждый день пиршествовал блистательно, потом, умерши и будучи погребен, он очнулся и увидел себя в пламени (Лк.16:19–24). Провел он время сна своего и после сна ничего не нашел, потому что не дал никакого разумного употребления богатству своему.
2. Для жизни ищется богатство, но не жизнь для богатства. Как многие примиряются со своими врагами, выговаривая себе одну только жизнь? И что ни имеют, все отдают, лишь бы жизнь сохранить. Все ли отдал ты, брат, врагам своим? Все, говорит, отдал, остался голым, и хотя голым, но все же живым. А почему? Потому отдал все, чтобы самому не оказаться убитым. И как с тобой это случилось? Хочешь — скажу тебе, как? Оттого это случилось, что прежде, нежели пришел к тебе враг, ты сам не оказывал помощи нищему, так — чтобы милостыня твоя восходила чрез бедного ко Христу. Христу не дал ты немногого, а врагу отдал все, что имел, и отдал навсегда. Христос просит и не получает. Тот требует и все отнимает. Если так дорого платишь ты за эту преходящую жизнь, то как же должна быть ценима жизнь вечная? Давай же ты, который даешь врагу, чтобы жить хотя нищим, хоть что–нибудь Христу, чтобы жить счастливо. Для того чтобы жить в течение немногих дней, вот ты отдаешь, что требует враг твой, а чего хочет Христос, этого ты не делаешь. Не велико число дней жизни человека от детства до старости; и если бы Адам умирал сегодня, все равно, дни его были бы немноги, потому что все они были бы уже окончены им: пусть он жил бы шесть тысяч лет, и однако не велико было бы число дней жизни его, в виду того, что они все были бы прожиты. Во власти твоей большое число дней, полных труда и искушений, немного земли имеешь ты и виллу. Вот, враг, который пленил тебя, говорит: Все, что имеешь, дай мне; и для того, чтобы жить, ты все отдаешь, ты, сегодня избавившийся от смерти, а завтра умирающий, от одного избавившийся, от другого, быть может, имеющий принять смерть.
Вот сколь многое претерпевают люди из–за настоящей временной жизни и не хотят пострадать даже сколько–нибудь за жизнь вечную! Пусть вразумят нас, братия, хоть эти постоянные опасности. Вот все отдал ты, от всего отказался и радуешься тому, что жив, и говоришь: «Хотя я и беден, наг, хотя нуждаюсь, нищенствую, однако, радуюсь тому, что я жив и не лишился этого радостного света». Пусть же явится Христос, пусть и Он примирится с тобою, не варвар, который пленил тебя, но Тот, Кто Сам пленен был и благоволил даже умереть за тебя. Тот, Кто Сам Себя отдал за тебя, призывает тебя к миру с Собою. Хочешь ли жить ты?! Живи со Мною, — говорит Он. — Следует только, чтобы ты возненавидел себя и полюбил Меня. Теряя жизнь свою, найдешь ее, а, оберегая ее, погубишь.
3. Что касается богатства твоего, коим тебе приятно владеть, и которое готов отдать ты за жизнь настоящую, то вот я даю совет тебе, как поступить с ним. Если любишь его, то не теряй. Однако же, если любишь богатство только на земле, здесь, то оно погибнет вместе с тобою. Если любишь сокровища, то переноси их туда, куда и сам пойдешь, чтобы не потерять их здесь, на земле, несмотря на всю твою привязанность к ним, или еще при жизни, или по смерти. Вот я дал тебе совет: не сказал «губи», но «сохраняй». Хочешь собирать сокровища? Хорошо. Не говорю: «не собирай», но указываю место, где собирать. Смотри на меня, как на советника, а не как на врага твоего. Написано: Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут (Мф.6:20). Но, может быть, скажешь ты: Не вижу я места на небе, где бы положить. Какую гору, какую машину должен найти я, чтобы коснуться неба, чтобы видеть, где положить там деньги мои? Но что говоришь ты?! Знаешь же на земле ты место, где спрятать? Знаю, говоришь. Хорошо, довольно. Если спокоен бываешь ты, когда прячешь на земле, то как же не доверяешь ты Богу, Который сотворил небо и землю? Давай Богу смело, Ему вверяй себя, ибо Он сохраняет для тебя сокровище на небе. Он же промышляет о тебе и на земле, пока ты живешь. Хочешь сохранить деньги? Сохраняй, как знаешь. Если найдешь лучшего стража, чем Христос, ему вверяй свои деньги. Вверяю, говоришь, рабу моему. Хорошо. Насколько же больше должен верить ты твоему Господу? И неужели Господу предпочитаешь ты раба? О, христианин! Раб твой, может быть, украдет и исчезнет. А разве Христос это сделает? Многие рабы являлись неожиданно врагами по отношению к господам своим и предавали их вместе с их золотом. Итак, кому же вверяешь свои сокровища? Рабу, говоришь, моему. Я знаю верность раба своего и потому доверяю ему. Хорошо. Высоко чтишь ты раба своего, золото свое вверяешь ему. А душу свою кому? Душу свою вверяю я Господу моему. Но не гораздо ли лучше, человек, и золото твое вверить Тому, Кому вверяешь свою душу? Или, может быть, верен Он в хранении души твоей и неверен в хранении денег твоих?! Но сохранит их для тебя Тот, Кто и тебя сохраняет. Хвалишь ты верность раба своего?! Да, я знаю, говоришь ты, верность раба своего. Но вся эта верность состоит в том, что он не обманывает, не берет твоего, но не в состоянии не потерять его. Но, вот, положил он сокровища твои, не сумел спрятать, другой находит их и уносит. Уже ли это может случиться и со Христом?
Оставь же нерадение и прими совет. Дай Христу голодающему, собирай сокровище на небе. И какой труд собирать для себя сокровище на небе? Хотя бы и трудно было это, все же следовало бы полагать сокровища в месте безопасном, откуда никто не мог бы взять их. И когда говорит Христос: Собирай сокровища на небе, не говорит тебе: «Ищи гор, строй машины, подделывай крылья», — а говорит лишь: «Давай Мне на земле, и Я сберегу для тебя на небе. Для того Я и являюсь на земле в бедности, чтобы ты богатым явился на небе. Сделай же переправу для себя». Быть может, боишься ты обманщиков, чтобы не потерять своего и ищешь, кто бы мог перенести, кто бы мог переправить. Вот, Христос помощник твой. Не обманет Он и перенесет.
4. Но где, спросит кто–нибудь, найти мне Христа на земле? Где найти Его, чтобы дать Ему. Как учит меня вера моя, что я слышу и чему научился в церкви, Он пострадал, умер и погребен, воскрес в третий день и в сороковой день по воскресении вознесся на небо, возсел одесную Бога Отца, а при скончании мира снова придет. Когда же здесь я могу увидеть Его? Кому могу дать из моего имущества, чтобы тот перенес к Нему? Не безпокойся! Неужели ты не читал или никогда не слыхал, что сказал Савлу, когда он еще преследовал Церковь, — гордый и жестокий, пылая ненавистью к христианам, что сказал ему Тот, Кого ты исповедуешь сидящим на небе? Вспомни, что сказал Он ему? Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? (Деян.9:4). Кого Павел не видел и не касался, Тот говорит с неба: Что ты гонишь Меня? Не говорит: «Что гонишь родных Моих, рабов Моих, святых или братьев Моих?» Ничего такого не говорит. А что сказал? Что ты гонишь Меня?, т. е. терзаешь члены Моего тела. За них, попираемых на земле, Глава говорит с неба. Потому что и у тебя, если кто–нибудь наступит тебе на ногу, язык твой говорит: «Ты наступил на меня». Итак, что сомневаешься, что препираешься? Кто сказал Павлу: Что ты гонишь Меня?, говорит и тебе: «Питай меня». На земле Павел свирепствовал и Христа на небе преследовал; так и ты давай на земле и тем самым будешь питать Христа на небе. Ведь и этот вопрос, который смущает тебя, разрешил Господь.
В святом Евангелии повествуется, что смутятся при всеобщем суде те, которые будут стоять по правую сторону, когда скажет им Господь: Алкал Я, и вы дали Мне есть, — они скажут Ему: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим? — И тотчас же услышат на это: Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф.25:35–40). Если ты слышал это, скажи открыто, что не хочешь дать, и тогда не будешь иметь извинения и голосом своим осудишь себя. Вот о богатстве твоем учит тебя Господь Бог твой и дал совет, как поступать с ним. Любишь ли богатство? — Люблю, — говоришь. Переправляй же его и, когда переправишь, сам следуй за ним сердцем твоим, пока живешь, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф.6:21). Если же к земле привязываешь сердце твое, стыдись, когда лжешь, отвечая на слова: Горè имеем сердца (Sursum cor). Потому что в ответ на эти слова говорится: «Имамы ко Господу» (habemus ad Dominum). Лжешь ты перед Богом. Даже в течение одного часа в церкви не хочешь говорить истины, лжешь перед Богом, как поступаешь всегда и перед людьми. Говоришь: «Имамы ко Господу», а сердце твое сокрыто в земле, потому что «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
5. Если же ты поступаешь с богатством твоим так, как слышал, если будешь таким богачом, о каком говорит апостол, не будешь высоко думать о себе и полагаться на богатство неверное, так чтобы собирать себе сокровище — доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни, то тогда уже имей дерзновение ко Господу Богу твоему и говори Ему: Вот я, Господи, переправил на небо, что имел, или, если и имею что, так имею, как бы не имел. Так ли ценно царство небесное, как имение твое? Конечно, более ценно. И не таково оно, чтобы так оценивалось. Это говорит тебе Господь твой, Коего вопрошаешь ты об имении своем. Только до времени будешь жить ты, а потом умрешь; в царстве же Моем, говорит Господь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно. Там будешь истинным богачом, где никогда не будешь иметь нужды. Ведь потому ты ищешь для езды животных, для пропитания — обильные кушанья, для одеяния — драгоценные одежды, чтобы не ослабеть. Но разве на самом деле, имея многое, ты богат, а ангел, например, беден? Ведь ничего не имеет он, ни конем, ни колесницей не пользуется, ни столом, полным богатыми яствами, ни одежд не делается для него, потому что облекается вечным светом. Старайся же, богач, приобретать истинное богатство. Эти земные богатства хочешь иметь ты для того, чтобы было у тебя довольно пищи, потому что без нее ты ослабеваешь. Бог же истинно делает тебя богатым, потому что делает тебя сытым вовек. Ведь сколько много ни имеешь ты, все же, когда наступает время обеда, ты пред обедом чувствуешь голод и ослабеваешь, так как ты немощен. Но разве это же самое испытывают ангелы? Разумеется, нет. Ни голода, ни слабости не испытывает ангел. В конце концов, ты начинаешь роскошествовать своими обедами; это не есть уже удовлетворение нужды, а ненужный труд (funus curarum). И спокойно ли спишь ты, когда помышляешь об умножении богатства? Если не обманываюсь я, то как только приобрел ты богатство, потерял и покой свой. Когда бодрствуешь, помышляешь об умножении богатства; когда спишь, представляются тебе разбойники. Днем безпокойство, ночью — страх, постоянно несчастен ты. Истинным богачом хочет сделать тебя лишь Тот, Кто обещает тебе царство небесное. Но так же ли дорого думаешь ты покупать те истинные богатства, ту истинную, блаженную жизнь, как готов покупать эти несчастные и полные труда дни? Конечно, гораздо больше должно значить то, что гораздо большим является само по себе, именно, Царство Небесное.
6. Но что же делать мне? — Недоумеваешь ты. Вот, святый епископ, выслушал я увещание твое, повиновался совету твоему, не пренебрег повелением Божиим. Что имел, отдал бедным, и что имею, делю с нуждающимися. Что большее могу сделать?! Но имеешь и еще нечто, имеешь себя самого. Сам ты больше еще. Пусть остаешься ты без имения твоего, но ты должен отдать еще себя самого. Исполнил ли ты совет Господа твоего? Исполнил, отвечаешь. Но что же ты лжешь? Не все ты исполнил. С одной стороны исполнил, а с другой даже и не пытался. Слушай, что повелевает Господь: Пойди, продай имение твое и раздай нищим. Все ли? Нет. Чтобы не воображал тот, кто отдает бедным имение свое, что тем самым вредит себе, Господь тотчас успокоил его, говоря: И будешь иметь сокровище на небесах. Но только ли это? Нет. Что же еще? И приходи, и следуй за Мною (Мф.19:21). Любишь ли и хочешь ли следовать за Тем, Кого любишь? Но Он (Господь) удалился, вознесся, и неизвестно, где теперь?! О, христианин! Неужели не знаешь, куда ушел Господь твой? Сказать ли тебе, как следовать за Ним? Чрез гонения, чрез поношения, чрез страдания от ложных обвинений, чрез оплевания, чрез удары по щекам и удары плетей, чрез венец терновый, чрез крест и чрез смерть. Что медлишь? Вот указал тебе путь. Тяжел, говоришь, путь этот. Кто может следовать по нему? Но стыдись, стыдись, отважный, ты, который называешься мужем от мужества (a virtute vir diceris). Вот последовали даже жены, коих страдания сегодня прославляем мы. Празднество жен мучениц Субурбитантских[27] совершаем мы. Гладким, безопасным и надежным этот тесный и тернистый путь сделал для вас предшествовавшими прохождениями по нему Господь наш и ваш, Господь наш Спаситель, Господь Иисус Христос, Который царствует во веки веков. Аминь.
Беседа 6. О нашем хождении верою в настоящей жизни
1. Вспомните, братия возлюбленные, что говорит апостол «Водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ибо мы ходим верою, а не видением (2 Кор.5:6–7). И Господь наш Иисус Христос, Который сказал: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин.14:6), восхотел, чтобы мы направлялись в своем хождении через Него и к Нему. Где идти нам, если не по пути? И куда идти, как не к истине и жизни? Ведь по сравнению той жизни с настоящей, преходящей, коей живем мы теперь, эта последняя является смертью — так много перемен в ней, так мало постоянства, и столь кратким временем ограничивается она. Недаром Господь тому богачу, который спросил Его: Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? — ответил: Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди (Мф.19:16–17). Находился он, богач, в некоторой жизни, так как не трупу, хотя все же и не живущему человеку, говорил Господь. Но так как тот спрашивал о наследовании жизни вечной, не сказал ему Господь: Если же хочешь войти в жизнь вечную», но: Если же хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди, давая, разумеется, понять этим, что не следует называть жизнью ту жизнь, которая не вечна, потому что истинная жизнь не может быть иною, как только вечною. Отсюда и апостол, когда увещевает богатых быть милостивыми, заповедует, чтобы они (богатые) благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни (1 Тим.6:18–19). Какую жизнь назвал он истинной, если не вечную жизнь, которая одна только и может быть названа жизнью, потому что она только и есть блаженная жизнь? Ведь во всяком случае те богачи, коих, по его словам, следует увещевать достигать вечной жизни, в изобилии богатств пользовались настоящей жизнью. Если бы ее, однако, апостол считал истинной жизнью, он не сказал бы: Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной (veram) жизни, давая этим знать, что неистинна жизнь настоящая, жизнь богачей, жизнь, которая глупцами считается не только истинной, но даже блаженною жизнью. Но как может быть блаженной жизнь неистинная? Итак, нет блаженной жизни, кроме как только вечной, которой богачи еще не владеют, как бы весело ни проводили настоящую жизнь, и потому они увещеваются достигать ее чрез дела милосердия, чтобы могли услышать на последнем суде слова Господа: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть. А что это царство есть жизнь вечная, немного после Господь показывает то, говоря: И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф.25:34–35:46).
2. Пока мы не достигли этой жизни, мы устранены от Господа. Ибо мы ходим верою, а не видением (2 Кор.5:6–7). Я есмь путь и истина и жизнь (Ин.14:6), — говорит Господь. В вере Он — для нас путь, в видении же — истина и жизнь. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно — это есть вера; тогда же лицем к лицу (1 Кор.13:12) — это есть видение. Так же точно апостол говорит: Да даст вам… во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, — это есть путь, где мы познаем отчасти. Потом, немного после, он добавляет: Чтобы вы… могли… уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею (Еф.3:16–17:19), — это будет видение, так как в той полноте, когда достигнуто будет совершенство, прекратится то состояние, в котором познаем мы отчасти. Далее, апостол говорит еще: Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, — это вера; а затем он продолжает: Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе (Кол.3:3–4), — это будет видение. И св.Иоанн говорит: Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем, — это вера. Затем он присовокупляет: Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть (1 Ин.3:2), — это будет видение. Поэтому и Сам Господь, Который называет Себя путем, истиной и жизнью, говорит, направляя Свою речь к иудеям, между которыми были уверовавшие в Него, обращаясь именно к этим последним: Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Они уже уверовали в Него, потому что евангелист говорит так: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин.8:31–32). Они уже веровали и ходили, как бы, по пути, во Христе, и Он убеждает их, таким образом, чтобы, оставаясь на этом пути, они стремились далее. К чему стремились, как не к тому, на что указывает Он, когда говорит: И истина сделает вас свободными. Какое это освобождение, если не освобождение от всякой суеты, от всякого повреждения смерти? Это и есть истинная жизнь, вечная жизнь, которой мы еще не достигли, пока устранены от Господа, но достигнем со временем, потому, что в Самом Господе верою ходим, если твердо пребываем в слове Его. Ведь соответственно словам если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики; а соответственно словам и истина и жизнь, — говорит также: И познаете истину, и истина сделает вас свободными. В этом странствовании по указанному Христом пути, в этой вере, чем буду утверждать вас, как не словами апостола: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием (2 Кор.7:1). Те, которые хотят достигнуть того света чистейшей и неизменной истины, помимо веры, хотя нельзя взирать на Него иначе, как только очищенным верою сердцем, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.5:8), подобны людям слепым, которые вещественный свет этот сначала хотят видеть для того, чтобы исцелиться от слепоты, хотя не могут его видеть, прежде чем не исцелятся.
Беседа 7. О страхе Божием. Часть первая
1. Много наставлений для нас имеется, братия, о страхе Божием, и как полезно бояться Бога, об этом слово Божие говорит многократно. Насколько позволит краткость времени, выслушайте меня со вниманием, меня, желающего припомнить кое–что из этих многочисленных свидетельств и сделать некоторые пояснения к тому. Кто не радуется своему разумению или не желает его? Но что говорит Писание? Начало премудрости — страх Господень (Пс.110:10). Кому не приятно царствовать? Но послушаем, чему поучает Дух Святой в псалме: Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь (пред Ним) с трепетом (Пс.2:10–11). Поэтому и апостол говорит: Со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Флп.2:12). Читаем мы также в Писании: Если желаешь премудрости, храни правду, и Господь подаст ее тебе (Сир.1:26). Многих мы встречаем весьма равнодушных к правде и в то же время жаждущих мудрости. Таких Божественное Писание научает, что нельзя достигнуть этого иначе, как только исполнением того, чем они пренебрегают. Соблюдай, — сказано, — правду (в русском тексте — заповеди), и Господь подаст ее тебе. Но кто может, не имея страха Божия, хранить правду? И в другом месте говорится: Не имеющий же страха не может оправдаться (Сир.1:21). Таким образом, если Господь не подает премудрости никому, как только соблюдающему правду, и если не имеющий страха не может и оправдаться, то естественно следует отсюда, что начало премудрости — страх Господень.
2. И пророк Исаия, когда говорит о семи важнейших дарах Святого Духа, начинает с премудрости и кончает страхом Божиим, как бы с высоты спускаясь к нам вниз, чтобы научить нас, как восходить вверх. Начал он с того, до чего мы хотим достигнуть, и приходит туда, откуда нам следует начинать. И почиет на Нем, — говорит пророк, — Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух вéдения и благочестия, дух страха Божия (в русском тексте — и страхом Господним исполнится) (Ис.11:2–3). Итак, как пророк не вследствие сознания своей немощности, но чтобы научить нас, нисходит от премудрости до страха Божия, так нам не по гордости какой–либо, но для преуспеяния нашего следует восходить от страха к премудрости. Начало премудрости — страх Господень. Он есть именно та долина плача, о которой упоминает псалмопевец, когда говорит: Восхождения в сердце своем положи во юдоль плачевную (Пс.83:6–7). Под образом долины обозначается, конечно, смирение. Но кто смирен, если не боящийся Бога и вследствие этой боязни сокрушающийся о грехах своих в слезах покаяния и исповедания? Сердца сокрушенного и смиренного Бог не презирает (Пс.50:19). Но пусть не боится таковой, что останется он в долине плача. В самом сердце сокрушенном и смиренном, кого не презирает Господь, положил Он (Господь) восхождения, чтобы мы восходили к Нему. Потому что так говорит псалмопевец: Восхождения в сердце своем положи во юдоль плачевную, в место еже положи (Пс.83:6–7). Где совершаются восхождения? В сердце. Но откуда же нужно восходить? От долины плача. А куда? В место, — сказано, — еже положи. Какое это место, как не место покоя и мира? Там именно и пребывает чистая, всегда славная премудрость. Поэтому Исаия в целях назидания нашего нисходит от премудрости до страха, именно от места непрестанного мира до долины временного плача, чтобы мы, исповедуя грехи свои со скорбию, воздыханиями и плачем, не оставались все время в скорби, стенаниях и плаче, но, восходя от этой долины к духовному возвышению, на котором воздвигнуто святое царство Иерусалима, вечная матерь наша, наслаждались там невозмутимою радостию. Итак, он (пророк) после того, как назвал премудрость, то есть неизсякающий свет мысли, называет затем разум; и как бы на вопрос: От чего мы переходим к премудрости? — отвечает: От разума. А от чего к разуму? От совета. От чего к совету? От крепости. От чего к крепости? От ведения. От чего к ведению? От благочестия; к благочестию — от страха. Итак, до мудрости доходим мы от страха, потому что начало премудрости — страх Господень. Так от долины плача поднимаемся мы до вершины мира.
3. Вот смиренные именно и находятся в долине плача, когда с трепетом приносят Богу сердце свое сокрушенное и смиренное. Отсюда поднимаются они до благочестия, так что уже не противятся Его воле, ни в слове Его, когда не разумеют Его смысла, ни в жизни, хотя бы многое совершалось здесь иначе, чем хочет того единичная воля человека. В этом именно случае следует говорить: Впрочем, не как Я хочу, но как Ты (Мф.26:39). Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф.5:5), не землю мертвых, но ту, о которой сказано: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых (Пс.141:5). Этим благочестием своим они приобретают затем способности ведения, так, что не только становятся способными сознавать силу грехов своих прежних, о коих горько сокрушались на первой ступени покаяния, но узнают также, в каком худом состоянии омертвения и отчуждения находятся они, хотя бы земное счастье и улыбалось им. Недаром же написано: Кто умножает познания, умножает скорбь (Еккл.1:18). Но блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф.5:4). Отсюда восходят они к духу крепости, когда мир умирает для них и они для мира; так что среди превратностей этой жизни и множества неправды любовь в них не оскудевает, но возрастает искание и жажда правды, пока не насытятся в безконечном царстве святых и общении с ангелами. Потому что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф.5:6). Однако же вследствие тяжести искушений и соблазнов, так как сказано: Горе миру от соблазнов (Мф.18:7), человеческая слабость может поддаваться обольщениям, и поэтому необходимо иметь дух совета. Потому что не так сильна бывает в этой преходящей жизни способность крепости, чтобы, если кому предстоит борьба с лукавым противником, он не терпел иногда поражений, особенно чрез искушение языка, так как если кто скажет брату своему… «безумный», подлежит геенне огненной (Мф.5:22). Итак, что же есть дух совета, если не то, на что указывает Господь, когда говорит: Прощайте… и прощены будете (Лк.6:37). Поэтому, как в порядке даров Духа Святого дух совета полагается на пятом месте, так в Евангелии в пятой заповеди блаженств ублажаются милостивые: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7). Шестым считается у пророка Исаии (в обратном порядке) дух разума, когда сердца очищаются от всякого призрака плотской суеты, и до конца человек руководится чистым стремлением. Поэтому и в 6–ой заповеди блаженств Господь говорит: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.5:8). Когда же достигнет человек последней степени совершенства, он останавливается, успокаивается, наслаждаясь блаженным миром. Но кто является концом для нас, как не Христос Бог? Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего (Рим.10:4). И кто премудрость Божия, кто Сын Божий, как не Христос? В нем делаются все, кто бы они ни были, мудрецами и детьми Божиими, и это есть полный и вечный мир. И потому, как у Исаии дар мудрости считается седьмым для восходящих снизу вверх, хотя сам он, научая нас спускается, наоборот, сверху вниз, так и Господь в утешение нас в седьмой заповеди блаженств ублажает миротворцев: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф.5:9). Итак, имея такие обетования и восходя по этим степеням к Богу, будем переносить мужественно все обиды и жестокости мира, и пусть не одолевает нас его злоба, победив которую, мы будем наслаждаться вечным миром. К этому и призывает нас, в конце концов, восьмая заповедь блаженств: Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:10).
Беседа 8. О страхе Божием. Часть вторая
1. Не сомневаюсь, братия возлюбленные, в том, что в сердцах ваших коренится страх Божий, которым можете достигать вы истинной, действительной крепости. Хотя храбрым называется тот, кто никого не боится, ошибочно, однако, называется храбрым тот, кто не боится Бога, так чтобы, боясь, слушаться Его, слушаясь, любить и, любя, уже не бояться. Тогда Он будет истинно безстрашным, не вследствие горделивой самонадеянности (duritia), но вследствие безтрепетной справедливости. В страхе пред Господом — надежда твердая, говорится в Писании, — (Притч.14:26). Когда страх поддерживается опасностью наказания, коим угрожают, научаются любить награду, которая обещается, и таким образом чрез страх пред наказанием устанавливается добрая жизнь, а чрез добрую жизнь воспитывается добрая совесть, для которой не страшно никакое наказание. Поэтому пусть научается бояться тот, кто не хочет бояться. Пусть некоторое время побудет в тревоге тот, кто хочет пользоваться вечным покоем. Потому что, как говорит апостол, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх (1 Ин.4:18). Правильно, истинно сказал он. Если не хочешь иметь страха, подумай прежде, имеешь ли любовь совершенную, которая изгоняет страх. Если же прежде этого совершенства изгоняется страх, в таком случае вдохновляет тебя гордость, а не любовь назидающая. И как при добром здоровье голод устраняется не пренебрежением к пище, а вкушением ее, так и при нормальном состоянии духа в человеке страх изгоняется не самомнением, а любовью.
2. Изследуй же свою совесть всякий, не желающий иметь страха. Не заботься только о своей наружности, войди в себя, внутрь сердца своего. Тщательно изследуй, не всасывает ли и не впитывает ли какая–нибудь отравленная там вена любви порочной, не возбуждаешься ли и не увлекаешься ли ты какой–либо приманкой плотского удовольствия, не надмеваешься ли какою–либо пустою кичливостью, не поглощаешься ли какими пустыми заботами, можешь ли сказать, что ты видишь себя чистым и безупречным, какие бы ни находил извинения для себя в своей совести, от дел, слов и помышлений худых. И если ты чист от какой–либо неправды, не овладевает ли тобой равнодушие к правде. Если ты от всего этого свободен, справедливо радуешься, радуйся, что ты без страха. Пусть изгонит его любовь к Богу, Которого любишь ты всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Пусть изгонит его любовь к ближнему, которого любишь ты, как себя самого, и о коем ты много хлопочешь затем, чтобы и он вместе с тобою любил Бога всем сердцем, и всею душею, и всем разумением. Потому что не в ином случае правильно любишь ты себя самого, как только если любишь Бога, так любишь, чтобы любить Его не менее и в том случае, когда обращаешься к себе самому. Когда же, пусть даже внутри не возбуждаешься ты никакою страстью (кто однако осмелится утверждать это о себе), любишь ты самого себя в самом себе и любуешься сам собой, то вот этого самого и бойся больше всего, именно того, что ты ничего не боишься. Не всякою любовью изгоняется страх, но любовью истинной, когда мы всецело любим Бога и потому любим ближнего, чтобы и он также любил Бога. Любить же себя самого в себе самом и любоваться самим собой — это не любовь истинная, а пустое кичение гордости. Потому и апостол справедливо упрекает людей самолюбивых и себе самим нравящихся (2 Тим.3:1–5). Но совершенная любовь изгоняет страх. Однако ту любовь лишь можно назвать любовью, которая не есть любовь суетная. Но что суетнее человека без Бога? Суетная любовь у того, кто любит себя самого в себе самом, а не в Боге. Справедливо поэтому говорится: Не гордись, но бойся (Рим.11:20). Кто гордится и потому не боится, во всяком случае подвергается опасности, не в безопасном месте находится он, вдохновляясь духом гордости. Не кроток и не благочестив тот, кто сам себя только любит и хвалит, но надменен и дерзок. Не хочет знать он слов Писания: Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся (Пс.33:3). Что же доброго, когда кто, любя так себя самого, ничего не боится? Не в разуме он может найти оправдание себе в таком случае, а лишь в ожесточении. Вот, например, возьмем какого–либо отчаянного из разбойников. Насколько безумно он храбр, настолько гибельно для себя жесток, потому что вследствие любви к себе, из–за которой он ничего не боится, совершает тяжкие преступления, так что не только развивает страсть свою, но, развивая, хочет укрепить ее. И насколько больше будут преступления его, настолько большая будет в нем дерзость. Не должно, следовательно, считать за великое благо то, что можно найти в человеке самом испорченном.
3. Поэтому заслуживают посмеяния философы этого мира, и не только эпикурейцы, которые продают самую правду за цену плотских удовольствий. Для того, говорят эти последние, нужно быть мудрым и справедливым, чтобы находить и пользоваться удовольствиями телесными. Они также считают себя неустрашимыми и говорят, что ничего не боятся, потому что не допускают, чтобы Бог имел какое–либо попечение о делах человеческих, и не верят, что после этой жизни наступит другая. И если какие–либо превратности случаются с ними в этой жизни, они думают вознаградить себя тем, что могут соуслаждаться в душе помышлением о плотских удовольствиях, когда не могут пользоваться ими на самом деле, и таким услаждением хотят достигать блаженства плотских утешений, находясь под бременем скорбей телесных. Разве и у них любовь не изгоняет страха? Но это — любовь к нечистым удовольствиям, скорее — любовь пустой постыдной суеты. Потому что, когда являющаяся скорбь лишит тело его удовольствия, остается в душе только представление о нем и один лишь образ пустоты. Эта пустота и любится только, так что, когда пустой человек ухватывается за нее всем сердцем, от того будто бы и тяжесть скорби смягчается. И не только они (эпикурейцы) достойны осмеяния, но даже и стоики. Представители этих именно двух направлений, как читаем мы в книге Деяний Апостольских, осмелились бросать суесловие свое против нашего Павла (Деян.17:18). Ведь и стоики считают себя неустрашимыми, не по причине удовольствий телесных, но по причине отваги (стойкости) духа, т. е. хотят избежать страха по причине изгнания способности к страху, надмеваясь злобой, будучи не мудростию научены, а ожесточившиеся в своем заблуждении. И, конечно, постольку они являются малоразумными, поскольку воображают, что больной дух может стать здоровым именно у них. Здоровье же души, полагают они, состоит в том, что мудрый, по их словам, не должен иметь сострадания. Потому что, если кто сострадает, говорят они, — тот скорбит. А кто скорбит, того нельзя назвать здоровым. О, безумное ослепление! Что же если он тем меньше скорбит, чем менее здоров?! Другое дело, когда не бывает скорби по причине совершенного здравия, каковым будет тело и дух святых, по воскресении мертвых, в которое они (стоики) не верят, потому что имеют невежественных наставников, выдавая за учителей себя самих. Есть разница — является ли скорбь вследствие здоровья или вследствие слабости. Судя по состоянию настоящей тленности, здоровое тело, когда мучится, скорбит. Таков же и дух, который, будучи уязвлен несчастием страждущего, соболезнует своим милосердием. Но тело, оцепеневшее по причине тяжкой болезни или сделавшись мертвым по причине потери духа, уже, хотя и болеет, не чувствует однако боли. Таков же и дух тех, которые мудрствуют или, скорее, гибнут без Бога. Как тело оживляется духом, так и дух сам живет, будучи оживляем Богом. Пусть же подумают те, кои не скорбят и не боятся, о том, что, может быть, они не здравы, но мертвы.
4. Итак, пусть имеет страх христианин, прежде чем совершенная любовь не изгонит страха. Пусть верит и знает, что он устранен от Господа, пока живет в теле (2 Кор.5:6), которое тленно и отягощает душу. И тем меньше пусть будет страха, чем ближе будет отечество, куда мы стремимся. Больший страх должен быть у находящихся вдали, меньший — у приближающихся, никакого страха нет у достигающих. Так страх приводит к любви, и совершенная любовь изгоняет страх. Пусть же боится христианин, но не тех, которые убивают тело и не могут больше что сделать, но того, кто может и тело и душу ввергнуть в геенну огненную (Лк.12:4–5). Есть, однако, другой страх, страх Господень, чистый, пребывающий вовек (Пс.18:10). Но не его совершенная любовь изгоняет вон, иначе он не пребывал бы вовек, и не напрасно, когда сказано: страх Господень, — прибавлено чистый, а также пребывающий вовек, Почему страх, который изгоняется вон любовью, мучит душу, если не потому, что мы боимся потерять после смерти нечто из того, что нравится нам, например, неповрежденность тела и его спокойствие или что–либо подобное. Поэтому и страшны нам в царстве мертвых наказания и скорби, и муки геенские. Когда же дух бодрствует и его не оставляет Бог, тогда бывает страх чистый, пребывающий вовек. Об этом я поподробнее сказал бы, если бы речь моя, без того уже достаточно длинная, не побуждала меня пощадить и свои старческие силы, и ваше внимание.
Беседа 9. О любви и о слепце прозревшем
1. Незадолго пред этим, братия, апостол, когда читалось его послание, говорил нам о любви и так ее он изображает нам, что без нее все прочие, хотя бы и великие, дарования Божии нисколько неполезны. Когда же она есть, она не остается одной. Итак, воздадим же любви вашей слово о любви. Одна есть любовь божественная, другая — человеческая. И человеческая бывает позволенная иная, другая — не позволенная. Об этих трех родах любви (charitatibus vel dilectionibus, потому что два имени имеет она у латинян, по–гречески же называется одним словом αγάπη) и постараюсь сказать вам, если Господь поможет мне. Итак, первая обязанность моя, как я сказал, указать, что есть любовь божеская и человеческая, и что человеческая любовь бывает двоякая: дозволенная и недозволенная. Сначала я буду говорить о любви человеческой дозволенной, которая не запрещается; потом — о любви человеческой же, которая осуждается, и, наконец — о любви Божеской, которая приводит нас к блаженству.
2. Если сказать кратко, позволенная любовь есть та, когда муж любит свою жену, а непозволенная — когда он любит блудницу или чужую жену. В местах увеселительных и на улицах в большом почтении любовь недозволенная, когда любят блудниц. В дому же Бога, в храме Его, во граде Христовом, в Христовом теле любовь к блуднице ведет любящего к геенне.
Пользуйтесь же любовью дозволенной; человеческая она, но все же, как сказал я, дозволенная. Не только дозволяется она в виде уступки, но так дозволяется, что если ее не будет, то это ставится в упрек, и она предлагается в виде совета. Итак, пусть позволительно будет вам любить жен ваших, детей, друзей ваших, любить ваших граждан. Все эти наименования имеют характер необходимости и как бы некоторое притяжение любви. Но вы знаете, что такая любовь может быть и у нечестивых, т. е. у язычников, иудеев и еретиков. Кто из них не любит жены, детей, братьев, близких, соседей, друзей и т. д.? Это есть именно любовь человеческая. Отсюда, если кто настолько жесток, что защищает в себе человеческую способность любви и не любит своих сыновей, не любит жены своей, тот не имеет права считаться и между людьми. Не заслуживает, правда, и похвалы тот, кто любит сыновей своих, но вместе заслуживает осуждения тот, кто не любит их. Пусть таковой обратит внимание на то, что ведь любят детей своих даже и звери, любят детей аспиды, любят тигры, любят львы. Нет животного, которое не ласкало бы детей своих. Хотя иное из животных и устрашает людей, детей своих однако же лелеет. Рыкает лев среди лесов, и никто не проходит мимо него. Но вот входит он в свою пещеру, где у него детеныши, и оставляет ярость своей дикости, оставляет ее как бы вне, не входит с ней туда. Поэтому, кто не любит детей своих, делается даже хуже льва. Естественна эта любовь, следовательно, и дозволена.
3. Но остерегайтесь любви недозволенной. Вы — члены Христовы и тело Его. Слушайте апостола и устрашайтесь. Не мог он сказать выразительнее, сильнее и ярче, чем когда сказал: Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? И, сказав это, далее говорит: Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею. Затем, приводит свидетельство от Писания, где говорится, что будут [два] одна плоть (1 Кор.6:13–16 и Быт.2:24). Сказано это о муже и жене по вдохновению свыше, но лишь касательно того, что дозволено, что допускается, что честно, но не о том, что постыдно, что недозволено и достойно осуждения со стороны здравого смысла. Как в дозволенном соединении мужа и жены делаются два одною плотью, так же точно и в недозволенном сопряжении блудницы и прелюбодея. Если же это так, то пусть устрашит, пусть заставит содрогнуться тебя то, что сказано: Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Помни о членах Христовых ты, христианин, но не ищи в другом членов Христовых, в себе самом соблюдай их, потому что куплен ты кровью Христовой. Итак, отниму ли члены Христовы, чтобы сделать их членами блудницы? Кто не страшится слов этих, тот не боится Бога.
4. Горячо, горячо умоляю вас об этом, братия мои. Предположим, чего нет, именно, что Господь обещал таковым безнаказанность и сказал: Кто сделает это, того Я помилую, того не осужу. Допустим, что так сказал Господь. Но даже и при обещании этой безнаказанности кто осмелится отнять члены Христовы и сделать их членами блудницы? Не сделает этого, если есть у него третья любовь — Божеская, потому что три рода любви назвал я. О трех родах, насколько поможет мне Бог, обещался я сказать вам: о человеческой дозволенной, о другой человеческой — недозволенной и, наконец, о высшей любви — Божеской. Вопросим эту Божескую любовь, положим пред ней те два рода любви и скажем: вот дозволенная любовь человеческая, которой любят люди своих жен, дочерей и других, в силу некоторых естественных влечений. А вот другая любовь — недозволенная, когда любят блудниц, чужих служанок, чужих дочерей, не высватанных и не обрученных, когда любят чужую жену. Вот две любви перед тобою. С которой из них хотела бы ты быть вместе? Если захочешь оставаться с дозволенной, не будешь иметь общения с той — недозволенной. Никто пусть не говорит: «Я хочу иметь обе». Если обе хочешь иметь, давая место и любви к блуднице, наносишь оскорбление той любви, которая обитает в тебе, — любви высшей. И думаю, что если ты человек женатый и любишь блудницу, ты не впускаешь ее в дом свой, чтобы жила она там вместе с женою твоею. До этого не доходишь; ищешь тьмы, ищешь мест закрытых. Не хочешь открывать позора своего. Но и те, которые не имеют жен и имеют как бы больше прав на любовь к блудницам (потому говорю: как бы — quasi, – что и они понесут осуждение, если принадлежат к обществу верующих), — думаю, что и юноша, еще не имеющий жены, если любит блудницу, не допускает все же, чтобы она жила с его сестрою или матерью, чтобы не оскорбить их стыдливости, чтобы не унизить благородства своего рода. Итак, если ты не допускаешь, чтобы блудница, та, которую ты любишь, жила вместе с твоею матерью или сестрой, чтобы не унизить, как сказал я, благородства своей крови, станешь ли допускать, чтобы в сердце твоем любовь к блуднице обитала вместе с любовью к Богу, и оскорблять кровь Христову?
5. Любите же Бога. Ничего нет лучше Его. Любите вы серебро, потому что оно лучше железа и меди. Любите более еще золото, потому что оно лучше серебра. Любите еще более драгоценные камни, потому, что они превосходят ценою и золото. Любите, наконец, этот свет, лишиться которого боится всякий, кто боится смерти. Любите, говорю, этот свет, почему его желал с такою сильною страстью тот человек, который кричал вслед Иисусу: Помилуй меня, Сын Давидов! Кричал слепой, когда Христос проходил мимо. Боялся, как бы не прошел Он мимо и не оставил его без исцеления. И как кричал? Не молчал даже, когда толпа удерживала его. Победил он противника, удержал Спасителя. Когда толпа перебивала его и удерживала, Христос остановился, позвал его и сказал: Чего ты хочешь от Меня? — Господи! Чтобы мне прозреть. — Прозри! Вера твоя спасла тебя (Лк.18:41–42). Любите же и Христа. Ищите света, который есть Христос. Если тот слепец искал света телесного, насколько более вы должны искать света для сердца своего? К Нему взывать будем не голосами, а жизнью нашей. Станем жить хорошо. Станем презирать мир. Пусть в ничто вменится для вас все преходящее. Пусть станут упрекать нас, когда мы будем жить так, как бы из сочувствия к нам люди этого века, любящие землю, гонящиеся за прахом, нисколько не помышляющие о небесном, вдыхающие душою и телом всякие свободные веяния, — будут, без сомнения, они упрекать нас и скажут, если увидят, что мы презираем все это человеческое, земное: «Зачем терпишь? Что глупишь?» Толпа та препятствовала, чтобы слепец не кричал. Есть также много и христиан, которые препятствуют жить по–христиански, — так как ведь и та толпа была со Христом и взывающему ко Христу человеку, ищущему у Него света, препятствовала получить благодеяние от Него. Есть такие христиане. Но мы постараемся одолеть их, будем проводить добрую жизнь, и самая добрая жизнь эта пусть будет воплем нашим ко Христу. Он остановится, потому что всегда с нами (quia stat).
6. Великая тайна в том, что проходил Христос мимо, когда слепец взывал к Нему, — когда же исцелил, остановился. Прохождение Христа мимо пусть побудит нас усерднее взывать к Нему. Что такое знаменует прохождение мимо Христа? Все, что Он ни претерпел за нас во времени, — все это есть прохождение Его мимо. Родился Он, и это миновало, так как теперь уже Он не рождается. Возрастал — но неужели и теперь возрастает? Питался сосцами Матери — но неужели и теперь питается? Пользовался сном, когда уставал, — неужели и теперь пользуется? Вкушал пищу и пил воду — но неужели и теперь делает это? Наконец, был схвачен, связан, подвергался ударам, увенчан был венцем терновым, получал удары по щекам, подвергался оплевыванию, повешен был на древе, умерщвлен, прободен копьем и погребенный воскрес — во всех этих событиях как бы прошел мимо Иисус. Затем Он вознесся на небо и сел по правую сторону Бога Отца — здесь стал Иисус. Взывай же к Нему, насколько можешь; только когда будешь взывать к Нему, Он просвещает. Впрочем, и в отношении того, что сказано: И Слово было у Бога, и Слово было Бог, конечно, остановился Христос, потому что в этом отношении Он был неизменен. Плоть чрез прохождение Его много перенесла и пострадала, но Слово пребыло неизменным. Этим именно Словом просвещается сердце, потому что этим же Словом прославляется и плоть, которую воспринял Он (Христос). Если отнимешь Слово, что тогда представлять будет плоть; то же, что и твоя. И лишь тогда плоть Христа делается достойной прославления, когда Слово стало плотию и обитало с нами (Ин.1:14). Будем же взывать ко Христу и проводить добрую жизнь.
7. Любите детей ваших, любите жен ваших, хотя бы во время этой жизни (saeculariter). Но следует любить по Христу, иметь попечение о них по Богу и не иначе, как чтобы любить в них Христа и ненавидеть в них то состояние, когда они не захотели бы иметь Христа. Это именно есть любовь Божеская. Какая польза им от преходящей, мимолетной любви вашей? Поэтому, когда любите и по–человечески, все же более любите Христа. Не говорю, чтобы не любил ты жены своей, но больше люби Христа. Не говорю, чтобы не любил отца или детей, но сильнее люби Христа. Слушай Его, не думай, что это мои слова: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф.10:37). Неужели не боишься, когда слышишь: Не достоин Меня? Тот, о ком говорит Христос: Не достоин Меня, не будет с Ним. А кто не будет с Ним, где же будет? Если не любишь быть с Ним, бойся без Него остаться. Почему? Потому что будешь с диаволом, если не будешь со Христом. Но где будет диавол? Слушай Самого Господа, говорящего: Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф.25:41). Если огнем слова Божия не возбуждаешься, бойся огня геенского. Если не хочешь быть среди ангелов Божиих, бойся оказаться среди ангелов диавола. Если не хочешь быть в царстве, бойся, чтобы не оказаться в пещи пылающего огня, неугасимого, вечного. Пусть будет в тебе прежде страх и затем любовь. Страх пусть будет путеводителем для тебя; пусть не остается он в тебе, но ведет тебя к любви, как бы к некоему учителю.
Беседа 10. О любви
1. Божественного Писания многое изобилие и широту учения его воспринимает, братия мои, безошибочно и без особенного труда тот, чье сердце исполнено любви. Потому что апостол говорит: Любовь есть исполнение закона (Рим.13:10). И в другом месте он говорит: Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры (1 Тим.1:5). Что же составляет цель увещания, если не исполнение заповеди? И что составляет исполнение заповеди, как не исполнение закона? Следовательно, что сказал он там в словах любовь есть исполнение закона, — то же говорит и здесь словами: Цель же увещания есть любовь. И нельзя сомневаться, что человек, в котором обитает любовь, есть храм Божий. Апостол Иоанн говорит, что Бог есть любовь (1 Ин.4:8). Возвещающие же нам это апостолы, указывая на превосходство любви, не могли, конечно, говорить иного, кроме того, что сами восприняли. Сам Господь, питая их словом любви, потому что Он есть хлеб живой, сходящий с неба, говорит: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга и еще: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин.13:34–35). Тот, Кто пришел, чтобы унижением креста спасти нас от тления и узы смерти разорвать своею смертью, создает нового человека заповедью новой. Исконным законом было для человека, чтобы он умирал. Но что не всегда имело силу даже для человека, это совершенно новым было для Бога, именно, чтобы Бог мог подвергнуться смерти. Но так как Он был смертным по плоти, а не по Божеству, то вследствие вечной жизни Божества и плоть Его не могла совсем уничтожиться. Он, как говорит апостол, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего (Рим.4:25). Таким образом, Кто против ветхости смерти принес новое начало жизни, Он же против ветхого греха дает новую заповедь. Поэтому, если хочешь искоренить в себе ветхую греховность, новой заповедью старайся подавить в себе страсть и возьми в свои объятия любовь. Как корнем всех зол является греховная страсть (cupiditas), так корнем всех благ является любовь.
2. Все величие и широта Божественных речений постигается любовью, когда мы любим Бога и ближнего. Учит нас Небесный Наставник и говорит: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим… возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф.22:37, 39–40). Итак, если не можешь изследовать всех священных страниц и уразуметь сокровенное в них, проникнуть в тайны Писания, держись любви, на которой все висит. Тогда будешь иметь и то, чему научился там, и то, чего не изучал еще. Потому что если познал ты любовь, познал нечто такое, на чем утверждается и то, чего, может быть, ты не знал еще. В том, что разумеешь ты из Писания, открывается любовь, и в том, чего не разумеешь, скрывается любовь же. Итак, кто осуществляет любовь в своей жизни, тот овладевает и тем, что открывается, и тем, что скрывается в Божественном Писании.
3. Итак, братия, последуйте любви, этому сладкому и спасительному союзу душ, без которой богатый беден и бедный богат. Она в несчастиях терпелива, в счастье воздержна, в тяжких страданиях мужественна, в добродетели щедра, в искушениях тверда, в гостеприимстве радушна; между истинными братьями она радостна, между лживыми — терпелива. В Авеле во время жертвоприношения угодна, в Ное во время потопа безопасна, в переселениях Авраама тверда, в Моисее во время огорчений кротка, в Давиде во время гонений его незлобива. В трех отроках она безбоязненно взирает на охватывающий их огонь, в Маккавеях мужественно выносит жестокие мучения от огня. Чиста она в Сусанне в отношении к мужу, в Анне по смерти мужа, в Марии, не имеющей мужа. Дерзновенна в Павле к обличению, смиренна в Петре к послушанию, возвышенна в христианах для исповедания, божественна во Христе к прощению. Но что о любви большего могу сказать я в сравнении с теми похвалами, какие Господь влагает в уста апостола, показывающего превосходнейший путь любви и говорящего: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает (1 Кор.13:1–8). Вот какова любовь — душа писаний, сила пророчеств, ограждение тайн, основание знаний, плод веры, богатство бедных, жизнь для умирающих. Может ли еще быть большее великодушие, чем умереть за нечестивых? Что может быть благороднее любви к врагам? Только она не тяготится чужим счастием, потому что не завидует. Только она не превозносится своим счастием, потому что не гордится. Она свободна от мучений злой совести, потому что не мыслит зла. Среди поношений она спокойна, среди ненависти доброжелательна, среди гнева незлобива, среди коварства чиста, среди неправды она скорбит, в истине утешается. Что сильнее ее к прощению обид? Что надежнее ее не в отношении к суете, но в отношении к вечности? Потому и терпит она все в настоящей жизни, что всего ожидает от жизни будущей. И переносит все, что здесь ни случается, потому что надеется на все, что там обещается. Истинно, она никогда не перестает. Итак, достигайте любви и, свято мысля о ней, приносите плод правды. И что бы вы ни нашли большего в похвалах, чем я мог высказать, все это пусть явится в жизни вашей. Нам же следует позаботиться, чтобы старческая речь наша не только была убедительна, но и коротка (Opportet enim, ut senilis sermo non solum sit gravis, sed etiam brevis).
Беседа 11. О пользе покаяния. Часть 1
1. Как необходимо и полезно покаяние, это легко поймут люди, если помыслят о себе, что они люди. Написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6). Также и Господь в Евангелии говорит: Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18:14), и более оправданным вышел из храма мытарь, сокрушавшийся о своих грехах, чем фарисей, спокойный в сознании своей праведности. Хотя он и воздавал хвалу Богу, говоря: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь; пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю, однако же предпочтен был ему тот, кто, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! (Лк. 18:10–14). Не столько фарисей тот своим здоровьем восхищался, сколько сравнением его с чужими недугами. Полезнее было бы ему, так как он пришел к врачу, с сокрушением раскрывать то, чем был болен, нежели скрывать свои раны, хвалить себя, указывая на чужие раны. Неудивительно, что мытарь, который не устыдился признать свои слабости, вышел более оправданным. В делах видимых, чтобы достигнуть вершины, нужно подниматься вверх. С Богом же, хотя Он и выше всего, можно войти в соприкосновение не возношением, а смирением. Отсюда и пророк говорит: Близок Господь к сокрушенным сердцем (Пс. 33:19), и еще: Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали (Пс. 137:6). Дальше всего Он от гордых. Тех (смиренных) видит Он, чтобы поднять, а этих — чтобы низринуть. И когда говорит, что гордого узнает издали, достаточно ясно вместе показывает, что Он смиренного видит близко. Сам же Бог называется высоким, так что один Бог не является высокомерным, как бы Он превозносил Себя. Пусть же не думают гордые, что они могут укрыться от глаз Божиих, потому что узнает Бог гордого. И пусть опять–таки не считают себя близкими к Богу, потому что издали узнает Он гордого. Итак, кто отвергает смирение покаяния, тот не хочет приблизиться к Богу. Иное дело — подниматься к Богу, и другое — подниматься против Бога. Кто перед Ним повергается, тот поднимается Им. А кто возвышается пред Ним, того Он принижает. Одно есть истинное величие, и другое — пустая напыщенность. Кто полнеет снаружи, тот хиреет внутри. Кто желает быть лучше у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, того удостаивает Бог обитания во дворах Его. И ничего не берет Он Себе, когда принимает кого–либо в седалище блаженства. Поэтому в псалме весьма хорошо и истинно говорится: Блажен человек, которого сила в Тебе, Господи! И не думай, что тот, кто унижает себя, всегда остается в унижении, потому что сказано: Приходящий от силы в силу. И чтобы не подумал ты, что возвышение его в глазах людей совершается чрез видимое возвышение, хотя и сказано: Блажен человек, которого сила в Тебе … Господи!, последовательно показывает далее он духовную высоту этой силы: Восхождения в сердце своем положи, во юдоль плачевную, в место еже положи… Итак, где положил восхождения? В сердце, именно, в долине плача. Это значит, что кто унижает себя, возвысится. Как восхождение означает возвышение, так долина означает плач, смирение. Как спутником покаяния является скорбь, так слезы являются доказательством скорби. И далее прекрасно сказано: Ибо благословение даст законополагаяй (Пс. 83:11, 6–8). Для того закон дан, чтобы показать раны грешников, которые могло бы исцелить благословение благодати. Для того дан закон, чтобы гордому обнаружить его немощь, а немощному доказать необходимость покаяния. Для того дан закон, чтобы мы восклицали в долине плача: В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, и чтобы вместе с плачем восклицали: Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим. 7:23–24), и чтобы вместе с апостолом, который научен был Тем, Кто творит суд обиженным, разрешает узников, отверзает очи слепым (Пс. 145:7–8), мы могли благодарить Бога чрез Иисуса Христа, Господа нашего (Рим. 7:25).
2. Как известно нам с вами, покаяние бывает трех родов. В церкви Божией они обычны и известны тем, которые ко всему хотят быть внимательными. Одно, рождающее нового человека, прежде чем в крещении не произойдет окончательного спасительного омовения всех, прежде бывших грехов, подобно тому, как при рождении ребенка минуют скорби для тех, у которых внутренности страдают, и вслед за печалью следует радость. Всякий, кто следит за движениями своей воли, когда приступает к таинствам верующих, не может начать новой жизни, если не раскается в прежней. От этого покаяния при крещении свободны одни лишь младенцы, потому что они не имеют свободного изволения. Им для очищения и отпущения первородного греха полезна вера тех, которыми они приносятся, так что от всяких последствий пороков других, от коих рождаются, они очищаются так же точно открытым исповеданием других. Истинно потому говорится в псалме: Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс. 50:7); равным образом и в другом месте написано, что никто не чист пред лицом Божиим, даже если бы только был один день жизни его на земле (Иов. 14:4). Хотя желание узнать большее о состоянии младенцев в будущем наследии святых, которое обещается им, и превосходит меру разумения людей, однако благочестиво верится, что полезно для душевного спасения их то, что хранится по всему кругу земли силою церковного авторитета. Из прочих же людей никто не приходит к Христу, если прежде не раскается в том, что было прежде. Это первое покаяние и заповедуется иудеям апостолом Петром, когда он говорит: Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа (Деян. 2:38). Оно же требуется и Самим Господом, когда Он говорит: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4:17). О том же Иоанн Креститель, исполненный Духа Святого Предтеча и Предуготовитель пути Господня, говорит так: Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния (Мф. 3:7–8).
3. Другое покаяние, действие коего совершается в течение всей жизни, которую проводим мы здесь, должно сопровождаться постоянной, смиренной молитвой. Потому что всякий, кто истинно желает вечной, нетленной, безсмертной жизни, должен прежде всего искренно сокрушаться по поводу настоящей жизни, временной, тленной и смертной. И не так человек вступает в новую жизнь чрез таинство крещения, чтобы подобно тому, как освобождается он там от всех прежде содеянных грехов, так же точно освобождался от смертности и тленности самой плоти. Если же это так, истинно, следовательно, то, что написано, и силу чего каждый испытывает в себе самом, пока живет здесь, что тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум (Прем. 9:15). Но так как этого не будет в той блаженной жизни, когда поглощена будет смерть победою (1 Кор. 15:54), кто станет сомневаться, каким бы временным счастием ни пользовался он, что нужно нам каяться в этой жизни и со всей ревностию стремиться к тому нетлению. И апостол говорит также, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5:6–7). Но кто хочет действительно возвратиться к своему отечеству и к созерцанию Бога лицом к лицу, если не тот, кто скорбит о своем устранении от Господа? Из такого именно чувства кающегося рождается следующий скорбный вопль: Горе мне, что странствование мое продолжительно! И чтобы ты не думал, что это говорит еще неверующий, — смотри, что следует: Я пребываю… у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только заговорю, они — к войне (Пс. 119:5–7). Не только к человеку верующему относить можно эти слова, но также и к ревностнейшему проповеднику истины и к неустрашимому мученику, святому апостолу Павлу. Ведь тот же апостол говорит следующее: Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнию (2 Кор. 5:1–4). Итак, чего желать нам, как не иного бытия, чем то, какое теперь мы влачим? И о чем вздыхать, как не о своем положении? Но когда будем мы свободны от этого, если не тогда, когда, по разрушении земной хижины, наследуем небесное жилище и духом, и телом, с обновлением всего человека? Поэтому и праведный Иов назвал искушением самую жизнь настоящую, восклицая: Не искушение ли житие человеку на земле И далее, не касаясь тайны падения человека, он говорит: Яко же раб, бояйся Господа своего и улучив сень (Иов. 7:1–2), — справедливо настоящую жизнь называя скорее тенью ее. Не напрасно и Адам после грехопадения, убегая, скрылся от лица Божия, сделав себе одежду из древесных листьев, из коих изготовляются навесы для тени, как бы убегая от господина своего и ища тени.
4. Все это для того сказано, чтобы кто–нибудь, хотя бы он был через крещение и очищен от прежних грехов, не возгордился и не подумал, что нет уже за ним ничего, что отделяло бы его от таинства алтаря, но более хранил бы смирение, которое является главным руководственным правилом для христиан, — чтобы не гордились земля и пепел (Сир. 10:9), пока не пройдет эта ночь, во время которой бродят все лесные звери; львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе (Пс. 103:20–21). В качестве этой пищи суждено было явиться Иову, который говорил: Не искушение ли житие человеку на земле? И Господь говорит ученикам Своим: Се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу (Лк. 22:31). Итак, кто здравомыслящий не вздыхает о лучшем? И почему не проводить время в покаянии? Кто со всем смирением, моля Бога о помощи, не представит себя покорным Ему, пока не пройдут искушения и вся эта земная мишура, и не взойдет для нас тот день, который никогда не перестает, и не осветит скрытое во мраке и не обнаружит сердечных намерений, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:5)? Хотя бы кто и был уверен, что он укротил свое тело и, умерши для мира, обуздывает порабощенные члены, так что грех уже не царствует в смертном теле его для исполнения похотей его, что он почитает одного только истинного Бога, не делает кумиров, не чтит изображений ложных божеств, не призывает напрасно имени Господа Бога своего, помнит день субботний, во образ покоя вечного, почитает родителей, не убивает, не прелюбодействует, не крадет, не лжесвидетельствует, не осквернен пожеланием чужой вещи или чужой жены, не роскошествует и не снедается скупостью, не сварлив, не хульник и не злоречив, продает, наконец, все свое и дает бедным, и следует за Христом, и укрепляет в сердце своем корень небесных сокровищ — чего, кажется, требовать еще для полной справедливости — однако же пусть не превозносится. Пусть помнит, что все это дано ему и не от него явилось. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? (1 Кор. 4:7). Пусть такой разумно употребляет господское имение, пусть заботится о ближнем, как о себе самом. Пусть не думает, что довольно сохранить только полученное, чтобы не услышать ему: Лукавый раб и ленивый!… Надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью (Мф. 25:26–27), чтобы не лишиться полученного и не быть ввергнутым во тьму внешнюю. Если весьма великого наказания следует бояться тем, которые целым сохраняют то, что получили, то, на что надеются еще те, которые тратят полученное неправедно и беззаконно? И в делах чисто житейских человек, таким образом, связывается обязанностью не только плотского, но духовного приобретения. Но хотя бы он и не был связан житейскими делами, все же не должен вследствие того, что служит Богу, приходить в оцепенение от праздности, чтобы не оказаться отверженным. Пусть дает, если может, милостыню доброхотно, дает ли когда что–нибудь бедным для удовлетворения их житейских нужд, или, когда, являясь раздаятелем небесного хлеба, созидает в сердцах верующих крепкие оплоты против диавола. Доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9:7). Пусть не впадает в малодушие в обстоятельствах трудных, которые необходимо случаются, чтобы показать человеку, что он человек. Пусть не гневается на того, кто со злобой врывается к нему, или забитый нуждою неумело просит, или без разбора хочет подойти к тебе со своими делами в то время как ты занят большим, или на словах слепо сопротивляется явной справедливости, или когда является неприятно вялым. Пусть не обнаруживает чего–либо больше или меньше, чем следует, пусть не говорит больше, чем нужно или, когда ненужно. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! (Рим. 10:15). Но и они с земли сухой собирают прах, который естественно стряхивается ими в осуждение тем, кои вследствие дурной воли отвергают благовестие. Итак, не только по причине того, что жизнь эта скоропреходящая и неизвестна и не только по причине той заботы дневной, о коей сказано: Довольно для каждого дня своей заботы (Мф. 6:34), и которую мы должны нести на себе, ожидая с твердым упованием, пока не пройдет это время, и принося плод с терпением, но и по причине праха этого мира, праха, который пристает к ногам подвизающихся на ниве благочестия, а также по причине неприятностей, случающихся даже в самых нужных делах, и вознаграждающихся при помощи Божией с избытком, нам нужно иметь ежедневное покаяние.
5. Но если к этому обязываются служители слова Божия и таин Христовых, то насколько более обязываются к тому все другие простые подданные Великого Царя?
Апостол Павел, этот верный и отважный воин Христов, чтобы избегнуть только ложного подозрения в корыстолюбии, пользовался своим содержанием, даже когда, быть может, не было средств к содержанию; Другим церквам, — так говорит он, — я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам (2 Кор. 11:8). Насколько же более миряне, связанные заботами века, должны совершать ежедневное покаяние? Хотя бы они и были незапятнанные и чистые от воровства, хищений, обмана, от любодеяния и всякого излишества, от гнусного идолослужения, от участия в пошлых зрелищах, от ересей и разделений и от всех, вообще, подобных пороков и преступлений, однако уже вследствие обычных домашних забот и в области интимных супружеских отношений так много грешат люди, что кажутся уже не только запорошенными пылью этого мира, но как бы обмазанными грязью. Это есть то именно, на что указывает апостол, когда говорит к коринфянам: И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но среди них оказывается то, достойное осуждения, о чем говорит он потом: Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев (1 Кор. 6:7–8). Помимо всяких несправедливостей и обманов, даже суды и тяжбы иметь между собою считает апостол делом постыдным и увещевает, чтобы дела такого рода разрешались судом церковным. Отсюда понятны и следующие слова его: Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. То же говорит он и о женщинах, хотя вместе с тем увещевает мужа и жену быть вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Желая же показать, что это грех и лишь уступка немощи, он тотчас затем прибавляет: Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление (1 Кор. 7:32–33:5–6). Только смешение того и другого пола ради рождения является невменяемым. Как много бывает также и других грехов или в разговоре о чужих предметах и делах, до нас не касающихся, или даже в одном смехе пустом — как написано: Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется (Сир. 21:23), или в самой пище, предназначенной для поддержания этой жизни, наблюдается неумеренность и невоздержание, сопровождающееся расстройством желудка на другой день; или в купле и продаже, когда даются лживые уверения в ценности и дешевизне предметов. Долго перечислять все это, что каждый в себе лучше может заметить и увидеть, если внимательно будет держать пред собой зеркало Божественного Писания. Хотя бы и не было отдельных за нами смертных грехов, вроде убийства, прелюбодеяния или других подобных, однако, в совокупности они смертоносны своею многочисленностью и так обезображивают нас, что отделяют от чистейших объятий прекраснейшего всех сынов человеческих Жениха (Пс. 44:3), если не отсекаются посредством ежедневного покаяния.
6. Если же это неправда, то почему мы ежедневно ударяем в грудь себя? И подобное делаем даже мы, священствующие, предстоящие у алтаря. Молясь, мы говорим, и нужно, чтобы в течение всей жизни говорили: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим (Мф. 6:12). Молимся о прощении не того, что будто бы не прощено было нам в крещении, каковым утверждением мы можем показать лишь колебание веры нашей, а говорим это о ежедневных грехах, за которые каждый по силам своим неустанно приносит жертву милостыни, поста и самых молений и молитв. Отсюда каждый, внимательно наблюдающий за собой, не станет обольщать себя, хорошо понимая, в какой опасности и вечной смерти оказывается он, и как нужно ему постоянно заботиться о своем очищении, вследствие частого отчуждения от Господа, и как склонны бываем мы возвращаться назад, даже стоя на пути Христовом. Ведь если мы не имеем грехов и в то же время, ударяя себя в грудь, говорим прости нам долги наши, то тем самым тяжко, вне всякого сомнения, согрешаем, когда даже во время самой молитвы (inter ipsa sacramenta) лжем. Таким образом, поскольку посредством веры, надежды и любви мы соединяемся с Богом и подражаем Ему, мы не грешим, но делаемся детьми Божиими. Поскольку же, вследствие немощи плоти нашей, так как она еще не освобождена от смерти и не изменена воскресением, вторгаются в нашу душу движения недобрые, порочные, мы согрешаем. Но нам полезно признаваться в этом, чтобы заслужить исцеление немощи нашей, осудив гордость. Поэтому истинно и то, что рожденный от Бога не делает греха (1 Ин. 3:9), и то, о чем читаем мы в том же послании Иоанна: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас (1 Ин. 1:8). Там говорится о первых шагах нового человека, здесь — об остатках прежнего; то и другое совершается в этой жизни. Постепенно наступает обновление и постепенно, с удалением ветхости, оно занимает ее место. Если же и то и другое совершается здесь, то мы, следовательно, находимся в пути — не только поражаем противника, но и сами поражаемся при не особенно осторожной борьбе с грехом. И похваляется теперь не тот, кто победил, но кто чаще наносит удары, кто мужественнее сражается. Это будет до тех пор, пока не увлечет некоторых в вечную смерть тот, кто, падши сам, завидует человеку стоящему, и пока не раздастся со стороны других (спасенных) торжествующий крик: Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? (1 Кор15:55). Но никогда мы так легко не поражаемся врагом, как если подражаем его гордости, и никогда сильнее не повергаем его, как если следуем за Христом. Ничем другим не причиняем мы ему больших скорбей, как если врачуем раны греховные исповеданием своих грехов и раскаянием в них.
7. Есть еще третий род покаяния, когда совершается оно за грехи, кои запрещает десятисловие, и о коих апостол говорит, что поступающие так, Царствия Божия не наследуют (Гал. 5:21). Относительно этого покаяния каждый должен соблюдать особенную строгость, чтобы, осуждая самих себя, мы не были осуждены Господом; по слову того же апостола: Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11:31). Пусть же взойдет человек на трибунал своей мысли, если боится того, что всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5:10). Пусть поставит себя пред лицом своим; так и Бог грозит грешнику, говоря: Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои (Пс. 49:21). Итак, установивши судище в сердце своем, найди обвинителя в мысли своей, свидетеля в своей совести и мучителя в страхе. Пусть через слезы истекает у кающегося как бы кровь души его. Наконец, пусть утвердится он в той мысли, чтобы считать себя недостойным причащения тела и крови Господней, так, чтобы тому, кто боится отделиться от Небесного Царства через последнее решение Верховного Судии, уделялся, но лишь после исполнения правил церковных, в таинстве хлеб небесный. Пусть стоит перед взором твоим образ будущего суда, и когда одни приходят к алтарю Господню, к коему сам ты не подходишь, помышляй, как ужасно наказание, в силу коего в то время, как одни получают жизнь вечную, другие осуждаются на смерть вечную. К этому алтарю, который теперь утвержден в церкви для прославления Божественных тайн и доступен зрению телесных очей, могут приближаться многие, даже и преступники, так как Бог в настоящем времени показывает свое терпение, чтобы в будущем показать строгость. Приходят они, не подозревая, что терпение Божие призывает их к покаянию. Но они по ожесточению и нераскаянности сердца своего собирают себе гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его (Рим. 2:5–6). К другому же алтарю, куда предтечею за нас вошел Иисус, Глава Церкви, куда за этой Главой имеют последовать и прочие члены, не может приблизиться никто из тех, о коих, как я уже упоминал, апостол сказал, что поступающие так царства Божия не наследуют. Один лишь Священник будет там, но, конечно, со Своим телом, коего Он является главой, которая уже вошла на небо. Это именно имеющее быть вместе на небе с главою тело апостол Петр называет царственным священством, народом святым (1 Пет. 2:9). Итак, каким образом, за внутреннюю завесу, в то невидимое святое святых осмелится или может войти тот, кто, пренебрегая правилами церковными (qui medicinam coelestis disciplinae contemnens), не захотел на короткое время отвлечься от видимого? Кто не хотел унизиться для того, чтобы возвыситься, тот, когда захочет возвыситься, унизится. И навеки отделится от общения со святыми всякий, кто в течение этого времени подвигом послушания и оправданием в покаянии не заботился приготовить себе место в теле Небесного Первосвященника. С каким безстыдным челом захотел бы тогда отвратить лицо Божие от грехов своих тот, кто теперь не говорит от всего сердца: Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною (Пс. 50:5)? И как Бог мог бы простить то, чего сам человек не захотел познать в себе самом?
8. Но, может быть, имеют надежды какие–нибудь и те, которые хотят успокоить себя суетою? Погрязая в пороках и роскоши, они, когда слышат слова апостола, что поступающие так Царства Божия не наследуют, хотят иметь спасение, коего ищут, кроме Царства Небесного, и так говорят себе, отказываясь совершать покаяние о грехах своих и изменить пагубный образ жизни хоть сколько–нибудь к лучшему: Не хочу царствовать, довольно для меня быть спасенным. Но здесь обманываются они прежде всего потому, что нет никакого спасения для тех, которые упорствуют в своем нечестии. Господь говорит: И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется (Мф. 24:12–13); спасение обещается во всяком случае остающимся в любви, а не в нечестии. Где же бывает любовь, там не могут иметь места те злые дела, которые отделяют от Царства Божия. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя (Гал. 5:14). Затем, если и есть какая разница между царствующими и не царствующими, следует однако заботиться о том, чтобы всем быть вместе и чтобы не оказаться в числе худших (hostium) или чужих. Ведь и римляне, хотя все владеют своим царством Римским, однако, не все царствуют и повинуются другим — царствующим. Но апостол не говорит, что поступающие так не будут царствовать, а сказал: Поступающие так Царства Божия не наследуют. Это же сказано о плоти и крови. Плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия… Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в безсмертие (1 Кор. 15:50,53), так что являются они уже не плотию и кровию, но душевное тело получает свойство и природу тела духовного. Хотя бы устрашились они последнего приговора нашего Судии, который потому и благоволил Он сделать известным, чтобы предостеречь верных рабов Своих, даруя боящимся… знамя, чтобы они подняли его ради истины (Пс. 59:6). Кроме тех, кому прямо обещано, что они будут судить согласно словам Господа: Сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19:28), в числе судящих следует разуметь всех, кто ради Евангелия оставил все свое достояние и последовал за Христом. Число двенадцать означает некоторую целокупность, и неужели не будет там апостола Павла, хотя он и не был из числа двенадцати? Будут, таким образом, участвовать верные в суде вместе с теми, кого называет Господь именем ангелов, когда говорит: Приидет Сын Человеческий… и все святые Ангелы с Ним (Мф. 25:31). Ангелы суть вестники. Вестниками совершенно справедливо можно назвать всех, кто возвещает людям о небесном спасении. Отсюда, и евангелистов можно назвать добрыми ангелами, и об Иоанне Крестителе сказано: Вот Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим (Мк. 1:2; Мал. 3:1). За исключением всех этих святых, остальное множество людей, как ясно уже из слов Самого Господа, разделено будет на две части. И поставит Он овец по правую сторону, а козлов по левую и скажет овцам, т. е. праведникам: Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Об этом царстве говорит и апостол, когда, перечислив дурные дела, замечает, что поступающие так царства Божия не наследуют. Замечай далее, что услышат стоящие по левую сторону: Идите, — говорит Господь, — в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25:31–41). Пусть же поэтому никто не надеется на одно лишь имя христианское и со всякой покорностью и страхом слушает апостола, говорящего: Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужител, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их (Еф. 5:5–7). Подробнее же Он говорит об этом к Коринфянам так: Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют. И смотрите, как Он затем освобождает от страха и отчаяния тех, кои совершили это в прежней жизни: И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились… именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1 Кор. 6:9–11).
9. Итак, кто после крещения продолжает совершать прежние злые дела, неужели будет он оставаться врагом себе до такой степени, чтобы колебаться еще переменить жизнь, пока есть время, и станет грешить далее? Ведь так упорно оставаясь во грехах, он собирает себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, и если живет еще, то это значит, что терпение Божие ведет его к покаянию. И вот, опутанный узами смертоносных грехов, он еще не хочет, еще откладывает, еще колеблется прибегать к ключам Церкви (ad ipsas claves Ecclesiae) [так именуется здесь таинство покаяния], при посредстве коих мог бы получить разрешение здесь, на земле, чтобы быть разрешенным на небе, смеет надеяться после этой жизни на какое–то еще спасение потому только, что называется христианином, и не страшится истинных угрожающих слов Господних: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7:21). Разве и апостол в послании к Галатам, перечислил дела, коими согрешают люди, не тот же делает вывод? Дела плоти, — говорит он, — известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, безчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют (Гал. 5:19–21). Пусть же осуждает человек сам себя за свое расположение к таким порокам, пока может это сделать, и пусть постарается изменить жизнь свою к лучшему, чтобы, когда уже не в состоянии будет этого сделать, не подвергнуться осуждению от Бога. И когда уже созреет в нем мысль о действительном исправлении, пусть приходит к предстоятелям Церкви, через которых разрешение от грехов; как добрый сын, с соблюдением установленного порядка, пусть получает от служителей тайн и знак своего оправдания и, с полной преданностью и благоговением принося жертву сердца сокрушенного, пусть делает то, что не только бы ему служило во спасение, но и другим в назидание. И если священник найдет это полезным для Церкви, пусть не отказывается кающийся, в виду тяжести греха и произведенного им соблазна для других, принести покаяние пред лицом многих или даже пред лицом всего народа, пусть не противится и не увеличивает тем воспаления пагубной и смертоносной раны своей, пусть помнит всегда, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6). Да и что печальнее, что хуже, как не стыдиться самой раны, которой нельзя скрыть, и в то же время стыдиться ее перевязки?
10. Пусть никто не думает, братия мои, что потому может он пренебречь советом касательно этого спасительного покаяния, что, быть может, видит и знает многих, приступающих к таинству алтаря, грехи коих известны ему. Потому что многие исправляются, как Петр, многие терпятся, как Иуда. Состояние многих неизвестно, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения (1 Кор. 4:5). Ведь, многие потому желают обвинять других, что через них стараются извинить себя самих. Многие же добрые христиане потому молчат и терпят грехи других, которые им известны, что не имеют часто доказательств, и то, что они сами знают, не могут доказать перед судом церковным. Хотя и истинно иное, однако судья не может доверить тому, если нет верных доказательств. Мы же не можем удерживать от общения никого (хотя бы это удержание имело лишь воспитательную цель), если только кто добровольно не признается во грехе или не будет указан и обличен судом частным или церковным. А присвоит себе и то и другое право, т. е. быть для всякого и обвинителем, и судьей кто осмелится? На такой порядок кратко указывает, как следует полагать, апостол Павел в том же послании к Коринфянам, когда, назвав всякого рода пороки, дает форму суда церковного для всех подобных пороков. Он говорит: Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего (1 Кор. 5:9–10). Не могут люди, живя в этом мире, не быть вместе с таковыми. Не могут и приводить их ко Христу, если будут избегать бесед и общения с ними. Поэтому и Господь, вкушая пищу с мытарями и грешниками, говорил: Не здоровые имеют нужду во враче, но больные… Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9:12–13). И апостол, следуя Ему, говорит далее: Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5:11–13). Здесь он ясно показывает, что не необдуманно и не кое–как злые должны быть лишаемы общения церковного. И если нельзя этого сделать посредством суда, то пусть скорее терпятся они, чтобы кто–нибудь, избегая злых, сам не удалялся от Церкви и других не увлекал в геенну. Примеры этого в назидание нам указаны в Священном Писании, например, в жатве, когда солома остается до последнего дня веяния (Мф. 3:12), или когда говорится о неводе, в коем остаются хорошие рыбы вместе с худыми, пока их не разделят на берегу, т. е. при кончине века (Мф. 13:47–50). Не противоречит этому и то, что говорит апостол в другом месте: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает (Рим. 14:4). Не хотел он, чтобы один человек подвергался осуждению другого по одному только подозрению, или судился необычным произвольным судом, но чтобы все совершалось согласно с законом Божиим, по чину церковному, когда кто–либо сам признается, или когда он ясно будет обвинен и уличен. Иначе для чего сказал он: Но кто, называясь братом, остается блудником… или идолослужителем и пр., как не с целью научить, чтобы обвинения эти произносились правильно, как это установлено чином церковным? Ведь если довольно одного наименования (оговора), то многие невинные должны были бы быть осуждены, потому что часто во всякого рода преступлениях оговариваются ложно.
11. Итак, те, коих убеждаем мы совершать покаяние, пусть не ищут себе спутников по пути к наказанию и пусть не радуются, что много находится их. Ведь не меньше будут страдать они оттого, что вместе со многими подвергнутся страданиям. Неумная это отговорка и напрасное утешение для себя. Или, может быть, видят, что многие из предстоятелей и служителей церковных живут не согласно со своим словом и недостойно тайн, которые чрез них совершаются для прочих. О, несчастные люди, забывающие через это Христа! Ведь Он уже давно указал, чтобы мы более повиновались закону Божию, нежели старались подражать тем, которые говорят и не делают (Мф. 23:3). Терпя до конца своего предателя, Он посылал его даже на проповедь вместе с другими. Те, которые охотнее избирают — подражать дурным нравам своих предстоятелей, нежели исполнять возвещаемые чрез них заповеди Божии столь же неразумны, нетолковы и жалки, как жалок путник, который станет думать, что следует ему остановиться и не идти далее, когда увидит, что дорогу показывают каменные столбы, покрытые буквами. Почему, однако, если нужно дойти до конца, не посмотреть внимательнее и не последовать за такими спутниками, которые и путь хорошо показывают, и сами безпрепятственно и быстро идут по нему? И это в том случае, если бы в таких спутниках был недостаток, и их было бы мало; ведь не может же совсем не быть их, хотя люди не так ищут то, что может служить к подражанию, как то, на что могли бы излить лицемерное негодование, и не находят добрых, будучи сами дурны, или боясь найти таковых, желая навсегда остаться злыми. Впрочем, допустим, что теперь нет людей, достойных подражания. Но всякий, думающий так, пусть посмотрит мысленно на Господа, Который сделался человеком, чтобы научить жизни человека. Если Христос обитает у тебя во внутреннем человеке, в верующем сердце твоем, и если ты помнишь слова апостола Иоанна: Кто говорит, что пребывает в Нем (во Христе), тот должен поступать так, как Он поступал (1 Ин. 2:6), тогда не придется искать тебе, за кем следовать, и другой, когда увидит тебя, не станет жаловаться также на недостаток добрых. Если ты не знаешь, как нужно жить праведно, старайся узнать заповеди Божии. Весьма возможно, что многие живут праведно, но потому тебе кажется, что нет таковых, что ты не знаешь, в чем состоит жизнь праведная. Если же узнал, поступай так, чтобы и сам ты имел, чего ищешь, и другим показывал, чему нужно подражать. Стремись духом ко Христу, стремись к апостолам, из которых самым младшим является тот, кто говорит: Подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4:16). Стремись духом к неисчислимому множеству мучеников. Почему приятно тебе прославлять память их постыдными пиршествами [указывается на существовавший в древности обычай устраивать в дни памяти мучеников, на гробницах их, пиршественные обеды] и неприятно подражать жизни их доброй жизнью? Там увидишь, что не только мужи, но даже женщины и, наконец, мальчики и девочки не увлекаются неразумием и не совращаются нечестием, не падают перед страхом опасностей, не трогаются любовью этого века. Так тебя, не знающего где найти оправдание себе, окружает не только прямое руководство заповедей, но и безчисленное множество примеров.
12. Но продолжим беседу о пользе и спасительности покаяния, как это мы наметили уже. Если ты, отчаиваясь в своем спасении, прибавляешь ко грехам грехи, как написано: С приходом нечестивого приходит и презрение (Притч. 18:3), то все–таки не пренебрегай покаянием, не отчаивайся; взывай из глубины сердца к Господу и говори Ему: Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! Услышь голос мой. Да будут уши твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит? Но у Тебя прощение (Пс. 129:1–4). Из такой глубины ниневитяне воззвали и получили прощение; угроза пророка оказалась слабее против смиренного раскаяния их. Но, может быть, ты скажешь: Я уже крестился во Христа, от Которого получил отпущение всех прежних грехов, и сделался презренным, постоянно повторяя свои поступки, как бы скверным в глазах Божиих псом, возвращающимся на свою блевотину. Куда пойду я от Духа Его и от лица Его куда убегу? Но куда бежать тебе, брат, как не к милосердию Того, властью Коего ты, согрешая, раньше пренебрегал? Никто но убегает от Него иначе, как к Нему, переходя от Его гнева к Его милосердию. И какое место найдешь ты, где бы не находило тебя Его присутствие? Если взойдешь на небо, Он там; если сойдешь в преисподнюю — там. Расправь крылья свои и вселись мысленно на край этого мира — и оттуда изведет тебя рука Его и удержит десница Его (Пс. 138:7–10). И чтобы ты ни сделал, сколько бы ни согрешил, ты ведь еще пользуешься жизнию, которую Господь отнял бы у тебя, если бы не хотел твоего спасения. Зачем забываешь, что терпение Божие ведет тебя к покаянию (Рим. 2:4)? Кто, взывая, не убедил тебя, чтобы ты не ходил от Него, Тот же, щадя, зовет, чтобы ты возвратился. Посмотри на Давида царя: он удостоился и сам получения откровений, был обрезан, что в то время служило вместо крещения, почему и апостол говорит об Аврааме, что он получил знак обрезания, как печать праведности через веру (Рим. 4:11). Уже помазан он был помазанием честным, которым предызображалось царское священство церкви. И вот, сделавшись вдруг виновным в прелюбодеянии и убийстве, он не напрасно однако, раскаиваясь в столь огромном и глубоком грехопадении, взывал к Господу, говоря: Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Почему, если не потому, что беззакония мои, — как говорил он, — я сознаю, и грех мой всегда предо мною? Что же приносит он Богу такое, чем бы можно было умилостивить Его? Жертвы, — говорит пророк, — Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50:11, 5, 18–19). Не только сам благоговейно приносит он жертву Богу, но, говоря так, и другим показывает, что нужно приносить. Недостаточно изменить только жизнь к лучшему и удаляться от злых дел, если вместе с тем о грехе не дается удовлетворения Богу через скорбь покаяния, через чувство смирения, через жертву сердца сокрушенного, при содействии дел милосердия. Потому что, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5:7). В другом же месте Писания заповедуется, чтобы мы не ограничивались только воздержанием от грехов. Сын мой! — сказано, — не прилагай более грехов, и о прежних молись (Сир. 21:1). И апостол Петр был верующим, сам был со Христом и других крестил. Но смотри на Петра, заслужившего упрек за свою самонадеянность, из–за страха павшего и вследствие сокрушения своего исцелившегося. Так же точно, после сошествия Святого Духа на апостолов, некто Симон, уже крестившийся во Христа, захотел купить дар Духа Святого, помышляя о постыдной и нечестивой купле, но обличенный Петром, получил от него наставление принести покаяние (Деян. 8:13–22). Равным образом и апостол Павел, давая при всяком случае свои наставления верующим, говорит: Я опасаюсь… чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали (2 Кор. 12:20–21). Итак, нам даны и заповеди правой жизни и указаны примеры не только право делающих, но и кающихся для получения спасения, которое через грех было утеряно ими. Правда, мы не знаем, прощает ли нас Бог. Но что теряет, если молится Богу, тот, кто не колебался губить свое спасение, когда прогневлял Бога?
Кто знает, например, хочет ли простить нас владыка земной — император? И однако люди тратят деньги, проплывают моря, подвергают себя опасностям от бурь и, чтобы избавиться от смерти, находятся под постоянной угрозой смерти, обращаются с мольбой к человеку, и все это делается без колебания, хотя исход просьбы остается сомнительным. Но ключи Церкви более надежны, нежели сердца царей. Что этими ключами разрешается на земле, то по обещанию будет разрешено и на небе (Мф. 16:19). И самое унижение пред Церковью Божией много почетнее: и труда меньше требуется, и, при отсутствии какой–либо опасности телесной смерти, устраняется опасность смерти вечной.
Беседа 12. О пользе покаяния. Часть 2
1. Голос кающегося познается в словах, которые повторяли мы за чтецом: Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои (Пс. 50:11). И хотя мы не хотели было говорить к любви вашей, однако, узнали отсюда, что по повелению Божию нужно говорить нам. Хотели было мы в настоящий день оставить вас без поучения, зная, сколь обильную пищу уже вы получили. Но так как с пользою потребляете вы, что предлагается вам, вы ежедневно голодаете. Пусть же поможет нам Господь Бог наш и в недостатке сил наших, и чтобы слышание слова нашего было полезно для вас. Знаем мы, что нужно идти навстречу вашим добрым и полезным желаниям. Итак, окажите поддержку нам вашим благоговением и вниманием: благоговением к Богу, вниманием к слову, чтобы сказать нам то, что полезным найдет Тот, Кто пасет вас чрез нас. Итак, голос покаяния слышится в этих словах: Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои, и мы свыше получили повеление говорить о покаянии. Не давали мы распоряжаться чтецу петь этот псалом. Но что Он (Господь) нашел полезным для слушания вашего, это и вложил в сердце отрока. Итак, говорим о пользе покаяния, тем более в виду наступающего великого дня (видимо, имеется в виду какой–то годовой праздник), когда и особенно прилично смирять дух и укрощать тело.
2. В Священном Писании имеется указание на три рода покаяния. Никто не должен приступать ко крещению во Христа, в котором очищаются все грехи, если прежде не раскается в прежней жизни. Никто не начинает новой жизни, не раскаявшись в старой. Однако, следует авторитетом Священного Писания подтвердить, должны ли приступающие ко крещению совершать покаяние. Когда ниспослан был апостолам ранее обещанный им Дух Святый, и Господь явил истину общения Своего, они, исполненные Духа Святого, начали, как вы знаете, говорить на разных языках — так что каждый из тех, которые были там, мог слышать речь свою. Устрашенные этим чудом, слышавшие спрашивали апостолов, что им делать. Тогда апостол Петр возвестил им, что нужно чтить Того, Кого распяли, и с верою принимать (biberent) пролитую кровь Его. Когда возвещено было им о Господе нашем Иисусе Христе и когда слушающие познали вину свою, они смутились, так что исполнилось на них сказанное некогда пророком: Возвратихся на страсть, егда унзе ми терн (Пс. 31:4). Почувствовали горечь скорби, когда стал колоть их терний воспоминания о грехе. Думали они, что ничего не сделали дурного, еще не был вонзен терн. Когда же говорил Петр, они, по слову Писания, умилились сердцем. И в том же самом псалме, где сказано: возвратихся на страсть, егда унзе ми терн, говорится затем: Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «Исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31:5). Когда же, пронзенные этим тернием воспоминания, они сказали апостолам: Что нам делать?, Петр сказал им: Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов (Деян. 2:37–38). Итак, теперь, если только есть здесь желающие креститься (надеемся, что они тем внимательнее к слову нашему, чем ближе к прощению), к ним именно обращаемся мы с немногими словами, чтобы воздвигли мысли свои к надежде. Пусть возлюбят то, чем хотят быть, и возненавидят то, чем были. Пусть с благоговением воспримут имеющего родиться нового человека. Что бы ни мучило их в прошедшей жизни, что бы ни угнетало совесть — великое или малое, такое, что можно сказать и чего нельзя — пусть не сомневаются, что это будет отпущено, так чтобы не удержало во вред себе сомнение людское того, что готово простить божественное милосердие.
3. Пример этого всякий пусть припомнит в событиях из истории еврейского народа, потому что апостол говорит, что это были образы для нас (1 Кор. 10:6). О чем говорит он и что говорит? Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком… и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос (1 Кор. 10:1–4). Что это были образцы наши, сказал тот, кому никто из верующих никогда не противоречил. И хотя многое перечисляет он, но одному лишь предмету указывает значение, когда говорит: Камень же был Христос. Указав лишь одно, он прочее оставил для нашего обследования. Но пусть изследователь не заблуждается, пусть не отступает от Христа и, утверждаясь на камне, пусть стоит твердо. Камень, — говорит апостол, — был Христос. Указал он, что то были образы для нас и все было сокровенно. Кто раскроет покровы образов? Кто обнажит? Кто осмелится проникнуть за них? Иногда в местах очень тенистых густая тень содействует усилению света. Камень, — говорит, — был Христос. Вот теперь, когда появился свет, и станем изследовать, что знаменует остальное, что значит море, облако и манна. Этого апостол не объяснил, а указал лишь, что означает камень. — Переход чрез море означает, братия, крещение. Но так как крещение или, иными словами — вода спасения — не может иметь силы, если не освящается именем Христа, Который пролил за нас кровь Свою, вода поэтому и знаменуется крестом Его, и самое море было красное. Значение манны с неба ясно указывается Самим Господом. Отцы ваши, — говорит Он, — ели манну в пустыне и умерли (Ин. 6:49).
Как бы могли они жить, когда образ мог лишь предуказывать жизнь, но не мог быть жизнью? Ели, — говорит, — манну и умерли, т. е. манна, которую вкушали они, не могла освободить их от смерти; значит, самая манна не была для них смертоносна, но она не могла освободить их от смерти. Освободить же от смерти имел Тот, Кто предуказывался манной. Манна падала с неба. Смотрите, кого она знаменовала: Я, — говорит Господь, — хлеб живый, сшедший с небес (Ин. 6:51). Принимайте слова Господа со всем вниманием и добрым намерением, чтобы успешно могли вы читать их и слышать. Ели, — говорит апостол, — одну и ту же духовную пищу. Что значат слова одну и ту же, как не то, что отцы наши ели ту же самую пищу, что и мы? Чувствую, что несколько трудновато для изложения и изъяснения то, о чем я решился говорить. Но буду уповать на доброжелательство ваше. Оно пусть испросит мне помощь от Господа. Ели, — говорит, — одну и ту же духовную пищу. Не довольно было сказать: ели духовную пищу, а прибавляет одну и ту же. Эти слова: одну и ту же — не иначе можно объяснить, как ту же пищу, какую вкушаем и мы. Что же, скажет кто–нибудь, неужели эта манна была той же самой пищей, что и теперь я вкушаю? Но ничего ныне нет такого, что было тогда, и самый соблазн креста прекратился уже. Следовательно, слово ту же нужно понимать так, как разъяснено это далее, т. е. ту же духовную пищу. Ведь, те, кто вкушал эту манну, думая удовлетворить лишь своей телесной потребности, напитать свое чрево, а не ум, ничего особенного не вкушали. Пища была достаточной по их потребности. Но одних Бог питал, а другим нечто и предвозвещал. Первые вкушали лишь пищу телесную, а не пищу духовную. Кого же называет апостол отцами нашими, вкушавшими одну и ту же духовную пищу? Кого, братия, если не тех, которые были истинно нашими отцами, или, лучше сказать, которые всегда остаются нашими отцами? Все они живы. Правда, Господь говорит неверующим иудеям: Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но кого здесь следует разуметь под словом отцы ваши, если не тех, коим вы (т. е. иудеи, к которым обращается Господь) подражаете своим неверием, и по путям коих ходите вследствие своего неверия и противления Богу? В этом смысле Он говорит также некоторым из них: Ваш отец диавол (Ин. 8:44). Ведь никого из людей не создал диавол своею властью и не произвел посредством рождения, и, однако, он называется отцом нечестивых не по праву рождения, но по причине подражания ему. Наоборот, о добрых говорится: Вы — семя Авраамово (Гал. 3:29). Хотя речь обращена здесь к язычникам, которые происходили не из рода Авраамова, однако, они были названы детьми Авраама не по рождению, но по подражанию. Удаляется и отчуждается от самонадеянных иудеев отец Авраам. Если бы вы были дети Авраама, — говорит им Господь, — то дела Авраамовы делали бы (Ин. 8:39). Как дурные деревья, они, вследствие своего превозношения происхождением от Авраама, с корнем вырываются, дети же Аврааму могут быть созданы по обетованию даже из камня. Итак, как в том месте, где говорится: Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, разумеются те, которые не понимали, что ели, и вследствие этого непонимания принимали лишь пищу телесную, так здесь апостол называет отцами нашими не отцов неверующих, не отцов нечестивых, вкушавших и умерших, но наших отцов, отцов верующих, которые вкушали пищу духовную и, следовательно, ту же самую пищу. Отцы наши, — говорит он, — ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие. Были там и такие, которые понимали, что вкушали. Были и такие, которые Христа более чувствовали в сердце, нежели манну во рту. Из числа таких был прежде всего Моисей, раб Бога, верный во всем доме Его (Евр. 3:2), знающий, что раздавать, и что предлагать нужно было тогда сокровенное в настоящем и ясное в будущем. Итак, скажу кратко: кто в манне уразумевал Христа, тот вкушал ту же, что и мы, духовную пищу. Кто же от пищи искал одного лишь телесного насыщения, тот вкушал, как отец неверующих, и умер. То же нужно сказать и о питье. Камень был Христос. Одно и то же питие пили они, что и мы, но духовное, если руководились верою, а не чувственностью только возбуждались. Камень же был Христос. Не иной Христос тогда, а другой теперь. Один был камень, источивший воду (Исх. 17:6), другой, который положил себе Иаков под голову (Быт. 28:11), один агнец, которого закалали для вкушения пасхи, другой агнец, запутавшийся в кустах, коего должен был принести в жертву Авраам, когда, по повелению Божию, пожалел сына своего, коего хотел было принести в жертву (Быт. 22:13). Один агнец и другой агнец, один камень и другой камень, но Христос один и тот же. Поэтому одну и ту же пищу ели отцы наши, одно и то же питие пили. Для того чтобы истекла вода из камня, он получил удар от дерева (Исх. 17:5–6). Почему от дерева, а не от железа, если не потому, что Христос распят был на кресте, чтобы приобщить нас Своей благодати? Итак, одну и ту же пищу вкушают и одно и то же питие, но лишь разумевающие, верующие. Не разумевающим же остается одна только манна, одна только вода, т. е. пища для голодающего телесно, питье для жаждущего. Но не такая пища и такое питье для верующего, для него та же пища, что и теперь. Тогда Христос имел придти — теперь Он пришел. Имеющий придти и пришедший — разные слова, но тот же Христос…
4. Далее сказать я хочу вам о сомнении раба Божия Моисея. И это у древних святых также служило образом. Усомнился относительно воды Моисей; когда ударил жезлом по скале, чтобы из нее истекла вода, заколебался. Читая о его колебании, иной, пожалуй, не остановится на этом месте, не постарается вникнуть в него, не захочет и спросить об этом. Господу Богу, однако, не угодно было такое колебание, и Он не только обличил за это Моисея, но и наказал его. Именно вследствие этого сомнения сказано было Моисею (и Аарону): Не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему (Чис. 20:12), и еще: Умри на горе, на которую ты взойдешь (Втор. 32:50). Здесь Бог является, как видите, разгневанным. Но неужели на Моисея, братия мои? Неужели весь труд его, все его безпокойство за народ, вся любовь его, когда он говорил: Прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей (Исх. 32:32), — все это осуждено за одно случайное, неожиданное колебание? И что же значат слова, коими закончил чтец апостольское чтение, что любовь никогда не перестает (1 Кор. 13:8)?
Хотя я уже наметил было для разрешения другое, усердие ваше побудило меня, однако, поставить нечто, чего, может быть, вы не ожидали. Разсмотрим же и, насколько возможно, постараемся уразуметь тайну. Вот, гневается Бог, говорит, что он (Моисей) не введет народа в обещанную землю; повелевает, чтобы он взошел на гору и умер. И в то же время многое поручает сделать тому же Моисею: указывает, что сделать, как распределить народ, чтобы не оставлять его и там и сям — кое–как. Никогда Он не поручил бы этого осужденному. Обратите внимание еще и на другое, более удивительное. Так как сказано было Моисею, что он не введет народа в обещанную землю (что угодно было Господу ради некоторой тайны и в целях назидания), избирается на его место другой — Иисус Навин, именовавшийся Осией (Чис. 13:17). И так как ему Моисей поручил ввести народ в землю, он переменил имя Осия и назвал его Иисусом, чтобы не чрез Моисея, но чрез Иисуса, т. е. не через закон, а чрез благодать народ Божий вступил в землю обетования. И как Иисус тот был не истинным, но служил образом, так и та земля обетования была не истинной, но являлась образом истинной. Для того народа она была временной, земля же, обещанная нам, будет вечной. Во временных образах обещалось и предуказывалось вечное. Итак, тот Иисус не был истинным Иисусом, и та земля не была истинной, но служила прообразом; так и манна не была истинной, небесной пищей, но служила прообразом, так и камень не был истинно Христом, а только прообразом, так и все прочее. Что же нужно думать о сомнении Моисея? Нет ли для разумеющего и тут какого–нибудь образа? Не подвигнет ли и не побудит ли это дух наш к изследованию? Вижу, что и после того сомнения, и после гнева и угроз смерти, после отнятия права ввести народ в землю обетования, Бог многое открывает Моисею, как другу, как и ранее открывал. Самому Иисусу Навину Моисей ставится в пример послушания, и в том увещевает его Господь, чтобы он служил Ему также, как Моисей служил, обещая быть с ним, как с Моисеем. Ясно, возлюбленные, что Господь Сам вразумляет нас, чтобы не упрекали мы напрасно Моисея, но старались уразуметь его сомнение. Образом был камень, образом служил жезл, коим ударил Моисей по нему, образом служила вода истекшая, образом же явился и Моисей, сомневающийся. Усомнился он в то время, когда ударил. Тогда явилось сомнение у Моисея, когда дерево приблизилось к скале. Вот уже догадливые предупреждают нас, но пусть однако терпеливо подождут они ради других, медлительных. Усомнился Моисей, когда дерево приблизилось к скале, поколебались и ученики, когда увидели Господа распятого. Образом их и был именно Моисей, образом Петра, трижды отрекшегося. Почему Петр усомнился? Потому что дерево приблизилось к камню. Когда род смерти Своей, т. е. крест Свой, предуказал Господь, Петр в ужасе воскликнул: Господи! Да не будет этого с Тобою! (Мф. 16:22). Стал сомневаться он, когда увидел, что скале угрожает жезл. Ведь ученики Господа теряли в таком случае надежды, которые возлагали они на Господа. Надежды эти как бы отняты были у них, когда они увидели Его распятого, когда скорбели о Нем, умершем. Вот, встречает их Господь, после воскресения, печально беседующих между собою о всем случившемся; но удерживает глаза их, так что они не узнали Его; не удаляясь от верующих, но отстраняя на некоторое время колеблющихся, Он, как незнакомец, присоединился к разговору их и спросил, о чем они беседуют. Дивились ученики, что один Он не знает, что случилось с Тем, Кто спрашивал их: Неужели Ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем? И вспомянули, что было с Иисусом. Тотчас стали излагать, они сущность скорби своей и показывать, не зная того сами, рану свою врачу. А мы, — говорят они, — надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля (Лк. 24:13–21). Так явилось сомнение вследствие того, что дерево соединилось с камнем и, таким образом, исполнился прообраз Моисея.
5. Теперь разсмотрим слова: Умри на горе, на которую ты взойдешь. В телесной смерти Моисея предуказывается конец всякого сомнения, но на горе. О дивное таинство! Однако, выяснение и раскрытие этого насколько приятнее самого таинства! Около скалы родилось сомнение, на горе оно умерло. Когда Христос был унижен в страдании и, как камень, лежал перед взорами всех, естественно, последователи Его усомнились в Нем, потому что унижение то ничего великого не показывало. Естественно, унижение это сделалось камнем преткновения. В воскресении же Господь явился прославленным, великим, как бы горою. Итак, пусть сомнение, которое обнаружилось при скале, умрет на горе. Пусть познают ученики спасение свое, пусть воззовут надежду свою. Обрати внимание, как умирает сомнение это, посмотри, как умирает Моисей на горе. Пусть не входит он в обетованную землю, не хотим, чтобы там было сомнение, пусть умрет оно. Пусть покажет нам Христос смерть этого сомнения. Испугался Петр и трижды отрекся, потому что Христос был как бы камнем. Но воскрес Он и стал как бы горою, утвердил Петра, и сомнение окончилось. Каким образом прекратилось сомнение? Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? (Ин. 21:15). Сердцеведец спрашивает и хочет услышать, что Его любят. И не довольно одного раза. Спрашивает и выслушивает опечалившегося Петра. Удивляется Петр, что испытывает его Всеведущий, и что столько раз спрашивает, когда достаточно было бы одного ответа даже и для того, кто не может знать. Но Господь как бы говорит ему: Я жду, пока не исполнится законное число: трижды пусть исповедуется в любви тот, кто трижды отрекся из–за боязни. Вот, вопросив столько раз Петра, Господь тем самым и положил конец сомнению на горе.
6. Но зачем, возлюбленные, нам нужно раскрывать все это? Ведь, не для обмана, но для пользы нашей сокрыто было оно. И не с таким любопытством приступали бы мы к чтению Писания, если бы оно всегда было ясно. Однако, пусть обратятся назад несколько те, которые имеют намерение приступить к крещению, к коим я обращался с речью в начале беседы. Море Красное — это крещение, коим крестился перешедший через него народ. Переход был крещением, но в облаке. Пока облаком прикрывалось то, что предвозвещалось; пока сокровенным было то, что обещалось. Только теперь сокрылось облако, и обнаружившаяся истина стала ясной, потому что снят уже покров, через который беседовал Моисей. Покров этот (завеса) был и в храме, чтобы сокровенное храма оставалось недоступным для зрения. Но в момент смерти Господа завеса разорвалась, чтобы стало ясным дотоле сокрытое. Итак, приходи ко крещению. Безтрепетно вступай в путь чрез море Чермное. Не бойся прежних грехов, как бы преследующих египтян. Давили тебя грехи твои тяжелым бременем рабства, но в Египте, в любви этого века, в странствовании далеком заставляли тебя там гнаться за земными интересами, делать как бы кирпичи, и совершал ты дела постыдные. Давят тебя грехи — приходи спокойно ко крещению. До воды может преследовать тебя враг, а потом умрет. Бойся чего бы то ни было из прошедшей жизни. Знай, что нечто останется от твоих грехов, если останется что–либо из египетского. Слышу голос безпечного: Я, — говорит, — о прежних грехах не безпокоюсь. Не сомневаюсь, что все мне отпустится в святой воде по благопопечительности Церкви. Но боюсь будущих грехов. Итак, неужели нравится тебе оставаться в земле Египетской? Бегай от врага, который тебя стеснил и поработил. Что помышляешь о врагах в будущем? Что ты уже сделал, это остается, хотя бы ты и не хотел того, а о чем думаешь, того, если захочешь, не будет. Но опасен дальнейший путь, и когда я перейду Чермное море, еще не буду в обетованной земле: ведь народ тот еще веден был через большую пустыню. Однако, старайся избавиться от рабства египетского. И неужели, думаешь ты, не будет помогать тебе в пути Тот, Кто извлек тебя из великого плена? Неужели не будет укрощать новых врагов твоих Тот, Кто избавил тебя от древнего врага? Только безтрепетно вступай на этот путь, безтрепетно иди и будь послушен. Не досаждай Тому Моисею, образ Коего в своем послушании носил этот (первый) Моисей. Справедливо, что нет недостатка во врагах. Как были враги, преследовавшие уходящих евреев, так были такие, которые задерживали их во время пути. Во всем, возлюбленные, они служили прообразом для нас. Но да не будет в тебе того, что огорчало Моисея. Не будь горькой водой, которой народ тот после перехода чрез Чермное море не мог пить. Были и там испытания. И теперь, когда случается подобное, когда люди ропщут, мы указываем им на Христа, указываем, что перенес Он за нас, как пролил кровь, и они утихают, как если бы мы бросили в воду кусок дерева. Несомненно, и ты будешь иметь на пути угрожающего тебе Амалика. Тогда молился Моисей, простирал свои руки. Как только опускал он свои руки, одолевал Амалик, а когда снова простирал, Амалик становился слабее. И твои руки пусть будут простерты. Пусть слабеет Амалик, искуситель и враг твой на этом пути. Будь бодр и трезв в молитвах и в добрых делах во имя Христово, потому что те простертые руки знаменовали крест Христов. На нем простирается апостол, когда говорит: Для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6:14). Пусть же слабеет Амалик, пусть побеждается и не препятствует шествию народа Божия. Если опустишь руки от доброго дела, от креста Христова, возобладает Амалик. Однако, не будь самонадеян и не впадай в отчаяние. Чередование мужества и слабости в руках раба Божия Моисея, может быть, служило образом твоей переменчивости. Иногда в искушениях ты ослабеваешь, но еще не падаешь. Опускал немного руки Моисей, но не падал совсем. Когда я говорил: колеблется нога моя, — милость Твоя, Господи, поддерживала меня (Пс. 93:18). Итак, не бойся. Есть на пути тебе Помощник, Который явился избавителем в Египте. Не страшись, начинай путь, смотря вперед спокойно. Иногда Моисей опускал руки, иногда поднимал, однако, Амалик был побежден (Исх. 17:11, 13). Мог он возобновлять войну, но не мог одержать победы.
7. Перейдем теперь к беседе о другом роде покаяния. Три вида его в Священном Писании усмотрел я. Первый относится к вступающим в Церковь и желающим приступить ко крещению. О нем я сказал. Но есть еще другое покаяние — ежедневное. Чем же можем доказать мы необходимость этого ежедневного покаяния? Не другим чем, как той ежедневной молитвой, молиться которой научил нас Господь, и в которой, показывая, с какими словами следует нам обращаться к Богу, Он приводит, между прочим, следующие слова: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим (Мф. 6:12). Какие же эти долги, братия? Так как нельзя понимать здесь других долгов, кроме грехов, то неужели опять просим, чтобы Господь отпустил нам грехи, отпущенные в крещении? Ведь мертв уже всякий преследовавший нас египтянин. И если ничего не осталось от преследовавших врагов, почему молимся мы, как не потому, что ослабевают руки наши против Амалика? Прости нам долги наши, как и мы прощаем… Указал Господь средство и вместе утвердил договор. Указывает молитву и отвечает молящемуся; знал Он, как делается на небе, и как можно просить о своих желаниях. Хочешь, чтобы были оставлены долги? Оставляй и сам. Что задумываешься послужить Богу, от Коего сам хочешь воспользоваться услугами? Однако, разве Христос ходит теперь по земле? Разве принимает Его теперь в дом свой радующийся Закхей (Лк. 19:6)? Разве приготовляет для Него гостеприимство и обед Марфа (Лк. 10:40)? Ни в чем таком теперь Он не нуждается, сидя одесную Отца. Но так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25:40), — говорит Господь. Это есть именно то простирание рук, во время которого Амалик слабеет. Вот тратишься ты на бедного, когда даешь голодающему. Может и меньше будет у тебя того, из чего даешь, но в дому, а не на небе. Однако, и здесь, на земле, восполнит недостающее у тебя Тот, повеление Коего ты исполнил. Об этом апостол говорит: Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами (2 Кор. 9:10). Работником Божиим являешься ты, когда даешь нуждающемуся; зимою сеешь, чтобы пожать потом летом. Итак, что боишься, маловерный, того, что в этом великом дому столь Великий Домовладыка не прокормит делателя Своего? Будет и здесь у тебя все, сколько нужно тебе. Даст Бог все потребное для удовлетворения необходимой нужды твоей, но не для удовлетворения страстей. Работай же без смущения, простирай руки, и пусть ослабевает Амалик. Правда, в том случае, когда даешь что–нибудь, уменьшается, как я сказал уже, имение твое: не видишь уже в доме твоем, что дал ты, пока снова того не подаст Господь. Но скажи мне, что теряешь ты, когда прощаешь от сердца? Когда прощаешь тому, кто согрешает против тебя, что уменьшается в твоем сердце? Прощаешь ты, но ничего не теряешь. Напротив, некоторая как бы волна любви была в твоем сердце, протекала там. Имея же ненависть к брату твоему, ты заткнул источник ее. Не только ничего не теряешь ты, когда прощаешь, но еще обильнее орошаешься. Любовь не страдает от этого (non angustatur). Сам ты полагаешь там для себя камень преткновения и себе самому досаждаешь. «Я, — говоришь, — постою за себя, отмщу, я покажу ему, я сделаю то–то»; волнуешься, страдаешь ты, коему следовало бы прощать и быть спокойным, спокойно жить, спокойно молиться. Итак, как же будешь поступать ты? Вот, будешь ты молиться. Не стану спрашивать, когда, — сегодня станешь молиться. Или не будешь молиться?! Исполнен ты гнева и ненависти, грозишь наказанием, не прощаешь от сердца. Но вот молишься ты, вот наступает час молитвы, начинаешь ты слушать или говорить слова те. Когда будут сказаны или услышаны первые слова, дойдешь и до последующих. Потому что, куда же более идти? Или хочешь бежать от Христа, только бы не прощать врагу? Но если не захочешь говорить этих слов молитвы: И прости нам долги наши, потому что не можешь сказать: Как и мы прощаем должникам нашим, чтобы не получить тебе в ответ: «Поступаю с тобой, как и ты поступаешь», — итак, если пропустишь эти слова и будешь продолжать: И не введи нас во искушение, тут–то и поймает тебя кредитор твой, коего избегал ты, подобно тому должнику, который, встретив на улице человека, коему должен, оставляет дорогу, которой шел, лишь бы не видеть лица своего заимодавца. Это же думаешь ты сделать и в данном случае, стараясь опустить слова: И прости, как и мы прощаем, не желая говорить их, избегая лица своего заимодавца. Но кого избегаешь ты и кто ты, избегающий? Куда пойдешь ты, и где то место, где бы Его не было? Скажи: Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Куда бы лучше должнику убежать от Христа, как не сойти в преисподнюю? Но и там Он. Что, наконец, сделаешь, если не то, что следует далее: Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря (Пс. 138:7–9), т. е. буду в уповании своем помышлять о кончине века, буду жить в заповедях твоих и поднимусь на двух крыльях любви. Возьми эти два крыла любви. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и не имей ненависти, вследствие которой хочешь бежать от своего заимодавца (creditorem).
8. Остается еще третий род покаяния, о чем нужно нам хоть кратко поговорить, чтобы, при помощи Божией, исполнить предположенное и обещанное. Есть покаяние более тяжкое, более глубокое, которому подвергаются особые грешники, удаляемые от таинства алтаря, чтобы недостойным получением таин не принимать их в осуждение себе. Покаяние это тяжелое. Тяжела рана. Может быть, совершено прелюбодеяние, может быть, убийство, может быть, какое–либо святотатство — тяжкое дело, тяжелая рана — гибельная, смертоносная. Но всемогущ Врач. После измышления проступка, после соуслаждения им и согласия на него, после его исполнения грешник уже смердит, как четверодневный Лазарь. Однако же Господь не оставил его, но воскликнул: Лазарь! Иди вон! Уступила голосу милосердия пещерная мгла, уступила смерть жизни, уступило низшее высшему. Пробужденный Лазарь вышел из гроба, но был связан, как люди в сознании греха своего совершающие покаяние. Уже пробудились они от смерти; не сознавали бы они грехов своих, если бы не пробудились. Сознать грех — вот что значит выйти из пещеры, из мрака. Но что же, однако, говорит Господь Церкви Своей. Что, — говорит, — разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мф. 18:18). Итак, когда Лазарь вышел вон, Господь исполнил здесь дело милосердия Своего, приводя в сознание погребенного уже и смердящего мертвеца; остальное уже относится к обязанности священноначалия церковного, именно — слова: Развяжите его, пусть идет (Ин. 11:39–44). Но, возлюбленные, избегайте необходимости прибегать к этой степени покаяния; всякий так пусть ведет себя, чтобы не падать так глубоко. Однако, если кому придется совершать такое покаяние, пусть не отчаивается. Иуду, предателя погубило не столько самое преступление, сколько отчаяние. Не был достоин он милосердия Божия, а потому и не пришло ему в мысль прибегнуть к милости Того, Кого предал, подобно тем, которые распяли Его, но отчаянием погубил себя, повис на веревке и удавился. Что сделал он с телом своим, это же случилось и с душою его. Духом называется ведь и дыхание этого воздуха. И как те, которые, сдавливая себе горло, умерщвляют себя, потому что невозможным становится для них дыхание воздухом, так же точно и отчаявшиеся в милости Божией, этим отчаянием внутренне убивают себя, так что окончательно прекращают общение с Духом Святым.
9. Но язычники обыкновенно упрекают христиан в покаянии, которое установлено Церковью; а также и против некоторых еретиков Церковь кафолическая вынуждена была подтверждать истину о покаянии. Потому что были такие среди христиан, которые говорили, что для некоторых грехов не может быть покаяния. Но они отлучены от Церкви и стали еретиками. Святая Церковь не утрачивает своего великодушия, как бы велики ни были грехи людей. Но за это обычно язычники упрекают нас, не разумея, что говорят, так как не знают Слова Божия, которое и язык младенцев делает красноречивым. Вы, — говорят они, — помогаете людям грешить, когда обещаете им прощение, если покаются. Оно (покаяние) будто бы развращает, а не назидает. К этой мысли сводят они все свои речи, болтая языком своим, и когда мы доказываем обратное, они, хотя и остаются побежденными, однако не соглашаются. Как побеждаются они, об этом кратко пусть выслушает любовь ваша, потому что милосердием Своим Господь все прекрасно устроил в Церкви Своей. Говорят, что мы даем простор греху, так как указываем убежище для него в покаянии. Но если бы закрыт был доступ к покаянию, разве тогда грешник не стал бы умножать грехи свои, по мере своего отчаяния в том, что они будут прощены? Он сказал бы: «Вот согрешил я, сделал преступление, нет уже мне надежды на прощение; покаяние безполезно. Я буду осужден. Почему же не жить мне, как хочется? Так как там (в будущей жизни) я не встречу любви, по крайней мере, хоть здесь удовлетворю страсть свою. К чему мне воздерживаться? Там место закрыто для меня; что бы ни сделал я здесь, все равно напрасный труд. Потому что той жизни, которая обещается после этой, не будет для меня. Почему же не служить мне своим похотям, почему не исполнять и не насыщать их, почему не делать того, что, хотя и не дозволено, но зато приятно?» Но, может быть, кто–либо скажет ему: «Несчастный! ты будешь схвачен, обвинен, подвергнешься истязанию и мукам за преступления». Однако знают дурные люди, что отвечать и именно отвечают многие это. «Ведь грехи многих, дурно, преступно живущих, — говорят они, — остаются ненаказанными: можно также укрыться или откупиться, когда нельзя скрыться, и до самой старости таким образом проводить жизнь веселую, позорную, порочную, пагубную. Вот, — говорят они, — такой–то, проводивший порочную жизнь, не в старости ли умер?» Но разве не знаешь ты, указывающий на это, что потому тот грешник и преступник умер в старости, что Бог хотел на нем показать Свое долготерпение, ожидая его покаяния? Поэтому и апостол говорит: Или пренебрегаешь богатство долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его (Рим. 2:4–6). Нужно, чтобы боязнь этого суда Божия не выходила из мысли нашей, нужно, если ты не хочешь грешить, помнить о присутствии Божием не только в месте собрания, но и дома, не только дома, но и на ложе твоем, ночью на постели твоей, в сердце твоем. Итак, если отнимешь убежище покаяния, умножаются грехи вследствие отчаяния. Вот и безответны уже те, которые утверждают, что могут умножаться грехи по той причине, что христианская вера дает убежище для грешника в таинстве покаяния. Кроме того, неужели Бог не мог предусмотреть, что чрез надежду на прощение грехи будут умножаться? Но как позаботился Он о том, чтобы вследствие отчаяния они не увеличивались, так предусмотрел и обратное, т. е. чтобы грех не усиливался вследствие излишней надежды. Действительно, как может умножать грехи человек, отчаявшийся, так может делать это и тот, кто надеется на прощение. Последний может говорить себе: буду делать так, как хочу; милостив Бог — когда обращусь к Нему, Он простит мне. Но так уверенно говорить мог бы он в том лишь случае, если бы завтрашний день был известен ему. Но разве этому учит тебя Писание, когда говорит: Не медли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день: ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения (Сир. 5:8–9)? Вот, в том и в другом случае позаботилось о нас Провидение: чтобы вследствие отчаяния мы не умножали грехов, дано нам убежище покаяния, а чтобы не делали того же вследствие излишней надежды, остается сокрытым для нас день нашей смерти.
Беседа 13. К новопросвещенным, в 8–й день после крещения
1. К слуху и мысленному взору всех, кои вверены попечению нашему, обращена эта речь вашего неспокойного пастыря. Но преимущественно она направляется теперь к вам, на колыбели коих отпечатлено еще недавнее младенчество духовного рождения, совершенного посредством таинств. Вас именно через апостола Петра слово Божие увещевает такими словами: Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь (1 Пет. 2:1–3). А что вы вкусили, тому свидетели мы. Мы послужили вам, дав вкусить вам столь сладкой пищи. Итак, твердо оберегайте образ святого младенчества. Отложите злобу, коварство, лицемерие, зависть и злословие. Невинность эту так должно соблюдать вам, чтобы при возрастании не потерять ее. Что есть злоба, если не желание вредить? Что коварство, как не то, когда мы знаем одно, а стараемся показать другое? Что есть лицемерие, как не обольщение ложною похвалою? Что такое зависть, как не ненависть к чужому счастью? Что такое злословие, как не язвительный скорее, нежели праведный, упрек? Злоба услаждается чужим злом. Зависть, кроме того, и мучится чужим благом. Коварство двоит сердце. Лицемерие двоит язык. Злословие оскорбляет честь другого. Чистота же святости вашей, так как она есть дочь любви, не радуется неправде, а сорадуется истине (1 Кор. 13:6). Проста она, как голубь, и мудра, как змей (Мф. 10:16), не вследствие стремления вредить, а по причине способности оберегаться от того, что наносит вред. К ней–то я и призываю вас, ибо таковых есть Царствие Небесное (Мф. 19:14), т. е. тех, которые смиренны и невинны, как младенцы. Не презирайте этого и не отвращайтесь. Такое младенчество свойственно великим. Гордость есть ложное величие пустых людей. Если она овладевает мыслию, то поднимая, вместе и низвергает, надмевая, делает суетным, делая напыщенным, доводит до унижения. Смиренный не может быть вредным, гордый не может быть невредным. О смирении же я говорю о таком, которое не превозносится при пользовании преходящими благами, но помышляет о некотором вечном благе, коего может достигнуть не своими силами, но при помощи благодати Божией. Оно не может желать зла кому бы то ни было, так как вследствие этого собственное благо его ни в каком случае не умножается. Гордость же постоянно рождает зависть. А где завистливый, не желающий зла тому, благом коего он мучится? Следовательно, зависть рождает злобу. Отсюда же происходит коварство и лицемерие, и злословие, и всякое зло, коего не хочешь ты терпеть от другого. Итак, когда соблюдено будет вами благочестивое смирение, которое в Писании приравнивается к невинному детству, тогда вы будете блаженны в безсмертии праведных, ибо таковых есть Царствие Небесное.
2. Далее, кто не горд по отношению к людям, тем более не должен быть высокомерен по отношению к Богу, потому что если не следует делать другому того, чего не хочешь сам терпеть от него, и если никто из людей не хочет выносить непослушания того, кто по закону подчинен ему, то насколько более нужно остерегаться, чтобы по отношению к Богу не явился кто–либо таким, каким не хочет он видеть по отношению к себе другого человека?
Обольщают поэтому себя те, которые думают что достаточно, если не делают они никому из людей того, чего не хотят сами себе, и если так растлевают себя роскошью, что хотят по отношению к Богу делать то, чего не хотят терпеть от других людей. Не желая, чтобы дом их разорялся кем бы то ни было, они, однако, сами в себе разоряют храм Божий, будучи глухи к словам апостола: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог; ибо храм Божий свят; а этот храм — вы (1 Кор. 3:16–17). Пусть же никто не обольщает себя. И зачем, стараясь сохранить свою невинность в отношении к другим, люди вредят себе, когда лишают себя присутствия Бога и наказываются Им? Вследствие этого случается также, что, падая и истощаясь среди пагубных удовольствий, они не только перестают быть храмом Божиим, но даже становятся развалинами, в которых обитают злые демоны, коим начинают покланяться и служить, и бывает для них, как сказано, последнее хуже первого (Лк. 11:26). Поэтому и вас, возрожденных от семени нетленного (1 Пет. 1:23), тот же апостол Петр, как в виду вышеуказанных вредных страстей, в силу коих люди делают другим то, что они не любят, также и в виду других постыдных и недозволенных наслаждений и скверных пороков, коими люди, хотя, по–видимому, и не вредят другим людям, не делая им того, чего не хотят себе, однако же Самому Владыке владык делают, чего не хотели бы терпеть от своих рабов, увещевает, говоря: Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслию; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям…, пьянству, излишеству… и нелепому идолослужению (1 Пет. 4:1–3). Довольно уже в прошедшее время вы служили нечистым, греховным делам, как бы игу египетскому. Уже море Красное, т. е. освященное кровью Христовой крещение сокрушило истинного фараона, уничтожило египтян. Не бойтесь прежних грехов, как бы преследующих сзади врагов. Помышляйте о другом — как бы пройти пустыню этой жизни и достигнуть земли обетованной, вышнего Иерусалима, страны живых, чтобы вследствие пренебрежения к Слову Божию, как бы вследствие отвращения к манне, не очерствели сердца ваши, эти как бы уста внутренние, чтобы, вспоминая о пище египетской, не роптали вы по поводу пищи небесной, чтобы не блудодействовали, как некоторые из тех блудодействовали, и не искушали Христа, как некоторые из них искушали. Когда вам, если вы будете тосковать по нечестивой вере языческой, встретится какая–либо горечь, подобно тем водам, коих не мог пить Израиль, подражайте терпению Христа, делайте их сладкими, как бы бросая туда древо креста. Если ужалит вас какое–либо жало змеиное, то и вы подобно евреям, взиравшим на поднятого змея, взирая на крест, как на знак смерти побежденной и пораженной в плоти Господа, исцеляйтесь тем же древом креста. Если враг амаликитянин вздумает заградить и затруднить путь вам, пусть побеждается постоянным простиранием рук ваших по подобию того же креста (ejusdem crucis indicio). Будьте истинными и настоящими христианами. Не подражайте тем, которые являются христианами только по имени. Опять говорю, и часто следует говорить это: Довольно, что вы в прошедшее время поступали но воле языческой. Удаляйтесь и бегайте от псов, возвращающихся на свою блевотину. Удаляйтесь и избегайте тех домов — выметенных и просторных, куда входят семь других нечистых духов, так что последнее для человека бывает хуже первого. Имейте обитателем в себе своего Очистителя. Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами (2 Кор. 6:1). Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой (1 Пет. 4:3). Слушайтесь и следующего наставления апостола Павла: Говорю по разсуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые (Рим. 6:19).
Беседа 14. К воздерживающимся от брачной жизни (ad continentes)
1. Когда читалось Евангелие, вы слышали слова Господа что верующий в Него, верует в Того, Кто послал Его (Ин. 12:44). Истинная вера научает нас, что к нам послан Спаситель мира, и что Сам Христос предуказывает Христа, т. е. тело Свое, распространенное по всему миру. На небе был Он, а свирепствовавшему на земле гонителю говорил: Что ты гонишь Меня? (Деян. 9:4)? Так Господь сказал здесь о себе и указал, что Он — в нас. Как Он здесь пребывает в нас, так и мы там пребываем в Нем. Так действует союз любви. Тот, Кто есть глава наша, Он же есть и Спаситель тела Своего. Итак, Христос предуказывает Христа, предуказывает Глава тело Свое и защищает его. Потому и ненавидит нас мир, как это слышали мы от Самого Господа (Ин. 15:18–21). Не апостолам только немногим говорит Он это, что мир возненавидит их, и что они должны радоваться, когда люди будут поносить их и всячески неправедно злословить, потому что за то велика будет их награда на небесах (Мф. 5:11–12). Не им только одним Господь сказал это, но сказал всему телу Своему, сказал всем членам Своим. И кто хочет состоять в теле Его и быть членом Его, пусть не дивится, если мир ненавидит Его.
2. Участие в теле Христовом многие имеют; но не все, которые принимают участие в этом теле, будут иметь и место, обещанное членам Его. Почти все признают тайну тела Его, потому что все на пажитях Его вместе питаются, но придет Тот, Который разделит нас, и одних поставит по правую сторону, других по левую. И скажут стоящие на той и на другой стороне: Господи! Когда мы Тебя видели… и послужили Тебе? или: Когда мы Тебя видели… и не послужили Тебе? Та и другая сторона будет говорить. Однако, одной Он лишь скажет: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, а другой: Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25:31–41). Итак, возлюбленные, по доброй совести считающие себя членами Христовыми, не тех только одних мы должны считать врагами своими, которые являются чужими по отношению к нам. Гораздо хуже те, которые, по–видимому, среди нас пребывают, однако же чужды нам. Любят они мир и потому злы. И в нас хотят видеть то, что сами любят, и когда мы, пользуясь благополучием этого мира, вздыхаем, они завидуют нам. Там нас считают счастливыми, где мы сами себя видим в опасности. Внутреннего же счастья нашего они не разумеют, потому что не испытали его. Не знают, что если в чем мир благоприятствует нам, это скорее является опасностью для нас, нежели счастием, так как не познали они других радостей.
3. Итак, видя нас собравшимися ныне в большом количестве, я обращаюсь с наставлением к любви вашей, к тем именно, которые дали высокий обет, т. е. в самом теле Христа занимают по дару Его, а не по своим заслугам высшее место, – имея совесть (conscientiam), данную от Бога. У злых и завистливых из нас совесть эта навлекает на себя подозрение. Потому, однако, уязвляется она, что испытывается. И если в подвиге воздержания мы будем искать похвалы от людей, мы ослабеваем под тяжестью их упреков. Хотя ты чист перед Богом, но вот мир считает тебя, может быть, нечистым, уязвляет и упрекает тебя и охотно останавливается на твоих недостатках. Для зложелательной души как бы приятно бывает, когда подозревается в другом что–либо наихудшее. И если ты только ради похвал человеческих захотел принять подвиг воздержания и если ослабеваешь в своем подвиге из–за упреков людей, то губишь все, в чем ранее обещался. Если же ты научился говорить вместе с апостолом: Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей (2 Кор. 1:12), то не только ради упреков не уменьшается твоя награда, а напротив, делается она еще больше. Однако, молись за того, кто хулит тебя, чтобы из–за награды твоей не погиб он. Этим испытываемся мы, возлюбленные, потому что, если бы не было у нас врагов, мы не имели бы, за кого молиться по заповеди Господа, говорящего: Любите врагов ваших, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5:44). Откуда узнаем мы и чем докажем, способны ли на что–нибудь, если не тем, когда не помним никакого врага, никакого хулителя, никакого обидчика. Видите, что и злые необходимы для добрых. В этом мире мы как в печи, где очищается золото. Если ты не золото, вместе сгораешь. Если золото, враг твой — мякина. Если и ты мякина, вместе обратитесь вы в пепел.
4. Однако же то знайте прежде всего, возлюбленные, что в теле Христовом существуют не одни только превосходнейшие члены. Есть достойная похвалы брачная жизнь, и она имеет в теле Христовом свое место, как и в нашем теле имеют место не одни только те члены, которые помещены вверху; так, например, части лица занимают высшую часть тела, но если бы не было ног, как бы высоко иная часть ни находилась, она лежала бы на земле. Поэтому и апостол говорит: И которые члены нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения… Бог соразмерил тело… дабы не было разделения в теле (1 Кор. 12:23–25). Знаем мы членов Христовых, которые проводят брачную жизнь, хотя и члены Христовы, хотя веруют во Христа, ожидают жизни будущего века и знают, почему носят знак Христов, знаем, что они не лишают вас чести и считают вас лучшими себя. Но как вас почитают они, так и вы взаимно должны оказывать им уважение. И если вы святы, бойтесь, чтобы не погубить святости. Через что? Через гордость. Как погибает чистота чистого, если он делается прелюбодеем, так же погибает она, если он делается гордым. Решаюсь утверждать даже, что проводя брачную жизнь, если имеют смирение, лучше гордых девственников. Пусть любовь ваша поразмыслит о том, что я говорю. Подумайте о диаволе. Разве на суде Божием поставлен будет ему в упрек блуд или невоздержание? Ничего подобного не делает он, потому что не имеет плоти. Одна только гордость и зависть посылает его в огонь вечный.
5. Но если к рабу Божию подползает гордость, тотчас же является там и зависть. Не может гордый не быть завистливым. Зависть — дочь гордости. Мать эта не знает безплодия. Как только явится она, тотчас и рождает. И чтобы ее не было у вас, помните, что во время гонения не только дева Агния была удостоена венца мученического, но и Христина, которая была замужем. Может быть, и это несомненно, некоторые из воздерживающихся в то время пали, и многие из состоявших в браке боролись и победили. Поэтому не напрасно говорит апостол всем членам Христовым: Почитайте один другого высшим себя и В почтительности друг друга предупреждайте (Флп. 2:3; Рим. 12:10). Если будете помышлять об этом, не будете и самомнительны. Больше думать следует о том, чего недостает вам, а не о том, что есть у вас; что имеешь, бойся, чтобы не потерять. Чего не имеешь, проси, чтобы иметь. Нужно помнить о том, как ты мал, а не о том, как ты велик. Если думаешь, насколько превзошел ты другого, бойся надменности. Когда думаешь о том, чего недостает тебе, ты скорбишь. А когда скорбишь, исправляешься, делаешься смиренным; тогда будешь спокойнее, будешь дальше от опасности, не возгордишься.
6. И о, если бы все могли думать об одной лишь любви. Она только все побеждает, без нее ничто не имеет значения, и где бы она не была, все она привлекает к себе. Она не завидует. Почему? Потому что не превозносится (1 Кор. 13:4). Первый между всеми пороками есть гордость, как уже выше говорил я о том, а затем — зависть. Не завидует человек, если нет у него стремления превосходить всех (nisi amor excellentiae). Это стремление называется гордостью. Итак, хотя первой по порядку является гордость и затем зависть, апостол в похвалах любви не захотел сказать однако сначала: Не превозносится. Почему это? Потому что, когда сказал он: Не завидует, заставил тебя как бы искать причину, почему не завидует, и потому прибавил: Не превозносится. Следовательно, если потому не завидует, что не превозносится, то если бы превозносилась, завидовала бы. В этом возрастайте, в этом пусть укрепляется дух ваш, чтобы не превозноситься. Надмевает нас, как говорит апостол, знание (1 Кор. 8:1). Итак, что же? Неужели вы должны избегать знания, и лучше избрать себе незнание, нежели надмеваться? Но к чему же говорим мы вам это, если незнание лучше знания? К чему разсуждаем с вами? Зачем обсуждаем это? Зачем увещеваем в том, что знаете, и сообщаем то, чего не знаете, если нужно бояться знания, чтобы оно не надмевало? Любите же знание, но выше его ставьте любовь. Знание, если оно одно только, надмевает. А так как любовь назидает (1 Кор. 8:1), она не позволяет знанию надмеватъся. Итак, где знание надмевает, там любовь не назидает; где же назидает, там знание твердо. Нет надменности там, где есть крепкий фундамент (non est ibib inflatio, ubi petra est fundamentum) для знания.
7. Сколь великим искушением является гордость, или превозношение, это видно из того, что даже столь великий апостол, как Павел, говорил, что ему дано жало в плоть, ангел сатаны, коим он удручался. Кто же удручается, глава того опускается и не возносится, потому что и там от знания была опасность гордости или превозношения. И чтобы я не превозносился чрезвычайностию откровений, — говорит апостол, — там нужно было опасаться превозношения, где была чрезвычайность откровений: И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12:7–9). Просит болящий, чтобы то, что предлагает ему врач для спасения, было отнято от него. Врач говорит: Нет, причиняет это тебе боль, но служит к оздоровлению. Ты говоришь: Удали то, что причиняет боль. Врач говорит: Не удаляю, потому что это возстановляет здоровье. Для чего ты пришел ко врачу? Не для того ли, чтоб излечиться и не терпеть муки? Так не внял Господь желанию Павла, потому что имел попечение о его спасении. Не велико еще дело, когда Господь внемлет нашему желанию. Не думайте, что великое есть нечто, если кто молится и удовлетворяется его молитва. Но будь внимателен к тому, о чем нужно молиться, и в чем хочешь быть услышанным. Не считайте за великое быть услышанными согласно своему желанию. За великое считайте, когда ваши молитвы исполняются для вашей же пользы. Иногда ведь и молитвы демонов удовлетворяются. Согласно просьбе своей, они получили, например, позволение войти в стадо свиней (Мф. 8:31–32). По воле своей услышан был диавол, и его просьба об испытании Иова не была отклонена для того, чтобы он (Иов) через это был прославлен, а диавол посрамлен (Иов. 1 и 2). По желанию своему израильтяне были услышаны и, когда еще пища была в устах их, вы знаете, что получили они (Чис. 11). Итак, не считайте за что–либо великое, когда желания ваши исполняются. Иногда Господь во гневе дает тебе, о чем ты просишь, а иногда, из милости к тебе, отклоняет твои просьбы. Когда вы просите у Господа то, что Он одобряет, что заповедует и что обещает в будущем веке, просите спокойно и настойчиво, насколько возможно, чтобы получить просимое: все такое, по милости Божией, подается нам не гневом Его, а милосердием. Когда же просите о временном, просите с мерою, просите осторожно. На Него положитесь, чтобы, если то полезно нам, дал, а если вредно — отказал в нашей просьбе. Что же полезно и что вредно — это знает врач, а не больной.
8. Итак, есть смиренные из воздерживающихся (от брачной жизни), есть и гордые. Пусть не надеются гордые на Царство Божие. Высоко место, куда ведет воздержание. Но всякий возвышающий сам себя унижен будет (Лк. 14:11). Что ищешь возвышения стремлением к высокому, чего можешь достигнуть только смирением? Если возвышаешь сам себя, Бог тебя низвергает. Если сам себя унижаешь, Бог возвышает тебя. Эта истина, открытая Богом; ничего нельзя здесь ни прибавить, ни убавить. Даже до того превозносятся нередко иные люди, посвящающие себя воздержанию, что не только перед какими бы то ни было другими людьми, даже перед родителями своими неблагодарны бывают и перед ними гордятся. Почему? Потому что они родили их, а сами (девственники) они презрели брак. Но откуда взялись бы эти неблагодарные, презревшие брак, если бы те их не родили? Конечно, лучше отца своего сын, отвергший брак. И лучше матери своей дочь, отказавшаяся от замужества. Но если гордый (сын или дочь), ни в каком случае не лучше. Если лучше, то, без сомнения, лишь при условии смирения. Если хочешь видеть себя лучшим, вопроси душу свою, нет ли там надменности. Где надменность, там пустота. Диавол же, где находит пустое место, старается обрести там жилище для себя.
9. Наконец, осмеливаюсь, братия мои, высказать даже, что для воздерживающихся, но гордых полезно бывает падение, чтобы унизиться в том самом, чем превозносятся. Потому что какая польза кому от воздержания, если господствует гордость? Презрел он то, от чего рождается человек, и стремится к тому, от чего пал диавол. Брак презрел ты — хорошо поступил. Нечто лучшее избрал, но не гордись. От брака человек родился, от гордости пали ангелы. Если в отдельности я буду взвешивать ваши блага, ты, презревший брак, лучше отца твоего, и ты, отказавшаяся от замужества, лучше матери твоей. Потому что лучше святость девственников, нежели целомудрие супружеское. Если только два эти блага сравниваются, то лучше одно, нежели другое — кто будет сомневаться в том? Но вот прибавляю другие два качества: смирение и гордость — из этих двух что лучше, скажите мне, смирение или гордость? Отвечаешь: смирение. Соединяй же его со святостью девства. А гордости пусть не будет не только в девстве твоем, но и у твоей матери. Если же ты будешь иметь гордость, а твоя мать — смирение, лучше будет тогда мать, нежели дочь. И опять сравниваю вас. Выше, когда сравнивал я в отдельности девство и брак, находил тебя лучшей. Теперь же не колеблюсь предпочесть смиренную жену горделивой деве. Почему не колеблюсь? Смотрите — почему. Хороша стыдливость супружеская, но лучше целомудрие девственное. Два блага сравнивал я: не зло и добро, но добро и другое добро, лучшее. Если же, далее, буду сравнивать два те качества: гордость и смирение, разве можно сказать: добро есть гордость и лучше его смирение? Но как говорим мы? Гордость — зло, а смирение — добро, гордость — великое зло, смирение же — великое добро. Если же, таким образом, одно из этих двух есть зло, а другое добро — вот присоединяется зло к большему твоему добру, и делается все злым. Присоединяется добро к меньшему добру твоей матери, и получается великое благо. Низшее место в Царстве Небесном будет иметь мать, состоящая замужем, нежели дочь, оставшаяся девой. Высшее место займет дочь — дева, низшее — мать, вышедшая замуж, однако, обе будут там, подобно тому, как блестящая звезда и тусклая звезда — обе остаются на небе. Но если мать твоя будет смиренна, а ты — горда, она, какое ни на есть, будет иметь место там, а ты — никакого. И где найдет другое место тот, кто не будет там (т. е. в Царстве Небесном), если не у того, который сам пал и стоящего низвергает? Оттуда пал сам диавол, откуда и стоящего человека низверг. Низверг он стоящего. Христос же, сошедши на землю, поднял лежащего. Но смотри, как поднял тебя Господь твой. Смирением поднял, смирил Себя, быв послушным даже до смерти (Флп. 2:8). Господь твой смирил себя, и ты ли будешь гордиться? Если глава смиренна, члену ли гордиться? Пусть не будет того. Кто любит гордость, тот не хочет участвовать в теле смиренной главы. А если не будет он в этом теле, пусть подумает, где будет. Я же не буду говорить о том, чтобы не показаться слишком застращивающим. Впрочем, о, если бы устрашить и воздействовать так, чтобы, если кто был таков или была такова, не оставались более такими! О, если бы слова эти я вливал в сердца ваши, а не разливал напрасно! Но будем во всем уповать на милость Божию, потому что Он (Господь) устрашает и вызывает печаль; вызывая печаль, Он же и утешает. А если кто не утешен, пусть позаботится о своем исправлении.
Беседа 15. О жизни и нравах своих клириков. Часть 1
1. Что намерен я сказать вам теперь — это и есть именно то, ради чего вчера я просил вас, чтобы вы сегодня собрались в большем количестве. С вами живем мы здесь и для вас живем. Намерение и желание наше то, чтобы с вами вместе быть нам у Христа без конца. Думаю, что все поведение наше перед глазами вашими, так что и мы имеем дерзновение, быть может, сказать то, что сказал апостол, хотя мы и далеко не равны ему: Подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4:16). Не хочу, чтобы кто–нибудь находил в нас повод к дурной жизни. Ибо мы стараемся о добром, — говорит тот же апостол, — не только пред Господом, но и пред людьми (2 Кор. 8:21). Что касается нас, то совесть наша спокойна. Что касается вас, то имя наше не должно быть запятнано, но должно иметь влияние среди вас. Помните же это и различайте. Одно дело совесть, и другое — слух (fama). Совесть для тебя, слух для ближнего твоего. Кто, полагаясь на свою совесть, не радеет о своем имени, тот жесток (crudelic), особенно будучи поставлен на таком месте, о котором апостол говорит в послании к ученику своему: Во всем показывай в себе образец добрых дел (Тит. 2:7).
2. Впрочем, не буду долго задерживать вас на этом, тем более, что я говорю сидя, а вы трудитесь стоя. Знаете вы все, или почти все, что, живя в этом доме, который называется домом епископа, мы, насколько возможно, подражаем тем святым, о которых повествует книга Деяний Св.Апостолов. Никто ничего из имения своего, — говорится там, — не называл своим, но все у них было общее (Деян. 4:32). Но, принимая во внимание, что некоторые из вас, быть может, недостаточно осведомлены о жизни нашей, чтобы знать это так, как я хотел бы, чтобы вы знали, скажу, каким образом явилось то, на что я кратко указал вам (dico, quid sit, quod breviter dixi). Я, коего видите вы теперь, по милости Божией, епископом вашим, молодым еще человеком, пришел в этот город, как многие из вас знают о том. Искал я, где бы устроить мне монастырь, в коем я мог бы жить вместе с моими братиями. Всякую надежду этого века я оставил, и чем мог бы быть, не захотел быть. Однако, не искал я и того, чем являюсь теперь. Хотел я лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия (Пс. 83:11). От тех, которые любят век настоящий, я отделился, но и с теми, которые предстоятельствуют в народе, я не равнял себя. Не желал я за трапезой Господа моего занимать высшего места, а хотел быть на месте низшем, последнем. Но благоугодно было Ему сказать мне: Взойди вверх. До того боялся я епископства, что, так как с некоторого времени стал распространяться слух обо мне между рабами Божиими, я старался не ходить туда, где знал, что нет епископа. Боялся я этого и, насколько мог, принимал меры, чтобы лучше спастись на месте низком, а не подвергаться опасности на месте высоком. Но, как сказал я, раб не должен противиться Господу своему. Пришел я в этот город для того, чтобы повидаться с другом, коего хотел приобрести для Господа, чтобы жил он с нами в монастыре, пришел спокойный, потому что здесь имелся епископ. Но будучи схвачен (apprehenus), я неожиданно сделался пресвитером и затем достиг сана епископа. Ничего с собой не принес я сюда. Пришел в эту церковь только с теми одеждами, коими одет был тогда. И так как я уже решился жить с братиями в монастыре, блаженной памяти старец Валерий дал мне тот сад, в котором устроен теперь монастырь. Начал я собирать к себе хорошо настроенных братьев (boni propositi fratres), одинаковых со мною, ничего не имеющих, как я ничего не имел, и подражающих мне, чтобы, как я небольшое имение свое продал и роздал нищим, так сделали и те, которые решились жить со мною, чтобы пользоваться всем общим и чтобы единственным великим и обильнейшим достоянием был для нас Сам Бог. Достиг я епископского сана. И тут увидел, что епископу необходимо оказывать постоянное гостеприимство всем приходящим и мимоидущим, чего если бы не стал делать епископ, прослыл бы немилостивым (inhumanus). И было бы неприлично, если бы обычая этого не было в монастыре, было бы непристойно. Потому я и пожелал иметь с собою в этом дому епископском общежитие (monasterium) для клириков.
Вот как живем мы. Никому в обществе нашем не позволяется иметь ничего собственного. Правда, может быть, некоторые имеют. Однако, никому не позволено. Если кто имеет, поступает вопреки дозволению. Я надеюсь на братий моих и, всегда имея доброе доверие к ним, не позволял себе производить обыска; даже — разспрашивать, по моему мнению, значило бы дурно мыслить о них. Знал я и знаю, что все, кто только ни живет со мной, знают закон жизни нашей.
3. Пришел к нам также и пресвитер Януарий, который, по–видимому, издержал все имение свое, раздав его, но в действительности не сделал этого. Осталось у него некоторое имущество, именно — серебро, которое, по его словам, принадлежало его дочери. Дочь его, по милости Божией, пребывает в монастыре женском и подает добрые надежды (et bonae spei est). Да управит ее Господь, чтобы оправдала она те надежды, какие мы возлагаем на нее, по милосердию Божию, а не по ее заслугам. И так как она была еще несовершеннолетней и не могла дать какого–либо употребления своим деньгам (хотя мы и видели подвиг ее служения, однако же, боялись увлечений возраста), сделано было так, чтобы серебро сохранялось как бы для девицы, чтобы, по достижении законных лет, она поступила с ним так, как прилично деве Христовой, как она нашла бы наилучшим. Пока ожидали этого, стал он (Януарий) приближаться к смерти и, клятвенно утверждая, что серебро это его, сделал завещание, как о ему принадлежащем имуществе. Завещание, говорю, сделал пресвитер и сообщник наш, пребывающий с нами, живущий от церкви, признавший общение в имуществе (communem vitam profitens), сделал завещание, назначил наследников. Какое огорчение обществу этому! О, плод, рожденный не от дерева, которое насадил Господь! «Но ведь он завещал церкви?!» — скажет кто–нибудь. Однако, не хочу я даров таких, не люблю плода горечи. Я искал его для Бога, он признал союз наш, говорил, что будет держать его, дорожить им, что он ничего не имеет и не сделает завещания. Разве мог он иметь что–нибудь? Не считал ли себя он союзником, как бы нищим Бога? Великая скорбь от этого мне, братия. Говорю любви вашей, что вследствие такого огорчения я решился не принимать оставленного наследства в церковь. Детям его пусть принадлежит то, что он оставил. Они пусть сделают из этого, что хотят. Кажется мне, что если я приму имущество это, то сделаюсь участником того дела, которое мне не нравится, и о котором я скорблю. Этого не хотел я скрыть от любви вашей. Дочь его живет в женском монастыре, а сын — в мужском. Обоих лишил он наследства: ту с похвалой, а этого с порицанием. Пред церковью же я ходатайствовал не выдавать им (детям Януария) оставленного имущества, пока не достигнут законного возраста. Церковь согласилась с этим. Затем он произвел тяжбу между детьми, разбор которой причиняет много труда мне (in qua laboro). Девица говорит: «Мое это; знаете, что так говорил всегда отец мой». Сын заявляет: «Пусть верят отцу моему, потому что, умирая, он не мог лгать». И какое зло представляет один только спор этот? Но если дети те достойны названия рабов Божиих, спор этот между ними мы скоро окончим. Выслушаю я их, как отец, и, может быть, даже лучше, чем отец их. Узнаю, если Господу будет угодно, где правда, при содействии немногих верующих братий из нашей среды, из среды этого народа, пользующихся, по милости Божией, уважением, выслушаю дело их и, как Господь даст, окончу.
4. Однако же, прошу вас, пусть никто не укоряет меня за то, что я не желаю, чтобы церковь принимала наследство его (Януария) прежде всего потому, что я не одобряю его поступка, а затем потому, что таков устав мой. Многие хвалят меня за то, что я говорю (dicturus sum), а другие порицают. Угодить тем и другим весьма трудно.
Вы только что слышали, когда читалось Евангелие, следующие слова: Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям (Мф. 11:17–19). Что делать мне для тех, которые готовы упрекать меня и сердиться, если я буду принимать имущество людей, которые во гневе лишают наследства детей своих? И опять, что делать мне с теми, которым играю я на свирели, и они не хотят плясать? Которые говорят: «Вот почему никто ничего не дает для церкви Иппонской, вот почему не оставляют наследства ей те, которые умирают — потому, что епископ Августин по доброте (похваляя, они уязвляют, лаская губами, точат свой зуб) своей отдает все, ничего не принимает». Но я принимаю, принимаю добрые приношения, приношения святые. Если же кто гневается на сына своего и, умирая, лишает его наследства, разве я, если бы он был жив, не должен был бы мирить и снова сближать такого с его сыном? Как же бы я мог делать это, если бы хотел получить наследство его? Впрочем, если сделает так, как я часто советую, а именно: если, имея одного сына, за другого считает Христа; если двух, Христа считает за третьего; если, имея десять сыновей, Христа признает одиннадцатым — тогда я принимаю. Итак, как я в некоторых случаях поступал так, вот уже ссылаются на доброту мою, на мягкость мою, чтобы, с другой стороны, упрекнуть меня, что я не желаю принимать приношений благочестивых людей. Но пусть подумают о том, как много я принял. Зачем еще перечислять это? Укажу хотя на одно, что я принял наследство некоего Юлианова сына. Почему? Потому что он умер бездетным.
5. Не захотел принять я наследства Бонифация, но не по доброте, а из–за боязни. Не захотел я, чтобы церковь была подобной ищущему наживы корабельщику. Есть много таких, которые хотели бы приобретать имущество даже от кораблеплавания. Однако, тут была бы одна опасность, если бы, например, шел корабль и потерпел крушение. Станем ли мы подвергать еще мукам людей, выпытывая их о причинах потопления корабля, и неужели нужно подвергать еще судебному допросу тех, кои спаслись от волн? Но мы этого не стали бы делать. Ни в каком случае не прилично это делать церкви. Неужели ей принимать на себя еще денежные повинности (onus ergo fiscale persolveret)? Но откуда стала бы она платить деньги? Нам непозволительно стремиться к приобретению сокровищ (Enthecam nobis habere non licet). Не свойственно епископу хранить золото и отводить от себя руку нищего. Ежедневно так много просящих, так много вздыхающих, так велико число безпомощных, окружающих нас, что мы многих оставляем без удовлетворения, потому что не имеем столько, чтобы удовлетворить всех, не имеем сокровищницы (enthecam). Итак, вследствие опасности кораблекрушения, желая именно избежать его, я сделал это, а не вследствие своей доброты. Пусть хвалит, кто хочет, и пусть пощадит, кто не хочет хвалить. Зачем желать многого, братия мои? Кто хочет, лишая наследства сына своего, сделать наследницей церковь, пусть ищет другого, а не Августина. И пусть, по милосердию Божию, никого не найдет он такого. Как похвален поступок блаженного, достойного всякого уважения епископа Карфагенского Аврелия, и как исполнил он похвалой к Богу уста всех, которые узнали об этом? Некто, не имея детей и не надеясь иметь, отдал имущество свое церкви, удержав часть для своего пользования. Потом родились у него дети, и епископ возвратил ему, сверх его чаяния (nec opinanti), то, что отдано было им в пользу церкви. Мог бы епископ и не возвратить, но по праву земному, а не по праву небесному (sed jure fori, non jure poli).
6. И это пусть также знает любовь ваша, что я сказал братиям моим, которые пребывают со мной, чтобы, если кто что имеет, пусть продавал то и раздавал или жертвовал на общее пользование. Есть у него церковь, посредством которой Господь питает нас. Отсрочку лишь до дня Богоявления (usque ad Epiphaniam) дал я тем, которые или еще не разделили с братьями имения, или оставили у своих братьев то, что имели, или вообще не сделали чего–либо, за недостижением законного возраста. Пусть поступят они, как хотят. Пока же бедняками пусть пребывают со мною, уповая на милосердие Божие. Если же кто не хочет, может быть, есть и такие, а я раньше решил, как вы знаете, никого не принимать в клир, если кто не захочет жить вместе со мною, так что, если бы кто захотел отступать от своего обета, то я лишил бы его звания клирика (clericatum) за то, что он изменил обещанному и начатому уже соучастью в святом союзе; теперь же, если кто не захочет этого, то вот я пред лицем Божиим и вашим изменяю решение: кто хочет иметь что–либо собственное, для кого не довольно Бога и церкви, пусть те пребывают, где хотят и где могут, я не лишаю их звания клирика. Не хочу иметь лицемеров. Кто не знает, что это худо? Плохо изменять своему обету, но еще хуже содержать обет притворно. Вот я заявляю, слушайте: кто оставляет начатый уже союз общей жизни, которая восхваляется в книге Деяний Св.Апостолов, тот изменяет своему обету, изменяет святому служению. Но пусть он имеет судьею Бога, а не меня. Я не буду лишать его звания клирика. Как велика опасность от того, я уже указал вам. Пусть же делает, что хочет. Знаю также, что если бы кого поступающего так захотел я понизить, у него не будет недостатка в покровителях, не будет недостатка в сторонниках и здесь, и среди епископов, которые станут говорить: «Что дурного сделал он? Не может с тобой переносить этой жизни, хочет оставаться вне епископии, жить своей собственностью, неужели же поэтому должен лишиться он своего звания?» Знаю, какое зло признавать что–либо святым и не исполнять того. Делайте, — говорится в Писании, — и воздавайте обеты Господу, Богу вашему (Пс. 75:12); и еще: Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить (Еккл. 5:4). Дева, хотя бы она и никогда не была в монастыре, свята, и ей непозволительно выходить замуж, хотя бы она и не принуждалась проводить жизнь свою в монастыре. Если же она захотела жить в монастыре и потом оставила его, то, хотя и остается девой, но наполовину уже пала. Так и клирик посвятил себя двум целям: святости и служению в клире, но более святости. Ведь ради народа Своего Бог возложил на него служение (в клире), которое является более бременем, нежели почестью. Но кто мудр и уразумеет это (Пс. 106:43)? Итак, обрек себя он для святости, обрек на соучастие в общей жизни, признал как хорошо, и как приятно жить братиям вместе (Пс. 132:1). И если он изменил этому обету, то, хотя, живя вне (епископии), остается клириком; однако же наполовину является падшим. Мне же что до того (Quid ad me)? Я не сужу его. Если он, живя вне, живет свято, лишь наполовину падает. Если же, живя здесь (т. е. в монастыре), будет лицемерить, совершенно упадет тогда (totus cecidit). Не хочу я, чтобы он вынужден был притворяться. Знаю я, как люди ценят служение в клире, и никого не лишаю этого звания, хотя бы кто–либо и не желал жить вместе со мною. Имеет Бога тот, кто хотел бы оставаться со мной. И если он готов получать пищу от Бога при посредстве церкви Его, если в состоянии не иметь собственности, раздав имущество бедным или пожертвовав для общего пользования, пусть живет со мною. Кто же не хочет этого, пусть будет свободен, но пусть подумает и о том, в состоянии ли он будет получить блаженство вечности.
7. Но довольно этого для любви вашей. Как поступлю я с братиями моими, о том сообщу вам. Питаю добрые надежды. Все они охотно повинуются мне. И я не думаю, чтобы у кого–либо из них оказалось что, разве только ради какой–нибудь благочестивой потребности, но отнюдь не вследствие низкой страсти. Итак, что сделаю после Богоявления, сообщу любви вашей, если будет на то воля Божия. И как окончу спор между детьми пресвитера Януария, не скрою от вас. Достаточно уже я сказал вам. Окажите снисхождение многоречивой старости и робкой немощности. Я, как видите, и возрастом теперь уже состарился, телом же, вследствие его слабости, я давно старик. Однако, если только утодно Богу то, что сказал я теперь, пусть подкрепит Он мои силы, и я оставлю вас. Молитесь за меня, чтобы, пока есть душа в этом теле и пока достаточно сил у меня, я мог служить вам словом Божиим.
Беседа 16. О жизни и нравах своих клириков. Часть 2
1. Сегодня любви вашей предстоит выслушать речь о нас самих. Мы, — как говорит апостол, — сделались позорищем (spectaculum) для мира, для Ангелов и человеков (1 Кор. 4:9). Те, которые любят нас, ищут, что бы похвалить в нас. Которые же ненавидят, упрекают нас. Мы же, поставленные в средине между теми и другими, при помощи Господа Бога нашего, так должны оберегать жизнь и имя наше, чтобы прославляющие нас не оставались в стыде перед нашими поносителями. А как мы хотели бы жить, как, по милости Божией, уже живем, о том хотя из Священного Писания многие из вас знают, однако, для напоминания, вам будет прочитано место из книги Деяний Св.Апостолов, чтобы вы видели, где указан тот образ, которому хотим мы подражать. Во время чтения я желаю, чтобы вы были особенно внимательны, чтобы после прочтения мог я высказать вниманию вашему, при помощи Божией, то, что, решил. (После слов этих диакон Лазарь читает). И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святаго и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду (Деян. 4:31–35). (Когда диакон Лазарь прочел и отдал книгу епископу, Августин епископ продолжал: «Я еще прочитаю. Больше мне доставляет удовольствия быть чтецом этого слова, нежели говорить свое слово»). И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
2. Вот слышали вы, братия, о том, к чему мы стремимся. Молитесь, чтобы в состоянии мы были и осуществить это. Есть и некоторая необходимость, заставляющая меня тщательно заботиться о том. Потому что, как вы уже знаете, один пресвитер из нашей общины, устроенной наподобие той, о которой свидетельствует чтение, только что выслушанное вами, умирая, сделал завещание относительно имения своего. Было у него имение, которое он называл своим, хотя жил в такой общине, где никому ничего не дозволялось называть своим, но все должно быть общее. Вот, если бы какой поклонник и почитатель наш стал бы восхвалять нашу общину перед нашим хулителем и сказал бы: «Вот с епископом Августином так живут все сожители его, как указано в книге Деяний Св.Апостолов», тотчас бы тот, качая головой, со злом (dentem promovens) ответил ему: «Действительно ли так живут там, как ты говоришь? Зачем лжешь? Зачем ложной похвалой превозносишь недостойных? Разве только что умерший в той общине пресвитер не сделал завещания и разве не оставил и не распределил по–своему, что имел? Справедливо ли, что все там общее? Правда ли, что никто ничего там не называет своим?» Что будет делать почитатель мой при этих словах? Не загородит ли уст его как бы свинцом хулитель тот? И не покается ли он в похвалах своих? Исполненный уважения к нам и смущенный речью этого хулителя, разве не станет он поносить нас и того, кто сделал завещание (testatory illi)? Вот необходимость, побудившая нас обратить на это обстоятельство особенное внимание.
3. Итак, к радости вашей скажу вам, что все мои братия и клирики, пресвитеры, диаконы, суб–диаконы, которые живут со мной, и родственник мой Патриций оказались такими, какими я хотел их видеть. Не сделали пока еще того, что решили относительно своего имущества, двое: Валент (Valens), диакон, и уже названный мной мой родственник, суб–диакон. Последнему помешала его мать, потому что она жила тем имением. Ожидали также наступления для него законного возраста, когда бы окончательно мог распорядиться по своему желанию. Первый же не сделал этого, потому что участками имеющейся у него земли владеет нераздельно со своим братом. Когда будут разделены участки, он хочет пожертвовать их в пользу Церкви, чтобы отсюда имели пропитание до самой смерти своей те, которые обрекают себя святой жизни (qui sunt in proposito sanctitatis). Ведь и Писание так учит. Если же кто, — говорит апостол, — о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного (1 Тим. 5:8). Есть у него и рабы (mancipia) общие с братом, еще не разделенные. Он думает отпустить их на свободу, но не может сделать этого, пока не разделятся. Теперь же не знает он, что и кому принадлежит. Ему, конечно, как старшему, принадлежит право раздела, а брату его — право выбора. Последний также посвятил себя на служение Богу и состоит на должности суб–диакона у благоговейного брата моего и соепископа Севера, в церкви Милевисской. Так обстоит дело, и без замедления нужно позаботиться, конечно, чтобы рабы те были разделены, отпущены на свободу и поступили на попечение Церкви, которая бы питала их (ut eorum excipiat alimentum). Родственник же мой с самого того времени, как начал быть со мной, затруднялся что–либо сделать с имением своим, в виду содержания своей матери, которая в этом году умерла. Дела между ним и его сестрами скоро, при помощи Божией, должны окончиться, так что он и сам сделает то, что подобает рабу Божию, и чего требует его служение и слышанное вами чтение из Деяний.
4. Диакон Фавстин, как почти все вы знаете, пришел сюда в монастырь прямо с распутий мира (de militia saeculi). Здесь он крещен, здесь произведен в диаконы, и так как немного было у него, чем, по–видимому, владел он более, как говорят опытные юристы, номинально, а не действительно (iure, non corpore), оставил он это за собой и не встречал в том препятствий со стороны своих братьев. Никогда не жалел он потом о своем прошлом, ни сам ничего не искал от братьев, ни они ничего не искали от него. Только лишь теперь, с моего совета, он разделил свое имение: половину отдал братьям, а другую половину — в пользу существующей в том месте [разумеется, в том месте, откуда происходил Фавстин] бедной церкви.
5. Знаете вы также и диакона Севера, знаете, какому несчастию и наказанию от Бога подвергся он. Однако же, света духовного он не утратил [из этих слов можно заключать, что несчастие, постигшее Севера, состояло, по–видимому, в том, что он лишился зрения]. Здесь он купил один дом для матери и сестры, которых пожелал из отечества своего переселить сюда. Купил же дом не на свои деньги, которых не имел, а на вспомоществования от благочестивых мужей, имена которых он назвал мне, когда я спросил его об этом. Что касается дома, то я не могу сказать, что он сделает с ним, или как распорядится. Скажу лишь, что все и самого себя он отдал в мою волю и, как я захочу, так и должно быть. Но есть у него некоторые недоразумения со своею матерью, судьею для разбора которых он просил быть меня. Когда эти недоразумения будут окончены, тогда и с домом будет поступлено так, как захочу я. Но чего я могу хотеть, если Господь только будет вспомоществовать мне, как не того, чего требует правда и благочестие? Имеет он также на своей родине некоторые поместья; их намерен так разделить, чтобы часть пожертвовать на основанную в том месте бедную церковь.
6. Что касается диакона иппонца [имя не указано потому, вероятно, что всем слушателям этот иппонец был известен], то он человек бедный и решительно не имеет, что бы кому отдать. Однако, прежде чем сделаться клириком, на сбережения от трудов своих он приобрел несколько рабов, по–видимому, еще малолетних, и сегодня пред вашим лицом он хочет отпустить их, с совершением этого акта самим епископом (episcopalibus gestis).
7. Перед вами еще диакон Ераклий. Дела его на глазах у вас. Свидетельством их и его щедродательности является у нас базилика в честь св.мученика [вероятно, св.мученика арх.Стефана, останки коего принесены были в Африку около 425 года]. На свои деньги, с моего совета, купил он участок, пожелав при этом, чтобы и самые деньги выплачивались чрез мои руки, как мне заблагорассудится. И если бы я был жаден до денег или если бы более заботился о своих нуждах, которые испытываю из–за бедных, то, конечно, оставил бы их у себя. Почему? — скажет кто–либо. Потому что имение то, которое куплено им и отдано церкви, еще ничего не дает ей. Денег было меньше в сравнении со стоимостью имения, и так как взято оно было в долг, поэтому доходом от него приходится пока выплачивать долг. Притом, человек я уже старый, и какая могла бы быть мне от него польза? Могу ли я обещать себе, что проживу столько лет, пока оно не покроет своей стоимости? Таким образом, здесь польза обещается лишь в далеком будущем; в другом же случае я мог бы иметь все, если бы захотел воспользоваться. Но не сделал я этого, имея в виду другое. Признаюсь вам, что самый возраст Ераклия был для меня подозрительным, и я боялся, что, может быть, не понравится это, ведь есть такие люди, его матери, и она станет говорить, что юноша увлечен был мной из–за того, чтобы воспользоваться его имуществом, и сам оставлен в нужде. Потому и пожелал я, чтобы деньги его сберегались в том имении, так что, если бы что, чего не дай Бог, случилось иначе, чем мы хотим, имение было бы возвращено, а доброе имя епископа оставалось бы незапятнанным. Знаю я, как необходимо для вас доброе имя мое; для меня же лично довольно моего сознания. Купил же он пространство земли, прилегающее к дальней церкви, которое вы знаете, и на свои средства построил дом там; и это вы знаете. Недавно он подарил этот дом Церкви. Ждал он, когда закончат его, чтобы пожертвовать уже законченным. В постройке же дома не было для него никакой другой надобности, кроме предположения, что придет сюда его мать. И если бы пришла раньше она, то приняла бы участие в имуществе сына своего. Теперь же, если придет, будет обитать в том, что сделано им (in opere filii sui habitabit). Свидетельствую о нем, что он остался бедняком, пребывая в служении любви. Остались у него некоторые рабы, которые живут также в монастыре; их он ныне намерен отпустить, однако, на свободу по церковному чину (gestis ecclesiasticis). Итак, никто пусть не говорит, что богат он, никто пусть не думает этого, пусть не клевещет и не терзает себя самого или души своей собственными зубами. Никаких денег не имеет он. И о, если бы остался таким, как и должно!
8. Прочие, т. е. суб–диаконы, все, по милости Божией, бедняки, уповающие на милосердие Божие. Они не имеют никаких имуществ и совершенно отрешились от мирских житейских дел. Живут они с нами в общем союзе. Никто не различает их от тех, которые принесли с собой что–либо. Единение любви должно быть предпочтено выгоде земных достояний.
9. Теперь остаются еще пресвитеры. Постепенно решил я дойти и до них. Кратко скажу, что они — нищие у Бога. Ничего не принесли они в обитель нашего союза, кроме любви, лучше которой нет ничего. Однако, так как известно мне, что появились слухи о их богатствах, они, коих я не имею оснований заподозривать в чем–либо, должны быть очищены пред вами настоящим словом моим.
10. Скажу вам, тем именно, которые, быть может, не знают, потому что есть много из вас и знающих это, что пресвитера Лепория, который, несмотря на свое славное, высокое происхождение, посвятил себя Богу, принял я совершенно без всяких средств после того, как оставил он все, что имел, и сделал то, к чему призывает слышанное вами чтение (из Деян. Св.Апостолов). Не здесь он сделал то, но мы знаем место, где сделал. Единство Христа и Церкви одно, и где бы ни совершено было доброе дело, оно относится и к нам, если мы сорадуемся этому. В некотором месте есть сад. Там он и устроил монастырь для своих, потому что и они служат Господу. Сад этот не принадлежит теперь ни церкви, ни ему, а тому монастырю. Но он, и это истинно, до сего времени так заботился о монастыре, что принял на себя расходы по его содержанию и делал их по своему усмотрению. Но во избежание дурных предположений со стороны людей подозрительных, угодно было мне и ему, чтобы живущие там жили так, как бы его самого уже не было и в живых. А разве, когда умрет, может он распоряжаться у них чем–либо? Приятнее для него видеть их благоденствующими и пребывающими, при помощи Божией, в учении Христовом, пребывающими так, чтобы можно было лишь радоваться за них, а не страдать за их нужды. Нет у него денег, которые он мог бы назвать своими. Имел он на своих руках строящийся гостеприимный дом, который теперь вы видите уже отстроенным. Я возложил на него все это, я повелел. Повиновался он мне весьма охотно и, как видите, исполнил поручение, равно как по моему же распоряжению воздвиг на средства, которые Господь дал через вас, и базилику в память восьми мучеников (ad octo martyres), Начал он строить на небольшие средства, которые даны были Церкви для странноприимного дома, и, когда начал строить, благочестивые люди, желающие, чтобы дела их были записаны в книге живота (in coelo), помогли, кто сколько мог, и он выстроил. Дело перед глазами, и всякий человек может видеть, что сделано. А что не имеет он денег, в этом пусть верят мне, пусть успокоятся и не тревожатся. Куплен был им на деньги, предназначенные для странноприимницы, один дом в Каррарии, который, как он предполагал, будет полезен ему по свойству камней. Но камни те оказались ненужными для постройки, потому что материал найден был в другом месте. Так дом тот и остался; дает он доход, но церкви, не пресвитеру. Пусть никто не считает его домом пресвитера и не говорит: «В дом пресвитера, перед домом пресвитера или у дома пресвитера». Вот где дом пресвитера: где мой дом, там и дом пресвитера. В другом месте нет у него дома, имеет везде одного только Бога.
11. О чем далее еще хотите знать вы, как не о том, сообщить что обещался я вам, именно, как поступлю я с детьми пресвитера Януария, братом и сестрой, в виду возникших между ними денежных недоразумений. Но, слава Богу, между ними, как между братом и сестрой, сохранилась еще любовь. Хотел я разобрать своим судом то, что случилось между ними. Приготовился уже и к разбору дела, но, прежде чем выступить мне в качестве судии, они сами окончили между собой то, что должен был я разобрать. Не то нашел я у них, что бы можно было судить, но то, чему я мог только радоваться. Порешили они, согласно с моим желанием и советом, поровну разделить деньги, которые оставил отец их, и от коих отказалась церковь.
12. После этой речи моей, конечно, разное будут говорить люди, Но что бы они ни говорили, и какой бы ветер ни дул, дойдет кое–что из того и до моего слуха. И если окажется таковым, что опять нужно будет нам оправдываться, я буду отвечать нашим хулителям и недоброжелателям, буду отвечать неверующим, неверящим нам, своим предстоятелям; как могу, отвечу я, что Господь откроет мне. Теперь же нет необходимости для этого, потому что, может быть, ничего особенного не буду говорить, и, кто любит нас, будет радоваться за нас, а, кто не любит, будет, быть может, молчаливо скорбеть лишь. Однако, если захочет кто упражнять язык свой, он услышит, при помощи Божией, ответ мой, но не брань мою. Я не буду называть людей и не скажу: «Вот он сказал, или этот поносил», потому что могут дойти до меня ложные слухи. Но все–таки, что до меня ни донесется, если окажется нужным, я буду говорить по поводу того любви вашей. Перед глазами вашими, желаю я, чтобы была жизнь наша. Знаю, что склонные к дурным поступкам стараются находить для себя примеры худой жизни и многих обезславливают, как бы находя в них, по–видимому, союзников себе. А потому мы сделали все, что зависит от нас, и не знаем, что бы еще следовало сделать. Перед глазами вашими мы. Ничего другого не хотим, как только добрых дел ваших.
13. Сверх того, прошу вас, братия мои, если вы хотите давать что–либо клирикам, знайте, что вы не должны как бы потворствовать им, поступая против моих требований. Всем приносите, что хотите, приносите по желанию вашему. Это будет у нас общим достоянием, и каждому дано будет, сколько нужно. Помните об общей нашей сокровищнице (Gasophylacium attendite). Мне весьма приятно, если будет для нас как бы особое стойло, так чтобы мы были как бы вьючными животными у Бога, а вы — Божьей нивой. Никто пусть не дает мне биргу, или льняную тунику, или что–либо другое, разве только для общего пользования. Из общей кладовой беру я и для самого себя, так как помню, что хочу лишь сообща иметь то, что имею. Не хочу, чтобы святость ваша приносила мне что–либо такое, чем бы я один только преимущественнее пред другими мог пользоваться. Не хочу, чтобы приносил мне кто–либо, например, драгоценную биргу. Может быть, она и прилична епископу, но не прилична Августину, человеку бедному и от бедных рожденному. Тогда скажут люди, что вот я нашел драгоценные одежды, которых не мог иметь ни в дому отца моего, ни в том мирском служении моем. Не прилична она мне. Такую хочу иметь, которую мог бы дать брату моему, если бы нуждался он. Какую может иметь пресвитер, какую может считать приличной для себя диакон и суб–диакон, такую желаю принимать, потому это принимаю для общего пользования. Если кто даст лучшую, я обыкновенно продаю ее, так чтобы, когда самая одежда не может быть общей одеждой, цена ее, по крайней мере, могла быть общей. Продаю я и раздаю нищим. Если же кому желательно, чтобы я носил, пусть дает такую одежду, за которую бы я не стыдился. Потому что, признаюсь вам, стыжусь я драгоценной одежды, так как не прилична она этому служению, этому званию, не прилична этим членам и этим сединам. Скажу еще вам: «Если кто в нашем доме или в нашей общине окажется больным, так что необходимо ему подкрепляться пищей, прежде установленного для обеда срока, я не препятствую благочестивым мужам и женам посылать им, что найдут возможным. Но завтрака или обёда на стороне (extra) никто из них не будет иметь».
14. Вот говорю вам: слышали вы, и они слышат: кто захочет иметь собственность, будет жить своею собственностью и поступать против правил наших, мало сказать, что он не останется со мною, но он не будет и клириком. Я сказал уже и знаю, что сказал, что если кто не захочет жить общей нашей жизнью, я не буду лишать того звания клирика, но пусть особо пребывают такие, пусть особо живут, живут, как могут, для Бога. Вместе с тем пред вами я уже изложил, сколь великое зло — изменять своему обету. Лучше хочу я иметь увечных (claudos), чем скорбеть о мертвых. Потому что кто лицемерит, тот является мертвым. Итак, если кто захочет быть вне нашей общины и жить особо, я не лишу его звания клирика, равно, если кто из тех, кому понравилась, по милости Божией, эта общая жизнь, будет жить лицемерно и окажется имеющим собственность, я не позволю ему сделать завещание на нее и исключу его из списка клириков. Пусть обращается с жалобой на меня к тысяче соборов, пусть отправляется, куда хочет, пусть остается, где может. Бог мне помощник, так что где я епископствую, там он не будет клириком. Вот выслушали вы, выслушали и они. Но я надеюсь на Бога нашего и на Его милосердие и думаю, что, как охотно приняли они это определение мое, так неукоризненно и верно соблюдут его.
15. Сказал я вам, что пресвитеры, мои сожители, ничего своего не имеют; между ними есть и пресвитер Варнава. Но о нем распространились некоторые слухи и, прежде всего, что он купил виллу от возлюбленного и достоуважаемого сына [сыновство здесь следует понимать, конечно, духовное] моего Елевсина. Это неправда. Подарил ее Елевсин монастырю, а не продал. Я — свидетель. Чего еще большего нужно вам, не знаю. Я свидетель: подарил он, а не продал. Но пока не верили, что он мог подарить, думали, что продал. Блажен человек тот, который столь доброе дело сделал, что даже не верят этому. Однако, хоть теперь верьте и перестаньте слушать клеветников. Я уже сказал, что я свидетель. Еще говорят о нем, что во время прежнего служения своего он (Варнава) наделал долгов и вот, чтобы мог он уплатить их, я будто бы дал ему право пользования землею Викторианской. «Чтобы мог я уплатить свои долги, дай мне, — так будто бы сказал он, — на десять лет землю Викторианскую». Но и это ложно. Впрочем, были основания для такого слуха: наделал он, правда, долгов, которые нужно было уплатить. Частию, насколько это было возможно, они уплачены нами. Осталось нечто, что еще не уплачено тому монастырю, который чрез него основал Господь. Так как остались долги, мы стали думать, как бы уплатить их. За аренду же того участка земли (Викторианского) никто не давал более сорока золотых (solidorum). Но мы видели, что участок может дать больше, так что долг мог быть скорее выплачен, и я вверил его ему (Варнаве), чтобы братия искали выгоды не от сдачи участка, а от плодов его, какие даст он, отсчитывали бы, сколько возможно, для уплаты долга. Все у нас зиждется на вере. Готов пресвитер и на то, чтобы я назначил другого, который бы и давал братиям отчет о плодах с участка. Желал бы я поручить это кому–нибудь из вашей среды, из числа тех, которые делают приношения нам. Потому что есть между вами люди благочестивые, которые скорбят о том слухе, ложно пущенном, и однако верят ему. Итак, пусть кто–нибудь из вас самих придет к нам, примет владение, продаст добросовестно плоды по их стоимости, чтобы легче можно было уплатить долг и чтобы сегодня же снята была с пресвитера Варнавы всякая забота о том. Самое же место, где основан монастырь достопамятным и достопочтенным сыном моим Елевсином, пожертвовано пресвитеру Варнаве прежде, чем он сделался пресвитером. На этом месте устроил он монастырь. И так как от его имени дано было место, то он изменил права принадлежности в таком смысле, чтобы оно значилось за монастырем. А об участке Викторианском я молю вас, убеждаю и настаиваю, чтобы, если найдется между вами какой–либо благочестивый человек, он поступал добросовестно (fide agat) и постарался для церкви, в целях скорейшей уплаты долга. Если же никого не найдется из мирян, я изберу другого, а этот (Варнава) не будет иметь отношения к тому делу. Чего нужно вам еще больше? Никто пусть не порочит рабов Божиих, потому что не полезно это для тех, которые порочат. Для рабов Божиих увеличивается награда вследствие ложных поношений, но вместе увеличивается и наказание для поносящих. Не напрасно сказано: Когда будут поносить вас… и всячески неправедно злословить за Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5:11–12). Однако, не хотим мы великой награды с несчастием для вас. Готовы скорее меньше иметь, лишь бы вместе с вами царствовать там.
Беседа 17. Похвала миру (De laude pacis)
Беседа, сказанная в Карфагене, в виду предстоящей беседы с донатистами, в 411 году, около 15 мая.
1. Насколько Бог поможет силам нашим, время, братия, обратиться к любви вашей с увещанием о любви к миру и просить Господа о мире. Итак, пусть мир будет близок и любезен нам. С ним пусть будет чистым ложе нашего сердца. С ним пусть отдых будет спокойным и сотоварищество не тяжким. С ним пусть будет сладким единение и неразрывной дружба. Восхвалять мир труднее, нежели иметь его. Потому что, если мы хотим хвалить мир, ищем себе сил и возбуждающих нас чувств, произносим слова; если же хотим иметь мир, то без всякого труда имеем и владеем. Нужно прославлять тех, которые любят мир. Тех же, которые ненавидят его, лучше умирить научением или молчанием, чем раздражать порицанием. Кто истинно любит мир, любит и врагов его. Подобно тому как, если ты любишь этот свет, ты не сердишься на слепых, но скорбишь о них, потому что знаешь, каким благом владеешь, и потому кажутся они тебе, знающему, какого блага лишаются, достойными сострадания, так что, если бы имел ты средства, искусство или лекарство, скорее стал бы лечить их, а не осуждать, так точно, если ты любишь мир, кто бы ты ни был, сострадай тому, кто не любит, что ты любишь, кто не имеет того, что ты имеешь. Таков именно предмет, который любишь ты, что ты не завидуешь твоему совладельцу. Имеет он мир с тобою и твоего владения не стесняет. Что бы земное ни любил ты, трудно не позавидовать имеющему то. Если бы захотел ты землею, которую имеешь, владеть сообща с другом, стремясь к тому, чтобы восхваляли твою доброту и чтобы любовь прославлялась и в этом случае (ut etiam in istis temporalibus rebus charitas proedicertur), если бы, говорим, захотел ты земным достоянием твоим — поместьем, домом или чем–либо подобным — владеть вместе с другом твоим — то, вот, предположим, владеешь ты с одним, допуская его до соучастия с тобою, и радуясь с ним. Помышляешь, быть может, принять еще третьего соучастника и четвертого. Соображаешь, сколько может принять, сколько может вместить дом ли для жительства в нем, или поле для пастбища, — и говоришь: «Пятого уже нельзя принять, шестой не может жить с нами, а седьмого как можно поместить на столь небольшом участке?» Итак, не ты, а самая теснота исключает прочих. Но люби мир, имей мир, владей миром и принимай к себе, сколько хочешь, во владение. Тем обширнее делается оно, чем больше владельцев. Дом вещественный не может вместить многих сожителей; владычество же мира возрастает с увеличением числа пребывающих в нем.
2. Как хорошо, братия, любить! Потому что это значит и иметь. Кто не хочет, чтобы умножалось то, что он любит? Если хочешь, чтобы немногие были в мире с тобой, мал будет мир у тебя. Если хочешь, чтобы возрастало твое владение, прими и еще владетеля. Ведь как утешительно то, что сказал я, братия, что хорошо любить мир и что любить его значит вместе и иметь? Какой голос может восхвалить и какое сердце может прочувствовать это, т. е. что любить значит и иметь? Подумай только о другом, к чему люди пылают своей страстью. Смотри, иной любит земли, серебро, золото, хочет иметь много детей, дорогие и красивые дома, живописные и дорогие усадьбы. Любит он это? Любит. Но разве уже и имеет, если любит? Может случиться, что он так и останется пустым любителем всего этого. Когда не имеет он, то любит, горит страстью, чтобы иметь. Когда будет иметь, мучится страхом, как бы не потерять то. Любит человек почет, любит власть. Но сколь многие люди вздыхают наедине о получении власти? И большею частью так и застает их последний день (день смерти), прежде нежели достигнут они того, чего желают. Как же много, следовательно, значит это: любить и вместе иметь? Не за деньги в этом случае покупаешь ты то, что любишь. Не идешь к какому–либо покровителю, чтобы получить то. Вот на этом месте, где стоишь ты, люби мир, и у тебя есть уже то, что ты любишь. Это есть достояние сердца. Не так ты владеешь миром с друзьями, как, например, хлебом. Когда хочешь поделиться хлебом с другими, чем больше тех, кому дается, тем меньше становится то, что дается. Мир же подобен тому хлебу, который умножался в руках учеников Господних при преломлении и раздаянии.
3. Имейте же мир, братия. Если желаете других привлечь к нему, имейте сначала сами, сами прежде владейте им. Пусть пламенеет в вас то, что имеете, чтобы и других могло воспламенить оно. Ненавидит мир еретик, как и страдающий глазами ненавидит свет. Но неужели плох оттого свет, что страждущий глазами не может выносить его? Хотя и не выносит больной глазами света, однако же глаз создан для света. Те, которые любят мир и хотят владеть им вместе с другими, естественно, стараются, чтобы с увеличением числа владельцев возрастало и самое владение. Пусть же стараются они, чтобы исцелились глаза страждущих, каких бы это ни стоило средств и усилий. Против воли врачуется больной, не хочет, пока врачуется, но как только увидит свет, радуется. Но не забывай, что он сердится. Не льсти себя большими надеждами. Ты, любитель мира, сам сначала проникайся миром, услаждайся красотою того, что полюбил, и затем возбуждайся уже к тому, чтобы увлечь другого. Пусть видит он то, что ты видишь; пусть любит, что ты любишь, владеет тем, чем и ты. Вот обращается к тебе возлюбленная твоя, которую любишь ты, и говорит: «Люби меня и тотчас будешь иметь меня. Приводи с собой, кого можешь, к любви моей. Я буду чистой и останусь неврежденной. Приводи, сколько можешь; пусть приходят, владеют и наслаждаются мной. Если свету этому не вредят многие смотрящие, мне ли повредят многие любящие меня?» Но не хотят они приходить, потому что не знают, как увидеть меня. Не хотят придти, потому что блеск мира смывает нагноение вражды. Обрати внимание на несчастный крик страждущих слепотой. Вот возвещается им: необходимо, чтобы христиане имели мир. Услышав эти слова, они говорят между собою: «Горе нам». Почему? Наступает единение. Так что же? И что это значит: «Горе нам, наступает единение»? Не лучше было бы говорить «горе», когда наступает разделение? Но пусть не будет этого, пусть не будет разделения. Это — мрак для видящих. Наступает единение, и нужно радоваться тому, братия. Чего испугался ты? Сказано, что наступает единение. Разве сказано, что приближается зверь или огонь? Единение приходит, свет приходит. Если бы он захотел быть правдивым, то сказал бы вам: «Не того я испугался, что зверь приближается; я не труслив. Но оттого я испугался, что свет приходит, так как глаза у меня больные (lippus enim sum)». Итак, пусть приложено будет старание к исцелению их. При помощи Божией, насколько хватает сил у нас, нужно постараться, чтобы вместе владеть с ними тем, что вследствие совместного владения не делается меньшим.
4. Поэтому, возлюбленные, увещеваю любовь вашу оказывать по отношению к ним, т. е. к заблуждающимся, истинную христианскую кротость. Теперь нужна настойчивость для извлечения их (nunc curandis instatur), Воспалены глаза болящих. Нужно лечить их осторожно и обходиться нежно. Никто пусть не затевает тяжбы с кем–либо из них, никто пусть не стремится защищать даже веры своей посредством спора, чтобы из спора не зарождалась искра вражды и чтобы ищущим повода к этому не представлялся повод. Вообще, если слышишь брань, терпи, не показывай вида, иди мимо. Помни, что нужно лечить. Знаете, как ласковы врачи бывают с теми, кого серьезно (mordaciter) лечат. Выслушивают они брань, но дают лекарство и не отвечают на брань бранью. Следует помнить, что один лечит, а другой должен быть излечен, и не должно препираться. Терпите, братия мои, умоляю вас. «Но я не выношу, — скажет кто–либо, — когда он злословит церковь». Но о том и просит тебя церковь, чтобы ты переносил, когда поносится она. «Поносит он, — скажешь, — епископа моего. На епископа моего возводит обвинение, и стану ли молчать я?» Пусть говорит обвинение, но ты молчи, не вследствие согласия с ним в том, а из–за терпения. Этим окажешь услугу и епископу, если до времени не будешь заступаться за него. Соображай время, имей рассуждение. Ведь, и Бога твоего как злословят иногда? Неужели ты слышишь, а Он не слышит? Неужели ты знаешь, а Он не знает? И, однако, Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5:45). Показывает Он терпение и отлагает могущество. Так и ты знай время и не приводи воспаленные глаза в большее раздражение. Любишь ты мир? Будь блажен с ним в сердце своем. «Но что же мне делать?» — спросишь. Есть что делать. Забудь о распрях и обратись к молитвам. Не отвечай бранью бранящему тебя, но молись за него. Хочешь ты обратиться к нему против него — но обращайся за него к Богу. Не говорю тебе, чтобы безмолвствовал ты, но предпочитай более обращаться к Тому, с Кем беседуешь, молча, когда уста закрыты и раздается лишь голос сердца. И тогда, когда не видит тебя хулитель тот, будь добр к нему. Ему, не любящему мира и желающему препираться с тобой, отвечай миролюбиво: «Что хочешь говори, сколько угодно ненавидь, и как угодно презирай, но ты брат мой». Зачем так поступаешь, что становишься как бы не братом мне? Хороший ли ты или дурной, добрый или недобрый, но ты брат мой. Пусть он говорит, что не брат тебе, а недруг, враг. «Хотя говоришь ты так, — отвечай ему, — однако, ты брат мой». Кажется удивительным: вот он ненавидит, хулит и все–таки брат твой?! Но неужели мне верить ему, не знающему, что говорит? Я желаю ему здравия, чтобы он видел и признал своего брата. Итак, нужно ли, чтобы я верил ему, что я не брат ему, потому что он поносит, потому что ненавидит, ему верил, а не Самому Свету? Послушаем, что говорит этот Свет. Читай у пророка: Услышите глагол Господень, трепещущие словесе Его. Это Дух Святый говорит чрез Исаию пророка: Выслушайте слово пророка, боящиеся слова Его: рцыте, братия, ненавидящим вас и гнушающимся. Что же? Вот засиял свет, показал братство, а слепец говорит еще: «Закрой окно». Обрати же к свету глаза твои, познай брата, стоящего вне, ты, пребывающий во мраке, и скажи спокойно, — Божии это слова, не мои слова: Рцыте, братия, — говорит Господь, — ненавидящим вас… Кому братия вы? Тем, кто ненавидит вас. Нет ничего удивительного сказать «братья» тем, которые любят вас, — но тем, которые вас ненавидят и гонят. Почему это? Слушай и узнай причину. Спроси как бы Самого Господа Бога Твоего и скажи: «Господи! Как могу назвать братом моим того, кто ненавидит, кто безчестит меня? Скажи, почему?» Да имя Господне прославится и явится в веселье их, и они посрамятся (Ис. 66:5). Вот почему умоляю я о терпении, о такой кротости. Братья они ваши. — Почему? Чтобы прославлялось имя Господа. Почему же не признаёт он тебя братом? Потому что имя людей прославляет их [мысль та, что, называя другого своим братом, еретик (в данном случае — донатист), тем самым, по своему мнению, как бы прославляет его]. Итак, скажи ему: хотя ты ненавидишь меня, хотя поносишь, однако, ты брат мой. Познай в себе образ отца моего. Дурной ли ты или хороший, ты брат мне. Ведь и ты, как и я, говоришь: Отче наш, сущий на небесах! (Мф. 6:9). Одно говорим мы, почему же не соединиться нам? Прошу тебя брат, вникни в то, что говоришь со мною, и осуди то, что делаешь против меня. Обрати внимание на слова, выходящие из уст твоих. Слушай не меня, а себя. Помни, пред Кем говорим: Отче наш, сущий на небесах! Не друг и не сосед твой, но Сам Бог, к Кому обращаемся мы с этими словами, повелевает нам быть в согласии. Вместе говорим мы пред Отцом одним голосом. Почему же не имеем мы вместе и одного мира?
5. Говорите это пламенно, говорите кротко. Говорите, горя огнем любви, а не негодованием раздора и просите с нами Господа, соединяя это с обычным воздержанием. Что ни воздаем мы Господу, будем воздавать, имея в виду и это обстоятельство. Вот, после Пятидесятницы мы, обыкновенно, постимся. Впрочем, мы постились бы, конечно, хотя бы и не было этого повода. Итак, что же мы обязаны делать для братьев наших, коих в имени Господа нашего, Врача нашего, хотим принять на излечение и исправление, когда Ему предоставляем излечение их, а не себе присваиваем искусство врача? Но что делать нам? Будем просить Самого Врача, постясь со смирением сердца нашего, с благочестием во взаимной братской почтительности. Явим пред Богом благочестие, а братьям — любовь. Пусть умножаются благотворения наши, коими споспешествуются наши молитвы. Будьте странноприимны. Теперь время для этого, так как собираются отовсюду рабы Божии. Время теперь для этого и повод есть, зачем пропадать ему? Наблюдай, что есть у тебя дома, в столовой. Не забывай откладывать нечто для себя и в ту небесную сокровищницу, где ты только и можешь найти спокойствие себе. Откладывай туда, вверяй не рабу твоему, а Господу. Неужели боишься, что и там вор подкрадется, и там найдет грабитель, и там похитит жестокий враг? Старайся же делать так, чтобы было потом за что воздавать тебе. Гораздо более получишь ты по сравнении с тем, что положишь. Кредитором хочет иметь тебя Бог, но Своим, а не кредитором твоего ближнего.
Беседа 18. О мире и любви
1. Попечению нашему о вас, о врагах наших и ваших, о спасении всех, о тишине, об общем мире, о единении, которое заповедал Господь и которое любит Господь, пусть вспомоществует молитвы святости вашей, чтобы чаще об этом могли мы говорить вам и радоваться вместе с вами. Потому что о мире и любви всегда должны мы говорить, если всегда любим. И особенно в такое время, когда мира так ищут и на пороге обладания им стоят те, которым мы не воздаем за зло злом, и с которыми, как говорится в Писании, мы мирны, когда они ненавидят нас, которые хотят быть в войне с нами, когда мы говорим им о мире (Пс. 119:7). Они стоят на распутье между любовью к миру и чувством стыда. Не желая быть побежденными, они вовсе однако не избегают поражения. Не желая быть побежденными истиной, они побеждаются заблуждением. О, если бы взяла верх над ними любовь, а не гордость! Тогда сделались бы они победителями, когда были бы побеждены. Мы же любим, признаем и защищаем Церковь кафолическую, к согласию и единению с которой призываем врагов ее, в силу Божественных повелений. Но что делать с тем, который защищает часть и идет против целого? И разве не добро — быть побежденным тому, который, если будет побежден, владеть будет всем, а если победит, или точнее, если подумает, что победит, должен довольствоваться только частью? Ведь ничто не побеждает, кроме истины. Сила же (victoria) истины в любви.
2. Но зачем, братия, говорить мне много от себя самого о Церкви кафолической, плодоносящей и возрастающей по всему кругу земли? Имеем мы в защиту ее слова Самого Господа. Господь, — говорится в псалме, — сказал Мне: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс. 2:7–8). Зачем же, братия, спорить нам о владении и не лучше ли читать эти священные страницы? Представим, что мы пришли к судье. Спор у нас о владении землей и спор мирный. Один тяжущийся ратует за то, чтобы удалить соперника своего, мы же за то, чтобы принять его. Первый, когда услышит слова противника: «Хочу владеть», отвечает: «Не принимаю». А я говорю брату: «Хочу, чтобы и ты владел со мною»; тот же, возражая, отвечает: «Не хочу». Не боюсь я, что Господь упрекнет меня и устыдит, как тех братьев или того брата, который из народа взывал к Нему и говорил: Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство (Лк. 12:13). Господь тотчас высказал упрек ему, потому что ненавидел разделение. Кто, — сказал Он, — поставил Меня судить или делить вас?… Смотрите, берегитесь любостяжания (Лк. 12:14–15). Такого упрека я не боюсь. Взываю я к Господу моему, признаюсь, взываю. Однако, не говорю: «Господи! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство», но говорю: «Господи! Скажи брату моему, чтобы был он в единении со мною». Вот я читаю свидетельство об этом спорном владении, но не для того, чтобы одному владеть мне, а чтобы обличить брата моего, который не хочет владеть вместе со мною. Вот это свидетельство: Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Христу это сказано, а, следовательно, и нам, потому что мы члены Христовы. Итак, зачем еще остаешься и пребываешь в разделении, в части? Принимай все, о чем говорится здесь. Ищешь ты, где владение твое, как землевладельцы особым способом отмечают обыкновенно пределы своих владений. Но Давший тебе все концы не обозначил никаких пределов (Qui tibi dedit omnes fines, nullos dimisit affines).
3. Выслушай далее и другое свидетельство от священных страниц. О Господе, о Христе говорится тут под образом Соломона: Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли; падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов принесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему (Пс. 71:8–11). Вот в то время, когда сказаны были эти слова, этому верили, а когда исполняются они, отвергают. Итак, владей со мной достоянием от моря до моря и от реки, разумеется, Иордана, где началось служение Христа, до концов земли. Почему не хочешь? Зачем являешься врагом этому обетованию, этому богатству твоему? Из–за чего не хочешь? Из–за Доната?! Из–за Цецилиана?! Но кто был Донат? Кто был Цецилиан? Во всяком случае, они были люди; если добрые, для себя самих добрые, не для меня; если злые, также для себя самих злые. Ты же внимай Христу и ревнующему о Христе апостолу Его. Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Смотри, что заставило его сказать это. У вас, — пишет он к Коринфянам, — говорят: я Павлов; я Аполлосов; я Кифин; а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? (1 Кор. 1:12–13). Если не во имя Павла, то тем менее во имя Цецилиана, или во имя Доната. И, однако, после этих слов апостольских, после признания и распространения Церкви во всем мире, еще говорят мне: не хочу оставить Доната, или какого–то Гаия, Люция, Пармениана. Тысяча имен, тысяча толков, и неужели ты станешь лишать себя, следуя за тем или другим человеком, того наследства, о котором только что слышал, что оно от моря до моря и от реки до концов земли? Почему нет его у тебя? Потому что преклоняешься пред человеком. Но что такое человек, если не разумное животное, созданное из земли? Итак, потому ты враг себе, что чтишь землю; оставь это лучше. Не чти землю, а возлагай надежду на Того, Кто создал небо и землю. Там надежда наша. Вот и свидетельство о том: Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада (Пс. 49:1). Не желай оставаться на земле, но туда стремись, куда призвана земля.
4. И кто может вычитать здесь все свидетельства об этом владычестве Церкви, содержащиеся на священных страницах? Но почему же не обращаются они к Церкви, если не потому, на что указывает сама Церковь, когда говорит: Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои (Пс. 118:79)? Теперь это именно и видит Церковь, о чем говорится в только что приведенных словах из псалма. Свежи слова эти в умах и сердцах ваших. Я видел, — говорится там, — предел всякого совершенства. Что значит это: Видел предел всякого совершенства? Какой это предел? Широка заповедь Твоя зело (Пс. 118:96). Конец [28] же завещания, — повторяйте за мной (слушатели повторяют — a populo acclamatum est) — есть любовь от чистого сердца (1 Тим. 1:5). Все вы сказали это. Не напрасно, следовательно, слушаете: Конец же завещания есть любы от чиста сердца. Конец в смысле совершенствования, а не в смысле уничтожения. Конец этот широк, потому что это есть именно заповедь Божия, о которой сказано: Широка заповедь Твоя зело. Замечай широту этой заповеди. Как широка? Ужели телесно? Широка она в сердце. Если бы и телесно широка была, слушатели благочестивые, вы не потерпели бы стеснения. Но широка она в сердце. Замечай, где широка, если можешь замечать, и выслушай затем от апостола о том, как широка заповедь любви. Любовь Божия излилась в сердца наши (Рим. 5:5). Не сказал: заключена, но излилась (non dixit: inclusa, sed diffusa). Слово заключена указывает как бы на тесноту. А слово излилась — как бы на простор. Итак, широка заповедь Твоя зело. Именем Господа и Бога нашего свидетельствуем, что ради самой этой широты и приглашаем братьев наших во владычество мира. Хотите быть епископами, будьте с нами. Не хочет народ двух епископов, будьте братиями в наследии нашем. Не будем из–за почестей наших препятствовать миру Христову. Какую честь получим мы в том небесном мире, если теперь в земных распрях будем защищать только честь нашу? Пусть уничтожится преграда заблуждения, и мы будем вместе. Признай меня братом; я признаю тебя братом, но с уничтожением разделения, с устранением заблуждения и распрей. Пусть все это будет исправлено, и ты мой. Или не хочешь быть моим? Но я, если ты исправишься, хочу быть твоим. Итак, с устранением заблуждения, как бы некоторой стены, преграждающей и разделяющей, будь моим братом, и я буду твоим, чтобы вместе обоим принадлежать нам Тому, Кто есть и твой и мой Господь.
5. Говорим мы это с любовью к миру, с убеждением в истине. Мы уже писали, и вы читали об этом намерении нашем [29], что мы совсем не уклоняемся от внесения дела на общее обсуждение, а, напротив, настаиваем на том, чтобы, как только докажу я права владения, тотчас же вместе с противником вступить нам и в наследие. Пусть выступает собеседник безтрепетно, спокойно, пусть выступает искусный (doctus). Не хочу я наперед действовать авторитетом (nolo auctoritate praejudicare). Обратим взор свой к Тому, Кто не может ошибиться. Он пусть укажет нам, что есть Церковь. Слышали вы свидетельства Его. Не оскверняет людское нечестие той, которой не делает чистой и людская праведность. Однако, мы не опасаемся и за дела людей, коих обвинили донатисты и не могли уличить. Мы знаем, что они чисты. Из дела видим, что чисты. Если бы они не были чисты, я не старался бы обратить этих дел в пользу Церкви — (non in causa eorum Ecclesiam constituerem), не строил бы на песке, отделил бы их от камня. На сем камне, — сказал Господь, — Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Камень этот — Христос. Разве Павел распялся за вас? — вот эти слова помните, это держите, это братски и любовно говорите.
6. В место же, где будет происходить собеседование, пусть никто насильно не вторгается из вас, братия мои. Вообще, если можно, избегайте даже и проходить около того места, чтобы не дать какого–либо толчка к спору или распре, чтобы не представился для того какой–нибудь предлог, и чтобы не нашли здесь повода к распре те, которые ищут повода. А кто не боится Бога или не обращает внимания на наши просьбы, пусть убоится, по крайней мере, угроз со стороны гражданской власти. Читали вы публично выставленное распоряжение сановного мужа [Марцеллина, представителя на соборе императора Гонория]. Издано оно не для вас, разумеется, боящихся Бога и не пренебрегающих наставлениями епископов ваших, но для того, чтобы кто–нибудь не забылся и не пренебрег этим. Пусть же каждый наблюдает за собой, чтобы не случилось с ним того, что говорит апостол: Противящийся власти, противится Божию установлению… Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых (Рим. 13:2–3). Будем избегать раздоров и всяких поводов к раздору. Но, может быть, вы скажете: мы постараемся быть внимательны к себе и чем помешаем вам? Но партия православных, к счастию, достаточно сильная (partes forte uberes pietalis). Мы будем разсуждать за вас, а вы молитесь за нас, при этом поддерживайте свои молитвы, как мы и раньше увещевали вас о том, постом и милостыней. Прибавьте к ним (молитвам) крылья, коими поднимаются они к Богу. Так поступая, будете, быть может, вы даже более полезны нам, чем мы вам. Ведь никто из нас в этом предстоящем собеседовании [т. е. в собеседовании с донатистами] не надеется на свои силы. На Бога вся надежда наша. Не лучше же мы апостола, который просит молиться за него. Молитесь, — говорит он, — о мне… дабы мне дано было слово (Еф. 6:18–19). Итак, просите за нас Того, в Ком мы полагаем надежду нашу, чтобы и вам порадоваться о беседе нашей. Помните это, братия, умоляем вас. Именем Самого Господа, Виновника, Насадителя и Покровителя мира, просим, чтобы вы молились Ему в мире, мирно просили Его. Помните, что вы — дети Того, Кто сказал: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5:9).
Беседа 19. О единении между братиями и любви между ближними (Сир. 25:2)
О вражде и мире с донатистами — (De lite et concordia cum donatistis)
1. Первое чтение Божественных слов из книги, которая называется «Проповедник» (Ecclesiasticus) [30]), указывает три некоторые достойные внимания превосходства: любовь между братьями, любовь между ближними и мужа и жену, в согласии живущих. Блага эти, конечно, приятны и похвальны и в человеческих делах, но гораздо более похвальны они в делах Божественных. Потому что кто не радуется согласию между братиями? Но о том нужно скорбеть, что это столь великое качество редко наблюдается у людей. Все его хвалят, но весьма немногие обладают им. Счастливы, которые в себе самих имеют то, что вынуждаются хвалить даже в других. Все хвалят в согласии живущих братьев. Да и почему трудно жить братиям в согласии? Потому что препираются о земле и хотят быть землею. Еще от начала сказано было человеку — грешнику: Прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3:19). Отсюда же мы можем заключить и о словах, которые должен услышать праведник. Если справедливо грешнику сказано: Прах ты и в прах возвратишься, — то справедливо и праведнику говорится: «Небо ты и на небо возвратишься». И разве праведники не суть небеса, когда об апостолах весьма ясно сказано: Небеса проповедуют славу Божию? А что именно о них сказано здесь, в этом убеждают достаточно нас последующие слова: И о делах рук Его вещает твердь. Кого назвал псалмопевец небесами, тех назвал и твердью. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. Чей голос? Конечно, голос небес. Следовательно, это сказано об апостолах, сказано о провозвестниках истины. Отсюда понятно и дальнейшее: По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их (Пс. 18:2–5). Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их (Пс. 18:4). Когда сошел на апостолов Дух Святый, а Бог стал обитать в небе, которое создал из земли, они, по действию Духа Святого, стали говорить языками всех народов. Поэтому сказано: Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. И так как после того они посланы были для проповеди Евангелия ко всем народам, то по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Чьи слова? Слова небес, о коих справедливо можно сказать: «Небеса вы и на небеса возвратитесь», — как справедливо говорится и грешнику: Прах ты и в прах возвратишься.
2. Итак, если братия желают быть в согласии между собой, пусть не привязываются к земле. И если не хотят привязываться к земле, пусть не уподобляются ей. Пусть ищут владения, которого нельзя разделить, и тогда будут в согласии между собой. Откуда между братьями раздоры? Откуда ослабление благочестия? Откуда одно чрево, а не один дух, если не от того, что в то время как душа их портится, всякий заботится о своей части, старается об увеличении и умножении своей доли и хочет один имуществом владеть, если у кого начинается разделение с братом? Чье это столь хорошее владение? — спрашивают иногда. — Наше, — отвечают другие. — Какое прекрасное владение! Но все ли оно твое, брат? — Нет, есть у меня товарищ; быть может, Бог даст, он продаст мне часть свою. — Дай, Бог! — отвечает на это льстец. Но чего дай, Бог? Чтобы один человек оказался в стесненном положении и продал свою часть другому. Но пусть сделает это Бог, пусть сделает для тебя. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя (Пс. 9:24). Однако, что может быть хуже того, когда один обогащается на счет бедности другого? И все–таки часто встречается это. Спокойным чувствует себя корыстолюбец. Может быть, он употребил насилие; может быть, стеснил другого и вынудил у него; может быть, мучил и вымучил и не у кого–нибудь, а у своего брата. Лучше, говоришь ты, все же мне купить, чем стороннему. — Но подвергшийся стеснению, если он благочестив, имеет утешение. Пусть утешается словами Писания, которые только что слышали вы. Пусть он терпит нужду, а брат его имеет обилие во всем. Но последний изобилует прахом, будучи чужд праведности. Помни же то, что говорится бедному: Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается: ибо умирая не возьмет ничего (Пс. 48:17–18). Старайся, бедняк, приобретать то, что не теряешь, умирая, и что обретешь, живя в вечности. Старайся иметь праведность и не раскаешься. О том ли печалишься ты, что остаешься бедным здесь, на земле? Но бедным был здесь и Тот, Кто создал землю. Утешает тебя Господь Бог твой, утешает Творец твой, утешает твой Искупитель. Доставляет тебе утешение не алчущий брат твой, потому что Господь благоволил быть братом нашим. Один Он только и есть самый надежный Брат наш, с Коим следует быть нам в согласии. Назвал я Его неалчущим. Но, может быть, и Его найду алчущим. Алкает Он, правда, но нас хочет иметь, нас хочет обрести. За нас уплатил Он великую цену — Себя Самого. К этой цене нельзя прибавить ничего. Отдал Он Себя Самого и сделался Искупителем нашим. И не так отдал Себя ценою за нас, чтобы враг, освободив нас, владел вместо этого Им Самим. Отдал Он Себя смерти, убивая смерть. Смертию Своею именно Он убил смерть. Сам не будучи уничтожен ею, и, уничтожив смерть, избавил нас от смерти. Живет смерть, когда мы умираем; умрет она, когда мы оживем, когда ей будет сказано: Смерть! Где твое жало? (1 Кор. 15:55).
3. И вот к этому–то Брату нашему обратился некто против брата своего, с коим не было у него согласия, и сказал: Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство (Лк. 12:13). — Все отнял он, не хочет уступить мне даже и части, не слушает меня, пусть послушает Тебя. — Но что до этого Господу? Что говорим обыкновенно мы, находясь в этой жизни, будучи сами земными, по земле пресмыкающимися, помышляя о земном, не желая кого–либо опечалить, — говорим мы, причиняя тем по большей части еще большую печаль? — Пойди, брат, и отдай брату своему часть его. — Но не это сказал Господь. А что правдивее Его? Кто найдет такого судью, к которому бы можно было обратиться против алчности брата своего? И разве не радовался человек тот, что нашел великое утешение? Великой помощи, без сомнения, ждал он, взывая к столь великому Судии: Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Что же Он ответил ему? Кто поставил Меня судить или делить вас? (Лк. 12:13–14). Отклонил Господь просьбу, не исполнил того, чего просили у Него, не оказал желательной для того помощи. Что было особенного там? Что терял Он (Господь) от того? И каким трудом было бы для Него оказать это благодеяние? Однако же, Господь не оказал его. Где же то, о чем Сам Он говорит: Всякому просящему у тебя давай (Лк. 6:30). Не сделал этого однако же Сам Тот, Кто дал нам пример жизни. Как же мы будем делать то? Или как будем давать, когда несем некоторый расход, если не оказываем благодеяния там, где нет никакого расхода, где ничего мы не платим, ничего не теряем? Не исполнил Господь той просьбы и, однако, Он не ничего не сделал. В меньшем отказал Он и большее дал. Сказал Он ясно: Всякому просящему у тебя давай. Что же, если кто–нибудь станет просить у тебя, не говорю того, что не полезно давать, но что преступно давать? Что, если какой–либо мужчина станет искать того, чего искали лжесвидетели от Сусанны? Что, если какая–либо женщина станет просить, чего женщина просила у Иосифа? Нужно ли следовать и здесь этому повелению, как руководственному: Всякому просящему у тебя давай? Да не будет этого. Станешь ли ты поступать в этом случае вопреки заповеди Божией? Скорее будем исполнять мы заповедь Господа в том, случае когда просящему злого не будем давать; при этом, мы не нарушаем и повеления того, потому что сказано: Всякому просящему у тебя давай. Не сказано: Все просящему у тебя, давай, но: Всякому, просящему у тебя давай, давай вообще; давай, хотя бы и не то, что просит он. Просит дурного, ты давай доброе. Так поступил Иосиф. Не дал он того, чего просила безстыдная жена, и дал то, что она должна была выслушать, чтобы не быть безстыдной. Не пал он в яму похоти и другому человеку дал совет целомудрия. Да не будет, — отвечал он, — чтобы я сделал это для господина моего, и чтобы осквернил ложе того, кто все вверил мне в доме своем (Быт. 39). Если раб, за деньги купленный, оказал такую верность господину своему, то какую же верность должна оказывать жена в отношении к мужу? В этом именно и состояло наставление Иосифа: я, как бы говорит он, раб, не сделаю этого господину моему, а ты ли, жена, сделаешь это пред мужем своим?! Дала и Сусанна просящим, и она не оставила без наставления лжесвидетелей, если бы они пожелали только принять данный им совет целомудрия. Не только не согласилась она, но и не умолчала о том, почему не согласилась. Если соглашусь с вами, рассуждала она, то согрешу пред Богом. Если не соглашусь, не избегну рук ваших. Но лучше впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Богом (Дан. 13). Что же — лучше ли впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Богом? Грешите пред Богом и вы (Deo peristis), желая совершить насилие надо мной. — Вот это правило имейте, братия, всегда перед собой. Давайте, когда просят у вас, хотя бы и не то, что просят. Так поступил Господь. Просил человек тот о чем? О разделении наследства. Дал Господь, но что дал? Осуждение страсти. О чем просил и что получил? Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Господь же сказал: Кто поставил Меня судить или делить вас?… Смотрите, берегитесь любостяжания. И скажу, почему так. Быть может, просишь ты половину наследства для того, чтобы быть богатым. У одного богатого человека был хороший урожай… Великий успех ожидался. Много хлеба было на поле. И он разсуждал сам с собою: Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И тщательно обдумав, сказал: Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой. Большие сделаю житницы, чем старые были. И скажу душе моей: «Душа! Много добра у тебя… Ешь… Веселись». И говорит ему Бог: Безумный ты, который кажешься себе столь благоразумным! Знаешь ты, как сломать старые житницы и построить новые, а сам остаешься развалиной, ты, коему следовало уничтожить ветхое в себе самом и уже не мыслить о земном. Безумный! Что сказал ты и кому сказал? Душе своей сказал: веселись, много добра у тебя. Но в эту же ночь возьмут у тебя душу твою, коей ты обещал все это. Кому же достанется то, что ты заготовил? (Лк. 12:13–20). Итак, не бойся, когда богатеет человек… ибо, умирая, не возьмет ничего (Пс. 48:17–18).
4. Вот какое наставление преподал Господь несогласным братьям, чтобы вследствие этого были они в согласии между собой, чтобы старались освободиться от любостяжания и исполнялись истиной. Будем же заботиться о таком наследии. Но сколь долго еще говорить нам об этом согласии между земными братьями, которое бывает так редко, так непрочно, так трудно достижимо? Скажем о том согласии, которое только должно быть и может быть истинным согласием. Братиями нам пусть будут все христиане, все верующие, рожденные от Бога и из чрева Матери–Церкви через Духа Святого; пусть они будут братьями, пусть владеют наследством, раздаваемым и не разделяемым. Наследство это есть Сам Бог, Коего наследием сами они являются, и Он взаимно является их наследием. Каким образом они являются Его наследием? Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе (Пс. 2:8), и еще: Господь есть часть наследия моего и чаши моей (Пс. 15:5). В этом наследии соблюдается согласие, о нем не препираются. Иное наследство приобретается тяжбою; это наследство вследствие тяжбы теряется. Поэтому и люди, не желающие лишиться его, стараются избегать распри. И когда кажется, быть может, что они во вражде, однако же, не враждуют. Но, может быть, кажется иногда, что они враждуют или думают о них, что враждуют, когда хотят выразить попечение о братиях. Видите, как участлива тяжба их, как мирна, как доброжелательна, как справедлива, как достойна уважения. Вот и мы, кажется, что препираемся с донатистами, но не враждуем. Тот враждует, кто зла желает противнику своему. Тот ссорится, кто хочет, чтобы противник его потерпел какой–либо вред, а себе ищет выгоды, старается у того отнять, а себе взять. Не так поступаем мы. Это известно вам, известно вам, препирающимся, известно и вам, оставившим разделение. Знаете вы, что эта тяжба не есть тяжба зложелательная, что она не направляется ко вреду противника, а скорее — к его выгоде. Хотели мы лишь тех, с кем казались тяжущимися или теперь еще кажемся, привлечь к общению с нами, а не заставлять их искать нас самих. И слова у нас другие, а не те, которые слышались из уст человека, обращавшегося ко Христу, когда Он был на земле, с просьбой о разделении имущества с братом. Мы также обращаемся с просьбой к Нему, пребывающему на небе, но не говорим: «Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство», а наоборот: «Скажи брату моему, чтобы он владел со мною наследством».
5. Что мы хотим этого, о том говорят и открытые дела наши. Что этого хотели мы, возвещают о том не только наши слова, но и наши, предназначенные для них (донатистов) сочинения (litterae). Нравится вам епископствование? Владейте им с нами. Ничего мы в вас не ненавидим, ничего не безчестим, ничего не оскверняем, ничего не анафематствуем, кроме заблуждения человеческого. Отвергаем заблуждение людское, не божественную истину Что имеете вы от Бога, это мы признаём, а что своего имеете непохвального, это мы исправляем. Знак Господа моего, печать моего Повелителя, черты Царя моего узнаю я и в том, кто покидает меня. Ищу, нахожу, стараюсь приблизить, подхожу, беру, веду, исправляю беглеца, но не искажаю его образа. Если кто думает усмотреть и найти такого, это не значит враждовать, а — любить. Мы уже говорили, что можно в одной церкви ради мира сохранить согласие между братиями. Великое это дело — согласие между братиями. Пусть не может быть двух епископов. Но мы сказали уже, чтобы вместе возседали они в базилике: один на кафедре, другой, как пришлец. Тот на кафедре христианской, этот — на другой (haeretica), но чтобы сидел возле, как товарищ его. Так же точно тот пусть председательствует в своем собрании, а этот — в своем. Мы говорим далее, что покаяние во отпущение грехов проповедано апостолами всем народам, начиная от Иерусалима. Что же ответите вы той церкви, которая основана апостолами среди всех народов, начиная от Иерусалима? Мы говорили далее: предположим, что Цецилиан совершил дурное дело. Но неужели один человек, поступающий дурно, или два, или пять, или десять могут чернить столько тысяч верующих, в несметном количестве живущих по всему лицу земли? Говорили мы также: поверил Авраам, и обещаны были ему все племена. Согрешил Цецилиан, и неужели погибли все народы, так что, следовательно, сделанное нечестием оказалось большим в сравнении с тем, что обещано истиною? Сказано было это и читано (leguntur). Против таких заимствованных из божественных книг примеров и свидетельств, указывающих на церковь, распространенную по всему кругу земли, единство каковой церкви именем Господа содержим мы, они (донатисты) решительно ничего не могли ответить.
6. Итак, дело Церкви признано правым, утвержденным, упроченным и укрепленным как бы на каменном фундаменте, коего и врата ада не могут одолеть. Далее, мы перешли к делу Цецилиана, уже спокойные за него, что бы он ни сделал. Потому что возможно ли, чтобы, пусть он даже, как человек, окажется виновным в чем–нибудь, из–за вины одного человека мы подверглись осуждению или были перекрещены? И мы сказали: дело Церкви правое, и грех Цецилиана нисколько не вредит ей. Ни праведность Цецилиана не делает Церковь более славной, ни преступление его не делает ее достойной порицания. Но посмотрим, каково и самое дело его. Мы захотели изследовать безпристрастно, как дело брата, а не как дело отца или матери. Отец наш — Бог; мать наша — Церковь. Цецилиан же был и есть брат наш. Если добрый, то добрый брат; если дурной брат, но все–таки брат. Если найдем мы его невинным, то где будете вы, явившиеся безсильными и в самой клевете человеческой? Если же окажется виновным, подлежащим суду, то и в этом случае мы не так уж много теряем, потому что сохраняем единство Церкви, которая непобедима. Пусть окажется вовсе виновным, человека я буду анафемстствовать, а Церкви Христовой не покину. Так и поступим мы. Кроме того, мы не будем считать его принадлежащим к клиру, среди епископов, которых считаем верными и невинными. Так мы и сделаем. Неужели же из–за Цецилиана вы всех будете перекрещивать? Когда все это было высказано и признано, начало выясняться и дело Цецилиана. Он оказался невинным, оказался оклеветанным. Один раз осужден он заочно и трижды оправдан. Осужден партией, оправдан со стороны церковной истины. Прочитано все это было и одобрено. Затем спрашивали, не имеет ли кто возразить против того. После этого исчерпаны были всякие средства клеветы и, когда уже ничего не могли представить они против очевидных доказательств и против невинности Цецилиана, произнесен был суд над ними. И все–таки говорят они: мы победили. Пусть побеждают, но себя, так, чтобы быть во владении Христовом. Пусть побеждает их Тот, Кто искупил их.
7. И все–таки мы за многих радуемся. Многие из них спасительно признали себя побежденными, потому что не были побеждены. Побеждено заблуждение человеческое, человек же остался целым. Ведь врач не спорит с больным. И если больной имеет дело с врачом, болезнь побеждается, и больной выздоравливает. О том старается врач, чтобы победить; этого же хочет и болезнь — чтобы победить. Если победит врач, больной выздоравливает; если побеждает болезнь, больной умирает. Так и в нашем состязании боролся врач за спасение больного, а больной ратовал за болезнь. Кто обратил внимание на совет врача, тот победил, одолел болезнь. Видим мы их здоровыми и радующимися с нами в церкви. Поносили нас они прежде, так как не считали нас за братьев. Болезнь затемняла мысль их. Мы же любим их и в то время, когда они поносят нас и ожесточаются, и старались служить злобствующим против нас больным. Сопротивлялись мы, спорили и, как бы, ссорились, и, однако, любили. Докучливо неприятны все старающиеся служить таким больным, но неприятны во спасение.
8. Приходится также встречать иногда людей, лениво говорящих: правда это, владыка (domine), правда. Нечего возразить. Но отец мой умер там, (т. е. в общине донатистов), мать моя там погребена. Вот, на мертвого указываешь ты и на погребенного. Но ты ведь жив еще, и есть с кем поговорить тебе. Родители твои были христиане из партии Доната; их родители, быть может, тоже были христианами, а деды или прадеды были, конечно, язычниками. И вот, первые, сделавшиеся христианами, разве были равнодушны к истине, когда оставили родителей своих — язычников? Разве следовали они авторитету умерших родителей и не предпочитали умершим родителям живого Христа? Итак, если здесь истинное единство, вне коего ты неизбежно подвергаешься вечной смерти, то почему хочешь ты следовать мертвым родителям твоим, мертвым для тебя и для Бога? Что скажешь? — отвечай. — Правду говоришь ты, нечего сказать тебе. Но что же делать? И вот вялость какая–то овладевает такими людьми. Одержимы они, как бы, летаргией, страдают неприятной болезнью, готовые умереть в своем сне. Другие оказываются, наоборот, слишком изуверны (phrenetici) и опасны (molesti). Одержимый сонною болезнью, хотя ему и угрожает смерть, не бывает, однако, опасен для того, кто служит ему. Изуверы же опасны; потеряв здравый смысл, они, бешеные и неистовые, всюду ходят с оружием, ища, кого бы убить, кого бы ослепить. Мы услыхали, что одному пресвитеру вашему они вырезали язык. Таковы изуверы. Но нужно испытывать свою любовь, и их должно любить. Многие из них, будучи вразумлены, проливали слезы. Многие исправились. Мы знаем, к нам приходили такие из числа самых неистовых. Ежедневно оплакивали они свое прошлое, не могут сдержать слез, смотря на ярость тех, которые, не пришедши в себя от угара безумия, продолжают еще свирепствовать. Итак, как же поступать нам? Любовь заставляет помогать и таким. Хотя и неприятны мы для тех и других, пробуждая охваченного сонною болезнью и сдерживая безумца, однако, мы любим обоих.
9. Впрочем, хотя доброе дело — согласие братьев между собой, но смотрите где: во Христе, у христиан. Также и любовь между ближними. Что же, если кто–нибудь не является еще братом для тебя во Христе? Однако, он — человек и твой ближний. Люби поэтому и его, чтобы и его приобрести. Таким образом, живя в согласии с братом–христианином, ты должен любить и ближнего, с коим у тебя еще нет согласия, потому что он еще не является братом твоим во Христе, потому что еще не возрожден во Христе, еще не познал таин Христовых; пусть он язычник пока, пусть иудей, все же ближний твой, потому что человек. Если любишь и его, то ты достигаешь этим самым другой любви и в тебе уже два дара: согласие между братьями и любовь к ближним. Из всех таких, живущих в единомыслии с братьями и любящих ближнего, и состоит Церковь, обрученная Христу, покорная мужу, чтобы получилось и третье, о чем говорится в Писании (Сир. 25:2), именно: Жена и муж, согласно живущие между собою. Поэтому убеждаем любовь вашу и увещеваем вас в Господе, презирайте настоящее, братия мои, чего вы, умирая, не можете взять с собою. Берегитесь греха, остерегайтесь неправды, избегайте нечистых страстей. Тогда будет и плод наш невредим в нас и полная радостей награда наша у Господа.
Ведь если и говорим мы вам, что должно говорить, если и проповедуем, что должно проповедовать, и стараемся быть чистыми пред лицом Божиим, не умалчивая о том, чего боимся, не умалчивая о том, чего любим; так, чтобы, если на кого придет меч наказания Божия, не нашел он, что поставить в вину руководителю, однако, не хотим мы награды себе без вас, но только с вами. Ведь, и апостол Павел был уверен в своей награде, и, однако, что говорит? Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе (1 Сол. 3:8). Говорю я вам и любви вашей по повелению Господа, отцы и братия. Говорю за брата моего епископа вашего, радостью для коего должны быть вы, если будете повиноваться Господу Богу нашему.
Вот во имя Господа старанием его сделана вам эта церковь на благочестивые, щедрые, благоговейные приношения верующих братьев. Сделана для вас эта церковь, но сами вы составляете еще большую церковь (sed vos magis estis Ecclesia). Сделана вам церковь, куда входят тела ваши; но мысли ваши должны быть обращены туда, куда входит Бог. Вы почтили епископа вашего, пожелав назвать базилику эту Флорентией [по имени епископа Флорентия, служившего, как полагают, в Иппоне Диарритском]; но вы — слава (florentia) его; так и апостол говорит к Филиппийцам, что они радость и венец его в Господе (Флп. 4:1). Все, что ни случается в этом мире, исчезает, переходит. Что жизнь настоящая, как не то, что сказал псалмопевец: Как трава, которая утром цветет, вечером подсекается и засыхает (Пс. 89:6)? Такова всякая плоть. Потому и Христос явился, потому и новая жизнь, потому надежда вечная, потому утешение безсмертия обещано нам и в плоти Христа уже показано. От нас принята плоть Христова, которая уже безсмертна, и нам указал Он то, что в Себе исполнил. Для нас Он принял тело. Ведь для Себя в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1:1). Ищи здесь плоти и крови: где она в Слове? Но так как истинно захотел спострадать нам и избавить нас, принял на Себя образ раба и сошел сюда Тот, Кто был здесь, чтобы явился Тот, Кого не было. Захотел стать человеком создавший человека, родиться от матери создавший мать. Восшел Он даже на крест, умер и показал нам то, что и мы знали: рождение и смерть. В Себе пережил Он эти исконные, обычные для нас явления. Рождение и смерть мы знали, воскресения и жизни вечной не знали. Первые два рождение и смерть — Он смиренно принял на Себя, другие два великие и новые явления показал Он, будучи прославлен. Воскрес Он плотию, вознесся, возсел одесную Отца. Главою нашею благоволил быть Он и молился за Свои члены, потому что, когда был здесь, говорил Отче!.. Хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною (Ин. 17:24). Будем ожидать того же и для плоти нашей: воскресения, прославления, нетления, безсмертия, вечного покоя. Будем стараться, чтобы и достигнуть этого. То будет слава (florentia), истинная слава.
Беседа 20. Об одном донатисте, обратившемся к Церкви
[31]Благодарение Богу! братия. Порадуйтесь за брата вашего, который был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Слава терпению и милосердию Господа Бога нашего; терпению, потому что терпел Он упорствующего; милосердию, потому что благоволил принять обращающегося. Это виноградник, где я не трудился; в другом тратил я силы свои. О, виноградник, возлюбленный Господом моим! Не только нисколько не был полезен я тебе, но даже против тебя служил врагу твоему. С большим рвением расточал я, когда не собирал для тебя. Слава насадителю твоему, у Коего не остается плата работников, призванных даже в позднейший час. Поздно прихожу я, но не отчаиваюсь в получении динария (Мф. 20:9). Я был прежде хулителем, гонителем и обидчиком Тебя, но помилован, потому что делал это по неведению (1 Тим. 1:13). Хранил я слова родителей моих, не патриархов, пророков и апостолов, но родителей плоти моей. Но не пошел я до конца за плотью и кровью, последовал за истиной, будучи побежден ею, и успокоился теперь, возвратившись к единству. Разве не читал я того же Писания, что и теперь читаю? Но так же точно и тот учитель языков, сосуд избранный, из Савла ставший Павлом, из высокомерного смиренным, из губителя пастырем, из волка агнцем, еврей от евреев, по учению фарисей (Флп. 3:5), воспитанный у ног Гамалиила (Деян. 22:3), не знал сначала о Христе, что Он возседает на небесах, не позволял чтить Его на земле. Не ведая, воспевал устами веру в Него, в Его страдания и воскресение (т. е. признавал и читал ветхозаветные пророчества, в коих говорилось о страданиях и воскресении Иисуса Христа) и, неистовствуя в заблуждении, производил опустошения. Согласно пророчествам, в которых с малых лет был он (Савл) воспитан, Христос уже, восстав из мертвых, сидел одесную Бога (in coelo), а он все еще ослеплен был ложью своих родителей, что ученики украли Его из гроба. Так и я блуждал кругом около церкви кафолической, распространенной всюду по земле, по слову Божественного Писания, и меня делали глухим к Нему от родителей перешедшие ложные слухи о предателях. Я сравниваю себя с Павлом не по заслугам, а по грехам. Ведь хотя я и не заслужил быть столь великим, однако, до своего обращения не был и столь злым. Он не узнавал жениха из книг, которые читал; я не узнавал невесты. Кто открыл ему о прославлении Христа в словах: Будь превознесен выше небес, Боже, тот же открыл мне о распространении Церкви в словах, которые следуют дальше: Над всею землею … слава Твоя (Пс. 107:6) То и другое свидетельство ясно для видящих, но сокрыто от слепых. Тому отверзло глаза крещение во Христа, а мне мир Христов. Того баня святой воды соделала новым, а мне любовь покрыла множество грехов моих.
Беседа 21. О воскресении мертвых
1. Заметили мы, братия, во время апостольского чтения похвальное движение веры и любви вашей, заметили, как гнушаетесь вы людей, которые думают, что есть только одна настоящая жизнь, общая у нас со скотами, что со смертию все оканчивается, и нет для нас никакой надежды на другую, лучшую жизнь, которые, распространяя дурные слухи (pruritum malarum aurium corrumpentes), говорят: Станем есть и пить, ибо завтра умрем (1 Кор. 15:32). Вот с этого–то и начнем беседу нашу. Это пусть будет как бы центром нашей речи, около коего будет вращаться все остальное, что Господь благоволит даровать нам.
2. Воскресение мертвых составляет предмет упования нашего. Воскресение мертвых составляет предмет веры нашей. Оно есть и предмет любви нашей, которая возбуждается предуказанием вещей невидимых и стремлением к ним, вследствие чего сердца наши делаются способными к блаженству, которое обещается в будущем, пока же служит предметом веры, так как оно невидимо. Поэтому самая любовь наша не должна направляться на это видимое и временное; нельзя думать, что в воскресении мы будем иметь нечто подобное тому, что теперь имеем, хотя бы мы и не придавали значения благам настоящей жизни, хотя бы мы жили хорошо и сами были хороши, не будем иметь мы там плотских удовольствий и утешений. Без сомнения, с уничтожением веры в воскресение мертвых падает все учение христианское. Однако, и с признанием веры в воскресение мертвых можно оставаться спокойным за дух христианина лишь в том случае, если признавать, что будущая жизнь та отлична от жизни настоящей, преходящей. Поэтому если не воскреснут мертвые, то нет для нас никакой надежды на жизнь будущую. Если же воскреснут, будет, следовательно, и жизнь загробная. Но возникает другой вопрос: какая будет эта жизнь? Отсюда первое разсуждение наше посвящено будет вопросу о том, будет ли воскресение мертвых, во втором разсмотрим, какова будет жизнь святых в воскресении.
3. Итак, кто говорит, что мертвые не воскреснут, тот не христианин. Те же, которые думают, что мертвые, когда воскреснут, будут проводить плотскую жизнь, являются грубыми плотскими христианами. Таким образом, что в настоящем разсуждении говорится против отрицающих воскресение мертвых, относится собственно к тем, которые не носят имени христиан, из каковых, я не думаю, чтобы здесь присутствовал кто–либо. И наше разсуждение может показаться излишним, если мы будем доказывать, что мертвые воскресают. Потому что христианин, который уверовал во Христа, который никоим образом не может допустить, что апостол говорит неправду, должен руководствоваться силою авторитета. Достаточно, следовательно, если он слышит: Если нет воскресения мертвых,… то… проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес (1 Кор. 15:13–14). Если же Христос воскрес, в чем и спасение христиан, то во всяком случае не невозможным является воскресение мертвых, потому что Кто воскресил Сына Своего, Кто разбудил плоть Свою, Тот во Главе показал пример всему телу, т. е. церкви. Итак, могло бы быть излишним разсуждение о воскресении мертвых, и нам следовало бы заняться теми вопросами, которые обыкновенно ставят христиане себе самим, а именно: каковы будем мы, когда воскреснем, как будем жить тогда, каковы будут наши занятия, и будут ли вообще какие–нибудь занятия, или не будет никаких? Если не будет никаких, то будем ли мы жить совершенно праздно, ничего не делая, или, если будем что–нибудь делать, то что именно? Затем, будем ли мы есть и пить, будет ли там общение между мужами и женами, или будет одна непорочная общая жизнь? И если так, то какова будет эта жизнь, каково будет свойство и образ самых тел? Вот вопросы христиан, касающиеся веры в воскресение.
4. К этому разсуждению, насколько это может быть уяснено или выражено чрез людей и людям, подобным нам и вам, я теперь и перешел бы, если бы на вопросе о том, воскреснут ли мертвые, не вынуждало меня остановиться некоторое безпокойство о слишком плотских братьях наших, почти язычниках. Конечно, я уверен, что здесь никого из язычников нет теперь, но все христиане. Однако же, язычники и хулители воскресения не перестают ежедневно говорить вслух христианам: Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Слова эти сказал апостол, указывая далее на опасность худых сообществ, развращающих добрые нравы (1 Кор. 15:32–33). Боясь этого зла, и опасаясь за нетвердых из христиан, мы не только по отеческой, но как бы по материнской некоторой любви и будем говорить столько, сколько потребно для слушателей. Ведь всех, которые собрались здесь, привело сюда великое благоговение к слову Божию (circa scripturas), а не торжество какого–либо праздничного дня собрало в церковь Божию толпы зрителей. Потому что некоторые имеют обыкновение сходиться не по побуждениям благочестия, а только для торжества. Вот эти соображения и заставляют нас говорить сначала о воскресении мертвых, а потом, если Господь поможет, скажем о том, какова будет будущая жизнь праведников.
5. Боюсь, — говорит апостол, — чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе (2 Кор. 11:3). А повреждают умы слова: Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Пусть же всякий, кто с удовольствием хочет следовать только этим словам, кто думает, что есть одна только настоящая жизнь, и ни на что другое не надеется, кто не молится Богу или только и молится о том, чтобы есть и пить, хотя бы ему и неприятна была наша доброжелательная речь, послушает нас, с великою скорбию говорящих слова эти. Хотят они есть и пить, потому что завтра умрут. Но, о, если бы на самом деле они думали о том, что завтра умрут! Кто будет столь безрассуден и безумен, кто столь враждебен себе, чтобы, думая умереть на завтрашний день, не подумал, что кончено все, из–за чего он трудился? Ведь в тот день, — как написано, — исчезают все помышления его (Пс. 145:4). И если люди, в виду угрожающего им дня смерти, стараются делать завещания ради тех, коих покидают здесь, то насколько же более они должны подумать о душе своей? Или заботится человек о тех, кого оставляет, а о себе, покидающем все, не думает? Вот сыновья твои будут владеть тем, что ты оставляешь; сам же ты ничего не будешь иметь, и, однако, все внимание твое сосредоточивается на том, чем после тебя будут владеть чужие, а не на том, какая участь ожидает тленных (non quo transeantes perveniant). О, если бы было у тебя помышление о смерти. Правда, когда выносятся мертвые, люди думают о смерти и говорят: «Несчастный! Вчера гулял он» или: «Семь дней назад тому я видел его, то–то и то–то говорил он со мной, — и вот нет человека». Так говорят обычно. Но говорят это, быть может, только пока мертвый оплакивается, пока идут хлопоты о его погребении, пока совершаются приготовления к похоронам, пока выносится мертвый и погребается. С погребением же прекращаются и эти речи. Возвращается суетная забота, забывается тот, кого увлекла смерть, и о заместительстве его думает имеющий сам удалиться — возвращается к обманам, к хищениям, к клятвопреступлениям, к пьянству, к безчисленным плотским наслаждениям, не исчезающим даже во время пользования ими и что хуже того, от только что погребенного мертвеца берут люди как бы повод к погребению сердца и говорят: Станем есть и пить, ибо завтра умрем.
6. Иные, осмеивая веру в воскресение мертвых, говорят себе: «Вот такой–то лежит в могиле, пусть же услышится голос его. Если это невозможно, пусть услышу я голос моего отца, моего деда и прадеда. Кто возставал оттуда? Кто объявил о том, что делается у умерших? Станем же заботиться о благах для себя во время этой земной жизни. Если же, когда мы умрем, наши родители, родные или ближние приносят что–либо на гробы наши, то себе, живущим, приносят они, а не нам, мертвым». Это даже и Писание осмеивает, когда говорит о снедях, поставленных на могиле (Сир. 30:18). Ясно, что мертвые не нуждаются в том, и что это есть обычай языческий, и ведет он свое начало не от отцов наших, патриархов, у которых мы хотя и находим указания на славные похороны, но не находим указаний на приношения умершим. То же можно замечать и в обычаях иудеев. Все же они сохранили в некоторых случаях обычаи старины, хотя и не извлекли оттуда пользы для добродетели. И если некоторые ссылаются на слова Писания: Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам (Тов. 4:17 — Frange panem tuum, et effunde vinum tuum super sepulcra justorum, et ne tradas eum injustis), то без всякого труда верующие могут понимать, о чем сказано здесь. Ведь знают верующие, как нужно совершать поминовение своих умерших; знают также, что этого нельзя совершать за нечестивых, т. е. за неверующих, потому что только праведный верой жив будет (Рим. 1:17). Пусть же никто не ищет от врачевания болезней и из Писания пусть не пытается извлечь уз, чтобы положить сети смерти для души своей. Ясно, как следует понимать то. Правилен и спасителен этот обычай христианский (aperta atque salubris est haec celebratio christianorum).
7. Итак, остановимся на том, о чем я выше сказал уже, и на что указывают люди, смущающие слух нетвердых словами: Станем есть и пить, ибо завтра умрем, именно на тех словах их, что никто не воскресает из мертвых и что не слышат они ничьего голоса: ни деда, ни прадеда, ни отца. Отвечайте таковым, христиане, если вы христиане и если захотите принять участие в пиршествах (имеются ввиду, вероятно, поминальные торжества), без смущения отвечайте развратителям. И вы знаете, что ответить, но обуреваетесь страстью к удовольствиям, хотите утонуть в них и быть погребенными заживо. Поднимается у вас страсть невоздержания, и как бы некоторое волнение врывается в душу, возбужденную дыханием дурного влечения (male suadentis). И вот, претерпевая великое волнение, не хочешь отвечать ты развратителю и с готовностью идешь на пиршество. И волнение страсти, чересчур усиливаясь, хочет обрушиться, как на корабль, на сердце твое. Но спит Христос на корабле твоем. Разбуди же Его, и Он повелит буре, чтобы она умолкла (Мф. 8:24–26). Своим волнением на корабле, когда Христос спал, ученики предуказали, что и христиане будут обуреваться, пока не пробудится в них вера христианская. Знаешь ты, что говорит апостол: Да даст вам… верою вселиться Христу в сердца ваши… (Еф. 3:16–17). По свойству величия и по Божеству Своему Он всегда со Отцом. И телом Своим Он уже на небесах одесную Отца, по вере же Он присутствует во всех христианах. И ты обуреваешься, следовательно, потому, что Христос спит, т. е. потому ты не можешь побороть тех страстей, которые возбуждаются в тебе внушением дурных привычек (male suadentium), что спит вера твоя. Что значит, что спит вера твоя? Значит, что вера приведена в усыпление. Но что значит: приведена в усыпление? Значит, что ты забыл веру. Что же значит таким образом — разбудить Христа? Значит, пробудить веру, вспомнить то, во что ты уверовал. Итак, помни веру твою, буди Христа. Эта вера твоя повелит волнам, коих ты боишься, и ветру дурных наветников; и тотчас удалятся они, тотчас успокоится все. Потому что, хотя злой наветник не перестает оговаривать тебя, но он уже не подвергает опасности корабля твоего, не возбуждает волнения, не погружает судна, на котором плывешь ты.
8. Но для чего станешь будить ты Христа? Что сказал тебе злой тот собеседник? Что сказал тот развратитель, дурными речами своими растлевающий добрые нравы? Что сказал? Вот что сказал: никто оттуда (из–за гроба) не возвратился. Не слыхал я ни голоса отца моего, ни деда моего. Пусть кто–нибудь возвратится оттуда и пусть скажет, что делается там.
Разбудив Христа на корабле твоем и помня о вере твоей, ты отвечай ему и скажи: Безумец! Если бы отец твой воскрес, ты поверил бы, но вот Господь всех воскрес, и ты ли не веришь? Для чего благоволил Он умереть и воскреснуть, если не для того, чтобы верили мы одному и не обольщались многими? И что сделал бы отец твой, если бы воскрес и стал беседовать с тобой, и снова умер бы? Смотри, с какою властью воскрес Тот, Кто уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6:9)! Явился Он ученикам Своим и верующим, ощупано было тело Его, так как недостаточно было для некоторых видеть то, что они ранее видели, и не ощупать того, что видели теперь. Вера эта не в сердцах только запечатлена была, но засвидетельствована пред взором людей. Далее, Тот, Кто показал это, восшел на небо, послал Духа Святого ученикам Своим, и Евангелие проповедано всюду.
Если мы говорим неправду, вопроси самое лице земли.
Многое из того, что обещано, уже совершилось. Многое, чего ожидали мы, исполнилось. Вера христианская распространена по всему лицу земли. Не осмеливаются отрицать воскресения Христа даже неверующие. Свидетельствует о том небо, свидетельствует земля, свидетельствуют ангелы, свидетельствуют находящиеся в царстве мертвых (ab inferis). Что еще не свидетельствовало бы об этом? И ты говоришь: Cтанем есть и пить, ибо завтра умрем.
9. Опечалился ты об умершем друге (charissimo) твоем, потому что не слышишь уже голоса его. Жил он и умер. Ел, а теперь уже не ест, ощущал, а теперь не ощущает, уже не радуется радостями и утешением живых.
Но разве стал бы ты оплакивать семя, когда бы пахал землю? Ведь если бы нашелся кто–нибудь столь неведущий, который бы, видя, как семя выносится на поле, бросается в землю и зарывается в глыбах, стал плакать о нем и, вспоминая о летнем зное, стал бы говорить о нем себе: «Вот хлеб, с таким трудом сжатый, вымолоченный и очищенный, лежал в житнице; смотрели мы на него и радовались, теперь же нет его на глазах наших: вижу землю вспаханную, хлеба же ни в житнице, ни здесь не вижу». Если бы, говорим, нашелся такой человек, который бы сильно грустил и плакал о хлебе, как умершем и погребенном, смотря на глыбы и на землю и не думая о жатве, то как смеялись бы над ним иные, хотя и неученые, но сведущие в том деле? Как стал бы плакать он, столь неопытный, пред сведущими в этом деле, хотя и несведущими в других предметах? И что сказали бы ему те, которые знали бы, что скорбит он потому, что не понимает? «Не печалься», — сказали бы они ему. Того, что разбросали мы в землю, нет уже в житнице, нет в руках наших. Но вот потом придем мы на это поле и отрадно будет созерцать тебе вид жатвы там, где теперь скорбишь ты над голой землей. Кто знает, что получится после из посеянного хлеба, тот радуется и во время самой пашни. Если же кто вследствие недоверия или неразумия, или, лучше сказать, вследствие недостатка опыта скорбит в начале, то все же потом, доверяя опыту знающего, уйдет от него утешенным и станет ожидать вместе с ним будущей жатвы.
10. Но жатва обыкновенно бывает ежегодно. Единственная же последняя жатва рода человеческого произойдет при кончине века. Теперь нельзя ее видеть глазами. Но доказательство того, что она будет, дано в зерне пшеничном, о котором Сам Господь говорит: Если пшеничное зерно… не умрет, то останется одно… (Ин. 12:24), указывая в этих словах на Свою смерть и на то, что велико будет число имеющих воскреснуть верующих в Него. Пример взят здесь от зерна, но такой пример, коим убеждаются все, желающие быть в числе зерен. Впрочем, и вся тварь свидетельствуют о воскресении, если только мы не хотим быть глухими. И от этих свидетельств можно заключать, что сделает Бог в конце концов с родом человеческим, когда ежедневно мы наблюдаем столько подобий. Воскресение христиан имеет совершиться только один раз. Сон же животных и пробуждение их от сна свершается ежедневно. Сон — подобие смерти, пробуждение — подобие воскресения. Наблюдая то, что совершается пред тобой ежедневно, верь в то, что произойдет некогда однажды. Луна рождается каждый месяц, растет, достигает наибольшей величины, затем уменьшается, совсем исчезает и снова появляется. Что происходит с луною ежемесячно, это при воскресении совершится один раз за все время. Далее, куда уходят, например, и откуда появляются листья на деревьях? В какие тайники уходят они? Из каких скрытых мест приходят? Вот теперь зима, и деревья как бы высохли; в весеннее же время они одеваются зеленью. Теперь ли только так стало или и в прошедшем году то же самое было? Конечно, и в прошедшем году то же было. Исчезает зелень с осени, в течение зимы, появляется с весны, летом. Так год повторяется во времени, и неужели люди, созданные по образу Божию, умирая, совсем погибают?
11. Но кто–нибудь, менее внимательный к изменениям и возрождению, замечаемому в природе, может сказать мне: «Ведь те листья сгнили и рождаются новые». Однако, всякий разумный может видеть, что и то, что сгнивает, дает силу земле. Потому что от чего утучняется земля, как не от разложения земного? Знают это те, которые занимаются земледелием. А те, которые не занимаются земледелием, проживая в городе, пусть хоть от прилегающих к городу усадеб узнают, как старательно берегутся разные нечистоты города, за какую цену покупаются они и куда деваются. Конечно, они уже презренны и могут считаться недостаточно сведущим человеком совершенно ненужными. Кто в самом деле станет смотреть на помет? Но на что человек не хочет смотреть, это старается он беречь. Таким образом, что казалось уже уничтоженным и выброшенным, это употребляется на утучнение земли, сберегает в ней влагу и идет в корень. А что из земли проходит в корень, это невидимыми путями переходит затем в ствол, расходится по ветвям, отсюда идет в отростки, а от отростков — в плоды и листья. И вот от чего отворачиваешься ты, когда нечистоты гниют, – это, создавая прелестную зелень дерева, вызывает твое удивление.
12. Не хочу, чтобы ты указывал мне при этом на то, на что обыкновенно указываешь, именно, что тело погребенного мертвеца не остается целым; — если бы оставалось оно целым, говоришь ты, я верил бы в воскресение мертвых. Выходит поэтому, что одни только египтяне верят в воскресение, потому что они тщательно сохраняют трупы умерших. Обыкновенно, они высушивают тела, делая их как бы неразрушимыми и называя их мумиями. Итак, по мнению людей, незнающих тайн природы, в которой для Творца все остается целым, хотя бы и теряло способность внешнего чувства, только одни египтяне могут верить в воскресение мертвых, вера же других, вера христиан неосновательна. Часто, когда вследствие ветхости или по другой какой причине открываются и обнажаются гробы, оказывается, что находившиеся там тела уже сгнили, и люди, привыкшие любоваться телесною красотой, скорбно вздыхают и говорят сами себе: «Неужели этот прах будет иметь когда–либо прежний вид красоты? Неужели он возвратится к жизни, возвратится к свету? Когда это будет? И могу ли я надеяться увидеть когда–нибудь из этого пепла что–либо живое?» Однако же ты, говорящий так, видишь во гробе хоть пепел. Но оглянись назад лет хотя на тридцать, на сорок, на пятьдесят или более. Вот, во гробе оказывается хоть прах мертвого, а ты что представлял из себя пятьдесят лет тому назад? Где был ты тогда? Тела всех нас, разговаривающих теперь, спустя немного лет, будут прахом, а назад тому несколько лет не было и самого праха. Итак, Кто мог создать то, чего не было, неужели не в состоянии возсоздать того, что было?
13. Пусть же прекратится пустословие злоречивых, дурными речами своими развращающих добрые нравы. Утвердите ноги ваши на пути, утвердите, чтобы не сбиваться с него и не останавливаться на нем, а стремиться вперед, как написано: Так бегите, чтобы получить (1 Кор. 9:24). Пусть в сердце вашем всегда бодрствует Христос, Который во главе (т. е. в Себе Самом) благоволил показать то, чего должны ожидать прочие члены тела Его. Мы на земле страдаем; глава же наша на небе уже не умирает, не испытывает слабости, не страдает. Однако, и глава страдала за нас. Потому что Он (Христос) предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25). Познаём это мы верою. Те же, коим являлся Он, видели своими глазами. Впрочем, и мы не остались обиженными из–за того, что Он уже воскрес, и мы не можем видеть Его плотскими глазами. Имеем поучительное для нас свидетельство Самого Господа, которое дал Он сомневающемуся ученику, ищущему осязания для того, чтобы верить. Ведь когда, после прикосновения к Его ранам, он воскликнул и сказал: Господь Мой и Бог мой! — Господь ответил ему: Ты поверил потому, что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20:28–29). Итак, пробудитесь же для блаженства вашего, и никакой злой наветник пусть не исторгнет из сердец ваших того, что насаждено Христом.
14. Пусть же более не говорят мне того. Говорят это обычно те, которые не по доброй воле уступили авторитету Христа. Ведь даже и язычники, которые не хотят или откладывают принять учения Христова, не осмеливаются поносить Христа. Христиан поносят, а Христа не осмеливаются. Смиряются пред Главой, хотя над телом еще и глумятся. Но пусть тело, слыша глумления тех, кои уступают Главе, не считают себя отделенными от Главы, но заодно с Нею. Если бы мы были отделены от Нее, тогда можно было бы бояться нам издевательств врагов наших. Но что мы не отделены от Главы, об этом свидетельствует Сам Тот, Который Павлу, когда он был еще Савлом, преследующим Церковь, говорит: Савл, Савл, что ты гонишь Меня? Уже избавился Он от рук нечестивых иудеев, уже проник в преисподнюю, уже возстал от гроба, уже вознесся на небо, уже обогатил сердца верующих дарами Духа Святого и утверждает их, пребывая одесную Отца и ходатайствуя за нас. Не подвергаясь уже более опасности смерти, а лишь нас желая освободить от смерти — что мог потерпеть Он от неистовствующего Савла? Как рука та могла коснуться Его, хотя тот, как написано о нем, и дышал еще убийством (Деян. 9:1)? На христиан, живущих на земле, мог еще делать нападения Савл, Христу же когда и как мог бы вредить он? Издает Он, однако, мучительный крик за члены Свои и не говорит: что ты гонишь Моих? Если бы говорил так, тогда могли бы мы считать себя только рабами Его. Но не так соединяются рабы со своим господином, как христиане со Христом. Другая связь эта, другое здесь соотношение членов, другое единство любви. Голова говорит за члены Свои и не так говорит: «Что ты гонишь члены Мои» — но: Что ты гонишь Меня? Не касался гонитель Главы, а трогал лишь то, что соединено с Главою. Не раз уже указывали мы на одно подобие, и так как подобие это очень подходящее и хорошо поясняет дело, позволим себе повторить его. Вот, например, кто–нибудь в толпе теснит тебя, давит ногу твою, хотя языку и не причиняет никакой боли. Почему же язык все–таки кричит: «Ты давишь меня?» Сдавлена нога, языку не сделано никакой неприятности, однако, связаны они (нога и язык) тесным единством. Потому что страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26). Итак, если язык твой говорит за ногу твою, то Христос ли не станет говорить за христиан с неба? Не так говорит язык твой за ногу твою, чтобы говорить, например: «Давишь ногу мою», но: «Давишь меня», хотя сам он и остается неприкосновенным. Познавай же и ты Главу свою, когда Она с неба говорит за тебя: Савл, Савл, что ты гонишь Меня? Но, братия, для чего сказали мы это? Для того чтобы как–нибудь не подкрались к вам те, на которых указывает апостол, когда говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы, которые говорят: Станем есть и пить, ибо завтра умрем (1 Кор. 15:32), чтобы не говорили они вам: «Для Христа, однако, только возможно было это» (не осмеливаются они поносить Христа, преклоняются пред величием Его, распростертым по всему кругу земному, но хотя, как написано: Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает (Пс. 111:10), они и скрежещут зубами, и истаивают, злословить Христа все–таки не осмеливаются. Иногда искренно говорят они это, иногда же из страха. Но ты будь внимателен к тому, что они осмеливаются говорить, и чего не осмеливаются высказывать.
15. Вот, станут говорить они тебе: «Указываешь ты на Христа, что Он воскрес из мертвых, и вследствие этого ожидаешь всеобщего воскресения мертвых. Но Христос мог воскреснуть из мертвых», — и начинают хвалить Христа не с тем, чтобы воздать Ему честь, но чтобы тебя лишить упования. Опасное коварство здесь, когда, желая похвалою отвлечь от Христа, лицемерно прославляют Того, Кого не осмеливаются порицать. Усугубляют величие Его как существа небесного, чтобы ты не надеялся получить что–либо такое, что явлено было в Его воскресении. Как бы с великим благоговением относятся они ко Христу, когда говорят: «Вот осмеливается он сравнивать себя со Христом и думает, что и он воскреснет из мертвых, как Христос воскрес». Не обольщайся, однако, лицемерною похвалою. Коварные замыслы тебя смущают, но вспомни о смирении Христа, о Его человечестве. Тот (лицемер) указывает тебе, как Христос велик в сравнении с тобою, но Сам Христос говорит, как Он близок к тебе (descendit ad te). Итак, смело ответствуй ему, пробуждай в себе веру свою; вот перед тобой буря, волнение, корабль в опасности, а Христос спит в тебе. Пробуди же в себе веру Христову, не забывай, во что ты уверовал. И тотчас ответишь ты, как только начнет оживать в тебе вера евангельская. Не будешь безпомощным при ответе. Не ты будешь говорить, а пребывающий в тебе Христос, взяв орудием Своим язык твой, как бы меч Свой, и пользуясь сердцем твоим и голосом твоим, как владелец, противостанет врагу и сделает тебя безопасным. Ты же только буди спящего, т. е. не забывай веры твоей.
16. Но что скажу я такого, что мог бы и ты возразить им? Не новое скажу что–либо, но то, во что уверовал ты уже. Пробуди веру свою и отвечай тому, кто говорит, что Христос один мог воскреснуть, а мы не можем. Отвечай и скажи ему: «Потому Христос мог воскреснуть, что Он Бог. Если же потому, что Он Бог, то, следовательно, потому, что Он всемогущий. Если же потому, что всемогущий, то могу ли я отчаиваться, что может Он и во мне явить то, что показал в Себе ради меня?» Затем спрошу еще: «Откуда возстал Господь?» Отвечает: «Из мертвых». — Но как умер Бог? И может ли умирать Бог? Разве то Божественное Слово, та сила Всемогущего Художника, чрез Которого все создано, та неизменная Мудрость, в Себе пребывающая и все обновляющая, распростирающаяся от одного конца до другого и все устрояющая на пользу (Прем. 8:1), могла умереть? — Нет, — отвечает противник. — И, однако, Христос умер. Почему умер? Разумеется, потому, что, не почитая хищением быть равным Богу, Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба (Флп. 2:7). А раньше апостол говорит: Он, будучи образом Божиим… (Флп. 2:6) Образ Божий принял Он или был им по существу (an in ea naturaliter erat)? Различает это апостол. Когда говорит он об образе Божием, употребляет слово будучи, а когда говорит об образе раба, сказал приняв. Христос, следовательно, одним был, а другое принял, так что единым стало с Ним то, что Он принял. Будучи образом Божиим, Он был равен Богу, почему евангелист говорит: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1:1), т. е. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Чего нет по естеству, и что присваивается не по праву, то есть уже хищение. Равенство с Богом присвоил себе ангел, но пал и сделался диаволом. Равенство с Богом хотел присвоить себе человек, но пал и сделался смертным. Христос, Который рожден равным, потому что рожден не во времени, но вечный Сын от вечного Отца, через Коего все создано, есть образ Божий (in forma Dei est). Чтобы быть посредником между Богом и людьми, между Праведным и неправедными, между Безсмертным и смертным, Он принял нечто от беззаконных и смертных, в то же время имея нечто общее с Праведным и Безсмертным. Сохраняя вместе с Праведным и Безсмертным праведность, Он от беззаконных и смертных принимает смертность, ставши примирителем, разрушив стену грехов наших, почему и говорится в псалме: …С Богом моим восхожу на стену (Пс. 17:30). Возвращая Богу то, что отчуждено грехом, искупляя кровию Своею порабощенное диаволом, Он умер за нас и воскрес. Носил Он грехи наши не участием в них, но претерпевая их, – как Иаков носил кожу козлят, чтобы показаться волосатым отцу своему, благословляющему (Быт. 27:16). Дурной Исав имел свои волосы, добрый же Иаков носил чужие. Смертным людям, конечно, прилежит грех; не прилежит же он Тому, Кто сказал: Имею власть отдать ее [душу Свою], и власть имею опять принять ее (Ин. 10:18). Итак, смерть в Господе нашем была следствием чужих грехов, а не наказанием за грехи собственные. Во всех людях смерть есть наказание за грех. Ведет она свое начало от первородного греха, от падения первого человека, а не от нисхождения откуда–либо. Потому что одно есть — падать, другое — нисходить. Пал один преступно, снисшел другой милосердно. Потому что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15:22). Итак, носящий чужие грехи Христос, по слову псалмопевца, отдал то, чего не отнимал (Пс. 68:5), т. е. не имея греха, подвергся смерти. Вот, говорит Он: Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Что это значит, что во Мне не имеет ничего? Значит: не найдет во Мне ничего достойного смерти, Потому что достойное смерти — грех. Почему же смерть? Но, — говорит Он далее, — чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда (Ин. 14:30–31). И возстав, Он пошел на страдания. Почему? Потому что исполнял волю Отца Своего, а не потому, что был сколько–нибудь повинен князю греха, так как в Нем не было никакого греха. Таким образом, Господь наш Иисус Христос с Собою принес Божество, смертность же принял от нас. Принял ее во утробе Девы Марии, соединяя Себя, Божественное Слово, с природою человека, как жених соединяется с невестою в брачном чертоге, так что Он исходит, как жених из брачного чертога своего (Пс. 18:6).
17. Итак, помни то, что сказал я тебе. Смертность от греха перешла на всех людей. В Господе же она явилась вследствие Его милосердия, и, однако, была истинная, потому что такая же истинная была Его плоть, истинно–смертная, имеющая подобие плоти греховной (Рим. 8:3), не подобие плоти, но подобие плоти греховной, так как она была истинная плоть, хотя и не греховная плоть. И незаслуженно, как сказал я, не за грех смертность эту принял Тот, Кто уничижил Себя Самого, приняв образ раба…, быв послушным даже до смерти. Следовательно, чем же был Он и что имел? Был Божеством, нося смертность. Но чем умер Он, тем и воскрес.
Теперь обратившись к тем, которые говорят: «Только один Христос мог воскреснуть, а ты не можешь» — отвечай и скажи: «Христос воскрес тем, что Он принял от нас. Отними от Него образ раба, и не было бы того в Нем, чем бы Он мог воскреснуть, потому что не было бы того, чем бы Он мог умереть. И зачем, прославляя Господа, хочешь разорить веру, которую насадил во мне Господь? Вследствие того только, что принял образ раба, сделался Он мертвым. Отсюда никогда не усомнюсь я и в воскресении раба, если Господь воскрес в образе раба». Если же только силе человечества хотят приписать то, что Христос воскрес из мертвых, так как имеют обыкновение говорить и это, именно, что человек Он был столь праведный, что мог даже из мертвых воскреснуть, то я готов на время и здесь согласиться с ними. Не буду говорить о Божестве Господа нашего; — но если Он столь праведен, что мог даже воскреснуть из мертвых, то, разумеется, никоим образом не мог Он обманывать нас, когда и нам обещал воскресение.
18. Все, что сказано нами, братия, сказано с тою целью, чтобы вы были подготовлены к ответу на случай, если бы кто–либо стал говорить, что мертвые не воскреснут. Говорено было, если помните, насколько Бог благоволил сделать нас способными к тому, и о видимой природе, причем указаны были доказательства из ежедневных явлений ее, и о всемогуществе Бога, для Коего ничего нет трудного, Который, если мог создать то, чего не было, тем более может возсоздать то, что было, и о Самом Господе и Спасителе нашем, Который, несомненно, воскрес, и о воскресении, что оно не могло быть, как только в образе раба, потому что не мог Он умереть, а следовательно, и воскреснуть иначе, как только в образе раба. А так как мы рабы, следовательно, нужно и нам ожидать того, что благоволил показать Господь, будучи в образе раба.
Пусть умолкнут, поэтому, языки говорящих: Станем есть и пить, ибо завтра умрем. На эти слова вы отвечайте им и говорите: «Будем поститься и молиться, потому что завтра умрем».
19. Нам остается сказать еще, какова будет жизнь в воскресении праведных. Но так как сегодня, как видите, уже не мало времени потрачено на беседу, довольствуйтесь пока тем, что сказано. А об этом молитесь, чтобы мы когда–нибудь могли побеседовать с вами. Заметьте также, что говорим мы об этом теперь особенно по причине настоящих праздничных дней у язычников. Будьте внимательны к себе: преходит мир этот. Вспомните Евангелие, где Господь предсказывает, что последний день придет так же, как это было во дни Ноя, когда люди ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех (Лк. 17:27). И в другом месте Господь, увещевая слушающих, говорит: Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством… (Лк. 21:34), и еще: Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака… (Лк. 12:35–36). Будем ожидать Его. Пусть не найдет Он нас безпечными. Постыдно для женщины замужней не стремиться (non desiderare) к мужу своему. Насколько же постыднее церкви не стремиться ко Христу?! Приходит муж для плотских объятий и принимается с великою любовью женою чистою. Но вот имеет прийти Жених церкви, чтобы предложить нам вечные объятия, чтобы сделать нас Себе вечными сонаследниками, а мы так живем, что не только Его прихода как будто не желаем, но даже боимся! Несомненно, что так придет день тот, как во дни Ноя. И столь многих застанет Он так же внезапно из тех, которые называются христианами? Ведь для того так долго строился ковчег, чтобы вразумились неверующие. Сто лет строился он, и не вразумились они настолько, чтобы говорить: не по иной причине человек Божий строит ковчег, как только по той, что грозит гибель роду человеческому, – не позаботились предотвратить гнев Божий, делая угодное Богу, как сделали ниневитяне, которые принесли плод покаяния и отвратили от себя гнев Божий.
20. Возвестил им Иона не о милосердии, но об ожидающем их гневе; не сказал, например, так: «Еще некоторое время, и Ниневия будет разрушена. Если же за это время раскаетесь, то Господь пощадит вас», — не сказал этого. Одним разрушением угрожал он им, одно это предсказывал, и однако, они не отчаялись в милосердии Божием, обратились к покаянию, и Господь помиловал их (Ион. 3). Что сказать вам на это? Неужели пророк предсказал неправду? Если будешь понимать это буквально, то, по–видимому, пророк сказал здесь неправду. Если же станешь понимать духовно, то случилось то, что именно сказал пророк. Посмотри, что представляла Ниневия, и чем она стала. Что представляла Ниневия? Ели и пили, покупали, продавали, садили, строили, предавались клятвопреступлению, лжи, пьянству, всяким порокам, растлению — вот что представляла Ниневия. Посмотри же теперь, что стало с ниневитянами? Плачут они, скорбят, сокрушаются, во вретище и пепле, в посте и молитвах. Где та прежняя Ниневия? Она разрушена, потому что нет уже более тех прежних одеяний.
21. И теперь, братия, так же точно строится ковчег, и те сто лет знаменуют настоящее время. Этим числом лет обозначается все настоящее течение времени. Следовательно, если справедливо погибли те, которые в то время, когда Ной строил ковчег, не обращали на это внимания, то чего достойны те, которые, когда Христос созидает Церковь, – отвращаются от спасения? Разница между Ноем и Христом такая же, как между рабом и господином, или скорее, как между Богом и человеком. Ведь рабом и господином могут называться два человека. И в том, именно, что люди не верили, когда человек строил ковчег, дан предостерегающий пример для нас. Вот Христос, Бог и ради нас человек, созидает Церковь. В основание этого ковчега Он положил Себя Самого. Ежедневно деревья негниющие, верующие люди, отказывающиеся от настоящего века, кладутся (intrant) в связь ковчега — и до этих пор еще говорят люди: Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Но вы, как сказал я, отвечайте таким наоборот: «Будем поститься и молиться, потому что завтра умрем». Говорят эти слова: Станем есть и пить, ибо завтра, умрем — те, которые не верят в воскресение. А мы на основании предсказаний пророков, Христа и апостолов, верующие в воскресение и проповедующие его, ожидающие другой жизни после этой смерти, не станем падать духом, не отягчим сердец наших объедением и пьянством, но, препоясавши чресла, с возженными светильниками, спокойно ожидая пришествия Господа нашего, будем поститься и молиться не потому, что завтра умрем, но для того, чтобы умереть в мире. Что еще остается сказать нам, братия, этого во имя Господа требуйте от нас уже в другой раз.
Беседа 22. О воскресении мертвых
1. Памятуя о своем обещании, мы распорядились, чтобы соответствовали тому и чтения: евангельское и апостольское. Те, которые были за первой беседой, помнят, что взятый нами вопрос о воскресении мы разделили на два разсуждения: первое — по поводу тех, которые сомневаются, что будет воскресение мертвых, или даже отвергают его; второе — о том, какова, по учению Свящ. Писания, будет жизнь праведных в воскресении. На первом вопросе, разсуждая о том, что мертвые воскресают, мы, как вы помните, так долго остановились, что для обсуждения другого вопроса недоставало уже времени, и, таким образом, мы вынуждены были отложить его до настоящего дня. Уплаты этого долга требует теперь от нас ваше внимание, и мы знаем, что время платить.
Итак, вместе будем просить с благоговением Господа, чтобы и нам благополучно уплатить долг, и вам спасительно принять его. Вопрос этот, надо признаться, более трудный. Но сильнее всех таких трудностей любовь, которой и должны служить мы так, чтобы Бог, давший нам эту заповедь любви, соделал труды наши легкими и приятными.
2. Помните, что отвечали мы говорящим: Станем есть и пить, ибо завтра умрем, и как апостол обличает их, говоря, что худые сообщества развращают добрые нравы, и давая такое наставление: Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога (1 Кор. 15:33–34). Слова апостола все будем помнить и запечатлеем их в своем сердце. А кто хочет повиноваться им и запечатлеет в своем сердце, тот самым делом докажет пусть это. Всякий слушатель есть как бы поле, принимающее семя сеющего. Кто запечатлевает слышанное в сердце, тот подобен взрывающему землю и зарывающему семя, посеянное в ней. Кто же поступает при этом согласно тому, что принято им и запечатлено на сердце, тот есть именно ожидающий жатвы и приносящий плод в терпении: иной во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать (Мф. 13:23; Лк. 8:15). Для него готовятся житницы, как для хлеба, а не огонь, как для плевел.
Эти сокровенные житницы представляют те блаженные обители в воскресении мертвых и те вечные несказанные сокровища, которые, по слову Писания, они должны будут получить там.
3. В другом месте Господь Иисус Христос называет их (вечные обители) именем сосудов, когда говорит, что Царство Небесное подобно неводу, или сетям, так как иные и сети называются неводом. Подобно, — говорит Он, — Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон (Мф. 13:47–48). Господь наш образно хотел показать здесь, что так же и слово Божие преподается народам и племенам, как невод бросается в море. Собирает Он (Господь) при совершении христианских таинств и добрых и злых. Но не все, коих захватывает невод, собираются в сосуды. Сосуды эти суть обители святых. Тех великих таин (secreta) блаженной жизни удостаиваются не все, именующиеся христианами, а лишь те, кои, именуясь так, таковыми и являются. Конечно, в неводе вмещаются добрые и худые рыбы, и добрые терпят худых, пока, наконец, они не будут отделены. В одном месте Писания сказано: Ты укрываешь их под покровом лица Твоего (Пс. 30:21). Говорится здесь именно о святых. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, т. е. там, куда не могут проникнуть ни взоры людей, ни помышления смертных. Желая обозначить некоторые тайны, слишком сокровенные, псалмопевец и сказал: под покровом лица Твоего (Божия). Но следует ли думать, что Бог имеет некое огромное лицо и что в лице у Него есть некоторое телесное вместилище, где будут скрыты святые? Все такое, братия, представляемое чувственно, должно быть отвергнуто верующими.
Что нужно разуметь под покровом лица Божия, как не то, что остается неузнанным относительно этого лица? Итак, когда говорится о житницах, чтобы обозначить нечто сокровенное, а в другом месте — о сосудах, это не те житницы, которые мы знаем, и не сосуды. Ведь если бы было что–либо одно из этого, оно не обозначалось бы другим именем. Но так как непостижимое, насколько возможно, уясняется людям чрез известные им подобия, принимайте в этом смысле и то и другое наименование, подразумевая таинственное и в имени житницы, и в наименовании сосудов. Но если станете спрашивать, что же это такое (quale secretum), слушайте пророка, который говорит: Ты укрываешь их под покровом лица Твоего.
4. Если же это так, братия, то мы пока странники в этой жизни и живем верою в то неизвестное отечество. И почему это отечество, коего являемся мы гражданами, неизвестно, если не потому, что в своем продолжительном блуждании мы забыли его, так что говорим о нем, как о неизвестном? Забвение это удаляет из сердца нашего Господь Иисус Христос, Царь самого отечества, приходящий к неведающим Его (ad peregrinos). Вследствие принятия плоти, Божество Его становится путем для нас, так что чрез человека–Христа — мы восходим и пребываем во Христе–Боге. Итак, что же, братия, каким словом изъясним мы тайну ту, которой не видел глаз, не слышало ухо, и которая не приходила на сердце человеку (1 Кор. 2:9), или как мы проникнем в нее? Иногда мы не можем выразить и того, что знаем, этого даже, случается, не можем выразить. Если же бывает, что нельзя высказать даже и того, что знаю я, то насколько труднее будет слово мое, когда и я, братия, вместе с вами хожу верою, а не видением (2 Кор. 5:7)? Но я ли только, или сам апостол? Ведь и он утешает нас в нашем незнании и утверждает веру, говоря: Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания… (Флп. 3:13–14), чем показал апостол, что находится в пути. И в другом месте он говорит: Водворяясь в теле, мы устранены от Господа; ибо мы ходим верою, а не видением… (2 Кор. 5–7). И еще: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении (Рим. 8:24–25).
5. Так, братия, выслушайте же от меня поэтому слово благоговейное, смиренное, кроткое, не высокомерное и дерзновенное, не необдуманное и безрассудное. Псалмопевец в одном месте говорит: Я веровал, и потому говорил (Пс. 115:1). Приведя эти слова, апостол добавляет: И мы веруем, потому и говорим… (2 Кор. 4:13). Итак, хотите ли, чтобы я говорил вам, что знаю? Не хочу обманывать вас — слушайте от меня то, во что я уверовал. Пусть не покажется вам малоценным, если слышите вы то, во что я уверовал, потому что слышите вы мое истинное исповедание. Ведь если бы я стал говорить: вот, послушайте, что я знаю, вы услышали бы только одно безрассудное самомнение. Все мы, братия, а также, как повествуют писания святых, и все те, которые прежде нас жили во плоти, чрез которых Дух Божий, говоря, сообщал людям столько, сколько нужно было для странствующих, — все говорим то, чему веруем; Господь один лишь говорит то, что знает. Но что же из того, если один Господь говорит о будущей вечной жизни то, что знает, а другие — последователи Господа — говорили об этом лишь потому, что верили?! Но мы знаем, что и Сам Господь наш Иисус Христос иногда не говорит того, что знает. В одном месте Он сказал ученикам Своим: Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить (Ин. 16:12), вследствие немощи их, а не вследствие того, что не мог, не хотел сказать Он того, что знал. По причине этой общей всем нам немощи и мы не то, что знаем, хотим высказать достойно, но чему верим, то изъясняем, как можем; вы же, насколько можете, принимайте это. И если кто из вас может разуметь больше, нежели я могу сказать, тот пусть не останавливается около малого ручейка, но стремится к преизобильному источнику; потому что у Того источник жизни, во свете Коего мы увидим свет (Пс. 35:10).
6. Итак, что будет воскресение мертвых, мы уже говорили об этом (disputavimus). Так мы веруем, так должны верить; так говорим мы, потому что так уверовали — если только мы христиане — созерцая могущество руки Господней, всюду поражающей гордость языческую и столь широко распространяющей эту веру по лицу земли, как это обещано было гораздо ранее, чем случилось. Видя это, мы побуждаемся к вере в то, чего еще не видим, чтобы получить самое видение, как награду за веру. И так как теперь ясно для веры нашей, что будет воскресение мертвых, так ясно, что если бы кто усомнился в этом, тот недостойно носил бы и самое имя христианина, возникает вопрос далее о том, какие тела будут иметь святые, и какова будет жизнь их? Многие думают, что если и есть воскресение, то только духовное (per solas animas).
7. Однако, о том, что и тела воскреснут, нет нужды долго говорить после предшествующей беседы. Теперь возникает такого рода вопрос; если воскреснут тела, то каковы они будут: такие ли, как теперь, или другие? Если другие, то какие? Если такие же, то, следовательно, способны они на те же и дела? Но что неспособны они на те же дела, об этом говорит Господь и учит апостол. Не для той же ведь жизни предназначаются они, не для тех же дел смертных, тленных, временных и преходящих, не для телесных радостей, не для плотских наслаждений. Если же предназначены они не для тех же дел, то, следовательно, и не таковы они будут. Если не таковы, то как же воскреснет тело? Учение о воскресении тела содержим мы, как основное учение веры, и крестимся, исповедуя это учение. И что мы там исповедуем, исповедуем от истины и в истине, в которой мы живем и движемся и существуем. Ведь временными деяниями и некоторыми преходящими, совершающимися пред нами, фактами мы назидаемся (instruimur) для жизни вечной. И все, что совершилось в истории веры Христовой, совершилось для того, чтобы мы слышали нечто спасительное для нас, как то: рождение Господа нашего, Его голод и жажда, узы, поношение, бичевание, распятие, смерть, погребение, воскресение, на небеса восхождение. Все это прешло, и когда предсказывались эти события, предсказывались некоторые временные и преходящие явления веры нашей. Но разве, от того, что они (явления эти) преходят, преходит и то, в чем они назидают? Пусть попытается святость ваша уразуметь это чрез некоторое подобие. Вот архитектор строит посредством временных приспособлений дом. Ведь и в этом, столь великом, просторном здании (проповедник разумеет, без сомнения, базилику, в которой произносит свою беседу), когда строилось оно, были приспособления, которых здесь нет теперь, потому что то, что строилось посредством их, стоит уже законченным. Так, братия, созидалось нечто и в вере христианской, и здесь нужны были некоторые временные посредства. Ведь, например, что Господь наш Иисус Христос воскрес — это уже прешло. Теперь Он уже не воскресает. То, что вознесся на небо, тоже прешло, и Он уже не возносится. А что Он уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6:9), что вечно остается в Нем человеческая природа, которую принять, в которой родиться, умереть и быть погребенным благоволил Он, это и есть именно то, что как бы уже закончено и что остается вечным. Орудия, чрез которые создано это, прешли. Потому что не всегда зачинается во утробе девичей, не всегда рождается от Девы Марии Христос, не всегда подвергается заключению, не всегда судится, бичуется, распинается и погребается. Все это были посредства, чтобы чрез них могло быть создано то, что пребывает вечно. Теперь воскресший Господь наш Иисус Христос пребывает на небе (Haec autem resurrectio Domini nostri Jesi Christi in coelo posita est).
8. Пусть же любовь ваша обратит внимание на это дивное строение. Вот, и земные здания своею тяжестью давят землю, и все направление тяжести в этом большом строении опирается на землю, и если нет поддержки, стремится книзу, куда влечет его тяжесть. Следовательно, когда постройка воздвигается на земле, в земле предварительно закладывается фундамент, чтобы уже над фундаментом спокойно мог строить тот, кто ведет постройку. Таким образом, внизу кладет он крепчайшие глыбы, чтобы они удобно могли выдерживать то, что накладывается сверху, и сообразно с величиною здания бывает величина фундамента, который закладывается, как я сказал, в земле, потому что и то, что строится сверху, строится во всяком случае на земле. Иерусалим же наш тот горний (peregrinus) созидается на небе. Потому и восшел Христос, основание его, на небо. Там фундамент наш и глава Церкви, так как ведь и фундамент называется главою, и на самом деле бывает так. Фундамент есть глава здания, и заглавие бывает не там, где кончается что–либо, но где стих начинается. Вершины земных зданий выдаются вверх, основу же их (главу) утверждают в земле. Так и глава Церкви — Христос — возшел на небо и сидит одесную Отца. Как поступают люди, когда, в видах укрепления основания, употребляют нечто такое, что закладывают внизу для безопасности поднимающейся вверх громады будущего строения, так и все то, что случилось со Христом: рождение, возрастание, заключение, поношение, бичевание, распятие, смерть, погребение — все это употреблено, как средство, в фундамент небесного здания.
9. Итак, если вверху (in summis) положено основание наше, то и будем утверждаться на нем. Слушай апостола. Никто — говорит он, — не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11), — и далее: Строит ли кто, — продолжает апостол, — на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы… (1 Кор. 3:12). Христос, хотя на небе, но также и в сердце верующих. Если первое место здесь занимает Христос, то основание положено правильно. И кто строит, пусть строит спокойно, если по достоинству фундамента строит из золота, серебра и драгоценных камней. Если же кто берет материал не по достоинству фундамента: дерево, сено, солому — тот пусть хранит, по крайней мере, фундамент и с тем, что выстроил, пусть готовится для испытания на огне. Однако, если у кого–либо есть фундамент, т. е. если первое место в сердце занимает Христос, а все временное ценится так, что Господь Христос предпочитается ему и занимает в сердце фундамент, т. е. первое место, такой, по слову апостола, потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня (1 Кор. 3:15). Теперь нет времени увещевать вас, чтобы вы лучше строили на столь великом и крепком фундаменте из золота, серебра и драгоценных камней, а не из дров, сена и соломы; но и кратко сказанное примите так, как будто бы было говорено оно долго и во многих словах. Ведь если бы кому–либо из вас, братия, за то, что он любит теперь, угрожало заключение в смрадной тюрьме, он скорее бы пожелал лишиться всего, нежели попасть в такое место. Но вот, не знаю, почему, когда говорится об огне будущего суда, все к этому равнодушны и, боясь обыкновенного пламени, пламя геенны считают ни во что. Какое еще нужно ожесточение? Какое еще развращение сердца? Пусть бы хотя так люди боялись слов апостола об огне, как всякий боится, чтобы не сгореть живым, что происходит скоро, пока оставляющее тело ощущение не сделает излишним самого пламени, и все же человек боится мучения и не делает того, что запрещается законом, опасаясь попасть в место даже кратковременного страдания.
10. Впрочем, братия, повторяю, теперь нет времени разсуждать об этом предмете. Скажу лишь, что того же нужно ждать нам в воскресении мертвых, что случилось с Главою нашею, что произошло с телом Господа нашего Иисуса Христа. Кто думает иначе, тот уже не строит на основании не только из золота, серебра и драгоценных камней, но даже и из соломы. Вне основания полагает все, потому что не на Христе полагает. Господь наш воскрес в том теле, в каком был погребен. Воскресение обещается и христианам. Будем же ожидать такого воскресения, какое в Господе нашем предшествовало общей вере нашей. Для того предшествовало, чтобы на нем утверждалась эта вера. Итак, что же? Почему же не такими мы будем, каковы теперь? Потому что плоть Господа нашего Иисуса Христа воскресла, но вместе и вознеслась на небо. На земле если и совершала она земные дела, то для того лишь, чтобы убедить, что воскресло то именно, что и погребено было. Но разве и на небе такая же пища для нее!? Как известно, и ангелы на земле совершали дела человеческие. Явились они к Аврааму и ели. С Товией также был ангел и вкушал пищу. Зачем говорить, что вкушение то было призрачное, а не действительное? Разве неизвестно, что Авраам заколол теленка, взял хлебы и положил на стол, что он служил ангелам, и они ели (Быт. 18:1–9)? Все это произошло действительно и выражено весьма ясно.
11. Но что говорит в книге Товита ангел? Видите вы меня вкушающим, но только взорам вашим представляется это (см. Тов. 12:19). Неужели это значит, что он не вкушал, но только казалось, что вкушал? Что же значат эти слова: Только взорам вашим представляется это? Но пусть святость ваша внимает тому, что я говорю; более внимательны будьте к словам моим, а не ко мне, чтобы, как вы могли понять то, что мы говорим, так и мы могли бы сказать это с пользою для вашего слышания и понимания. Ведь тело наше, пока оно тленно и смертно, постоянно нуждается в подкреплении, иначе является голод. Мы голодаем и жаждем, и если терпим голод и жажду более, чем тело может перенести, оно приходит тогда в опасное истощение и в некоторую болезненную слабость, когда силы его падают и не поддерживаются. Если же это продолжится, то следует смерть. И всегда из нашего тела выходит нечто, как бы в какое выходное русло; но мы не чувствуем упадка сил, потому что чрез подкрепление себя получаем новые силы. Что входит в нас вдруг (copiose), то выходит постепенно, так что подкрепляемся мы в короткое время, а ослабеваем мало–помалу, в течение более продолжительного времени, лишаясь тех сил, кои получаются нами при подкреплении. Как масло вливается в светильник в короткое время, а горит понемногу и долго, когда же сгорит почти все, тогда слабость пламени, как бы голод светильника, заставляет нас позаботиться о поддержании его и снова является в светильнике свет, подкрепленный своей пищей, когда вливается туда масло, так силы наши, которые получаем мы вследствие принятия пищи, хотя и постепенно (paulatim), исчезают и оставляют нас. Ведь это самое совершается в нас и теперь, во время всех действий наших, и во время самого даже покоя нашего не перестает выходить из нас то, что получено. И если совсем будет израсходовано, тогда человек умирает, гаснет, как свеча. Но чтобы не умирать, т. е. чтобы не уничтожалась, не прекращалась эта телесная наша жизнь и чтобы дать телу некоторую бодрость, мы стараемся возместить то, что уходит, и подкрепляем себя. Зачем бы стал человек подкреплять себя, если бы нисколько не ослабевал? Вследствие таковой немощи нашей и тления мы и умрем все, так как тело наше таково, что подлежит смерти. Эту смертность знаменуют и кожи, в которые оделись Адам и Ева, когда изгнаны были из рая (Быт. 3:21–24). Смерть знаменуют они, так как берутся обыкновенно с мертвых животных. Итак, пока мы носим эту тяготеющую над нами немощь, которая, хотя бы и никогда не было недостатка в пище для нее, почерпает отсюда лишь некоторые силы, но не делается совсем безсмертной (так как тело, с постепенным увеличением возраста, достигая некогда предела старости, не найдет далее ничего, кроме смерти; ведь и светильник, хотя бы ты всегда подливал масло, не вечно будет гореть и, если не гаснет от других причин, самая сердцевина его, в конце концов, слабеет и уничтожается от некоторой как бы старости), пока, говорю, мы имеем такие тела, мы, вследствие слабости нашей, терпим нужду, голодаем и, побуждаемые голодом, принимаем пищу. Ангел же не вследствие такой нужды принимает пищу. Одно значит делать что–нибудь добровольно (ex potestate), и другое — по необходимости. Вкушает человек, чтобы не умереть; вкушает ангел, чтобы уподобиться смертным. Потому что, если ангел не боится смерти, то он не нуждается и в подкреплении от слабости; если не нуждается в подкреплении от слабости, следовательно, не от нужды вкушает. Но те, которые видели ангела вкушающим, считали его как бы терпящим голод. Это именно и означают слова: Но только взорам вашим представляется это. Не сказал он: вы видели меня вкушающим, но я не вкушал. Видите, — сказал он, — меня вкушающим, но только взором вашим представляется это, т. е. я вкушаю, чтобы уподобиться вам, не потому, что я терплю какой–либо голод или нужду, по причине чего сами вы привыкли вкушать пищу, так что, когда увидите кого вкушающим, думаете, что это делается по нужде, вы, которые по своим привычкам судите о том, что видите. Вот что значат слова: Только взорам вашим представляется это.
12. Итак, что же, братия мои? Зная, — как говорит апостол, — что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога (Рим. 6:9–10). Итак, если Он уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти, то и мы будем надеяться, что воскреснем, и в том же виде (statu) пребудем, в какой изменимся при воскресении. И хотя будем иметь возможность есть и пить, но необходимости для этого у нас не будет тогда. Если же Господь вкушал по воскресении, то лишь потому, что во плоти еще были те, коим Он хотел уподобиться и коим считал нужным показать даже раны Свои. Тот, Кто создал очи слепому, коих он не получил во утробе матери, имел силу воскреснуть и без язв.
Если бы хотел Он немощь плоти Своей даже прежде смерти изменить так, чтобы она не подлежала никакому закону необходимости (ut non haberet aliquam necessitatis inopiam), то мог бы, конечно: это было в Его власти, потому что был Он Бог во плоти и Сын столь же Всемогущий, как Всемогущ Отец. И Он, действительно, прежде смерти Своей изменял тело Свое, как хотел. Так, когда был Он на горе с учениками Своими, лице Его просияло, как солнце (Мф. 17:2). Это Он сделал Своею силою, желая показать, что Он мог бы избавить плоть Свою от всякой немощи (если бы это было угодно Ему), так чтобы она не умирала. Имею власть, — говорит Он, — отдать ее (душу Свою) и власть имею опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня… (Ин. 10:18). Подлинно, великая власть, по которой Он мог бы и не умереть. Но больше ее было милосердие, вследствие коего Он благоволил претерпеть смерть. Чего мог бы и не делать по Своей власти, это сделал Он по Своему милосердию, чтобы положить основание нашему воскресению, так что то именно смертное, что принял Он ради нас и умирало в Нем, потому что и мы умрем, оно и воскресло к безсмертию, чтобы и мы получили упование безсмертия. Поэтому в Писании и говорится, что прежде смерти Он не только ел и пил, но терпел голод и жажду, а после воскресения только ел и пил, но не голодал и не жаждал, так как пребывал в теле, более уже не подлежащем смерти, в теле нетленном, подкреплять которое не было необходимости, хотя способность принимать пищу и была в Нем. Делалось это для уподобления, не с тем, чтобы подкрепить немощную плоть, а чтобы доказать, что то была истинная плоть.
13. Однако, против этой столь несомненной истины некоторые делают следующее возражение. Нет, говорят они, не воскреснет плоть. Потому что, если воскреснет, то, следовательно, наследует и Царствие Божие. Апостол же ясно говорит, что: Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор. 15:50). Итак, неужели мы проповедуем несогласно с учением апостола, или и сам он проповедовал несогласно с Евангелием? Евангелие Божественными устами свидетельствует: И Слово стало плотию и обитало с нами… (Ин. 1:14). Если стало плотию, то плотию, конечно, истинною. Ведь если бы не было истинной плоти, но было бы и плоти. Как истинна плоть Марии, так истинна и плоть Христа, от нее зачатая. Эта истинная плоть была схвачена, подверглась бичеванию, заушению и распятию. Она умерла и была погребена. Эта же истинная плоть и воскресла; свидетельствуют о том раны на теле, видят это тело ученики своими глазами и дивятся, ощупывают его руками, чтобы не сомневался дух. Неужели же, братия, эту столь же очевидную истину, которую таким образом благоволил Господь доказать ученикам Своим, имевшим проповедовать по всей земле, хочет опровергнуть, по–видимому, апостол, когда говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия?
14. Уже этого одного достаточно было бы для обличения указанного пустословия лжецов. Однако же, тщательнее вникнем в то, что говорит апостол, и почему оно сказано. Постараюсь говорить так, чтобы по возможности легче было дать ответ противникам. О чем повествует Евангелие? О том, что Христос воскрес в том самом теле, в каком погребен, что Его видели и осязали, что ученикам, думающим о Нем, что то был дух, Он говорит: Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня (Лк. 24:39). А что говорит апостол? Плоть и кровь, — говорит он, — не могут наследовать Царствия Божия. Однако, и то и другое примиряю я. Не хочу говорить, что тут есть противоречие, чтобы не идти против рожна. Но каким образом возможно примирить то и другое? Кратко можно было бы ответить на это так: апостол говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия. Правильно говорит он, потому что не прилично плоти наследовать, обладать, но быть обладаемой. Ведь не тело твое владеет, например, чем–либо, а владеет душа твоя, которая владеет и телом самым. Следовательно, если так воскреснет тело, что не только не будет иметь чего–либо, но само будет составлять принадлежность другого, если оно не будет владеть, а само составит предмет обладания, то что удивительного, если плоть и кровь Царствия Божия не наследуют, так как сами будут находиться во власти другого? Над теми только владычествует плоть, которые составляют не Царство Божие, но царство диавола и служат удовольствиям плоти. Потому и разслабленный принесен был на постели, но Господь, исцелив его, говорит ему: Возьми постель твою и иди в дом твой (Мк. 2:11). Исцелившись от паралича, он уже владеет плотию и ведет ее, куда хочет; не влечется сам ею, куда не хочет, но сам управляет телом своим, а не оно управляет им. Несомненно, что и в будущем воскресении плоть не будет иметь увлекающей силы, чтобы чрез некоторые обольщения и приманки вести душу туда, куда она не хочет, и, однако, преодолевается часто, говоря с апостолом: В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих (Рим. 7:23). Это значит, что разслабленный еще как бы на постели, не в состоянии сам нести. Пусть же восклицает он: Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? — и пусть в ответ на это говорит: Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 7:24–25). Таким образом, когда мы воскреснем, не плоть будет управлять нами, а мы плотию; если же так, то мы будем и владычествовать над нею, потому что, освободившись от власти диавола, мы будем Царством Божиим.
Итак, плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Пусть же умолкнут поэтому те пустословы, которые действительно суть плоть и кровь и не могут мыслить иначе, как только о плотском. О них–то именно, погрязших в плотских вожделениях, почему и называются они справедливо плотию и кровью, и говорится, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия.
Так можно решать этот вопрос, т. е. что не могут наследовать Царствия Божия люди, именующиеся плотию и кровию (их также имеет в виду апостол, когда говорит: Наша брань не против плоти и крови… Еф. 6:12), если они не обратятся от плотской жизни к жизни духовной и духом не умертвят греховных дел плоти.
15. Что же говорит апостол? — спросит кто–нибудь. Конечно, то толкование следует считать более истинным, которое согласуется с контекстом речи. Поэтому, самого его лучше послушаем и, по связи речи, посмотрим, что хотел высказать он в этом месте. А говорит он так: Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные; и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления (1 Кор. 15:47–50). Разсмотрим это поподробнее. Первый человек, — говорит апостол, — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба, Каков перстный, таковы и перстные», т. е. все смертны. И каков небесный, таковы и небесные, т. е. все воскреснут. Уже воскрес небесный человек и вознесся на небо. Посредством веры мы возсоединяемся с Ним, так что Он является Главою нашей, а члены в своем порядке следуют за Главою, и что ранее показано было во Главе, это в свое время явлено будет и в членах. Пока же будем содержать это и носить верою, чтобы в свое время достигнуть и вúдения. Так и в другом месте говорит апостол: Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном (Кол. 3:1–2). Таким образом, хотя мы еще и не воскресли, подобно Христу, телом, говорится, однако, что верою мы воскресли со Христом; так же точно апостол заповедует нам носить образ небесного человека, т. е. Того, Который уже на небесах.
16. Когда же кто спросит, почему о втором человеке говорит апостол, что он с неба, хотя Господь принял тело от земли, и Мария также произошла от Адама и Евы, такой пусть знает, что человек назван «перстным» по причине того земного вожделения, той земной страсти, когда, в силу сопряжения мужа и жены, рождаются люди, наследуя от родителей и грех первородный. Тело же Господа воспринято было Им от утробы девичей отнюдь не вследствие такого вожделения. На основании этого, хотя Христос и от земли принял плоть, на что указывает, по толкованиям, Дух Святый, когда говорит устами пророка, что истина возникнет из земли (Пс. 84:12), однако же, Он называется не земным, а небесным человеком, Господом с неба. Потому что, если и верующим дал Он это право (наименования) по Своей милости, так что апостол справедливо указывает наше жительство — на небесах (Флп. 3:20), то насколько более должен быть назван небесным человеком Тот, в Ком никогда не было никакого греха? Ведь вследствие греха, сказано было человеку: Земля еси, и в землю отыдеши (Быт. 3:19). Следовательно, по справедливости называется небесным Тот, Коего жительство всегда на небесах, хотя Сын Божий, сделавшись также Сыном Человеческим, и принял тело от земли, т. е. хотя и принял образ раба, так как никто не восходит куда–либо, если сначала не сойдет. Вместе с Ним восходят в Нем и прочие, кому Он соблаговолил дать это право, потому что они делаются телом Его. Тайна эта великая по отношению ко Христу и к Церкви. И будут двое одна плоть, — пишет апостол (Еф. 5:31). Также и в другом месте говорится: Они уже не двое, но одна плоть (Мф. 19:6). И еще: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах (Ин. 3:13). Для того прибавлено здесь: Сущий на небесах, чтобы кто–нибудь не подумал, что Он оставил жительство на небесах, когда явился в телесном виде на землю. Итак, как носили мы образ перстного, будем носить и образ небесного, именно верою, чрез которую мы и воскреснем с Ним, ища горнего, где Христос сидит одесную Бога. И потому будем стремиться к горнему, о горнем помышлять, а не о земном.
17. Но апостол говорит здесь и о воскресении тела, потому что раньше он ставит такой вопрос: Но скажет кто–нибудь: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? (1 Кор. 15:35) И для того сказал он: Первый человек из земли перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные, чтобы мы надеялись, что и с нашим телом совершится то же, что случилось ранее с телом Христа, и так как мы еще не получили этого, то содержим теперь пока верою, почему он далее и говорит: Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Однако, чтобы не подумали мы, что воскреснем для тех же дел, какие свойственны первому перстному, тленному человеку, он тотчас же прибавляет: Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор. 15:50), желая показать при этом, что называет он плотью и кровью не самое тело, а тление, коего тогда (в Царстве Божием) не будет. Это будет тело без тления (corpus), но не плоть (caro) и кровь. Если плоть, то значит, умирает. Если же не умирает и не подвергается тлению, то это уже называется не плотью, а телом. Если же и называется иногда плотью, то не в собственном смысле, а лишь по причине видимого только сходства. На основании этого сходства можем мы говорить даже о плоти ангелов, когда являлись они людям в образе людей, хотя они имели тело, а не плоть, потому что им не было свойственно тление. Вот поэтому–то, т. е. так как можем мы по сходству называть плотию и тело нетленное, апостол попечительно потом и указывает, что именно называет он плотию и кровию. А желая показать, что он имеет в виду здесь именно тление, а не тело само по себе, он тотчас же прибавляет: И тление не наследует нетления (1 Кор. 15:50). Как бы так говорит он: а что сказал я: Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, — сказал это в том смысле, что тление не наследует нетления.
18. Но кто–нибудь станет говорить, пожалуй: если тление не будет иметь места там, то как же там может быть тело наше? Что говоришь ты? — как бы так кто–нибудь стал возражать апостолу. Не напрасно ли верим мы в воскресение плоти? Если плоть и кровь Царствия Божия не наследуют, то не напрасно ли мы верим, что Господь наш воскрес из мертвых в теле, в каком рожден и распят, что Он вознесся на небо на глазах учеников Своих, с какового неба говорил потом к тебе: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? (Деян. 9:4) Приходило, конечно, и это возражение на мысль святому и блаженному апостолу Павлу, рождающему детей своих благовествованием во Христе Иисусе (1 Кор. 4:15), которых хотел рождать он до тех пор, пока не изобразится в них Христос (Гал. 4:19), т. е. пока не станут они верою носить в себе образ Того, Который есть «Господь с неба» (qui de coelo est). Не желал он, понятно, чтобы оставались они в заблуждении и воображали, что и в Царстве Божием, в той вечной жизни станут они делать то же самое, что делали в этой жизни, — есть, пить, выходить замуж, жениться и рождать по плоти, потому что эти дела свойственны тлению, а не самому виду плоти (haec enim opera corruptio carnis habet, non ipsa species carnis).
Итак, что мы воскреснем не для таких дел, на это раньше указал, как уже говорено было, Господь в евангельском чтении, которое только что читано было. Иудеи, хотя и верили в воскресение плоти, однако думали, что в воскресении будет та же жизнь, какую они проводят в этой жизни. Притом, думая так плотски, они не могли ответить саддукеям, предложившим им вопрос, касающийся воскресения, кому женою будет женщина, которую последовательно брали себе в жены семь братьев, каждый желая возстановить семя умершему брату своему. Саддукеи — это была секта иудейская, не признававшая воскресения. Иудеи не могли ответить на этот вопрос им и чувствовали себя в затруднении, потому что думали, что Царствие Божие доступно для плоти и крови, т. е. нетление возможно для тления. Но вот приходит Сама Истина и вопрошается и обольщенными, и обольстителями–саддукеями; вопрос этот предлагается Господу. И Господь, зная, что сказать, и желая, чтобы мы верили в то, чего не знаем, авторитетом величия Своего утверждает то, чему мы должны верить. Апостол же поясняет это, насколько ему дано было, чтобы мы, по мере возможности, могли уразуметь то. Итак, что же отвечает Господь саддукеям? Заблуждаетесь, — говорит Он, — не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж …и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии… Велико могущество силы Божией. Почему не выходят замуж в воскресении, почему не женятся? Потому что не могут умереть, потому что только там прибыль, где убыль (ibi enim successor, ubi decessor). В воскресении же не будет тления. Сам Господь наш проходил возраст от младенчества до юности, потому что носил существо смертной плоти. Но после того как воскрес он в том возрасте, в каком погребен, — станем ли мы думать, что Он и на небе проходит возрасты (senescere)? Но там пребывают, — говорит Он, — как ангелы Божии. Так Им с корнем вырвано заблуждение иудеев и отвергнута ложь саддукеев, потому что иудеи, признавая, что и мертвые воскреснут, думали, что воскреснут для плотских дел. Итак, будут там, говорит Господь, как ангелы Божии. Вот, выслушал ты о силе Божией. Теперь послушай, что говорит Господь и о Писании. А о воскресении мертвых не читали ли вы, — заключает Он, — реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых (Мф. 22:23–32;Лк. 20:27–38).
19. Итак, о том, что мы воскреснем, было уже сказано. О том, что воскреснем для жизни ангельской, слышали вы от Господа. А в каком образе воскреснем, это Он Сам показывает в Своем воскресении. Что не будет там тления, апостол так говорит об этом: Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления (1 Кор. 15:50), желая последними словами показать, что под именем плоти и крови он разумеет тленность смертного, животного тела. Затем, он сам уже разрешает вопрос, с которым могли бы обратиться к нему любознательные слушатели, потому что более внимателен он к разумению детей своих, нежели дети к словам родителей. Говорю вам тайну, — добавляет он. Пусть исчезнет пытливость твоя, человек, кто бы ты ни был. Вот стал ты думать по поводу слов апостола, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, будто плоть человеческая не воскреснет. Но выслушай дальнейшие слова и исправь дерзость мысли своей. Говорю вам, — замечает апостол, — тайну: все мы воскреснем, но не все изменимся (omnes resurgemus, non tamen omnes immutabimur) (1 Кор. 15:51) [32]. Что же это значит? Перемена, конечно, может быть или к худшему, или к лучшему. Итак, если имеет быть перемена, и мы еще не видим, к лучшему ли будет она, или к худшему, пусть же он сам продолжит и изъяснит это. Зачем гадать нам о том? Может быть, авторитет апостола не даст тебе впасть в заблуждение при твоих гаданиях и ясно укажет, какого рода перемена разумеется тут. Так как сказал он: все воскреснем, но не все изменимся, — заключаю отсюда, что все воскреснут: и добрые и злые. Но посмотрим, кто изменяется, и отсюда уразумеем, будет ли то перемена к лучшему или к худшему. Потому что если та перемена относится к злым, то она будет к худшему, а если к добрым — то к лучшему. Вдруг, — говорит апостол, — в мгновение ока, при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся (et nos immutabimur) (1 Кор. 15:52). И уж, конечно, к лучшему будет перемена эта, когда говорит: А мы изменимся. Однако, здесь не указывается с достаточной ясностью, в какой степени тело наше изменится к лучшему, и не сказано, в чем будет заключаться это лучшее. Ведь и во время перехода от младенчества к юношескому возрасту можно говорить, что тело меняется к лучшему, когда делается более крепким, но все же еще остается немощным и смертным.
20. Итак, отнесемся повнимательнее к этим словам апостола. Вдруг (in atomo), — говорит. Трудным кажется людям воскресение из мертвых. Но достойно удивления то, как апостол устраняет из сердец верующих кажущиеся трудности. Вот, говоришь ты, что мертвые не воскреснут. Я же говорю, что мертвые не только воскреснут, но воскреснут еще с большей быстротой, нежели ты мог возникнуть и родиться. Потому что сколько времени нужно, чтобы человек мог образоваться во чреве, чтобы мог развиться, родиться и со временем окрепнуть? Нежели то же будет и при воскресении? Нет. Но вдруг, — говорит апостол. Многие не знают, что значит вдруг, во мгновении, в атоме (in atomo). «Атом» производится от греческого слова «τομή», что значит деление. По–гречески атомом называется то, чего нельзя разделить. Атом может быть в теле, может быть и во времени. В теле, когда оказывается нечто такое, чего нельзя разделить, некоторая весьма маленькая частица, недоступная для деления. Также и во времени атомом называется момент столь короткий, которого нельзя разделить. Чтобы и наименее догадливые могли понять слова мои, укажу, например, хоть на камень; раздели камень на части, эти части на более мелкие камешки, камешки на крупицы, подобные песчинкам, и опять эти последние — на мельчайшие частицы до тех пор, пока, если возможно, не получишь некоторой столь малой частицы, которой уже нельзя разделить. Это атом в телах. Во времени же это бывает так. Вот, например, год делится на месяцы, месяцы на дни, дни на часы, часы опять на некоторые свои части, которые допускают деление, до тех пор, пока дойдешь до такого момента времени, до такого мгновения, где невозможно уже никакое замедление, и которого поэтому нельзя уже разделить. Это и есть мгновение (atomus времени. Итак, вот ты говорил, что мертвые не воскреснут. Однако же, они не только воскреснут, но с такою быстротою воскреснут, что воскресение всех мертвых произойдет мгновенно (in atomo temporis). Тот, кто указал тебе на эту быстроту, тотчас же и пояснил это, добавив: Во мгновение ока. Понимал апостол, что сказал не совсем ясно: «in atomo» — и захотел выразить пояснее, чтобы было более понятно. Что такое мгновение ока? Не то это, когда мы закрываем или открываем веки, но мгновением ока называет он как бы некоторое испускание луча зрительного. Потому что лишь только ты устремишь взор, испущенный тобой луч зрения тотчас же достигает неба, где мы видим солнце, луну и звезды, отделенные от земли огромным разстоянием. Говорит также апостол о последней трубе, о последнем сигнале. Ибо вострубит, — пишет он, — и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Когда говорит мы, разумеет во всяком случае верных, воскресающих для вечной жизни. Следовательно, перемена та, так как она относится к благочестивым и святым, будет переменою к лучшему, а не к худшему.
21. Но что это будет за перемена, и что означают слова его: А мы изменимся? Вид ли только изменится, который теперь имеет тело наше, или только не будет там тления, так как сказано, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления? Но чтобы это не порождало сомнения касательно воскресения плоти, он прибавил: Говорю вам тайну: все мы воскреснем, но не все изменимся. И чтобы не думали, что изменение это будет к худшему, он замечает потом: А мы изменимся. Остается, таким образом, чтобы он объяснил, каково будет изменение. Ибо тленному сему, — продолжает апостол, — надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в безсмертие (1 Кор. 15:53). Если тленное это облечется в нетление и смертное это облечется в безсмертие, то плоть, следовательно, уже не будет тленной. Если плоть не будет тленной, не должно быть и указания на свойство тления в плоти и крови, не должно быть и самого названия плоти и крови, потому что название это совмещает в себе понятие смертности. Если же это так, если плоть воскреснет и если она изменится и будет нетленной, то ясно, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия. Если же кто будет иметь в виду здесь перемену тех, коих последний день тот застанет в живых еще, когда умершие воскреснут, а оставшиеся в живых изменятся, и если именно их разумеет апостол, когда говорит: А мы изменимся, то и такое понимание возможно допустить, потому что нетление то относится ведь ко всем. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в безсмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою (1 Кор. 15:54). Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? (Ос. 13:14). Тело, которое не имеет уже свойства смертности, нельзя назвать уже собственно плотию и кровию, каковые наименования прилагаются к земным телам; но называется оно телом (corpus), каковое название лучше приличествует небесному. Тот же апостол, говоря о различии тел пишет: Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные (1 Кор. 15:39–40). Он говорит о плоти небесной. Хотя плоть и может называться телом, но только земным телом. Потому что всякая плоть — тело, но не всякое тело — плоть. И не только небесные тела не называются плотию, но даже и некоторые тела земные, как, например, дрова, камни и т. п. Следовательно, плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, потому что имеющая воскреснуть плоть преобразится в такое тело, где уже не будет смертности и тления, а потому не будет и самого названия плоти и крови.
22. Однако же, будьте внимательны, братия. Предмет этот немаловажный. Дело идет о нашей вере, для которой не столько опасны язычники, сколько иные лжеучители (perversi), которые хотят именоваться и казаться христианами. И во времена апостолов были люди, которые утверждали, что воскресение уже совершилось и растлевали веру, которые, — по словам апостола, — отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру (2 Тим. 2:18). Смерть уже уничтожена, говорят они, и ее не будет. Смертное поглощено жизнью, по слову апостола (2 Кор. 5:4). Так и о Господе сказано, что Он победил смерть (2 Пет. 3:22). Не так, как бы исчезла смерть по своему существу, но в том теле, где уже она была, перестанет быть, так что будешь иметь некоторый вид, некоторую внешность, однако же станешь искать тления и смертности и не найдешь. Не так, чтобы кто–либо свободен был от тления. Но оно со смертью прекращается, уничтожается. Однако же, как в таком случае мог он сказать эти слова: Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в безсмертие… тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? И не говорит он: ушла смерть в победу, но: Поглощена смерть победою. Итак, в чем они отступили от истины? В том, что, признав одно воскресение, они отвергли другое.
23. Есть, ведь, воскресение по вере, в которой всякий верующий воскресает духовно. И, конечно, только тот воскреснет телесно, кто сначала воскрес духовно. Которые сначала не воскресли духовно, посредством веры, те не воскреснут для той перемены телесной, где прекратится и уничтожится всякое тление, а воскреснут для мучительной безконечности (ad illam poenalem integritatem). Целы ведь будут и тела нечестивых. Ничего они не потеряют. Но для наказания будет эта целость тела и некоторая, как бы сказать, крепость его, тленная крепость, потому что где скорбь, там нельзя сказать, что нет тления, хотя во время скорби и не прекращается немощность, чтобы не прекратилась самая скорбь. И не напрасно самое тление обозначается пророчески именем червя, а скорбь — именем огня. Но так как свойство тела будет таково, что ни вследствие мук оно не может умереть, ни измениться не может в нетление, так чтобы сделаться недоступным ни для какого страдания, потому и написано: Червь их не умрет, и огонь не угасает (Ис. 66:24; Мк. 9:46). Изменение же, когда тело не будет способно к тлению, свойственно будет телам лишь святым, именно тем, которые теперь воскресают духовно посредством веры. Об этом воскресении апостол говорит: Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:1–3). Как умираем мы духовно и духовно воскресаем, так потом умираем телесно и телесно воскресаем. Духовная смерть требует, чтобы не верить тому суетному, чему раньше верили, не делать того зла, какое прежде делали. Духовное воскресение есть признание спасительным того, чего раньше не признавали, и делание добра, коего раньше не делали. Кто признавал ранее земных идолов и изображения за богов и познал потом единого Бога, уверовал в Него, тот умер для идолослужения и воскрес посредством веры христианской. Кто был пьяницей и стал воздержным, тот умер для пьянства и воскрес для трезвости. Так, когда душа удаляется от всяких дурных дел, в ней происходит как бы некоторая смерть, и снова воскресает она к совершению добрых дел. Умертвите, — говорит апостол, — земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение (Кол. 3:5). Умертвив эти члены, мы возстаем в совершении дел, противоположных им: в чистоте, кротости, любви и милосердии. И как смерть духовная предшествует духовному воскресению, так смерть по плоти предшествует будущему по плоти воскресению.
24. Итак, будем признавать то и другое воскресение: и духовное, и телесное. К духовному относятся слова: Встань, спящий, и воскресни из мертвых (Еф. 5:14), и еще: На живущих в стране и тени смертной свет возсияет (Ис. 9:2), а также и то, о чем я несколько выше упоминал: Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. К телесному воскресению относится то, что говорит апостол, когда задает себе такой вопрос: Но скажет кто–нибудь: как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? (1 Кор. 15:35), разсуждая ясно о воскресении тела, коим Господь предварил церковь Свою; о нем, следовательно, говорит апостол в словах: Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в безсмертие (1 Кор. 15:53), каковые слова сказаны в пояснение слов, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор. 15:50). И в другом месте имеем мы весьма ясное свидетельство того же апостола о воскресении по плоти и воскресении по духу. Ведь смертное тело, которое одушевлено или было одушевлено, называется плотию (caro). Итак, апостол говорит: Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Вот воскресение духовное посредством праведности. Смотри далее, следует ли ожидать воскресения тела. Смертного тела не захотел он назвать смертным, но мертвым. И потом он продолжает: Если же дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас (Рим. 8:10–11). Вот, потому и отступили от истины отвергшие другое воскресение. Признали одно воскресение духовное и отвергли другое воскресение — плотское, говоря, что воскресение уже было. Если бы этого не говорили они и не препятствовали вере в будущее воскресение и надежде на него, не было бы сказано о таких, что они разрушают в некоторых веру (2 Тим. 2:18).
25. Но выслушайте далее уже несомненнейшее свидетельство Самого Господа, говорящего в одном месте, в Евангелии от Иоанна, об обоих воскресениях: и о духовном, совершающемся теперь, и о плотском, которое последует потом, так что уже не может быть никакого сомнения для того, кто именует себя христианином и повинуется авторитету Евангелия, уже никакого места не остается для клеветников, желающих посредством той же веры христианской развратить христиан и привитием своего яда заразить нетвердые души. Но послушайте об этом из самой книги. Здесь исполняю я обязанность не только оратора, но и чтеца, чтобы речь наша опиралась на авторитет Священного Писания, а не созидалась на песке человеческих заблуждений, если бы случайно что–нибудь забылось наизусть. Итак, слушайте Евангелие от Иоанна. Господь говорит: Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5:24–29). Надеюсь, для большинства очевидно, что в этом месте Самим Господом раздельно и ясно обозначается и воскресение духовное посредством веры и воскресение телесное. Однако разсмотрим слова эти повнимательнее, чтобы понятно было всем слушающим. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это есть воскресение духовное, которое совершается теперь посредством веры. Но чтобы не показалось кому–нибудь, что оно, воскресение это, имеет последовать в далеком будущем, хотя сказано: Перешел от смерти в жизнь, а не «перейдет», чтобы нельзя было считать этого слова, употребленного в прошедшем времени, как пророчество, наподобие того, например, как сказано: Пронзили руки мои и ноги мои (Пс. 21:17), хотя здесь предвозвещалось еще будущее, Господь далее об этом же самом говорит яснее: Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Что выше сказал в словах перешел от смерти в жизнь, — это же и теперь говорит в слове оживут. Но чтобы нельзя было относить слов наступает время к концу века, когда будет воскресение тел, Он прибавляет: И настало уже. Не говорит только: Наступает время, но: Наступает время, и настало уже. Которые услышат этот голос (голос Сына Божия), те оживут. Жизнь здесь разумеется та, на которую указано выше в словах: Перешел от смерти в жизнь. Тут, следовательно, Господь имеет в виду тех именно, которые не подлежат наказанию осуждения, так как предотвращают это осуждение своей верой, переходя от смерти к жизни.
26. Остается еще, чтобы показал Господь будущий суд для добрых и злых, потому что здесь Он говорит только о добрых, которые наперед воскресают духовно. Потом же, ниже, Он говорит: И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Как Сын Божий, Он, разумеется, всегда имеет власть вместе с Отцом. И далее Он последовательно изъясняет, как произойдет будущий суд. Не дивитесь сему, — говорит Он, — ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия… и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Выше, когда сказал: Наступает время, — добавил: И настало уже, чтобы нельзя было подразумевать здесь того времени, когда при кончине века последует воскресение тел. Здесь же, желая указать именно на это время, Он, когда сказал: Наступает время — не добавил: «И настало уже». Равным образом выше сказано, что мертвые услышат глас Сына Божия, о гробах же никакого упоминания не сделано, чтобы мы отличали мертвых вследствие греха, кои воскресают теперь посредством веры, от тех мертвецов, тела коих имеют встать из гробов при конце века. А здесь, желая указать именно на последнее воскресение тел, Он говорит: Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия … и изыдут… Так же точно выше сказано: Услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут. Зачем нужно было прибавлять и услышавши, когда можно было бы сказать просто: Услышат глас Сына Божия и … оживут, как не для того, чтобы показать, что говорит Он о тех, кои умерли вследствие греха, из коих многие, слыша, не слышат, т. е. не слушаются, не веруют? А которые так слушают, как Он желал этого, когда говорил: Кто имеет уши слышать, да слышит! (Лк. 8:8), те оживут. Будет слушающих, таким образом, много, но только те оживут, которые услышат, т. е. уверуют. Кто же так слышит, что не верует, тот не оживет. Отсюда ясно, о какой смерти и о какой жизни в этом месте говорит Господь, именно — о смерти, которая касается одних только злых, того, чем они злы, и о жизни, которая относится к одним добрым вследствие того самого, чем они добры. Здесь же, касаясь имеющих воскреснуть телесно, Господь не говорит: Услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут, потому что все услышат последнюю трубу и изыдут, потому что все мы воскреснем. Но что не все изменимся, на это указывает Он в дальнейших словах: Творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Итак, выше, где идет речь о духовном воскресении, все оживают для одной участи, так что в жизни их не обозначается деления на блаженную жизнь и несчастную, но всем предуказывается благая часть. И потому, когда сказал Господь: И, услышавши, оживут, не прибавил: Делавшие добро для жизни вечной, а делавшие зло — для вечного наказания. Это самое именно слово «оживут» употребил Он лишь в добром смысле, как и выше стоящие слова: Перешел от смерти в жизнь. Не сказано, в какую жизнь, потому что новая жизнь чрез веру не может быть дурной жизнью. Здесь же Он не говорит: Услышат глас Его… и оживут, так как везде слово «оживут» употребляется в хорошем смысле, но сказал: Услышат… и изыдут, каковым словом обозначается физическое движение тел из мест погребения. Но исшествие из гробов не для всех послужит к добру, почему Он и говорит: Творившие добро в воскресение жизни, и употребляя и здесь слово «жизнь» только в добром значении, а делавшие зло — в воскресение осуждения, употребив слово «осуждение» в смысле наказания.
27. Но пусть никто из вас, братия, не спрашивает, желая блеснуть своим остроумием, какой образ будет иметь тело в воскресении, какой строй, каковы движения и каковы будут его чувства. Довольно для тебя знать, что плоть твоя воскреснет в том виде, в каком явился (воскресший) Господь, т. е. в образе человека, Но не допускай вследствие этого тления. Потому что если не допустишь тления, не убоишься также и слов, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, не впадешь тогда и в сеть саддукеев, которой ты не мог бы избежать в том случае, если бы стал думать, что для того воскреснут люди, чтобы жениться, рождать и совершать дела жизни земной. Если станешь спрашивать, какая будет жизнь та, то кто из людей в состоянии объяснить это? Будет то жизнь ангельская. Кто в состоянии изобразить тебе жизнь ангелов, тот изобразит и жизнь воскресших праведников. Если же жизнь ангелов сокровенна, никто пусть не ищет большего, чтобы, заблуждаясь, придти не к тому, чего ищет, а к тому, что сам вообразит себе. Иной необдуманно и спешно хочет узнать все. Ты же иди, не спеша, и достигнешь отечества, если будешь держаться пути. Держитесь Христа, братия, держитесь веры, держитесь пути. Он приведет вас к тому, чего теперь вы не можете видеть. В Главе нашей проявилось то, чего нужно ожидать и в членах, в основании показано то, что пока пусть созидается верою, чтобы затем стать доступным видению и чтобы не представилось вам что–либо ложное, чего нет, когда будете воображать себя видящими, так — чтобы, оставивши путь, не впасть вам в заблуждение и не лишиться отечества, т. е. того видения, куда ведет вера.
28. Но, быть может, спросишь ты: «Как живут ангелы?» Однако, довольно знать для тебя, что они проводят жизнь нетленную. Легче можно сказать, чего там не будет, нежели то, что будет. И я могу вам, братия, указать кое–что, чего там не будет, потому могу, что сами испытали мы, сами опытно знаем, чему не должно быть места там. Но что будет там, этого не испытали, потому что мы ходим верою, а не видением, и потому что водворяясь в теле; мы устранены от Господа (2 Кор. 5:7, 6). Итак, чего же не будет там? Не будет женитьбы и рождения детей, потому что не будет смерти. Не будет возрастания, потому что не будет старости; не будет нужды в подкреплении, потому что не будет ослабления. Не будет труда (negotia), потому что не будет нужды. Не будет даже и непредосудительных, невинных занятий людских, которые вызываются нуждою и потребностями этой жизни. Не говорю, что не будет там только, например, разбоя или грабительства, но даже не будет и того, что совершают люди под давлением необходимых житейских потребностей. Это будет вечная суббота, которая празднуется иудеями ныне, а нами ожидается в вечности. Это будет покой несказанный, которого нельзя изъяснить. И если возможно изъяснить сколько–нибудь, то лишь в том случае, когда говорится «чего там не будет». К этому покою стремимся мы, для него и возрождаемся духовно. Как плотию рождаемся мы для трудов, так духовно возрождаемся для покоя. Придите ко Мне, — говорит Господь, — все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28). Здесь утешает Он нас, там устрояет; здесь обещает, там воздает; здесь предуказывает, там осуществляет. Но хотя в том блаженстве вечном духом и телом будем мы совершенны и здравы, однако, не будет там земных занятий, даже таких, которые здесь поставляются среди добродетелей христианских. Какой христианин не похваляется за дела свои, когда он подает хлеб голодающему и воду жаждущему, когда одевает нагого, принимает странного, умиряет враждующего, посещает болящего, погребает мертвого, утешает плачущего? Великие это дела, полные милосердия, достойные похвалы и благодарности. Но не будут они иметь места там, потому что дела милосердия являются следствием сострадания. Но кого ты будешь кормить там, где никто не голодает? Кому станешь подавать воду, где никто не жаждет? Будешь ли одевать нагого там, где все облечены в самое безсмертие? Раньше ты уже слышал об одеждах святых из слов апостола: Тленному сему надлежит облечься в нетление. Где говорит апостол об одеянии, там указывает и самую одежду. Одежды этой лишился Адам, когда одел себя кожами. Далее, разве будешь принимать ты странника там, где все пребывают в своем отечестве? Разве будешь посещать больных, где все будут пользоваться одним и тем же здоровьем нетления? Будешь ли погребать мертвого, где все живы? Будешь ли примирять враждующих, где все пребывают в мире? Или утешать печальных там, где все будут иметь нескончаемую радость? Так как не будет там никаких несчастий, не будет, следовательно, и дел милосердия.
29. Что же, таким образом, будет там? Но не сказал ли уже я, что легче для меня указать, чего там не будет, нежели что будет? Знаю, братия, что не будем мы проводить время там, например, во сне от праздности, потому что и самый сон дан душе в помощь, для подкрепления. Ведь постоянного напряжения чувств не перенесло бы наше бренное тело, если бы посредством усыпления чувств не подкреплялось оно для продолжения той же самой деятельности. И как теперь получается нами от сна освежение, так и от смерти произойдет обновление, и сна там не будет. Где нет смерти, не будет и образа смерти. Однако, не будем и скучать мы, хотя, при вечном бодрствовании не будет никаких занятий. Вот это могу сказать, но как именно оно будет, не могу высказать, потому что не могу еще видеть. Впрочем, могу сказать отчасти и непостыдно, потому что от Писания скажу, в чем будет состоять там действование наше. Все оно может быть обозначено словами: «аминь» и «аллилуия». Но зачем переговаривать, братия? Вижу, что вы, услышав это, возрадовались. Не печальте же себя, увлекаясь плотским помышлением. Может быть, кто из вас, при постоянном произношении этих слов теперь утомится скукой, задремлет, захочет лучше молчать и потому станет представлять себе неприятной ту жизнь, нежелательной, говоря сам с собою: «аминь» и «аллилуия», будем говорить мы всегда — кто может вынести это? Отвечу вам на это, как и сколько могу. Будем говорить мы там: «аминь» и «аллилуия» не этими преходящими звуками, но пламенением духа. Что значит «аминь»? Что значит «аллилуия»? «Аминь» значит истинно, «Аллилуия» значит «Хвалите Бога». Потому что Бог есть истина неизменяемая, без ослабления и без усиления, без уменьшения и без увеличения, без примеси лжи какой бы то ни было, истина вечная, постоянная, всегда нерушимая. То, что мы видим в твари и делаем в настоящей жизни — это образы вещей, при посредстве коих мы обозначаем нечто, доступное нам, когда мы ходим верою (et quaedamin quibus ambulamus per fidem). Когда же увидим лицом к лицу то, что теперь видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13:12), тогда совсем другим и несказанно другим образом (affectu) мы будем говорить: «истинно это». И когда будем говорить это, будем говорить именно «аминь», с некоторым как бы ненасытимым довольством. Так как не будет там никакого недостатка, то будет довольство. А так как ни в чем не будет недостатка и будет постоянное услаждение, то и явится некоторое, если можно так выразиться, ненасытимое довольство. Таким образом, поскольку ненасытимо ты будешь питаться истиною, постольку, в силу такой ненасытимости истиной, будешь говорить Аминь. Но кто, однако, может сказать, каково будет состояние это, каково будет то, чего не видел глаз, не слышало ухо, и что на сердце человеку не приходило (1 Кор. 2:9)? Далее, так как мы будем созерцать истину без всякого утомления, с постоянным услаждением и будем созерцать с несомненнейшей очевидностью, воспламененные любовью к самой истине, и, соединяясь с ней некоторым сладким и чистым объятием нетелесным, мы таким же голосом будем прославлять ее и говорить аллилуия. Возбуждаясь взаимно пламеннейшей любовью к одинаковому прославлению Бога, все граждане того града будут говорить аллилуия, потому что будут говорить аминь.
30. Этою жизнью святых так исполнятся измененные в небесное и ангельское состояние тела их, так проникнутся, что от того блаженнейшего созерцания и похвалы истины не будет отвращать и отвлекать их никакое бремя необходимости. Пищей для них будет сама истина и самый покой будет как бы пиршественным возлежанием, так как сказано, что блаженствовать праведники будут, возлегая, как об этом говорит Господь. Многие, — говорит Он, — придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф. 8:11), чем также указывается, что в великом будущем блаженстве они будут питаться трапезою истины. Такая пища, подкрепляя, не убивает, наполняет и остается целой. Ты насыщаешься, а пища не уменьшается. Между тем, настоящая земная пища, когда ею подкрепляется кто–либо, сама уменьшается и уничтожается, чтобы не умер тот, кто принимает ее. Возлежание то будет вечным покоем. Пиршественным обедом там будет истина неизменная, пированием — жизнь вечная, т. е. само познание (ipsa cognitio), потому что сия же есть жизнь вечная, — говорит Господь, — да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3).
31. Что жизнь та будет состоять не только в несказанном, но и в блаженнейшем созерцании истины, об этом Писание говорит во многих местах, так что все их нет возможности и вспомнить. Вот одно, например: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня … и Я возлюблю его … и явлюсь ему Сам (Ин. 14:21). Здесь как бы плод и награда ищется от Господа за соблюдение Его заповедей. И явлюсь ему Сам, — говорит Господь, полагая совершенное блаженство в познании Его, как Он есть. Вот и другое место: Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть (1 Ин. 3:2). И апостол Павел говорит: Тогда же [мы будем видеть] лицем к лицу (1 Кор. 13:12), а также в другом месте он пишет: Мы… преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа (2 Кор. 3:18). Равным образом, в книге псалмов говорится: Упразднитеся [33] и разумейте, яко Аз есмь Бог (Пс. 45:11). Тогда будет доступно нам полное видение, когда совершится полное торжество истины (Tunc ergo optime videbitur, quando summe vacabitur). Когда же совершится полное торжество, если не по окончании времени труда и нужды, коими мы связаны теперь до тех пор, пока земля терния и волчцы будет порождать человеку–грешнику, и пока он будет в поте лица есть хлеб свой (Быт. 3:18–19)? Итак, лишь после полного окончания времен земной жизни человеческой, в невечереющем дне небесной жизни мы будем вполне видеть, потому что вполне будем торжествовать (quia summe vacabimus). С прекращением тления и нужды в будущем воскресении, не будет там и побуждений к труду. Там истинно свободные увидим мы Бога, как Он есть, и, видя, будем славить Его. В этом и будет состоять жизнь святых, в этом будет все действование достигших блаженства, т. е. в непрестанном прославлении Бога. Не один день продолжится это, но, как день тот не имеет конца времени, так похвала наша будет безконечной, а следовательно, будем славить мы Бога во веки веков. Это именно самое, чего так пламенно ожидаем мы, подтверждается и следующими словами Писания: Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя (Пс. 83:5). — В заключение же, обратившись к Богу, будем молить Его за нас и за стоящий во дворе дома Его народ, чтобы Он помог нам упасти и сохранить его чрез Сына Своего Христа, Господа нашего, Который живет и царствует с Ним во веки веков. Аминь.
Беседа 23. О песни в книге «Исход» (Исх. 15:1–21)
1. При объяснении и толковании Св.Писания мысль наша, братия возлюбленнейшие, должна руководиться авторитетом того же самого Свящ. Писания, так — чтобы через то, что ясно выражено там для наставления нашего, правильно понималось и то, что сказано темнее для нашего упражнения. И кто осмелится иначе изъяснять Божественные тайны, нежели как предуказывают разум и уста апостолов? Апостол же Павел говорит: Не хочу оставить вас братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И потом, немного далее, он прибавляет: Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков (1 Кор. 10:1–11).
2. Отсюда, возлюбленнейшие, пусть никто из верующих не сомневается, что переход народа еврейского чрез Чермное море служил образом нашего крещения. Будучи освобождены в крещении Господом нашим Иисусом Христом, образом Коего служил Моисей, от власти диавола и ангелов его, угнетавших нас, оскверненных нечистотою плоти, как некогда фараон и египтяне угнетали евреев деланием кирпичей, станем поэтому и мы петь Господу: Ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море (Исх. 15:1). Умерли для нас те, кои уже не могут господствовать над нами, потому что самые грехи наши, которые порабощали нас диаволу, после того, как мы омылись банею крещения (gratiae sanctae), как бы уже омыты и потоплены в море. Итак, будем петь Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море, гордость и гордеца потопил в крещении. И уже, конечно, только смиренный, покорный может воспевать эту песнь. Ведь не для гордого, ищущего своей славы и себя превозносящего высоко превознесся Господь. И грешник, оправданный верою в Того, Кто оправдывает нечестивого, коему вера его вменяется в праведность (Рим. 4:5), потому что праведный верою жив (Рим. 1:17), между тем как неразумеющий праведности Божией и усиливающийся поставить собственную праведность не покоряется праведности Божией (Рим. 10:3), — справедливо воспевает помощника и защитника во спасение себе Господа, Бога своего, Коему служит. Он не из тех превозносящихся, которые, познавши Бога, не прославили Его, как Бога (Рим. 1:21). Бог отца моего, — говорит Моисей (здесь, по–видимому, есть пропуск, откуда можно заключить, что беседа эта сокращена и не сохранилась в целости). Разумеется, отца — Авраама, который поверил Богу, и это вменилось ему в праведность (Рим. 4:3). Также и мы, полагаясь не на свою праведность, но на милость Господа, будем прославлять Его, потому что сокрушил полчища Тот, Который есть мир наш. И Господь имя Тому, Коему говорим мы словами Исаии: Господи, Боже наш! (Ис. 26:13). Господь имя Ему. Мы не были, и Он создал нас, погибали, и Он нашел нас, продали самих себя, и Он искупил нас. Господь… имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море (Исх. 15:3–4). Гордость века этого и безчисленное множество грехов, коими служили мы диаволу, смыл Он в крещении. По три всадника посадил он на колесницы, т. е. тот, кто, преследуя, мучил нас страхом скорбей, страхом унижения и страхом смерти. Все это потоплено в Чермном море, потому что мы погреблись с Ним крещением в смерть (Рим. 6:4), погреблись с Тем, Кто за нас предался бичеванию, поношению и был убит. Так в Чермном море сокрыл всех врагов Тот, Кто крестною смертью, коею покрыл грехи наши, освятил крещение. Но если враги наши погружены в бездну, как камень, то лишь теми одними владеет диавол, над теми тяготеет иго его, о которых написано: Егда приидет нечестивый во глубину зол, не радит (Peccator cum in profundum venerit malorum, contemnit — Притч. 18:3), потому что они не верят, что им отпустится то, что сделано ими; вследствие такого отчаяния они опускаются еще глубже. Но десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому (Исх. 15:6–7). Мы устрашились гнева Твоего и уверовали в Тебя, и все грехи наши попалены. Ведь почему от дуновения гнева Божия расступились воды (per spiritum irae tuae divisa est aquua), влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря (Исх. 15:8), почему в этом разделении воды влага сгустилась, и открылся путь народу освобожденному? Почему не через дуновение Божие разделилась вода, как не потому, что страх пред гневом Божиим, которым пренебрегает грешник, идущий в бездну погибели, побуждает и ко крещению, когда мы спасаемся водою, не затопляющею нас, но проходя чрез нее как по пути? Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя (Исх. 15:9). Не разумеет враг силы таинства Господня, которая бывает от спасительного крещения для тех, кои веруют и надеются на это таинство, и еще думает, что грех продолжает господствовать над крещенными, так как и они искушаются немощью плоти; не знает он, где, когда и как совершается окончательно обновление всего человека, каковому обновлению основание полагается в крещении, которое предуказывается здесь и содержится, как упование, твердою надеждой. Тогда лишь смертное сие облечется в безсмертие, когда по упразднении всякого начальства и всякой власти Бог будет все во всем (1 Кор. 15:53, 54:24, 28). Теперь же, пока тленное тело отягощает душу (Прем. 9:15), враг говорит: погонюсь, настигну, но Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море (Исх. 15:9–10). Теперь уже не говорится о гневе Божием, когда море покрыло врагов. А немного прежде сказано было, что от дуновения гнева Твоего разступились воды, хотя проходящий там народ Божий и получил избавление. Но ведь не гневается уже Бог на того, кто безнаказанно грешит (cui sunt impunita peccata) и опускается все глубже и глубже. Подобно свинцу он погружается в глубину греха тем больше, чем больше замечает, что те, которые оправданы верою и содержат упование будущей жизни, твердо переносят бедствия настоящей жизни, проводя ее в скорбях, в перенесении коих подкрепляет их Дух Божий. Итак, послал Бог Духа Своего для утешения и испытания праведников в скорбях, и покрыло море нечестивых, которые думали, что не только нет разницы между теми и ими, но что скорее на тех разгневался Бог, которые подвергались стольким испытаниям, а к ним милостив, потому что они радовались на свое благополучие. Так они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами, Славный во святых, кои не хвалятся о себе, кто, как Ты, дивный в величии, Творец чудес (Исх. 15:10–11)? Но все это, что совершилось тогда, предуказывало нечто будущее, потому что это были образы для нас. Ты простер десницу Твою: поглотила их земля (Исх. 15:12). Однако, никого из египтян в то время не поглотила земля (tarrae hiatus). Водою поглощены они были, в море погибли. Что же значит это: Ты простер десницу Твою: поглотила их земля? Не справедливее ли поэтому разуметь здесь под десницею Божией Того, о Ком Исаия говорит в словах: И кому открылась мышца Господня? (Ис. 53:1). Это есть именно Сам Единородный Сын Божий, Коего не пощадил Отец, но предал Его за всех нас (Рим. 8:32). Он также простер на кресте десницу Свою, и земля поглотила нечестивых в то время, когда они, считая уже себя победителями, издевались над Ним. Поэтому и сказано: Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает (Иов. 9:24), т. е. закрывает Божество Свое. Так Господь вел народ Свой, как бы, носимый на том дереве, на котором земля, т. е. плоть Господа простертая, поглотила нечестивых. Не на корабле переплыл народ море. Но Ты ведешь милостию Твоею (justitia tua) народ сей (tuum), не своею праведностью превозносящийся, но живущий верою по Твоей милости (sub gratia tua), народ сей, который Ты избавил (Исх. 15:13). Потому что знает Господь своих (2 Тим. 2:19).
3. Вот теперь уверен ты в силе твоей, т. е. во Христе твоем, что немощное Божие сильнее человеков (1 Кор. 1:25). Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею (2 Кор. 13:4). Уверен ты в силе твоей, в святой помощи твоей. Ведь тем, что смертная плоть Его обновлена чрез воскресение и что тленное облеклось в Нем в нетление, мы и укрепляемся, уповая на будущее и по причине этого перенося все настоящее. Остается нам после крещения переход чрез пустыню, через жизнь, которая совершается в надежде, пока не придем в землю обетования, в землю живых, где Господь — достояние наше, в вечный Иерусалим. Пока не придем сюда, вся эта жизнь — пустыня для нас, одно испытание. Но именем Того, Кто победил мир, все побеждает народ Божий. Как в крещении, подобно врагам, сзади преследующим, потопляются прошедшие грехи наши, так и во время странствования по пути этой жизни, когда мы едим духовную пищу и пьем духовное питие, мы одолеваем всех противников наших. И без сомнения, устрашило врагов нашего странствования имя нашего Владыки. Ведь сначала воспылал гнев язычников к погублению самого имени христианского. Но гнев этот ничего не мог сделать; он обратился в скорбь, и по мере того, как вера стала возрастать и овладевать всем, скорбь более и более обращалась в страх, так что и гордецы этого века, подобно птицам небесным, стали искать убежища защиты под сению того дерева, которое из ничтожнейшего зерна горчичного стало великим (Мф. 13:31–32). Так и в песни этой, где воспоминается все, что случилось тогда, как образ, указывается последовательно на гнев, на скорбь и на страх язычников. Услышали народы, — говорится там, — и трепещут (iratae sunt): ужас объял жителей Филистимских; тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел (Исх. 15:14–16). Так было, так и теперь бывает. Цепенея от удивления, враги Церкви становятся, как камни, пока мы не достигнем отечества. Те же, которые пытаются противиться, побеждаются ныне знамением креста Господня, как тогда Амаликитяне побеждались, как только Моисей простирал свои руки (Исх. 17:8–13). Также и мы вводимся и наслаждаемся на горе Господней, которая из малого камня, виденного Даниилом, выросла и заполнила всю землю (Дан. 2:34–35). Это и есть уготованное жилище Божие. Это и есть храм Божий святый и святилище дома Его, которое от Него (Исх. 15:17). Ибо храм Божий свят, — говорит апостол, — а этот храм — вы (1 Кор. 3:17). И чтобы кто–нибудь не стал относить этого к земному Иерусалиму, где был временный храм, указывается затем, что речь идет о вечном царстве, которое есть вечное наследие Божие, вечный Иерусалим. Потому что далее следует: Которое (жилище, или наследие) создали руки Твои, Владыко! Господь, царствуяй веки, и на век, и еще (qui regnas semperet in sempiternum et adhuc — Исх. 15:17–18). Но разве есть что–либо продолжительнее вечности (in sempiternum)? Кто может сказать это? Для чего же прибавлено: и еще (et adhuc)? Может быть, потому прибавлено и еще, чтобы всякий разумел тут действительно вечное, так как под вечным понимается иногда и время более или менее продолжительное. Или же прибавлено для того, чтобы показать, что Господь всегда царствует на небесах, которые Он поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет (Пс. 148:6), и что навсегда (in sempiternum) будет царствовать Он над теми, которым прощены грехи после того, как обратились они от преступления заповеди, коих взыскал Он от времени и даровал им вечное блаженство, а также, что доселе (adhuc) Господь царствует над теми, коих вразумлял Он справедливейшими наказаниями под игом народа Своего. Ведь никто не исключается из царства Того, вечному закону Коего в распределении даров и воздаянии наград и наказаний, закону справедливейшего управления (justissima ordinatione) подлежат все твари. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6). Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его е море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря (Исх. 15:19).
4. Так воспел Моисей и сыны Израилевы, так воспела Мариам пророчица и женщины Израилевы. Так и мы теперь поем — и мужчины и женщины, и дух и плоть наши. Потому что те, которые Христовы, — говорит апостол, — распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5:24). На это (т. е. на распятие плоти) и указывает именно, как согласно понимается всеми, тот тимпан, который взяла Мариам, чтобы воспевать на нем. Для того, чтобы сделать тимпан, на дерево натягивается кожа (caro), так точно и из креста (на коем распят был Господь) научаются люди исповедовать сладкий дар благодати. Итак, сделавшись смиренными чрез благодать крещения и умертвив нашу гордость, вследствие которой гордый враг господствовал над нами, так что хвалящийся уже хвалится теперь Господом (1 Кор. 1:31), будем петь Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море (Исх. 15:1, 21).
Монологи
КНИГА ПЕРВАЯ
1.
Долго и о многом размышлял я сам с собой, исследуя и себя, и свое благо, и то зло, коего следовало избегать. И вдруг я услышал голос, звучащий то ли снаружи, то ли внутри меня, мой ли собственный, а, возможно, и не мой — не знаю, но только этот голос мне сказал:
Представь себе, что тебе удалось нечто открыть. Кому ты доверишь это открытие на хранение, если захочешь немедленно продолжить свои изыскания?
А. Разумеется, памяти.
Р. Но сможет ли она верно сохранить все то, до чего ты додумался?
А. Это трудно, а пожалуй и невозможно.
Р. Итак, нужно записать. Но что ты будешь делать, если твое здоровье не позволяет заниматься письмом? А, между тем, и диктовать этого не следует, потому что подобная работа требует полного уединения.
А. Резонно, и что мне в этом случае делать — я решительно не знаю.
Р. Молись о здравии и помощи, чтобы достигнуть желаемого, и все это немедленно запиши, чтобы мысль о потомстве поддержала в тебе бодрость духа. Затем все то, что тебе откроется, кратко изложи в немногих заключениях. Только не старайся писать так, чтобы привлечь внимание толпы читателей; пусть это будет для немногих и наилучших из твоих сограждан.
А. Спешу последовать твоему совету: Боже, Творец вселенной, даруй мне, во–первых, силы усердно молиться Тебе, далее, помоги быть достойным этого и, наконец, услышь и исполни мою молитву. Боже, через которого стремится быть все, что само бы по себе не было. Боже, который не допускаешь погибнуть и тому, что само губит себя. Боже, сотворивший из ничего этот мир. Боже, который зла не творишь, но дозволяешь ему быть, чтобы оно не стало еще злейшим. Боже, который немногим, прибегающим к тому, что истинно, открываешь, что зло есть ничто. Боже, через которого вселенная и со своею дурной стороной совершенна. Боже, через которого не существует решительно никакого разногласия, так как худшее согласуется с лучшим. Боже, которого любит все, что способно любить, зная ли об этом, или не зная. Боже, в котором существует все, по которому ни мерзость всей вообще твари не мерзка, ни злоба не вредит, ни заблуждение не заблуждает. Боже, который не восхотел, чтобы истину знал кто–либо, кроме чистых. Боже, Отец мудрости, Отец истины и высшей жизни, Отец блаженства, Отец добра и красоты, Отец умственного света, Отец пробуждения и просвещения нашего, Отец залога, побуждающего нас возвратиться к Тебе.
Тебя призываю, Бога истинного, в котором, от которого и через которого истинно все, что истинно; Бога мудрости, в котором, от которого и через которого мудрствует все, что мудрствует; Бога жизни истинной и возвышенной, в котором, от которого и через которого живет все, что живет истинно и возвышенно; Бога блаженства, в котором, от которого и через которого блаженствует все, что блаженно; Бога добра и красоты, в котором, от которого и через которого все добро и прекрасно; Бога умного света, в котором, от которого и через которого разумно сияет все, что сияет разумом; Бога, царство которого — весь сверхчувственный мир; Бога, законы царства которого распространяются и на эти царства; Бога, отвратиться от которого — значит пасть, к которому обратиться — возрасти, в коем пребывать — стоять твердо; Бога, от которого удалиться то же, что умереть, к которому возвратиться — ожить, в коем обитать — жить; Бога, которого никто не оставляет, кроме обманутого, которого никто не ищет, кроме вразумленного, которого никто не находит, кроме очистившегося; Бога, которого оставить то же, что и погибнуть, к которому стремиться то же, что и любить, которого видеть то же, что иметь; Бога, вера в которого нас возбуждает, надежда на которого — ободряет, а любовь к которому — с Ним соединяет; Бога, через которого побеждаем мы врага — Тебя, о Боже, я молю! Бога, от которого мы получили то, что до конца не погибнем; Бога, от которого вразумляемся бодрствовать; Бога, через которого надеемся обрести благо и от зла; Бога, через которого мы избегаем зла и получаем благо; Бога, через которого мы не поддаемся несчастьям; Бога, через которого хорошо служим и хорошо господствуем; Бога, через которого мы узнаем, что то чужое, что некогда мы считали своим, и наше, что некогда считали чужим; Бога, через которого мы не ловимся на приманки и прелести зла; Бога, через которого вещи малые не умаляют нас; Бога, через которого наше лучшее не подчинено худшему; Бога, через которого смерть попирается и обращается в победу (1 Кор. 15. 54); Бога, который обращает нас; Бога, который совлекает с нас несущее и облекает нас сущим; Бога, который творит нас достойными быть услышанными; Бога, который ограждает нас; Бога, который облекает нас во всякую истину; Бога, который говорит нам все благое, не делает сам и никому не позволяет делать нас безумными; Бога, который возвращает нас на путь божий, который приводит нас к двери; Бога, который делает то, что стучащему отворяется (Мф. 7. 8); Бога, который дает нам хлеб жизни; Бога, через которого мы жаждем такого питья, что, вкусив однажды, мы не возжаждем никогда (Ин. 6. 35); Бога, который обличает мир о грехе, и о правде, и о суде (Ин. 16. 8); Бога, через которого нас не приводят в сомнение те, кто не веруют; Бога, через которого мы отвергаем заблуждение тех, кто думают, что заслуги душ пред Ним ничто; Бога, через которого мы не служим немощным и худым стихиям (Гал. 4. 9); Бога, который очищает нас и приготовляет к божественным наградам. Ты, Боже милостивый, приди ко мне.
Приди ко мне на помощь, Ты, Бог единый, единая вечная истинная сущность, где нет никакого смешения, никакого изменения, никакого оскудения, никакой смерти. Где высочайшее согласие, высочайшая очевидность, высочайшее постоянство, высочайшая полнота, высочайшая жизнь. Где ничего нет в недостатке, ничего нет в излишке. Где рождающий и рождаемый суть едины. Бог, которому служит все, что служит; которому повинуется всякая добрая душа. По законам которого вращаются полюса, звезды совершают свои течения, солнце находится в движении весь день, луна умеряет мрак ночи и весь мир — изо дня в день через взаимную смену дня и ночи, от месяца к месяцу через возрастание и убыль луны, от года к году через последовательное появление весны, лета, осени и зимы, от пятилетия к пятилетию через совершение своего течения солнцем и от одного из великих периодов к другому через возвращение небесных светил к своим восходам — стройностью и кругообращением времен охраняет постоянство вещей, насколько позволяет это чувственная материя. Бог, законы коего, вовеки непреложные, не допускают приходить в беспорядок непостоянному движению изменчивых вещей и придают ему подобие неподвижности всегдашним круговращением веков; по законам которого воля души свободна, а награды добрым и наказания злым распределены во всем с неизменною необходимостью. Бог, от которого распространяются на нас все блага, который устраняет от нас всякое зло. Бог, выше которого — ничего, вне которого — ничего, без которого — ничего. Бог, под которым все, в котором все, с которым все. Ты, сотворивший человека по образу и подобию Своему, который узнает, познает самого себя. Услышь же, услышь меня, Бог мой, Господь мой, царь мой, отец мой, причина моя, надежда моя, богатство мое, честь моя, дом мой, родина моя, спасение мое, свет мой, жизнь моя. Услышь меня с той благосклонностью Твоею, которая, увы, известна немногим.
Тебя одного я люблю, Тебе одному я следую, Тебя одного я ищу, одному Тебе готов служить, потому что один Ты праведно господствуешь. Повели, молю, и прикажи, что Тебе будет угодно; но исцели и открой слух мой, чтобы я услышал слова Твои. Исцели и открой мои глаза, чтобы я увидел ими мания Твои. Изгони из меня безумие, чтобы я снова узнал Тебя. Скажи мне, куда я должен обратить взоры свои, чтобы увидеть Тебя, и я надеюсь исполнить все, что Ты повелишь. Прими меня, молю, обратно, беглеца твоего, Господи, Отец всемилостивый; довольно уже понес я наказаний; довольно послужил я врагам Твоим, которые под ногами у Тебя; довольно был я игрушкой обманов. Прими меня, раба своего, убегающего от них, ибо они и приняли некогда меня, раба чужого, когда я убегал от Тебя. Я чувствую, что должен возвратиться к Тебе; пусть откроют мне, стучащему в двери Твои; научи меня, как прийти к Тебе. Ничего другого я не имею, кроме доброй воли; ничего другого я не знаю, кроме того, что все текущее и гибнущее должно быть предметом презрения, а неизменное и вечное — предметом искания. Я это и делаю, Отец мой, потому, что только это и знаю; но каким путем доходят до Тебя, того я не знаю. Ты присоветуй, Ты покажи, Ты снабди меня необходимым в дорогу. Если прибегающие к Тебе находят Тебя верою, дай веру; если — добродетелью, дай добродетель; если — знанием, дай знание. Укрепи веру во мне, усиль надежду, утрой любовь. О, удивления достойная и единственная благость Твоя!
Тебя я взыскую и у Тебя же прошу того, как можно взыскать Тебя. Ибо, если Ты оставляешь, все гибнет; но Ты не оставишь, потому что Ты — высочайшее благо, которого, никто, надлежащим образом ищущий, не ищет напрасно. А надлежащим образом ищет всякий, для которого Ты сделал так, чтобы он надлежащим образом искал. Даруй мне, Отец, искать Тебя, освободи меня от заблуждения; пусть, когда я буду искать Тебя, ничто другое, кроме Тебя, не попадется мне навстречу. Если я не желаю ничего, кроме Тебя, то прошу Тебя, Отец, пусть я наконец найду Тебя. А если есть во мне желание чего–либо излишнего, очисть меня сам и сделай способным видеть Тебя. Остальное, что касается здоровья этого смертного тела моего, пока будет от него хоть какая–нибудь польза для меня или для тех, кого я люблю, я предоставляю его Твоей воле, Отец премудрый и всеблагой, и я буду просить не забывать о том, что будет благовременно. Я молю только высочайшую милость Твою, чтобы Ты всецело обратил меня к Себе, чтобы Ты устранил всякие препятствия при моем стремлении к Тебе, чтобы повелел Ты, пока я двигаю и ношу самое тело это, быть мне чистым, великодушным, справедливым и благоразумным, — совершенным любителем и понимателем мудрости Твоей, — достойным обитанием и обитателем блаженнейшего царства Твоего. Аминь.
2.
А. Вот — я помолился Богу.
Р. Так что же ты желаешь знать?
А. Именно то, о чем молился.
Р. Изложи это кратко.
А. Я желаю знать Бога и душу.
Р. И ничего более?
А. Решительно ничего.
Р. В таком случае — спрашивай. Но сперва разъясни, каким образом тебе нужно показать Бога, чтобы ты мог сказать: довольно.
А Боюсь, что этого я не знаю, ибо не думаю, чтобы я знал что–нибудь так, как желаю знать Бога.
Р. Так что же нам делать? Разве ты не думаешь, что прежде всего тебе следует понять, каким образом ты хочешь познать Бога, чтобы более не искать Его после того, как достигнешь этого?
А. Думать–то думаю, но как это может быть — не знаю. Разве я познал когда–нибудь что–либо подобное Богу, чтобы мог сказать: «Как я знаю это, так же хочу познать и Бога»?
Р. Но если ты самого Бога еще не знаешь, то откуда тебе известно, что ты ничего не знаешь подобного Богу?
А. А оттуда, что если бы я знал что–либо подобное Богу, то я, несомненно, и любил бы это; в настоящее же время я не люблю ничего, кроме Бога и души, которых, увы, не знаю.
Р. Значит, ты и друзей своих не любишь?
А. Каким образом, любя душу, я мог бы не любить и их?
Р. Выходит, ты любишь и блох, и клопов?
А. Я сказал, что люблю душу, а не одушевленных животных.
Р. Или твои друзья не люди, или ты их не любишь, потому что всякий человек есть животное одушевленное, а ты сказал, что одушевленных животных не любишь.
А. И люди они, и люблю я их, — люблю не за то, что они животные одушевленные, а за то, что они люди, т. е. за то, что они имеют разумные души, которые я люблю даже в разбойниках. Ибо мне дозволительно любить разум во всяком, хотя и справедливо ненавижу того, кто дурно пользуется тем, что я люблю. Поэтому я тем более люблю своих друзей, чем лучше они пользуются разумной душою, или точнее — чем более желают хорошо ею воспользоваться.
3.
Р. Пусть будет так; но если бы, однако же, кто–нибудь сказал бы тебе: «Я сделаю так, что ты будешь знать Бога так, как знаешь Алипия», — разве не поблагодарил бы ты его, не сказал бы: довольно?
А. Поблагодарить, пожалуй, поблагодарил бы, но сказать — довольно, не сказал бы. Р. Почему так?
А. Да потому, что хотя я и не знаю Бога так, как знаю Алипия, однако и Алипия я знаю недостаточно.
Р. Не слишком ли дерзко с твоей стороны желать достаточно знать Бога, если ты не знаешь достаточно Алипия?
А. Одно из другого не следует. Что, например, может быть презреннее моего ужина по сравнению со светилами небесными? А, между тем, что я буду ужинать завтра, я не знаю, тогда как без ложной скромности признаюсь, что знаю, в каком созвездии будет находиться луна.
Р. Так, может быть, тебе будет достаточно знать Бога так, как ты знаешь, в какое созвездие перейдет завтра луна?
А. Нет, недостаточно; потому что об этом я заключаю на основании чувств. Между тем, я не могу утверждать, что Бог или какая–нибудь другая тайная сила природы не может неожиданно поменять направление движения луны. Если бы последнее случилось, то ложным оказалось бы все, что я до этого предполагал.
Р. И ты веришь, что это возможно?
А. Не верю. Но я говорю о том, что я знаю, а не о том, во что я верю. Обо всем, что мы знаем, мы можем совершенно правильно сказать, что мы в то и верим; но не обо всем, во что верим, можем сказать, что мы то и знаем.
Р. Итак, ты отвергаешь по этому предмету всякое свидетельство чувств?
А. Решительно отвергаю.
Р. Ну, а этого своего друга, о котором ты сказал, что еще его не знаешь, ты желаешь знать чувством или умом?
А. То, что я знаю в нем чувством, если только чувством вообще познается что–нибудь, само по себе ничтожно и вполне достаточно; но ту его часть, которою он мне друг, т. е. саму его душу, я желаю узнать умом.
Р. А как–нибудь иначе не можешь знать?
А. Никоим образом.
Р. Итак, ты решаешься сказать, что не знаешь своего друга, притом самого искреннего?
А. А почему бы и не решиться? Я считаю в высшей степени справедливым тот закон дружбы, который предписывает любить друга как не менее, так и не более самого себя. Поэтому, если я не знаю самого себя, — каким образом я могу оскорбить друга, сказав, что не знаю его, особенно если и сам он, как я думаю, не знает самого же себя?
Р. В таком случае, если то, что ты хочешь знать, относится к такому роду предметов, который постигается умом, то когда я сказал, что дерзко с твоей стороны желать знать Бога, если ты не знаешь Алипия, ты не должен был приводить в качестве примера свой ужин и луну, поскольку познание последних относится, как ты сам сказал, к области чувств.
4.
Впрочем, для нас это большого значения не имеет. Скажи мне теперь вот что: если сказанное о Боге Платоном и Плотином истинно, будет ли для тебя достаточно знать Бога так, как знали они?
А. Если сказанное ими и истинно, из этого еще не следует, что они непременно об этом знали. Многие весьма обстоятельно говорят о том, чего не знают; как и сам я обо всем, о чем молился, сказал, что желаю это знать. Подобного желания я не выразил бы, если бы знал; а, между тем, мог же я говорить об этом? Ведь говорил я не то, что постиг умом, а то, что успел с разных сторон усвоить себе памятью, и во что, насколько мог, уверовал. Знать же — нечто совсем иное.
Р. Скажи пожалуйста, знаешь ли ты по крайней мере, что такое в геометрии линия?
А. Это я знаю абсолютно точно.
Р. И говоря так, ты не боишься академиков?
А Вовсе нет. Ибо они не допускали, чтобы заблуждался мудрый. Поэтому я и не опасаюсь признаться в знании тех вещей, которые знаю. А когда достигну, как того желаю, мудрости, тогда уже буду поступать по ее внушению.
Р. Пусть так. Но снова спрошу: так ли ты знаешь и шар, который называют сферой, как знаешь линию?
А. Разумеется, знаю.
Р. Но одинаково ли ты знаешь то и другое, или одно более, а другое менее?
А. Совершенно одинаково. Ибо относительно обоих ни в чем не ошибаюсь.
Р. Скажи теперь, чувствами или умом восприял ты это знание?
А. Чувствами в этом случае я воспользовался, как кораблем. Когда они доставили меня до того места, к которому я стремился, я их оставил там; и когда, как бы высадившись на берег, я стал все это додумывать мыслью, мои шаги долго еще колебались, как будто от штормовой качки. Поэтому мне кажется, что скорее можно плавать на корабле по суше, чем усвоить геометрию посредством чувств, хотя они и помогают тем, кто только начинает учиться.
Р. Итак, науку об этих вещах, если ты считаешь ее наукой, ты называешь знанием?
А. Нет, если позволят стоики, которые не приписывают знания никому, кроме мудрого. Я не отрицаю, что имею представление обо всем этом: иметь представление они дозволяют и глупости. Впрочем, не боюсь, пожалуй, и их.
Я вполне знаю все то, о чем ты спрашивал; продолжай, посмотрим к чему ведут твои вопросы.
Р. Не спеши, у нас довольно досуга. Вдумайся только повнимательней, чтобы неосмотрительно не согласиться с чем–нибудь ложным. Я желаю дать тебе возможность наслаждаться такими вещами, по отношению к которым ты не будешь бояться никакой случайности, а ты, между тем, велишь торопиться, как будто дело это никчемное и пустое.
А. Дай Бог, чтобы было так, как ты говоришь. Поэтому спрашивай, как тебе будет угодно, и брани посильнее, если впредь случится что–нибудь подобное.
Р. Ясно ли тебе, что линию нельзя никоим образом рассечь продольно на две линии?
А. Ясно.
Р. А поперечно?
А. Поперечно, разумеется, можно рассекать до бесконечности.
Р. А не так ли тебе ясно, что можно, рассекая плоскостями сферу из любой точки ее поверхности через центр, получать равные друг другу круги?
А. Совершенно одинаково.
Р. А линия и сфера — кажутся ли они тебе чем–нибудь одним и тем же, или они все–таки несколько различны?
А. Кто же не знает, что они весьма различны?
Р. Но если ты одинаково знаешь и то, и это, а между тем признаешь, что то и другое весьма различно между собою, то в таком случае есть знание безразличное вещей различных?
А. А разве я это отрицал?
Р. Отрицал, ибо когда я спрашивал тебя, как бы ты желал знать Бога, чтобы мог сказать: довольно, ты отвечал, что не можешь объяснить этого потому, что не имеешь такого познания, подобное которому ты желаешь получить о Боге, что ничего не знаешь подобного Богу. А в данном случае — что? Линия и сфера, разве они подобны? А ведь я спрашивал не о том, знал ли ты что–нибудь подобное, а о том, как ты желаешь знать Бога. Ты так же точно знаешь линию, как знаешь и сферу, хотя линия представляется вовсе не такою, какою является сфера. Поэтому ответь мне, достаточно ли для тебя знать Бога так, как знаешь ты этот геометрический шар, т. е., чтобы не сомневаться и относительно Бога, как не сомневаешься относительно этой геометрической фигуры?
5.
А. Хотя ты возражаешь и опровергаешь меня весьма сильно, тем не менее я не решаюсь сказать, что желаю знать Бога так, как знаю это. Ибо не только предмет, но и самое знание лиц кажется различным. Во–первых, линия и сфера не настолько различаются между собою, чтобы познание их не было предметом одной и той же науки; между тем как никакой геометр не принимался учить о Боге. Затем, если бы познание Бога и этих предметов было по сути одинаково, я столько же радовался бы, узнав последнее, сколько, предполагаю, стал бы радоваться, узнав Бога. Между тем, в настоящее время я до такой степени презираю их по сравнению с Богом, что, думаю, если бы я постиг Его и увидел так, как Он может быть зримым, то все эти предметы исчезли бы из моего знания; потому что и теперь от любви к Нему они едва приходят мне на ум.
Р. Пусть твоя радость будет еще гораздо большей, когда ты познаешь Бога, чем от знания этих предметов; но это — от различия предметов, а не от самого понимания. Ведь не одними же глазами ты смотришь на землю, а другими — на голубой свод небесный; а между тем вид последнего доставляет тебе гораздо большее удовольствие, чем вид первой. Но если глаза не обманывают, то думаю, что если бы тебя спросили, — действительно ли ты видишь так же землю, как и небо, — ты должен был бы ответить: действительно, так же; хотя красота и блеск неба радуют тебя более, нежели красота земли.
А. Признаюсь, это сравнение поражает меня, и я вынужден согласиться, что насколько различны в своем роде земля и небо, настолько же эти истинные и точные научные доказательства далеки от умопостигаемого величия Божия.
6.
Р. Хорошо, что тебя это поражает. Ибо разум, разговаривающий с тобой, обещает показать тебе Бога так, как видимо солнце для глаз, поскольку душевные чувства — как бы глаза ума. Всякие же точнейшие научные положения похожи на то, что видимо благодаря освещению солнцем, как, например, земля и все земное, ну а Бог — это Тот, Кто освещает. Я же, разум, по отношению к уму то же, что и способность смотреть по отношению к глазам. Ибо иметь глаза еще не значит смотреть, а смотреть — еще не значит видеть. Итак, душе нужны три вещи: иметь глаза, которыми бы она могла пользоваться надлежащим образом, смотреть и видеть. Здоровые глаза души — это ум, чистый от всякой телесной скверны, свободный от желаний обладать тленными вещами. Свободу же уму дарует прежде всего вера. Ибо, если он не уверует, что, не очистившись и не освободившись от телесных страстей, не увидит истинного света, то он и не станет печься о своем выздоровлении. Но если бы он даже и уверовал, что это действительно так, что если ему дано видеть, то только при этом условии, но при этом не надеялся бы на возможность выздоровления — разве не упал бы он духом, не стал бы презирать себя и действовать вопреки предназначениям врача?
А. Совершенно верно, особенно ввиду того, что предписания эти, естественно, покажутся противными самой объявшей его болезни.
Р. Поэтому к вере должна быть присоединена надежда.
А. Думаю, что так.
Р. Но если он и верит, что все это действительно так, и надеется, что может излечиться, а между тем самого света, который ему обещается, не будет любить, не будет желать, а потому решит довольствоваться своим мраком, приятным ему уже в силу привычки: разве и в этом случае не отвергнет он врача?
А. Совершенно верно.
Р. Итак, в–третьих, необходима любовь.
А. Действительно, более необходима, чем что–либо иное.
Р. Итак, без этих трех никакая душа не излечится настолько, чтобы могла видеть, т. е. постигать своего Бога. А если будет иметь здоровые глаза, то что остается?
А. Остается смотреть.
Р. Взгляд души — это разум. Но так как из того, что кто–нибудь смотрит, отнюдь еще не следует, что он видит, то настоящий и совершенный взгляд, который действительно видит, называется добродетелью, ибо добродетель есть настоящий или совершенный разум. Но и такой взгляд не может обратить к свету хотя бы и здоровых уже глаз, если не будет этих трех: веры, которая будет полагать, что предмет, на который обращается взгляд, действительно таков, и что если он будет увиден, то сделает взгляд блаженным; надежды, которая предрешит, что увидит непременно, если хорошо посмотрит; любви, которая бы желала видеть и наслаждаться. За взглядом следует уже самое виденье Бога, которое есть конец зрения. Не потому, конечно, что зрение после этого уже как бы теряет свое применение, но потому, что далее этого стремления его не простираются. Это и есть совершенная добродетель — разум, достигающий своей цели, делающий жизнь блаженной. Само же виденье есть то разумение, которое появляется в душе, состоящей из постигающего и того, что постигается; так и применительно к глазам то, что мы называем «видеть», состоит из самого чувства и того, что подлежит чувству, так что, если бы не было чего–либо из двух, видеть нельзя было бы ничего.
7.
Теперь посмотрим, необходимы ли эти три и тогда, когда душе уже удалось увидеть Бога, т. е. уразуметь Его. Зачем, в самом деле, была бы необходима вера, если душа уже видит? А надежда и тем менее, так как она уже владеет. У любви же не только ничего не отнимается, но напротив, ей придается весьма многое. Ибо, с одной стороны, увидев эту единственную и истинную красоту, душа тем более ее полюбит, с другой же, если бы она не сосредоточила с особой любовью свой взгляд, она не могла бы пребывать в блаженнейшем созерцании.
Но пока душа находится в этом теле, то хотя бы она и полнейшим образом видела, т. е. уразумевала Бога, однако, поскольку телесные чувства продолжают еще, пусть даже и частично, действовать и владеть ею, то всегда найдется множество поводов если не для обмана, то для недоумения, а потому можно еще назвать верою то расположение души, которым одно отвергается, а другое принимается по преимуществу за истинное. Далее, хотя, уразумев Бога, душа будет уже блаженна и в этой жизни, однако, так как она терпит всевозможные телесные лишения и недуги, ей естественно надеяться, что после смерти всех этих неудобств уже не будет. Поэтому и надежда не оставляет души, пока она находится в этой жизни. Но после этой жизни, когда она вся соберется в Боге, останется только любовь, которая и там удержится. Ибо нельзя сказать, что она будет иметь веру в истинность всего того, коль скоро ее не будет тревожить никакая примесь лжи; не останется ей ничего и ожидать, так как она будет владеть всем с полной безмятежностью. Итак, от души требуются три вещи, — чтобы была здорова, чтобы смотрела, чтобы видела. Из этих трех вещей для первой и второй всегда необходимы другие три: вера, надежда и любовь; а для третьей — в этой жизни необходимы все три, а после нее — только любовь.
8.
Теперь выслушай, насколько это уместно по ходу нашей речи, некоторое учение о Боге, основанное на вышеприведенном сравнении с чувственными вещами. И Бога мы постигаем умом, и известные научные положения мы также постигаем умом, тем не менее они весьма различны между собой. И земля видима, и свет видим; но землю видеть нельзя, если она не освещена светом. Так и относительно научных положений, которые всякий, понимающий их, признает без всякого колебания за самые истинные, следует думать, что их нельзя было бы осознать, если бы они не были освещены как бы некоторым своим солнцем. Поэтому как в отношении к видимому солнцу следует различать три вещи, а именно: что оно есть, что оно светит и что оно освещает, так и в отношении к этому таинственнейшему Богу, которого ты хочешь уразуметь, различаются три стороны, которые суть: что Он есть, что Он познается, и наконец, что дает познавать остальное. Я решаюсь учить тебя познанию двух предметов: тебя же самого и Бога. Но скажи мне, как ты это примешь: как вероятное или как истинное?
А. Разумеется, как вероятное; и должен признаться, что жду этого с большим нетерпением, поскольку до сих пор, кроме побасенки о линии и шаре, ты не сказал ничего такого, о чем я мог бы, в свою очередь, сказать, что я это знаю.
Р. Это естественно, так как до сих пор еще ничто не было изложено так, чтобы можно было требовать от тебя сознательного усвоения.
9.
Но приступим к делу. Прежде всего давай определим, здоровы ли мы сами.
А. Это ты должен видеть и сам, если только можешь что–нибудь видеть в себе и во мне; впрочем, на все твои вопросы я буду отвечать так, как я это чувствую.
Р. Любишь ли ты что–нибудь, кроме познания самого себя и Бога?
А. Судя по тому, как я чувствую себя в настоящее время, я мог бы ответить, что ничего более не люблю; но для большей безопасности отвечу, что не знаю. Ибо со мной часто случалось так, что в ту пору, как я верил, что ничто другое меня не расшевелит, вдруг приходило что–нибудь на ум, что поражало меня совсем иначе, чем я предполагал. Бывало и так: какой–нибудь предмет, когда я только думал о нем, не тревожил меня; но когда он появлялся предо мною, то волновал гораздо больше, чем я мог себе представить. Впрочем, полагаю, что меня могут беспокоить только три вещи: страх потерять тех, кого люблю, страх болезни и страх смерти.
Р. Итак, ты любишь, когда рядом с тобой живут любимые тобою, любишь свое доброе здоровье и любишь саму свою жизнь в этом теле: ведь иначе ты не боялся бы все это потерять.
А. Признаюсь, что это так.
Р. Стало быть, когда с тобою нет всех твоих друзей и когда твое здоровье не совсем в порядке, это причиняет твоей душе некоторую боль; согласись, что это следует из сказанного.
А. Вывод верный — я не могу отрицать его.
Р. Но если ты вдруг почувствуешь и убедишься, что тело твое здорово и увидишь, что все, кого ты любишь, одинаково с тобою пользуются благородным досугом, не возрадуешься ли ты при этом?
А. Разумеется, да и зачем бы я стал обманывать себя, зачем стал бы скрывать эту радость?
Р. Следовательно, ты еще поддаешься всякого рода болезням и сильным душевным порывам. Каково же должно быть бесстыдство подобных глаз, если они хотят видеть то истинное солнце?
А. Ты вывел такое заключение, как будто я вовсе не чувствую, насколько улучшилось мое здоровье, от скольких язв я освободился и сколько их еще осталось. Попробуй, заставь меня отказаться и от этого.
10.
Р. Разве ты не знаешь, что эти телесные глаза даже и в здоровом состоянии часто поражаются светом телесного же солнца, отворачиваются от него и ищут убежища в темноте? Ты же, радующийся тому, что насколько подвинулся вперед, разве не задумаешься о том, что, собственно, ты хочешь видеть? Впрочем, давай внимательно рассмотрим то, в чем, по–твоему, мы сделали успехи. Желаешь ли ты богатства?
А. Нет, и уже давно. Мне теперь тридцать три года, перестал же мечтать о нем я почти четырнадцать лет назад и от всего того, что доставлялось случаем, не желал ничего, кроме необходимого для жизни и для упражнения в свободных науках. Одна из книг Цицерона вполне убедила меня, что богатства желать не следует, но если уж оно пришло, надлежит распоряжаться им мудро и бережливо.
Р. Ну, а как насчет славы и почета?
А. Признаюсь, что я буквально только что, почти на этих днях перестал их желать.
Р. А жену? Неужели тебя порою не манит мечта о прекрасной, целомудренной, послушной жене, образованной или по крайней мере такой, которой ты легко бы мог дать образование сам, приносящей с собою столько приданного (так как богатство ты презираешь), сколько нужно, нисколько не обременяющей тебя собою, не способной тебе досадить?
А. Как ты ни стараешься разукрасить ее образ и наделить всяческими достоинствами, я твердо решил ничего не избегать так, как сожительства с женщиной. По моему мнению ничто так не лишает твердости мужественный дух, как женские прелести и те телесные соприкосновения, без которых жена не может обойтись. Поэтому, если забота о детях и относится к обязанности мудрого (чего я еще наверняка не знаю), то всякий, кто ради этого вступает в сожительство с женщиной, может быть для меня предметом удивления, но подражания —ни в каком случае: ибо в этом таится гораздо больше опасностей, чем счастья. Поэтому я полагаю, что поступил справедливо и полезно для свободы своей души, приказав себе не желать, не искать и не брать жены.
Р. Но я ведь не спрашиваю в данный момент о том, борешься ли ты еще, или уже победил свое желание. Потому что вопрос идет о здоровье твоих глаз.
А. Я вовсе ничего подобного не ищу, ничего не желаю; я даже с ужасом и содроганием вспоминаю об этом. Чего же тебе еще? И такое доброе расположение у меня растет с каждым днем, ибо чем более увеличивается надежда увидеть ту красоту, которую я пламенно желаю, тем сильнее обращается к ней вся моя любовь и страсть.
Р. Ну, а прелесть пиров? Насколько ты взыскателен к еде?
А. Что я решил не есть, то меня и не влечет. А то, от чего я не отказался, то, признаюсь, доставляет мне удовольствие. Однако, если бы оно было отнято у меня, это не произвело бы во мне душевного волнения. А если этого вовсе нет, желание подобного рода не осмеливается проявиться и помешать моим размышлениям. Да и вообще, относительно ли еды, или питья, или бань и других телесных удовольствий, на всякий твой вопрос могу сказать: все это я желаю иметь настолько, насколько оно может помочь моему здоровью.
11.
Р. Ты сделал значительные успехи. Однако, остающееся служит еще очень большим препятствием к тому, чтобы видеть истинный свет. Остановлю внимание на одном, что, на мой взгляд, легко доказать, а именно: или не должно оставаться решительно ничего, что нам нужно было бы еще покорять, или об окончательном успехе говорить еще не приходится. Ответь, к примеру, на следующий вопрос: не пожелаешь ли ты богатства, если вдруг убедишься, что со множеством дорогих для тебя лиц ты сможешь посвящать свою жизнь изучению мудрости только при том условии, что обширные имения смогут удовлетворять ваши нужды?
А. Пожалуй, что так.
Р. Ну, а если станет очевидным, что ты успеешь многих расположить к мудрости, если твой авторитет будет подкреплен почетным общественным положением, да и сами твои друзья смогут ограничить свои желания и всецело обратиться к исканиям Бога только тогда, когда и они получат почетное общественное положение, а последнее будет возможно только в случае твоего высокого положения и сана? Разве не следует в таком случае желать и этого, не следует ли всячески настаивать на том, чтобы так случилось?
А. Это звучит вполне разумно.
Р. О жене, пожалуй, спорить не стану; впрочем, если бы ее обширное имение могло обеспечить содержание всех, с кем бы ты хотел жить спокойно в одном месте, а сама она на то искренне соглашалась, и особенно если бы она была такого знатного происхождения, что позволило бы тебе достигнуть того почетного положения, которое ты признал бы необходимым, то не знаю, обязан ли ты был бы этим пренебречь.
А. Разве когда–нибудь я осмелюсь надеяться на это?
Р. Согласись, что я не спрашиваю тебя о том, на что ты надеешься. Спрашиваю и не о том, что не манит к себе потому, что мы его лишены, а единственно о том, что может доставить удовольствие, когда нам представится. Ибо одно дело зараза, вырванная с корнем, и совсем другое — приглушенная, как бы залеченная. К последней применимо сказанное некоторыми учеными мужами: как глупость дураков, так и дурной запах всякой нечистоты чувствуешь не всегда, а когда пошевелишь. Большая разница — уничтожается ли желание из–за отсутствия надежды его удовлетворить, или вследствие душевного здоровья.
А, Хотя я и не в состоянии тебе возразить, однако ты не убедишь меня, что то душевное расположение, которое я в себе чувствую, не является с моей стороны хоть каким–нибудь успехом.
Р. Полагаю, что так тебе кажется потому, что хотя ты и можешь желать означенные вещи, однако они должны быть, на твой взгляд, желаемы не ради них самих, а ради чего–то другого.
А. Именно это я и хотел сказать. Ибо в былое время, когда я желал богатства, я желала его для того, чтобы быть богатым; да и почести, стремление к которым я совсем недавно подавил в себе, я хотел, привлекаемый исключительно их блеском; и когда я думал о жене, то думал всегда ни о чем другом, как о том наслаждении, которое она мне доставит. В то время у меня было прямое желание всего этого. Теперь же я все это решительно презираю. Но если бы доступ к тому, чего я желаю, был невозможен иначе, как посредством всего этого, особо стараться для достижения его не буду, но подчиниться ему готов.
Р. Прекрасно, ведь и я не считаю правильным назвать желанием стремление к тому, что ищется ради чего–либо другого.
12.
Но ответь, пожалуй, вот еще на что: почему для тебя так важно, чтобы вместе с тобою жили те люди, которых ты любишь?
А. Для того, чтобы вместе с ними исследовать наши души и Бога. Ибо тогда первый из нас, кому удастся что–либо узнать, без труда приведет к тому же и остальных.
Р. Ну, а если они не желают это исследовать? Или если не будут в состоянии это делать, или будут думать, что уже знают, или что это невозможно узнать, или встретят к тому препятствия в виде мирских забот и желания других вещей?
А. Буду принимать их такими, какими они есть.
Р. А если их присутствие будет мешать самому исследованию? Не поспешишь ли ты с ними расстаться? А. Признаюсь, ты прав.
Р. Итак, ты ищешь их общества не ради их жизни или присутствия, но ради изыскания мудрости?
А. Согласен.
Р. Ну, а если бы ты убедился, что к приобретению мудрости служит препятствием самая твоя жизнь, пожелал бы ты ее продолжения?
А. Разумеется, нет.
Р. А если бы узнал, что мудрость можно приобрести как оставив это тело, так и пребывая в нем, заботился ли бы ты о том, здесь или в другой жизни наслаждаться тем, что любишь?
А. Если был бы уверен, что со мною ничего не случится худшего, что лишило бы меня приобретенных мною успехов, то не заботился бы.
Р. Стало быть, ты теперь боишься умереть из опасения попасть в какую–либо беду, которая лишит тебя божественного знания?
А. Боюсь не только лишиться того, что я уже узнал, но и того, чтобы мне не был прегражден доступ к тому, что я желаю знать, хотя и думаю, что то, что я уже имею, останется со мной.
Р. Итак, ты желаешь продолжения жизни не ради ее самой, но ради мудрости?
А. Именно так.
Р. Остаются болезни тела, которые, быть может, страшат тебя своею тяжестью и силой.
А. Нет, и их я бы не боялся, если бы они не мешали моим изысканиям. Хотя этими днями, страдая жестокой зубной болью, я был в состоянии думать только о том, что уже твердо изучил ранее. Однако мне казалось, что если бы мой ум озарил свет истины, я или вовсе не чувствовал бы болезни, или считал бы ее совершенно ничтожной. Но хотя я ничего более сильного никогда не испытывал, задумываясь над тем, что могут случиться болезни и несравненно более тяжкие, вынужден согласиться с Корнелием Цельсом, который говорит, что наше высшее благо есть мудрость, а наибольшее зло — телесная болезнь. И мне кажется, что умозаключение его не лишено смысла. Он говорит, что поелику мы состоим из двух частей, т. е. из души и тела, из коих первая и лучшая — душа, а вторая и худшая — тело, то наивысшее благо лучшей части есть самое наилучшее, а наибольшее зло худшей есть самое наихудшее; наилучшее же в душе есть мудрость, наихудшее в теле — болезнь. Отсюда, по–моему, безо .,= всякой натяжки выводится заключение, что наивысшее человеческое благо — мудрость, наибольшее же зло — болезнь.
Р. Об этом мы поговорим после, ибо мудрость, которую мы стараемся достигнуть, возможно убедит нас в другом. Если же покажет, что это верно, тогда мы без колебания будем держаться этой мысли о наивысшем благе и наибольшем зле.
13.
Сейчас же давай выясним, каков ты, любитель мудрости, которую ты желаешь видеть целомудренным взором и заключить в свои чистые объятья, не допуская никакого покрова, как бы нагою, такою, какой она не дозволяет себя видеть и обнимать никому, кроме весьма немногих и самых избранных своих почитателей, любящих одну лишь ее.
А. Разве я не доказал, что ничего иного не люблю, или, по крайней мере, что если что–либо другое мне и желанно, то желанно не ради его самого. Мудрость я люблю ради ее самой, все же остальное: жизнь, покой, друзей я желаю иметь при себе или боюсь не иметь ради нее. И какие границы может иметь любовь к этой красоте, в отношении которой я не только не завидую прочим, но и весьма многих побуждаю искать ее вместе со мной, вместе ее домогаться, вместе овладевать и вместе со мной наслаждаться; и тем большими они мне будут друзьями, чем более общей у нас будет наша возлюбленная.
Р. Любителям мудрости вполне прилично быть такими. Таких она и ищет, союз с которыми в истинном смысле чист и непорочен. Но достигают его не одним единственным путем, потому что всякий овладевает этим истиннейшим благом соответственно его личному здоровью и твердости. Оно есть некий невыразимый и непостижимый умственный свет. Этот наш обыкновенный свет, насколько может учить, учит, каким образом получается тот. Ибо есть глаза, такие здоровые и крепкие, что, едва раскроются, без всякого трепета обращаются на самое солнце. Для таких самый свет есть некоторым образом здоровье, и они не нуждаются в учителе, а нуждаются разве только в одном напоминании. Для таких достаточно верить, надеяться, любить. Но другие болезненно поражаются тем самым блеском, который горячо желают видеть, и очень часто, даже не увидев его, с удовольствием обращаются к мраку. Хотя бы они были и таковы, что могли бы по справедливости быть названы здоровыми, однако показывать им то, чего они видеть не в силах, опасно. Поэтому их следует терпеливо упражнять, а любовь их полезным образом сдерживать и питать. Сначала им нужно показывать такое, что не само собою светит, но может быть видимо при помощи света, как, например, одежда, или стена, или что–либо другое в том же духе. Затем показывать нечто такое, что, хотя и не само собою, а при помощи света, но все же испускает некий приятный блеск, что–то вроде золота, серебра, и т. п. Потом с некоторой осторожностью следует показать земной огонь, далее — звезды, потом луну, потом блеск зари и сияние предзакатного неба. Привыкнув ко всему этому, всякий уже без трепета и с великим наслаждением увидит солнце. Нечто такого же рода делают и лучшие учителя для учащихся мудрости и владеющих зрением, хотя пока и не слишком острым. Но на сегодня мы, полагаю, написали достаточно: следует поберечь здоровье.
14.
А. Укажи, пожалуйста (говорю я на другой день), мне надлежащий порядок. Веди, тяни, куда хочешь, приказывай, что хочешь, каким бы тяжелым оно ни было (лишь бы оно было в моей власти), только бы посредством его я достиг желаемого.
Р. Есть одно, что я могу тебе посоветовать (более я ничего и не знаю), а именно: пока мы живем в этом теле, нам следует решительно избегать всего чувственного и всячески его остерегаться, чтобы его липкость не склеила наши крылья, которым нужно быть свободными и совершёнными, чтобы мы могли воспарить к высшему свету из нашей тьмы. Ибо свет этот не виден заключенным в телесную клетку, если они не будут такими, чтобы могли, разбив и поломав ее, улететь в свои воздушные области. Поэтому, чем скорее ты станешь таким, что ничто земное не будет доставлять тебе решительно никакого удовольствия, поверь мне, в ту самую минуту, в тот самый момент ты увидишь то, что желаешь.
А. Но скажи, произойдет ли это когда–нибудь? Ибо я не думаю, что смог бы дойти до полного презрения ко всему чувственному прежде, чем увижу то, в сравнении с которым это покажется грязным.
Р. Так же точно мог бы сказать и этот телесный глас: «Я тогда перестану любить мрак, когда увижу солнце». Кажется, будто и это в порядке вещей, однако на деле оно далеко не так. Он любит мрак, потому что он нездоров, а солнце может видеть только здоровый. И душа часто обманывает себя тем, что считает и выставляет сама себя здоровой, а поскольку еще не видит, то считает, что вправе жаловаться. Но та красота сама решает, когда ей показать себя. Ибо она сама является врачом и знает кто и насколько здоров лучше, чем те, кого она лечит. Мы же, насколько старались вынырнуть, думали о себе, что видим; но насколько мы были погружены и насколько успели подняться, мы судить не можем и считаем себя здоровыми только сравнительно с более тяжкой болезнью. Не заметил ли ты, с какой уверенностью ты высказался вчера, что уже не одержим никакой заразой и что не любишь ничего, кроме мудрости, а если ищешь и желаешь остального, то только ради нее? Какими грязными, какими мерзкими, какими отвратительными, какими ужасными казались тебе объятья женщины, когда мы рассуждали между собой о желании иметь жену! А между тем, бодрствуя этой ночью, ты чувствовал ведь, что эти воображаемые прелести и раздражающая приятность щекотали тебя иначе, чем ты предполагал; все это, конечно, менее, чем обыкновенно, но в то же время и далеко не так, как ты думал; так что оный таинственный врач показал тебе этим и то, и другое, а именно — от чего благодаря его помощи ты освободился и что остается еще излечить.
А. Молчи, пожалуйста, молчи. Что ты меня мучишь? Зачем роешь и проникаешь так глубоко? Я уже не удерживаю слез, уже ничего не обещаю, ничего не предполагаю, лишь бы ты не спрашивал меня об этих вещах. Ты правду говоришь, что Он, кого я страстно желаю видеть, Он сам узнает, когда я буду здоров. Он сделает то, что Ему угодно, покажет себя, когда Ему заблагорассудится. Я же предоставляю себя всецело Его милости и попечению. Я уверовал раз и навсегда, что Он не перестанет оказывать такого рода помощь расположенным к Нему. О своем же здоровье я не скажу ничего, пока не увижу той красоты.
Р. Иного ничего и не делай. Но от слез удержись и скрепи свое сердце. Ты слишком много плакал, а это тяжело отзывается на твоей больной груди.
А. Ты хочешь, чтобы я знал меру своим слезам, когда своему несчастью я меры не знаю? Или велишь мне принимать в соображение здоровье тела, когда сам я разрушен тлением? Но прошу тебя, если имеешь хоть какую–нибудь власть надо мной, веди меня кратчайшим путем, веди в некоторой по крайней мере близости к тому свету, который, если я достиг пусть и ничтожного успеха, я могу уже выносить. Досадно обращать глаза к тому мраку, который оставил; если только можно назвать оставленным то, что смеет еще ласкать мою слепоту.
15.
Р. Закончим, если угодно, эту первую книгу, чтобы потом уже во второй раз вступить на новый путь, который окажется удобным. Настоящее расположение твоего духа не должно быть оставлено без умеренного упражнения.
А. Я решительно не позволю закончить эту книгу, если ты не покажешь мне хоть немного из области того света, к которому я стремлюсь.
Р. Врач, о котором мы говорили, исполняет твою волю. Какое–то озарение побуждает меня тебя вести. Слушай же внимательно.
А. Веди, пожалуйста, и тащи, куда хочешь.
Р. Правду ли ты говоришь, что хочешь познать душу и Бога?
А. На это направлены все мои усилия.
Р. И более ни к чему?
А. Ни к чему решительно.
Р. Ну, а истины ты не хочешь познать?
А. А разве мог бы я без нее узнать желаемое?
Р. Итак, прежде всего следует узнать истину, потому что через нее можно узнать все остальное.
А. Не отрицаю.
Р. Рассмотрим же, во–первых, следующее. Есть два слова: истина и истинное. Как тебе кажется, две ли вещи обозначаются этими словами, или одна?
А. Мне кажется — две. Потому что одно дело чистота, и совсем другое — чистое, как и многое иное в том же роде. Поэтому я полагаю, что истина и истинное — суть не одно и то же.
Р. А что из этих двух ты считаешь более превосходным?
А. Думаю, что истину. Ибо не от чистого зависит чистота, а от чистоты — чистое; так и то, что истинно, является таковым в силу истины.
Р. Ну, а если умрет кто–нибудь чистый, полагаешь ли ты, что умерла и чистота?
А. Никоим образом.
Р. Итак, повредится ли истина от того, что погибнет что–нибудь истинное?
А. Этого я не понимаю.
Р. Но разве перед нашими глазами не погибают тысячи вещей? Или, быть может, ты думаешь, что это дерево — дерево ложное, или, если оно все–таки истинное дерево, то оно не может погибнуть? Даже если ты не доверяешь чувствам и ответишь, что решительно не знаешь, дерево ли это, однако же, полагаю, не станешь отрицать, что оно дерево истинное, если, конечно, оно вообще дерево (ведь об этом мы судим не чувством, а умом). Если же оно дерево ложное, то оно не дерево, если же оно дерево, то, по необходимости, оно есть дерево истинное. А. Согласен с этим,
Р. Ну, а с другим? Не согласен ли ты, что дерево относится к тому роду вещей, который рождается и погибает?
А. Не могу отрицать.
Р. Отсюда следует заключение, что погибает нечто, что есть истинное.
А. Логично.
Р. А далее? Не кажется ли тебе, что истина не гибнет, когда гибнут вещи истинные, как не умирает чистота, когда умирает чистый?
А. Теперь согласен и с нетерпением жду, что предпримешь далее.
Р. Кажется ли тебе истинным следующее положение: то, что существует, необходимо существует где–нибудь?
А. Абсолютно.
Р. Но признаешь ли ты, что истина существует?
А. Признаю.
Р. Итак, нам необходимо найти, где она существует; ибо она не существует в пространстве, если в пространстве не существует ничего, кроме тел; ведь не считаешь же ты истину телом?
А. Ничего подобного я не думаю.
Р. Так где же она существует? Ведь мы согласились, что существующее обязательно где–нибудь да есть.
А. Если бы я знал, где она, я ничего бы более и не искал.
Р. Но ты ведь можешь хотя бы узнать, где ее нет.
А. Подскажи, и быть может я догадаюсь.
Р. Ее нет, конечно, в вещах смертных. Ибо то, что существует, не может пребывать в чем–либо, если не пребывает то, в чем оно существует; но истина, как мы уже согласились, пребывает, хотя вещи истинные и гибнут. Итак, истина существует не в смертных вещах. Однако же она существует, и существует не нигде. Следовательно, есть вещи бессмертные. Ничто, однако же, не истинно, в чем нет истины. Отсюда следует, что истинно только то, что бессмертно. Притом, всякое ложное дерево не есть дерево, и ложное бревно не есть бревно, и ложное серебро не есть серебро, и все вообще ложное не существует. Все же, что не истинно — ложно. Итак, истинно–сущим может быть названо только бессмертное. Обсуди внимательно сам с собою этот вывод, чтобы тебе не показалось, что с чем–нибудь тебе не следовало соглашаться. Если он верен, мы покончили почти все свое дело; впрочем, это лучше уяснится в другой книге.
А. Благодарю, и как сам с собою, так потом и с тобою, в тишине, обсужу это внимательно и осмотрительно, если только не окутает меня никакой мрак и не заставит, чего я весьма боюсь, находить удовольствие в нем самом.
Р. Твердо верь в Бога и предайся Ему всецело. Не желай принадлежать себе самому и быть самовластным, но признай себя рабом этого милостивейшего Господина. В таком случае Он не перестанет тебя возвышать к Себе и не допустит, чтобы с тобой случилось что–нибудь, кроме полезного для тебя, хотя бы и без твоего ведома.
А. Слышу, верю и, насколько могу, повинуюсь, и Его же усердно молю, чтобы мог я исполнить волю Его возможно лучше; потребуешь ли ты от меня еще что–либо?
Р. Пока достаточно; сделаешь после, что велит уже Он сам, когда увидишь Его.
КНИГА ВТОРАЯ
1.
А. Наши занятия были прерваны довольно на долгое время, а, между тем, любовь нетерпелива, и слезам нет меры, если любви не дают того, что она любит. Начнем поэтому вторую книгу.
Р. Начнем.
А. Будем верить, что нам поможет Бог.
Р. Разумеется, будем верить, если хоть это в нашей власти.
А. Наша власть — Он Сам.
Р. В таком случае обратись к Нему с молитвой, по возможности краткой и совершенной.
А. Боже, пребывающий неизменным, позволь мне узнать себя, позволь узнать Тебя! Вот — я помолился.
Р. Ты, который желаешь знать себя, знаешь ли ты, что существуешь?
А. Знаю.
Р. А откуда знаешь?
А. Не знаю.
Р. Простым ли ты себя чувствуешь, или сложным?
А. Не знаю.
Р. Знаешь ли ты, что движешься?
А. Не знаю.
Р. Знаешь ли ты, что мыслишь?
А. Знаю.
Р. Итак, то, что ты мыслишь — истинно?
А Истинно.
Р. Знаешь ли ты, что бессмертен?
А Не знаю.
Р. Из всего того, чего, по твоим словам, ты не знаешь, что ты желаешь знать прежде всего?
А. Бессмертен ли я.
Р. Итак, ты любишь жизнь?
А. Признаюсь, что да.
Р. А если ты узнаешь, что бессмертен, достаточно ли тебе будет этого знания?
А. Хотя это будет и многое, но для меня этого мало.
Р. Однако же, насколько ты будешь рад этому малому?
А. Весьма сильно.
Р. Плакать уже не будешь?
А Решительно — нет.
Р. Ну, а если самая жизнь окажется такой, что в ней нельзя будет узнать тебе ничего более того, что ты знаешь? Удержишься от слез?
А. Напротив, буду плакать так, как будто бы нет и самой жизни.
Р. Стало быть, ты любишь жизнь не ради самой жизни, но ради знания.
А. Согласен.
Р. А если это знание сделает тебя несчастным?
А. Думаю, что этого .не может случиться. Но если это так, то блаженным не может быть никто, потому что если я теперь несчастен, то именно потому, что еще слишком многого не знаю. Если же и знание вещей делает несчастным, то несчастье вечно.
Р. Теперь я вижу, чего ты не хочешь. Так как ты думаешь, что знание никого не делает несчастным, то из этого делаешь заключение, что познание делает блаженным; блаженным же может быть только живущий, а живет только тот, кто существует: итак, ты желаешь существовать, жить и познавать; но — существовать, чтобы жить, чтобы познавать. Ты знаешь, что существуешь; знаешь, что живешь; знаешь, что познаешь. Но желаешь знать, всегда ли будет все это, или ничего этого не будет, или нечто пребудет всегда, а нечто исчезнет, или оставаясь вообще, все это уменьшится или увеличится.
А. Именно так.
Р. Итак, если мы докажем, что будем жить всегда, будет из этого следовать, что мы всегда будем и существовать?
А. Будет.
Р. Остается открытым вопрос о познании.
2.
А. Я нахожу этот порядок самым ясным и самым коротким.
Р. Будь же готов с осмотрительностью и твердостью отвечать на мои вопросы.
А. Готов.
Р. Если этот мир останется навсегда, истинно ли будет положение, что этот мир имеет пребывать всегда?
А. Кто же в этом усомнится?
Р. Ну, а если не останется? Не так же ли точно будет истинно, что мир не будет пребывать?
А. Не отрицаю.
Р. А когда погибнет, если имеет погибнуть? Не будет ли тогда истинно то, что мир погиб? Ибо пока не будет истинно, что мир исчез, он не исчезнет, так как этим отрицается, чтобы мир исчез, и не будет истинно, что мир исчез.
А. Соглашусь и с этим.
Р. Ну, а вот с этим: может ли, по–твоему, что–либо быть истинным, если истины не будет?
А. Никоим образом.
Р. Итак, истина будет, хотя бы и мир погиб?
А. Не могу отрицать.
Р. А если исчезнет сама истина, не будет ли истинно, что истина исчезла?
А. Кто станет спорить с этим?
Р. Но истинного не может быть, если истины не будет.
А. С этим я уже согласился прежде.
Р. Следовательно, истина не исчезнет никоим образом.
А. Продолжай как начал, потому что ничего не может быть истиннее таких выводов.
3.
Р. Теперь я желал бы, чтобы ты ответил, душа ли, по твоему мнению, чувствует, или тело?
А. По–моему, душа.
Р. А не кажется ли тебе, что ум относится к душе?
А. Кажется.
Р. К одной ли только душе, или и к чему–нибудь другому?
А. Кроме души и Бога я не представляю ничего, в чем мог бы допустить существование ума.
Р. Теперь обратим внимание на следующее. Если бы тебе сказал кто–нибудь, что эта стена — не стена, а дерево, что бы ты подумал?
А. Подумал бы, что или его, или мое чувство лжет, или что он этим именем называет стену.
Р. Ну, а если бы ему стена представлялась в виде дерева, а тебе — в виде стены? Разве то и другое не могло бы быть истинным?
А. Никоим образом; потому что одна и та же вещь не может быть и стеною, и деревом. Коль скоро каждому из нас отдельно представляется особенное, то несомненно, что один из нас имеет ложное представление.
Р. А если то и не стена, и не дерево, и вы оба обманываетесь?
А. Может быть и так.
Р. Но ты прежде этого не допускал.
А. Сознаюсь.
Р. Ну, и если вы узнаете, что оно кажется вам иначе, чем есть? Неужели вы и тогда обманываетесь?
А. Нет.
Р. Итак, возможно, что и представляющееся будет ложным, и не будет обманываться тот, кому оно представляется?
А. Возможно.
Р. Стало быть, следует признать, что не тот обманывается, кто видит ложное, а тот, кто доверяет ложному?
А. Следует.
Р. А что такое само ложное, и почему оно ложно?
А. Ложно то, что существует иначе, чем кажется.
Р. Поэтому: если нет тех, кому бы оно могло казаться, то нет и ложного?
А. Заключение верное.
Р. Итак, ложность заключена не в вещах, а в чувстве. Но тот не обманывается, кто не доверяет ложному. Отсюда следует, что одно дело мы, и совсем иное — чувство; потому что когда оно обманывается, мы можем и не обманываться.
А. Мне нечего возразить.
Р. Но когда обманывается душа, решишься ли ты утверждать, что ложного нет?
А. Каким образом решился бы я на это?
Р. Но чувства нет без души, как нет и ложности без чувства. Душа или производит ложность, или содействует ложности.
А. Предыдущее вынуждает согласиться и с этим.
Р. Теперь ответь мне, может ли, по–твоему, случиться так, что ложности когда–нибудь не будет?
А. Как я могу быть с этим согласным, когда дойти до истины так трудно, что сказать, что ложности быть не может гораздо несообразнее, чем сказать, что не может быть истины?
Р. Полагаешь ли ты, что может чувствовать тот, кто не живет?
А, Этого быть не может.
Р. Отсюда следует, что душа живет вечно.
А. Ты слишком быстро заставляешь меня радоваться; помедленней, пожалуйста.
Р. Но если мы согласились с вышесказанным, то я не вижу, почему бы следовало сомневаться в этом.
А. Я говорю: слишком быстро. От этого я скорее приду к мысли, что согласился с чем–нибудь необдуманно, чем останусь в убеждении относительно бессмертия души. Развей, по крайней мере, свое заключение, и покажи, как оно выведено.
Р. Ты сказал, что ложность не может быть без чувства, а она не быть не может; следовательно, чувство существует всегда. Но чувства нет без души; следовательно, душа вечна. Она не в состоянии чувствовать, если не будет жить. Итак, душа живет вечно.
4.
А. Жалкое доказательство! Ведь ты мог бы вывести заключение, что и человек бессмертен, если бы я согласился с тобой, что этот мир никогда не может быть без человека, а мир этот продолжит свое существование всегда.
Р. Ты весьма осмотрителен. Однако, то наше заключение, что природа вещей не может существовать без души, разве только в природе вещей когда–нибудь может не быть ложного, имеет свое значение.
А. Это заключение я признаю правильным. Но полагаю, что следует обстоятельнее рассмотреть, достаточно ли твердо то, в чем мы согласились выше. По моему мнению, в заключении о бессмертии души мы проделали большой путь.
Р. Достаточно ли ты все обдумал, чтобы не сделать легкомысленной уступки?
А. Пожалуй, что и достаточно, и не нахожу ничего, за что я стал бы упрекать себя в безрассудстве.
Р. Следовательно, верно то заключение, что природа вещей не может существовать без живой души?
А. Правильно в том смысле, что одни души поочередно могут рождаться, другие — умирать.
Р. Но если бы ложность была устранена из природы вещей, не случилось ли бы так, что все было бы истинным?
А. Полагаю, что это было бы так.
Р. Скажи, почему тебе кажется, что эта стена — истинная стена?
А. Потому что вид ее не обманывает меня.
Р. Стало быть потому, что она такой есть, какой кажется?
А. Да.
Р. Следовательно, если что–нибудь ложно только потому, что кажется не таким, каким оно есть на самом деле, и потому истинно, что является таким, каким и кажется, то коль скоро нет того, кому оно может казаться, то не будет ни ложного, ни истинного. Но если ложности нет в природе вещей, то все истинно. Казаться же что–либо может только душе живущей. Итак, душа продолжает свое существование в природе вещей, если ложность устранена быть не может и все равно продолжает — если даже и может.
А. Хотя этот вывод сделан, на мой взгляд, основательней предыдущего, однако это добавление не продвинуло нас вперед. Представившееся мне очень серьезным возражение, т. е., что души рождаются и умирают, и если они не перестают существовать в мире, то это достигается не их бессмертием, а заступлением одной на место другой, остается в силе.
Р. Кажется ли тебе, что телесное, т. е. чувственное, может быть постигаемо умом?
А. Нет, не кажется.
Р. Почему же так? Не думаешь ли ты, что Бог пользуется для познания вещей чувствами?
А. Я не осмелюсь сказать что–либо утвердительным образом по этому предмету; но насколько позволительно предполагать, думаю, что Бог отнюдь не пользуется чувствами.
Р. Отсюда мы заключаем, что чувствовать может только душа.
А. Заключай, пожалуй, насколько это допускает вероятность.
Р. Согласен ли ты, что эта стена, если она не есть истинная стена, не есть и стена вообще?
А. Согласен.
Р. И что то не есть тело, что не есть тело истинное?
А. И с этим также.
Р. Итак, если истинно только то, что является таковым, каковым оно кажется; если все телесное может быть видимо только чувствами, если чувствовать может только душа; если то не может быть телом, что не есть истинное тело, то отсюда следует, что тела быть не может, если не будет души.
А. Твои доказательства чрезвычайно сильны, и у меня нет ничего, что я мог бы им противопоставить.
5.
Р. Вникни внимательнее в следующее: этот камень действительно существует не иначе, чем кажется; и видим он может быть только чувствами. Следовательно, камней нет ни в сокровеннейшем лоне земли, ни вообще где–либо, где нет тех, которые чувствовали бы: если бы мы его не воспринимали, он не был бы камнем. Если ты замкнешь шкаф, то хоть и многое будет в нем заперто, не будет в нем ничего. И самое дерево внутри не есть дерево. Ибо все, что есть в глубине непрозрачного тела, ускользает от всех чувств, и потому вполне сводится к ничтожеству. Ибо, если бы оно было, оно было бы истинно; истинно же то, что существует так, как кажется; но оно никак не кажется — следовательно, оно не есть истинное. Или ты, может быть, хочешь что–нибудь возразить против этого?
А. Я вижу, что это вытекает из того, с чем я прежде согласился; но оно так несообразно, что я готов скорее отказаться от чего–либо из прежнего, чем признать истинным это.
Р. Изволь. В таком случае обрати внимание на то, что ты имел в виду, когда говорил о том, что телесное может быть усматриваемо только чувствами, или что чувствовать может только душа, или что камень и все прочее существует, но не есть истинное. И вообще, не следует ли иначе определить истинное?
А. Рассмотрим, пожалуй, это последнее.
Р. В таком случае определи, что такое истинное.
А. Истинное есть то, что существует так, как кажется незнающему, если он хочет и может познавать.
Р. Следовательно, то не будет истинным, чего никто не может познать? Затем, если ложное есть то, что кажется иначе, чем как оно есть, то что если этот камень одному кажется камнем, а другому — куском дерева? Не будет ли одна и та же вещь ложной и истинной одновременно?
А. Меня более озадачивает первое, а именно: каким образом из того, что какой–либо предмет не может быть познан, выходит, что он не есть истинный? То же, что одна и та же вещь может быть одновременно истинной и ложной, меня нисколько не удивляет, так как любой предмет, если сравнивать его с другими, в одно и то же время бывает и большим, и малым. Но из этого выходит лишь то, что само по себе ничто не есть ни большое, ни малое. Потому что эти названия имеют смысл лишь при сопоставлении.
Р. Но когда ты говоришь, что ничто не истинно само по себе, не опасаешься ли, что из этого будет следовать, что ничто не существует само по себе? Ведь коль скоро это дерево существует, оно потому и есть истинное дерево. Да и быть не может, чтобы, будучи само по себе, т. е. без познающего, оно не было бы деревом истинным.
А. После этого я сформулирую следующее определение: истинное, по моему мнению, то, что существует.
Р. В таком случае ничто не будет ложным, так как все, что ни есть, есть истинное.
А. Ты поставил меня в величайшее затруднение; я решительно не нахожу, что тебе ответить. Хоть я и желал бы, чтобы ты учил меня подобными вопросами, но после этого боюсь уже и вопросов.
6.
Р. Бог, которому мы отдаем себя, без всякого сомнения подаст нам помощь и освободит от этого затруднения, если только мы будем веровать в Него и усерднейшим образом Ему помолимся.
А. Действительно, в данном случае я ничего не сделаю с большей готовностью, потому что никогда еще не окружал меня такой мрак. Боже, Отец наш, увещевающий нас молиться Тебе и подающий то, о чем Тебя просят, услышь меня, мечтающего в этом мраке и протяни мне десницу Твою. Покажи мне свет Твой, вызволи меня из заблуждений; пусть под Твоим руководством возвращусь я к себе и к Тебе. Аминь.
Р. Не отвлекайся же и, насколько можешь, слушай самым внимательным образом.
А. Вот, я уже не занят ничем другим.
Р. Прежде всего потолкуем еще раз о том, что такое ложное.
А. Я удивился бы, если бы ложным было что–либо другое, а не то, что существует не так, как кажется.
Р. Давай прежде всего спросим сами чувства. Ведь то, что видят глаза, не называется ложным, если не имеет какого–либо сходства с истинным. Например, человек, которого мы видим во сне, не есть человек истинный, но ложный именно потому, что имеет сходство с истинным. Ибо кто, увидев собаку, мог бы по совести сказать, что видел во сне человека? И собака эта ложная потому, что похожа на истинную.
А. Это так.
Р. Ну, а если кто–нибудь, бодрствуя и видя коня, подумал бы, что видит человека? Не потому ли обманулся бы он, что ему представилось нечто, похожее на человека? Ибо если бы ему представился только вид лошади, он не мог бы подумать, что видит человека.
А. Согласен.
Р. Также точно мы называем ложным то дерево, которое видим нарисованным, ложным то лицо, которое отражается в зеркале и ложным излом весла в воде именно в силу сходства видимого с истинным.
А. И это справедливо.
Р. Также точно мы обманываемся и в близнецах, и в яйцах, и в отдельных печатях, сделанных одним и тем же кольцом, и в остальных предметах того же рода.
А. Разделяю это мнение вполне и соглашаюсь с ним.
Р. Следовательно, сходство вещей, воспринимаемое зрением, есть мать ложности.
А. Не стану отрицать.
Р. Но вся эта масса сходств, если не ошибаюсь, может быть разделена на два рода. Ибо сходство бывает между вещами равными, а также между вещами неравными. Равенство бывает тогда, когда мы говорим, что это так же похоже на то, как то — на это, как, например, сказано нами о близнецах или отпечатках кольца. К неравенству же относятся те случаи, когда худшее мы называем похожим на лучшее. Ибо кто, посмотрев в зеркало, скажет По совести, что он похож на отражение, а не оно на него? Этот последний род проявляется частью в душевных состояниях, частью же в тех вещах, которые представляются наблюдению. Но и то, что совершается в душе, отчасти совершается в чувстве, как, например, видимость излома весла, которого в действительности нет, отчасти же в ней самой в силу того, что она получила от чувств, каковы, к примеру, образы в сновидениях, а может быть и в безумии. Далее, сходства, которые оказываются в самих вещах, видимых нами, одни образуются самой природой, другие — существами одушевленными. Природа производит подобия путем рождения и путем отражения; путем рождения, когда дети рождаются похожими на родителей, путем отражения — при помощи разного рода зеркал. Ибо, хотя и люди делают множество зеркал, однако не сами они рисуют те образы, какие зеркалами отражаются. Произведения существ одушевленных мы имеем в живописных картинах и в других того же свойства изображениях; к тому же роду могут быть отнесены и те образы, которые бывают делом демонов, если только они действительно бывают. Тени же тел, коль скоро они не слишком удаляются от самого предмета, так что удерживают подобие тел и называются как бы ложными телами, давая глазам охватить себя, следует отнести к тому роду, который производит природа через отражение. Ибо всякое тело, выставленное на свет, отражает его и отбрасывает в противоположную сторону тень. Или ты находишь, быть может, какое–нибудь возражение против сказанного?
А. Возражений я не нахожу, но с нетерпением ожидаю узнать, к чему это ты клонишь.
Р. Нужно терпеливо ждать, пока и остальные чувства дадут нам знать, что ложность гнездится в подобии истинному. Ибо и в области слуха. является столько же почти родов сходства: например, когда слыша голос говорящего, невидимого для нас, мы принимаем его за кого–либо другого, на которого он похож голосом; образцом же сходства в худших вещах служит, например, эхо, или звон в самих же ушах, или некоторое подражание дрозду или ворону в часах, или в том, что представляют себе, будто слышат, видящие сны или помешанные. А так называемые у музыкантов фальшивые тоны до невероятной степени, как это окажется после, служат подтверждением истине; но для настоящего случая довольно и того, что и сами они недалеко от сходства с теми тонами, которые называются истинными. Ты согласен с этим?
А. Согласен, тем более в данном случае мне все хорошо понятно.
Р. Тогда, чтобы долго не останавливаться на этом предмете, скажи, кажется ли тебе, что можно легко различать лилию от лилии по запаху, или тминный мед от тминного же меда из разных ульев по вкусу, или пух лебяжий от пуха гусиного при помощи осязания?
А. Нет, не кажется.
Р. А если нам приснится, что мы такого свойства предметы обоняем, или вкушаем, или осязаем? Не обманет ли нас это подобие образов, тем худшее, чем более оно пустое?
А. Ты правду говоришь.
Р. Итак, очевидно, что мы обманываемся во всех чувствах, обольщаемые сходством или между вещами равными, или неравными; или если не обманываемся, удерживаясь от доверия или замечая различие, должны называть вещами ложными те, которые считаем за истиноподобные.
А. Не могу в этом сомневаться.
7.
Р. Теперь усиль свое внимание, так как мы снова вернемся к тому же предмету, чтобы сделать более очевидным то, что стараемся показать.
А. Слушаю внимательно. Я решил терпеливо относиться к этому кругообращению и не почувствую на этот раз усталости, поддерживаемый надеждой достигнуть того, к чему мы стремимся.
Р. Хорошо делаешь. Но вникни внимательно: в том случае, когда мы видим похожие одно на другое яйца, можем ли мы какое–либо из них по справедливости назвать ложным?
А. Мне кажется, нет. Потому что если все они яйца, то они яйца истинные.
Р. Ну, а если видим образ, отраженный зеркалом? По каким признакам мы узнаем, что он ложный?
А. По тем, что его не поймаешь, что он не отзывается, что сам собою не движется, что не живет, а также и по другим бесчисленным признакам, которые пересчитывать было бы долго.
Р. Вижу, что тебе не хочется медлить, и готов подчиниться твоей торопливости. Итак, чтобы не останавливаться снова на частностях, назвали бы мы ложными людьми тех, которых видим во сне, если бы они могли жить, говорить, быть удерживаемы бодрствующими, и если бы не было никакого различия между ними и теми людьми, с которыми мы разговариваем и которых видим проснувшись, в здоровом состоянии?
А. На каком основании мы могли бы их так назвать?
Р. Следовательно, если они были бы истинными потому, что оказывались бы весьма похожими на истинных и что между ними и истинными не было бы решительно никакого различия, то не следует ли признать, что сходство есть мать истины, а несходство — мать ложности?
А. Не имею что сказать против этого и мне стыдно за свое так необдуманно данное перед этим согласие.
Р. Смешно, если стыдишься, как будто не ради этого мы и выбрали такого рода беседы, которые я хочу назвать монологами, так как мы разговариваем одни сами с собою; хоть название это ново и, может быть, грубо, но оно довольно пригодно для обозначения сущности дела. Ибо истина лучше всего может раскрываться через вопросы и ответы, а, между тем, едва ли можно найти какого–либо человека, которому не было бы стыдно остаться побежденным в споре; и при этом почти всегда случается так, что речь, искусно введенную для разъяснения вопроса, заглушает дикий крик упрямства, большей частью с затаенной, а иногда и открытой душевной злостью. Поэтому я полагаю, что изобрел самый спокойный и самый удобный способ искать с божьей помощью истину, отвечая сам себе на свои же вопросы. Поэтому тебе нечего опасаться брать назад свое мнение и отказываться от него, если ты необдуманно что–либо утверждал, ибо другого выхода из этого и быть не может.
8.
А. Ты говоришь правду. Но я не вполне ясно вижу, с чем согласился неудачно. Разве что назвать действительно ложным то, что имеет некоторое сходство с истинным, так как я решительно не нахожу ничего другого, что соответствовало бы названию ложного; но и при этом снова вынужден признаться, что так называемое ложное называется ложным потому, что отличается от истинного. Отсюда следует вывод, что причина ложности — то же самое несходство. Поэтому я и не соберусь с мыслями, что мне ничего не приходит на ум такого, что могло бы вытекать из этих противоречивых положений.
Р. Разве ты не знаешь, что едва ли можно найти что–либо до такой степени похожее на другой предмет, чтобы между ними не было хоть в чем–либо различия.
А. Вижу, что это так; но когда обращу внимание на то, что называемое нами ложным имеет нечто и сходное с истинным и несходное, то я нахожу себя не в состоянии разобрать, в силу чего по преимуществу оно заслуживало бы названия ложного. Ведь если я скажу, что в силу того, что оно несходно/тогда не будет ничего, чего нельзя было бы назвать ложным; потому что нет ничего, что не отличалось бы от какой–либо вещи, которую мы признали бы за истинную. С другой стороны, если скажу, что оно должно быть названо ложным в силу того, что оно сходно, то не только возражением против этого будут те яйца, которые потому и истинные яйца, что весьма меж собою схожи, но и не в состоянии буду сопротивляться тому, кто станет принуждать меня признать, что ложно все; потому что мне нельзя будет отрицать, что все в каком–либо отношении имеет сходство между собою. Представь затем, что я решился бы отвечать, что сходство и несходство вместе дают действительное основание назвать что–либо ложным; какой бы ты тогда указал мне выход? Ведь все–таки возражение, что я все считаю ложным, останется в силе, так как все, как сказано выше, в известном отношении оказывается сходным между собою, а в ином — различным. Оставалось бы сказать, что ложное есть не что иное, как то, что существует иначе, чем кажется, если бы я не опасался всех тех чудовищных выводов, которых считал себя недавно избегшим. Ибо я снова буду опровергнут нежданным оборотом, что должен буду в таком случае назвать истинным то, что существует именно так, как кажется. А из этого будет следовать, что ничто не может быть истинным без познающего. А там–то я и боюсь потерпеть крушение на таинственнейших скалах, которые истинны, хотя и неведомы. Или, если я скажу, что ложного нет нигде, то это мнение опровергнет всякий, кто угодно. И вот томления мои возвращаются снова, и я вижу, что со всем своим терпением, с которым я относился к твоей медлительности, я нисколько вперед не продвинулся.
9.
Р. Лучше внимательнее вникай, потому что я никоим образом не могу примириться с мыслью, что мы напрасно молились о божественной помощи. Перепробовав по возможности все, я нахожу, что ложным можно по справедливости назвать лишь то, что выставляет себя тем, чем оно не есть, или всеми силами стремиться быть, но не есть. Но первый род ложного есть или лживый (fallax), или неправдивый (mendax). Ибо лживым правильно называется тот, кто имеет желание обмануть кого–либо и который делает это отчасти пользуясь разумом, отчасти же в силу своей природы; с участием разума это бывает у животных разумных, например у человека; по природе же — у животных неразумных, к примеру у лисицы. Неправдивым же я называю то, что высказывается говорящими неправду. Они тем отличаются от лжецов, что всякий лжец желает обмануть, но не всякий говорящий неправду имеет подобное намерение: потому что и мимы, и комедии, и множество поэм переполнены неправдивым более с целью доставить удовольствие, нежели обмануть, да и все почти, кто шутит, говорят неправду. Но лжецом или лгущим называется правильно тот, кто ставит себе задачу кого–либо обмануть. Тех же, кто не имеют в виду ввести кого–либо в заблуждение, а только что–либо выдумывают, называют выдумщиками, или, если этого нет, то просто говорящими неправду. Но ты, может быть, имеешь что возразить против этого?
А. Продолжай пожалуйста; может быть, теперь–то ты и начал о ложном говорить неложное. Впрочем, мне не терпится узнать, что это за такой род, о котором ты сказал, что он стремиться быть, но не есть.
Р. Это все то, о чем мы много говорили выше. Не кажется ли тебе, что твое отражение в зеркале как бы желает быть самим тобой, но остается ложным, потому что не становиться таковым.
А. Конечно, кажется.
Р. А всякое живописное изображение, или какая–либо статуя, да и весь этот род художественных произведений? Разве не стремятся они быть тем, по подобию чего каждое из них сделано?
А. Соглашаюсь вполне.
Р. Затем, полагаю, ты согласишься, что к тому же роду относится все, чем обманываются спящие или сумасшедшие?
А. Даже более, чем с чем–нибудь другим, потому что ничто более не стремится быть похожим на то, что видят бодрствующие или здоровые; а вместе с тем оно и ложно, так как не может быть тем, чем быть стремится.
Р. К чему бы, далее, я стал распространяться о движении высоких зданий, о погруженном в воду весле или о тенях тел? Думаю, вполне ясно, что они должны быть подводимы под ту же мерку. О других чувствах умалчиваю, ибо всякий зрело обсуждающий найдет, что в вещах, нами чувствуемых, ложным называется то, что стремится быть чем–нибудь, но не есть.
10.
А. Ты правду говоришь. Но удивляюсь, почему тебе показалось нужным выделить из этого рода поэмы, шутки и прочую ложь.
Р. А потому, что одно дело желать быть ложным, и совсем иное — не быть способным стать истинным. Поэтому такие человеческие произведения, как комедии, трагедии, пантомимы и другие того же рода мы можем уподобить произведениям живописцев и ваятелей. Ибо нарисованный человек также точно не может быть истинным, хотя и достигает вида человеческого, как и то, что содержится в книгах комиков. И все это не желает быть ложным, или бывает ложным не по какому–либо собственному желанию, а по некоторой необходимости, насколько может подчиняться произволу измышляющего. Но Росций, по природе истинный человек, по воле своей был на сцене ложною Гекубой. По той же самой воле он был и истинным трагиком, насколько играл свою роль, и ложным Приамом, потому что Приаму подражал, но самим Приамом не был. Отсюда выходит нечто своеобразное, но что оно так, в том никто не сомневается. А. Что же это такое?
Р. А то, что все это от того в известном отношении истинно, от чего в другом отношении ложно, и к истинности его в данном отношении служит единственно то, что в другом отношении оно ложно. Из–за этого оно никоим образом не достигнет того, чем хочет или должно быть, если избегает быть ложным. Каким бы образом этот Росций, о котором мы упоминали, был истинным трагиком, если бы не пожелал быть ложным Гектором, ложною Андромахой, ложным Геркулесом, и проч.? Или каким образом было бы истинным живописное изображение, если бы конь не был ложным; или в зеркале истинное отображение человека, если бы оно не было человеком ложным? После этого, если в известных отношениях для того, чтобы нечто было истинным, полезно, чтобы нечто было ложным, то почему мы настолько страшимся ложности и так стремимся к истине, считая ее великим благом?
А. Не знаю и очень удивляюсь; разве только потому, что в приведенных примерах не вижу ничего достойного для подражания. Ведь не должны же и мы, подобно актерам или каким–либо отражениям от зеркал, будучи в известном виде своем истинными, подкрашиваться и подделываться под чужой вид и для этого становиться ложными; но должны искать такое истинное, которое не было бы подобно двуликому образу, смотрящему в противоположные стороны, в известной части истинным, в известной — ложным.
Р. Ты ищешь великого и божественного. Но если бы мы его нашли, не сознались бы мы, что этим мы как бы изготовили и отлили саму истину, от которой получает свое название все, что каким бы то ни было образом истинно?
А. Соглашаюсь с этим охотно.
11.
Р. Как, по–твоему, наука рассуждать — истинная ли наука, или ложная?
А. Конечно, истинная. Но истинна также и грамматика.
Р. Также, как и диалектика?
А. Я не знаю, есть ли что истиннее истинного.
Р. Это то, конечно, что не имеет ничего ложного. Незадолго же перед этим ты встречался с такими вещами, которые каким–то образом не могли быть истинными, если бы не были ложны. Разве не известно тебе, что к грамматике относится все это баснословное и открыто ложное?
А. Это–то я знаю; но думаю, что не грамматика сочиняет все это ложное, а только уясняет его свойства, а именно, что басня есть ложь, сочиненная для пользы и удовольствия. Сама же по себе грамматика есть блюстительница членораздельной речи: она дает правила, по которым должна сочиняться всякая человеческая речь (не исключая и вымыслов), предаваемая памяти и письму, не обращая это в ложное, но преподавая и сообщая относительно этого некоторые истинные приемы.
Р. Прекрасно. О том, правильно ли ты определил и различил это, я пока не буду говорить; но остановлю внимание твое на том, сама ли грамматика доказывает, что все это так, или наука суждения?
А. Я не отказываюсь силу и искусство делать определения, которые в данном случае ты решил выделить, приписать искусству рассуждения.
Р. Ну, а сама грамматика? Если она истинна, то не потому ли истинна, что она — наука? Ибо наука получила название от научения, а никто не может сказать, что он не знает того, чему научился и что помнит; и никто не знает ложного. Следовательно, всякая наука есть наука истинная.
А. Хоть я и не вижу, какая в этом умозаключении допущена неправильность, однако опасаюсь, чтобы в силу его не показались кому–нибудь истинными и упомянутые выше басни, потому что мы и их изучаем и помним.
Р. Неужели учитель наш не хотел, чтобы мы верили тому и знали то, чему он учил?
А. Напротив, он сильно настаивал, чтобы мы знали.
Р. Но настаивал ли он когда–нибудь, чтобы мы верили, что Дедал летал?
А. На этом, действительно, он не настаивал никогда, но говорил открыто, что если басни не выучим, то едва ли будем знать вообще что–нибудь.
Р. Следовательно, ты не отрицаешь, что изучал истинное, когда изучал это. Ибо, если бы то, что Дедал летал, было истинно, а дети принимали бы это за выдуманную басню, то они усвоили бы себе ложное потому, что то, что передавалось, было истинным. Отсюда–то и является то своеобразие, о котором мы говорили выше, а именно, что басня о летании Дедала не была бы истинною басней, если бы не было ложным, что Дедал летал.
А, Пусть это так; но я желал бы знать, что мы приобретаем из этого?
Р. А то, что наше умозаключение, что наука не может быть истинной, если не учит истинному, не есть умозаключение ложное.
А. А какое это имеет отношение к нашему делу?
Р. Я хочу, чтобы ты сказал мне, почему грамматика есть наука: ибо она постольку истинна, поскольку есть наука.
А. Не знаю, что тебе сказать.
Р. Не кажется ли тебе, что если бы в ней не было ничего определенного, ничего распределенного и разделенного на роды и части, то она никоим образом не могла бы быть наукою?
А. Теперь я понимаю, что ты хочешь сказать: я не признаю никакого научного свойства за той наукой, которая не нуждается в определениях, разделениях, умозаключениях, во всем том, почему она и называется наукой.
Р. Стало быть, и во всем том, почему называется наукой истинной.
А. Логично.
Р. Теперь скажи, какая наука излагает способ определений, разделений и развития частей?
А. Выше уже было сказано, что это делается правилами рассуждения.
Р. Итак, грамматика как наука, и как наука истинная, обязана своим происхождением той же самой науке, которую ты выше защитил от упрека в ложности. То же заключение я могу вывести относительно не одной только грамматики, но и всех вообще наук. Ты сказал, и сказал верно, что нет науки, которая не получила бы свойства науки в силу определения и логического расположения. Но если науки потому истинны, что они науки, то кто станет отрицать, что та наука, через которую все другие делаются истинными науками, есть сама истина?
А. Готов был бы согласиться с этим; но меня останавливает то, что мы и способ рассуждения относим к тем же наукам. Я скорее думаю, что истина есть то, что самый способ этот делается истинным.
Р. Прекрасно и осмотрительно во всех отношениях; но полагаю, ты не отрицаешь, что она постольку истинна, поскольку есть наука?
А. Напротив, это–то меня и останавливает. Потому что я вывел и обратное заключение: так как она наука, то поэтому и истинна.
Р. Почему так? Разве ты думаешь, что она могла бы быть наукой, если бы в ней не было все определено и логически расположено?
А. Более мне нечего добавить.
Р. Но если обязанность эта лежит на ней же, то она есть наука истинная благодаря себе же самой. Да и покажется ли кому–нибудь странным, если эта наука, делающая истинным все, сама через себя и сама в себе будет истинною истиной?
А. Теперь ничто не мешает мне согласиться.
12.
Р. В таком случае выслушай внимательно то немногое, что остается.
А. Говори, если имеешь что сказать; пусть только оно будет таким, чтобы я его понимал и охотно с ним соглашался.
Р. Говорят, что одно существует в другом двояким образом. Во–первых, одно так существует в другом, что может быть отделено от него и находиться в другом месте, как существует это бревно в этом месте, как находится солнце в восточной стороне неба; но, во–вторых, существует что–либо в субъекте и так, что не может быть отделено от него, как форма и наружный вид в этом бревне, как свет в солнце, как тепло в огне, как наука в душе и многое другое, подобное этому. Или ты думаешь иначе? А. Все это давно известно, усвоено и изучено самым старательным образом с первых дней юности; поэтому я могу согласиться с этим без всякого рассуждения.
Р. Вот как? Так не согласишься ли, что и то, что есть в субъекте неотделимого, не может продолжать своего существования, если сам субъект перестанет существовать? А. И это я считаю неизбежным. Ибо всякий, внимательно рассматривающий вещи, понимает, что пока субъект продолжает свое существование, то, что есть в субъекте, может прекратить свое существование. Так, например, цвет тела может из–за болезни или возраста измениться, хотя само тело еще не уничтожится. Хотя это применимо не ко всему, но лишь к тому, что входит в существование субъектов не для того, чтобы давать бытие самим субъектам. Например, стена окрашена в этот цвет, который мы видим, не для того, чтобы она была стеной. Но если бы огонь потерял тепло, он не был бы огнем; и снег мы можем назвать снегом, если он будет бел.
13.
Но разве может быть кем–либо допущено или показаться кому–либо возможным, чтобы то, что существует в субъекте, продолжало бы свое существование по уничтожении самого субъекта? Ибо неестественно и в высшей степени несообразно с истиной, чтобы то, чего не было бы, если бы не было в субъекте, могло быть и после того, когда не будет самого субъекта.
Р. Следовательно то, что мы искали, найдено. А. О чем ты говоришь? Неужели теперь ясно видно, что душа бессмертна?
Р. Если то, с чем ты согласился, истинно, то как нельзя яснее; разве только скажешь, что душа, хотя бы и умерла, останется душою.
А. Этого–то я никогда не скажу. Ибо и свет, куда бы он ни проник, то место освещает и не может принять в себя мрак, однако гаснет, и когда свет погаснет, место это затемняется. Таким образом то, что сопротивлялось мраку и никоим образом не принимало в себя мрак, дало мраку место своим исчезновением, как могло бы дать удалением. Итак, я опасаюсь, чтобы то же не случилось и с телом, как с местом мрака, из–за удаления души, как света, или из–за ее угасания прямо в нем. Так как смерти телесной вообще избежать невозможно, то желателен по крайней мере такой род смерти, в котором душа уходила бы из тела неповрежденной и переходила в место (если только есть такое место), где она не могла бы угаснуть. А если это невозможно, если душа зажигается в самом теле и не может нигде более продолжать своего существования, и смерть вообще есть некоторое угасание души или жизни в теле, то следует, насколько это возможно человеку, избрать такой род жизни, чтобы то, что живет, жило безмятежно и спокойно; хотя я и не знаю, каким образом это может быть, если душа умирает. О, как блаженны те, кто сами или с помощью других пришли к убеждению, что смерти не следует бояться, хотя бы душа и уничтожалась! А меня, несчастного, еще не смогли убедить в этом никакие доводы, никакие книги.
Р. Не вздыхай и будь уверен: душа человеческая бессмертна.
А. Чем ты это докажешь?
Р. Тем, с чем ты с большой осторожностью согласился перед этим.
А, Хоть я и помню, что ничего не отвечал на твои вопросы, не рассмотрев внимательно, однако представь, пожалуйста, самую сущность всего, чтобы видеть, до чего мы дошли с такими околичностями, и не спрашивай меня более. Ибо если повторишь коротко то, с чем я согласился, то зачем могут понадобиться от меня ответы вновь? Разве затем, чтобы бесцельно отсрочить мою радость?
Р. Сделаю, как ты хочешь; только слушай очень внимательно.
А. Говори же, я слушаю. Зачем томишь?
Р. Если все, что существует в субъекте, продолжает свое существование всегда, то необходимо будет продолжать свое существование и сам субъект. Но всякая наука существует в субъекте, в душе. Следовательно, если наука всегда продолжает свое существование, необходимо, чтобы всегда продолжала свое существование и душа. Но наука есть истина, а истина, как убедил разум в начале этой книги, пребывает всегда. Следовательно, душа пребывает всегда и не называется умершею душою. Поэтому бессмертие души будет отрицать без явной нелепости только тот, кто докажет, что какая–либо из вышеприведенных уступок сделана неправильно.
14.
А. Я готов был бы уже предаться радости, если бы меня несколько не смущали две вещи. Во–первых, меня смущает, что мы употребили такой обход, держась невесть какой цепи умозаключений, между тем как все, о чем шла речь, могло быть доказано так коротко, как оно доказано теперь. Меня тревожит, что речь обходила вопрос так долго как бы для того, чтобы завлечь в засаду. Затем, я не вижу, каким образом в душе всегда существует наука, особенно наука суждения, когда ее немногие знают, а кто и узнает, тот узнает отнюдь не сразу. Ибо мы не можем сказать ни того, что души неученых не есть души, ни того, что в их душах существует наука, которой они не знают. Так как это было бы большою нелепостью, то остается заключить, что или истина не всегда существует в душе, или упомянутая наука не есть истина.
Р. Из этого ты видишь, что наше исследование ненапрасно нуждалось в стольких околичностях. Ибо мы доискивались, что такое истина, и все же я не вижу, чтобы в этом лесу вещей, перебродив по всем почти тропинкам, мы и теперь могли напасть на ее следы. Но что станем делать? Не бросить ли начатое и не подождать ли, не попадется ли что–либо под руки из чужих книг, что удовлетворит наше любопытство? Ибо и до нашего времени, я думаю, написано много таких книг, которых мы не читали; и в настоящее время, когда мы можем полагать, что ничто от нас не укрывается, нам известно, что об этом предмете написано и в стихах, и прозой; и притом написано такими мужами, и произведения которых от нас укрыться не могут, и природные дарования которых таковы, что мы можем вполне надеяться найти в их сочинениях то, чего желаем, особенно когда здесь же, перед нашими глазами находится тот, чье красноречие мы стали было оплакивать как умершее, но нашли ожившим в совершеннейшем виде. Он ли, учивший в своих сочинениях прекрасному образу жизни, допустит нас не знать природы жизни?
А. Этого я не думаю и надеюсь многому у него научиться, но скорблю об одном: что мы не имеем возможности, соответственно своему желанию, раскрыть перед ним своего рвения как к нему, так и к истине. Он действительно сжалился бы над нашей жаждой и гораздо скорее, чем теперь, поделился бы своим богатством. Спокойный тем, что сам вполне уже убедился в бессмертии души, он быть может и не знает, что есть люди, которые достаточно осознали тяжкое состояние этого неведения и отказать которым в просимой помощи было бы крайне жестоко. А тот, другой, хотя и знает по дружбе наше сильное желание, но находится от нас далеко, мы же теперь так устроились на жительство, что едва ли имеем возможность посылать к нему письма. Я думаю, что пользуясь досугом по ту сторону Альп, он уже окончил стихи, обаянием которых изгнал страх смерти и уничтожил оцепенение и душевный холод. Но пока дело находится в таком положении, которое не зависит от нашей власти, не стыдно ли нам терять напрасно свой досуг и свою душу, лишенную свободы действия, и оставлять все в зависимости от сомнительного третейского приговора?
15.
Помогло ли нам, что мы молились и молимся Богу, чтобы Он указал нам путь, — нам, ищущим не богатства, не удовольствий телесных, не блеска и почестей, а свою душу и Его же самого? Уж не оставляет ли Он нас?
Р. Нет. Ему в высшей степени не свойственно оставлять тех, кто стремится к подобным вещам; поэтому мы и должны быть далеки от мысли оставить такого вождя. Потому повторим то, из чего мы вывели два следующие положения: что истина пребывает всегда, и что основные начала рассуждения суть истина. Ты сказал, что от шаткости этих положений зависит то, что сущность всего добытого нами нас не убеждает. Или быть может рассмотрим лучше то, каким образом возможна наука в душе необразованной, которую мы не можем, однако же, не называть душою? По–видимому, ты в этом нашел побуждение снова подвергнуть сомнению то, с чем прежде согласился?
А. Нет, рассмотрим сперва первое, а затем обсудим и последнее. После этого, думаю, не останется ничего спорного.
Р. Пусть будет так, но сосредоточься. Ведь я знаю, что происходит с тобой, когда ты слушаешь: устремив все свое внимание на вывод и нетерпеливо ожидая, что он вот–вот получится, ты не слишком тщательно обсуждаешь те вопросы, с которыми соглашаешься.
А. Ты, пожалуй, говоришь правду; но я постараюсь, насколько могу, освободиться от этой слабости; только начинай уже спрашивать, чтобы нам не терять времени понапрасну.
Р. Свое заключение, что истина не может погибнуть, мы вывели, насколько помню, из того, что если бы погибли не только весь мир, но и сама истина, то и тогда было бы истинно, что погибли мир и истина. Но истинным ничто не может быть без истины. Следовательно, истина никоим образом не погибнет.
А. Это я признаю справедливым и очень удивился бы, если бы оно было ложно.
Р. В таком случае перейдем к другому.
А. Позволь, пожалуйста, мне несколько подумать, чтобы я после, к своему стыду, снова не возвращался к этому.
Р. А что? Разве не будет истинным, что истина погибла? Если это не будет истинным, то истина не погибнет. А если будет истинным, то как после уничтожения истины это будет истинным, если истины уже не будет?
А. Я обдумал уже и обсудил все: переходи к другому. Постараемся непременно, насколько сможем, сделать так, чтобы это прочитали мужи ученые и благоразумные и исправили нашу неосмотрительность, если таковая есть; потому что я не считаю возможным ни теперь, ни когда бы то ни было найти какое–либо возражение против этого.
Р. Называется ли что–нибудь истиной кроме того, в силу чего является истинным то, что истинно?
А Нет.
Р. Справедливо ли называется истинным только то, что не есть ложно?
А. Сомневаться в этом было бы безумием.
Р. Не есть ли ложное то, что принимает вид чего–либо, и, однако же, не есть то, на что является похожим?
А. Действительно, я не знаю ничего другого такого, что охотнее всего назвал бы ложным. Но обыкновенно ложным называется и такое, что весьма далеко от сходства с истинным.
Р. Кто это отрицает? Но все же оно представляет собой хоть небольшое подражание истинному.
А. Каким образом? Ведь, когда рассказывается, что Медея летала на крылатых змеях, рассказ этот не представляет собою подражания истинному; так как то, что не существует, не может быть и предметом подражания для чего–либо, что также не существует.
Р. Ты прав, но забываешь, что не существующее вовсе, не может быть названо и ложным. Ведь, если оно ложное, то оно существует, а если оно не существует, то оно не есть и ложное.
А. Неужели этот невообразимо чудовищный рассказ о Медее мы не назовем ложным?
Р. Не назовем; ведь если бы он был ложным, разве он был бы чудовищным?
А. Выходит что–то странное; неужели, когда мне скажут: «Змей огромных крылатых, запряженных в ярмо», я не назову это ложным?
Р. Назовешь, потому что здесь есть нечто, что можно назвать ложным.
А. Скажи, что это?
Р. Разумеется, та мысль, которая высказывается самим стихом.
А. Но какое же в ней заключается подражание истинному?
Р. Она высказывается так, как будто бы Медея в самом деле это делала. Ложная мысль подражает истинным мыслям самим своим выражением. Будучи невероятной, она тем подражает истинным мыслям, что так высказывается, и есть только ложная, но не лживая. А если бы она рассчитывала на доверие, она подражала бы, несомненно, истинному.
А. Теперь я понимаю, что есть большое различие между тем, что мы говорим, и теми предметами, о которых говорим, и соглашаюсь с тобою, потому что меня останавливало только это одно, а именно, что называемое нами ложным мы только тогда правильно называем ложным, когда оно представляет собой некоторое подражание истине. Действительно, кто не подвергся бы заслуженному осмеянию, если бы сказал, что камень есть ложное серебро? Однако, если бы кто сказал, что камень есть серебро, мы сказали бы, что он говорит ложное, т. е. высказывает ложную мысль. Но олово или свинец мы, по–моему, не без смысла называем ложным серебром, потому что в вещах есть как бы некоторое подражание; н мысль наша поэтому не есть ложная мысль, а ложно то, о чем она высказывается.
16.
Р. Понимаешь правильно. Но обрати внимание на то, могли бы мы с такою же уместностью назвать и серебро ложным свинцом?
А. Мне кажется, нет.
Р. Почему?
А. Не знаю; знаю только одно, что я назвал бы его так против своей воли.
Р. А не потому ли, что серебро лучше, и что назвать его так было бы как бы в поношение ему; между тем как для олова было бы как бы своего рода честью, если бы оно называлось ложным серебром?
А. Ты вполне прав. И поэтому–то, полагаю, законы считают беспечными и не имеющими права на завещание тех, которые являются публично в женской одежде, которых я не знаю, как лучше назвать, ложными ли женщинами, или ложными мужчинами. Но истинными комедиантами и истинными бесчестными людьми мы можем назвать их не колеблясь; или, если они делают это тайно и что–либо бесчестное становится известным только по дурным слухам, то мы, полагаю, не вопреки истине назовем их истинными негодяями.
Р. Для рассуждения об этом у нас будет другое время; ибо многое делается такое, что на первый взгляд представляется бесчестным, но по своей похвальной цели оказывается честным. Вопрос заслуживает внимательного обсуждения: поступает ли согласно со своим долгом мужчина, который ради освобождения отечества одевается в женскую тунику и обманывает неприятеля, и от того, что становится ложной женщиной, не бывает ли он еще более истинным мужчиной? Также точно и мудрый, если убежден, что жизнь его необходима для человечества, неужели пожелает лучше умереть от стужи, чем прикрыться женской одеждой, если другой не оказалось под рукой? Но об этом, как я сказал, поговорим в другой раз. Ты видишь, конечно, сколько всего требуется для разъяснения, при каких условиях это должно происходить, чтобы не обращаться в неизвинительное безобразие. А пока я нахожу вполне очевидным и не подлежащим сомнению, что ложное есть не что иное, как некоторое подражание истинному.
17.
А. Переходи к дальнейшему, поскольку в этом я достаточно убедился.
Р. В таком случае я спрошу, можем ли мы, за исключением тех наук, которые изучаем и к которым следует причислить саму философию, найти что–либо такое истинное, что оно не было бы, подобно театральному Ахиллесу, также в известном отношении и ложным, как истинным в другом?
А. Мне кажется, можно найти многое. Ведь этот камень не входит в состав наук, и однако же он камень истинный и не подражает ничему, вследствие чего мог бы быть назван ложным. Согласен, что, упомянув о нем одном, можно умолчать о бесчисленном множестве других предметов, которые сами собою приходят на ум.
Р. Согласен. Но не кажется ли тебе, что все эти предметы подходят под одно название, а именно: тело?
А. Казалось бы, если бы я не был уверен, что не существует ничего тщетного, или думал бы, что к телам же следует причислять и самую душу, или полагал бы, что и Бог есть некое тело. Если все это существует, то оно, полагаю, ложно и истинно не по подражанию чему–нибудь.
Р. Ты заставляешь нас вдаваться в длинные рассуждения; но постараюсь, насколько могу, быть кратким. Ведь, согласись, одно есть то, что ты называешь тщетным, и другое — истина?
А. Разумеется. Разве было бы что–либо более тщетное, чем я сам, если бы я считал истину чем–либо тщетным или стремился с таким усилием к чему–нибудь тщетному? Ведь я желаю найти не иное что, как истину.
Р. В таком случае ты может быть согласишься и с тем, что все истинное становиться истинным от истины?
А. Это стало очевидным уже давно.
Р. Не думаешь ли ты, что тщетное есть что–нибудь другое, а не само тщетное, как, например, тело?
А. Нисколько не думаю.
Р. В таком случае, полагаю, ты думаешь, что истина есть некое тело.
А. Никоим образом.
Р. Так что же такое в теле?
А. Не знаю, да это и безразлично. Ведь тебе, я думаю, известно, что если тщетное существует, то оно существует там, где нет никакого тела.
Р. Известно.
А. Так чего же мы останавливаемся на этом?
Р. Кажется ли тебе, что истина произвела тщетное, или что есть нечто истинное в котором истины нет?
А. Нет, не кажется.
Р. Итак, нет истинного тщетного, потому что тщетное могло произойти только от тщетного; а в чем нет истины, то очевидно и не истинно; и то, что называется тщетным, называется так оттого, что оно — ничто. Итак, каким образом может быть истинным то, что не существует? Или каким образом может существовать то, что есть совершенное ничто?
А. Оставь это — пусть тщетное и будет тщетным.
18.
Р. А об остальном ты что говоришь?
А. А что такое?
Р. Да то, что, как видишь, служит в пользу моего мнения. Остается душа и Бог; если они истинны потому, что в них есть истина, то в бессмертии никто не усомниться. Но и душа потому полагается бессмертной, что, оказывается, в ней существует истина, которая погибнуть не может. Поэтому остановимся теперь на том, действительно ли тело не есть поистине истинное, то есть, что в нем есть не истина, а как бы некоторое подражание истины. Ибо, если бы и в теле, которое, как известно, подлежит уничтожению, мы нашли такое же истинное, какое существует в науках, то наука рассуждения, благодаря которой все науки истинны, не была бы истинной. Ибо тогда будет истинным и тело, которое не представляется образованным по началам рассуждения. А если и тело истинно по некоторому подражанию, и поэтому только, а не безотносительно истинно, то может быть и не окажется ничего такого, что служило бы препятствием начала рассуждения признать за саму истину.
А. Займемся, пожалуй, и телом; хотя я и не думаю, что спор бы кончился, если бы и это было доказано.
Р. А ты откуда знаешь, чего желает Бог? Итак, слушай. Я думаю, что тело состоит из некоторой формы и вида и если бы их не имело, то не было бы и телом, а если бы имело истинные — было бы душою. Или, быть может, следует думать иначе?
А. Отчасти соглашаюсь с этим, отчасти же сомневаюсь. Соглашаюсь, что тело не было бы телом, если бы не имело некоторой фигуры. Но каким образом оно было бы душой, если бы имело фигуру истинную, этого я не понимаю.
Р. Неужели ты не помнишь ничего из начала первой книги и из твоих там геометрических рассуждений?
А. Кстати напомнил; воспроизвожу в своем представлении все и с величайшей охотой.
Р. Такие ли фигуры оказываются в телах, с какими знакомит наука?
А. Напротив, они оказываются до невероятности худшими.
Р. Какие же из них ты считаешь истинными?
А. Неужели ты считаешь нужным спрашивать меня и об этом? Кто так слеп умом, чтобы не видеть, что те, о которых учит геометрия, покоятся на самой истине, или что в них сама истина; а фигуры тела, хотя и представляются как бы стремящимися к ним, являются лишь каким–то подражанием истины, и потому ложны? Теперь я понимаю все, что ты старался доказать мне.
19.
Р. Нужно ли после этого снова трактовать о науке рассуждения? Покоятся ли геометрические фигуры на истине, или в них самих заключается истина, никто не усомнится, что они содержатся в нашей душе, т. е. в нашем уме; а отсюда необходимо следует, что и истина существует в нашей душе. А если какая–либо истина существует в нашей душе, как в субъекте, с нею нераздельно, а истина погибнуть не может, то скажи, пожалуйста, вследствие какой такой привязанности к смерти мы сомневаемся в вечной жизни души? Или та линия, та четырехугольная или круглая фигура, чтобы быть истинными, имеют какой–либо предмет для своего подражания?
А. Последнему я мог бы поверить лишь в том случае, если бы линией было что–нибудь иное, а не долгота без широты, или кругом что–либо другое, а не круговая линия, всюду одинаково отстоящая от центра.
Р. Так чего же мы медлим? Или где есть это, там истины нет?
А, Пусть Бог хранит от помешательства.
Р. Или наука существует не в душе?
А. Кто стал бы утверждать подобное?
Р. Но может быть, если бы субъект погиб, то, что в субъекте, продолжило бы свое существование?
А. Каким образом меня убедят в этом?
Р. Остается предположить, что уничтожилась истина.
А. Как это может произойти?
Р. Следовательно, душа бессмертна. Поверь же наконец своим выводам, поверь истине: она провозглашает, что обитает в тебе, что бессмертна и что никакая смерть тела не может вытащить из под нее ее седалища. Отвернись от своей тени, возвратись в самого себя; для тебя нет другой погибели, кроме забвения того, что ты погибнуть не можешь.
А. Слышу, прихожу в себя, начинаю оправляться. Но прошу разъяснить остальное: каким образом в душе невежественной, которой мы не можем назвать смертной, должно быть понимание существования науки и истины.
Р. Вопрос этот, если ты желаешь его рассмотреть тщательно, требует особой книги. Вместе с этим я нахожу необходимым для тебя пересмотреть снова и все то, что по возможности нами исследовано, потому что, если нет сомнения в том, в чем мы согласились, то мы, полагаю, сделали многое и не должны с легкомысленной бесчестностью переходить к другому.
20.
А. Пусть будет так, как ты говоришь; повинуюсь охотно твоим приказаниям, но прежде, чем закончить книгу, я попрошу показать мне в нескольких словах по крайней мере различие между истинной фигурой и той, какую рисует себе мысль, называемая по–гречески фантазией или фантазией.
Р. Ты просишь о том, что может видеть только чистейший и к созерцанию чего ты мало подготовлен; и в настоящее время целью этих наших околичностей было не что иное, как твое упражнение, чтобы сделать тебя способным созерцать истину. Впрочем, особую важность имеет и то, каким образом это могло бы быть разъяснено, и я быть может успею сделать это понятным. Представь себе, что ты забыл что–нибудь, и другие желают напомнить тебе об этом. И вот они говорят тебе, представляя в виде похожих различные вещи: «Не это ли, не другое ли?» Ты же, хотя и не видишь того, что желаешь вспомнить, видишь, однако же, что оно не то, что тебе называют. Если бы так случилось с тобою, показалось бы тебе это полным забвением? Ведь то самое, что ты различаешь, что не принимаешь того, на что тебе ложно указывают, есть уже отчасти воспоминание.
А. Кажется, что так.
Р. Стало быть, такие истины еще не видят; однако же и быть обманутыми и введенными в заблуждение не могут и достаточно знают то, что ищут. Но если кто–нибудь скажет тебе, что ты, спустя несколько дней после рождения, смеялся, ты не решишься назвать это ложным; а если скажет такое лицо, которому следует верить, ты, хотя и не вспомнишь, поверишь; потому что все то время погребено для тебя в полнейшем забвении. Или ты иначе думаешь?
А. Согласен.
Р. Итак, последнее забвение весьма отлично от первого, но первое — дело обыкновенное. Есть много других вещей очень близких и сродных с воспоминанием и пересмотром истины. Подобное этому бывает, когда мы что–нибудь видим и припоминаем, что мы это когда–то уже видели и утверждаем, что знали; но где, когда, каким образом и у кого мы с этим познакомились, нам нужно припоминать и передумывать. Если это случится по отношению к человеку, мы спрашиваем, где мы его видели; когда он нам напомнит, тогда все обстоятельства неожиданно как бы освещаются в нашей памяти и вспомнить не составляет более труда. Но может быть это тебе неизвестно или непонятно?
А. Что может быть яснее и что случается со мною чаще?
Р. Таковы те, которые изучили основательно свободные науки: ибо, изучая, они, несомненно, как бы выкапывают и открывают их в себе, зарытые забвением; и не удовлетворяются, и не останавливаются, пока не раскроется во всей широте и полноте лицо истины, блеск которого до известной степени уже просвечивается в тех науках. Но от этих же наук в зеркале мысли отражаются некоторые ложные цвета и формы, часто обманывают искателей и вводят их в заблуждение, заставляя думать, будто в них заключается все, что они знают или чего ищут. Таких представлений следует избегать с особой осторожностью; ложь их узнается по тому, как они меняются со сменой зеркала, между тем как лицо истины остается неизменным. Мысль, например, рисует и представляет четырехугольник то одной, то другой величины, но внутренний ум, который желает знать истинное, обращается к тому, на основании чего признает их квадратными.
А. Ну, а если нам кто–нибудь скажет, что ум судит об этом на основании того, что обыкновенно видит глазами?
Р. В таком случае, на основании чего он полагает, что всякий истинный шар касается истинной плоскости в одной лишь точке? Что, подобное этому, видит когда–либо или может видеть глаз, если само воображение не в состоянии представить что–нибудь в этом роде? Не то же ли самое доказываем мы, когда описываем в своем воображении самую маленькую круговую линию и от нее проводим линии к центру? Ибо, проведя две линии, между которыми едва ли могло бы вместиться острие иглы, мы не в состоянии провести между ними других даже в самом воображении своем так, чтобы они доходили до центра, нисколько не сливаясь между собой, между тем как разум провозглашает, что их можно провести бесчисленное количество и что в этом невероятно узком пространстве они могут войти в соприкосновение только в центре, так что во всяком промежутке между ними можно еще описать круг. Так как фантазия этого исполнить не в состоянии и оказывается еще более бессильной, чем сами глаза, хотя и возбуждается к деятельности ими, то очевидно, что она далеко отстоит от истины и в ее представлениях истина не проявляется. С большей точностью и тонкостью об этом будет сказано тогда, когда мы начнем рассуждать о познании, что будет сделано после того, как мы разъясним и, по возможности, устраним все, что беспокоит нас относительно жизни души. Ибо ты, я вижу, опасаешься, что смерть, хотя и не умертвит душу, но повлечет за собою забвение.
А. Трудно передать, сколь страшит меня подобная утрата. Чего будет стоить тогда вечная жизнь и не будет ли она хуже смерти, если душа, обретая ее, будет подобна душе новорожденного младенца?
Р. Мужайся: Бог, обещающий после жизни в этом теле нечто блаженнейшее и исполненное истины, защитит нас, как мы и сами это чувствуем по молитвам нашим.
О согласии евангелистов
КНИГА ПЕРВАЯ
1.
Среди всего важного по своему божественному значению, содержащемуся в св. Писании, Евангелие по праву имеет значение наивысшее. В самом деле, то, что Закон и пророки предвозвещали как грядущее, в Евангелии раскрывается как данное и совершившееся. Первыми провозвестниками этого были апостолы, которые видели во плоти и даже лицом к лицу самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Они вспомнили не только то, что слышали из Его уст или видели Им соделанным, но, получив дар благовестил, позаботились возвестить роду человеческому еще и то, о чем они могли узнать или раскрыть при помощи вернейших показаний и несомненнейших свидетельств от Него ли Самого, или от Его родителей, или от кого–либо другого, а именно: бывшее по действию свыше еще прежде, чем стали они Его учениками, и достойное памяти во время Его рождества, детства или отрочества. Некоторые из них, Матфей и Иоанн, сообщили в отдельных книгах и такие сведения о Нем, ибо, по их мнению, они должны были быть записанными.
2.
Но чтобы не подумалось, будто в отношении проповеди и усвоения есть некоторое различие в том, что возвещают, с одной стороны, те, которые следовали за Господом, явившимся здесь во плоти, в качестве Его учеников, а с другой стороны, те, которые с полною верой приняли открытое ими, Божественным Промышлением через Духа Святого было утроено так, что некоторым из последователей первых апостолов было дано полномочие не только провозглашать, но даже и написать Евангелие: таковы Марк и Лука. А прочие люди, которые пытались нечто писать о деяниях Господа или апостолов, были не таковы, чтобы Церковь могла иметь к ним доверие и принять их писания как имеющие каноническую важность св. книг; и это не потому, что в силу их нечестия их рассказам не должно было верить вообще, но потому, что они внесли в свои писания нечто ложное, осуждаемое вселенским и апостольским правилом веры и истинным учением.
3.
Таким образом, четыре евангелиста, известные во всем мире, — и, может быть, потому–то и четыре, что есть четыре стороны света, по которым повсеместно распространяется Церковь Христова, — некоторым образом самим священным значением своего числа ясно показали, что писали они в следующем, как представляется, порядке: сперва — Матфей, затем — Марк, далее — Лука, и, наконец, Иоанн. Поэтому у них был один порядок приобретения познания и проповедания, а другой — писания. В самом деле, в познании и проповедании первыми были, конечно, те, которые следовали за Господом, бывшим в плоти, слышали Его слова, видели Его дела и Его устами были посланы на благовестив. Но в написании Евангелия, каковое, — как должно веровать, — было велено сделать свыше, из числа тех, которых Господь избрал перед страданием, первое и последнее место занимают только два, именно: первое — Матфей, а последнее — Иоанн; так что остальные два, не бывшие в их числе, а только следовавшие между ними за проповедавшим Христом, должны были находиться как бы в объятиях, как их сыны, и потому в этом месте они поставлены посередине и как бы стеною защищены с той и другой стороны.
4.
Но из этих четырех только один Матфей, как передает древнее сказание, писал на арамейском языке, а остальные — на греческом. И хотя каждый из них, по–видимому, держался своего способа повествования, однако же все они не желали писать так, как будто ничего не знали о предшественниках, пропуская как неизвестное то, что другие прежде уже записали, но присоединяли к написанному и свой личный труд, насколько каждый в отдельности получил на то откровение. Ибо Матфей постарался изобразить воплощение Господа как царственного потомка и записал многие изречения и деяния Его. Марк, следовавший за ним, оказался как бы его провожатым и совратителем его труда, потому что он с одним только Иоанном не сказал ничего общего, сам лично — только очень немногое, совместно с одним Лукой — сравнительно много, но больше всего именно с Матфеем, и кроме того он во многом согласен или с кем–либо одним, или со всеми вместе в передаче того или иного, причем часто почти теми же самыми словами. Лука же изобразил преимущественно священническое происхождение и лицо Господа. В самом деле, ведь и к самому Давиду оно подходит, если следовать не царственной линии предков, а через тех, которые не были царями: Лука дошел до Нафана, сына Давидова (Лк. 3.31), который не был царем. Он изображает не так, как Матфей, — который, начиная с царя Соломона (Мф. 1.6), проследил по порядку всех прочих царей, сохраняя таинственное число в их ряду, о чем мы будем говорить ниже.
5.
Действительно, Господь Иисус Христос, единый истинный Царь и единый истинный Священник, — первое для управления нами, а второе — для искупления нас,
— обнаружил, что эти два лица, в отдельности провозвещенные у праотцев, имели свой внешний образ: во–первых, в надписи, прибитой к Его кресту: «Царь Иудейский»,
— почему и Пилат по таинственному наитию ответил иудеям: «Что я написал, то написал» (Ин. 9,19–22), ибо в псалмах было предречено: «Не уничтожай надписи имени»; во–вторых, касательно лица священника в том, что Он научил нас приносить и принимать жертвы, почему и предпослал пророчество, говорящее о Нем: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека» (Пс. 109,4). И во многих других памятниках священного письма Христос является и Царем, и Священником. Отсюда и сам Давид, сыном которого Он называется чаще, чем других, — как и сыном Авраама, — и которого Матфей и Лука упоминают оба, — первый, говоря о Его происхождении по нисходящей линии через Соломона от Давида, а второй, возводя Его к Давиду через Нафана, — хотя и был царем, однако представлял и лицо священника, когда съел хлебы предложения, которые позволительно было вкушать одним только священникам (1 Цар. 21,6; Мф. 12,3). Следует также отметить, что только один Лука говорит о том, что Мариам, слышавшая благовестие от ангела, была родственницей Елизаветы, жены священника Захарии. Он также пишет, что Елизавета была дочерью Аарона, т. е. что Захария имел жену из колена священников (Лук. 1,36,5).
6.
Итак, когда Матфей акцентирует внимание на царственное значение Иисуса Христа, а Лука — на священническое, то в обоих случаях речь идет о человечестве Христа, ибо Христос был поставлен Царем и Священником как человек, так как Ему дал Бог престол Давида, отца Его, дабы царство Его не имело конца (Лук. 1.32,33), и чтобы человек Христос был посредником между Богом и людьми, ходатайствуя за нас (1 Тим. 2,5). Но Лука не имел такого же сокращателя, как Матфей в лице Марка. И это, может быть, тоже не без некоторого таинственного значения, ибо царственным лицам не свойственно быть без свиты; поэтому взявший на себя изображение царственной личности Христа также имел как бы присоединившегося к нему спутника, который следовал по его стопам. А так как первосвященник только один входил во святая святых, то Лука, внимание которого сосредоточилось вокруг священства, не имел как бы следовавшего за собой союзника, который сократил бы до некоторой степени его повествование.
7.
Но три вышеназванные евангелиста останавливались преимущественно на тех деяниях, которые Христос совершал в человеческой плоти, Иоанн же сосредоточил свое внимание на божественности Господа, по которой Он равен Отцу, и стремился тщательно изобразить именно это. Таким образом, он устремился гораздо выше первых трех, так что когда видишь тех вращающимися как бы на земле с Христом как человеком, этот, превзойдя пределы туманов, плотно облегающих землю, вознесся к чистому небу, откуда с проницательной и крепкой остротой ума созерцал в начале Слово, Бога у Бога, Которым создано было все, и возвестил, что Оно стало плотью, чтобы обитать среди нас (Ин. 1.13,14); что Оно приняло плоть, но не изменилось во плоти. Если бы восприятие плоти совершилось без сохранения неизменности божественной природы, то не было бы сказано: «Я и Отец — одно» (Ин. 10.30), ибо Отец и плоть не суть одно. И это свидетельство Господа о Себе приводит один только Иоанн, равно как и следующие: «Видевший Меня видел Отца; Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14.9,10); «Да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17.22); «Что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5. 19). И если мы знаем еще что–либо подобное, столь достоверно указывающее нам на божество Христа, по которому Он равен Отцу, то и это сообщил в своем Евангелии Иоанн; ведь не случайно же именно он возлежал у груди Иисуса во время вечери Его (Ин. 13.23), тем самым как бы более изобильно и ближайшим образом вкушая таинство божества.
8.
Две силы вложены в душу человека: одна — деятельная, другая — созерцательная; первая сообщает движение, вторая позволяет постигать; первой действуют, чтобы очистить сердце для созерцания Бога, второю освобождаются и созерцают; первая — в предписаниях и законах этой временной жизни, вторая — в учении о жизни вечной; первая действует, вторая пребывает в покое, ибо первая проявляется в очищении грешников, а вторая — в просвещении очищенных; по той же причине в этой смертной жизни первая обнаруживается в делах доброго поведения, а вторая преимущественно в вере. Эти две силы представлены в образе двух жен Иакова, о которых я, насколько мог, говорил при опровержении учения Фавста Манихея. В самом деле, Лия понимается как трудящаяся, а Рахиль — как начало созерцания. Таким образом дается понять, что три евангелиста, весьма тщательно исследуя земные деяния Господа и Его слова, которые имеют преимущественное значение для назидания в нравах настоящей жизни, пребывали в этой деятельной силе, а Иоанн, гораздо менее повествующий о деяниях Господа и с большей тщательностью и подробностью собирающий Его изречения, которые внушают мысль о троичности Божества и блаженстве вечной жизни, удержал свое внимание и проповедь в восхвалениях созерцательной силы.
9.
Поэтому мне кажется, что при объяснении значения четырех животных из Откровения в отношении к евангелистам, более правы были те, которые отнесли льва — Матфею, человека — Марку, тельца — Луке и орла — Иоанну, нежели те, которые приписали человека — Матфею, орла — Марку, льва — Иоанну. Действительно, последние искали основания в начальных словах книг, а не в целостном направлении мысли, которое одно и должно было исследоваться. Ведь гораздо естественнее, чтобы тог, кто изобразил преимущественно царственное лицо Христа, был обозначен львом. Поэтому и в Откровении вместе с царственным коленом упомянут лев, когда сказано: «Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил…» (Отк. 5.5). У Матфея же повествуется, что и волхвы пришли с Востока для поклонения Царю, Который был указан им звездой как уже рожденный; и сам Ирод страшится царственного Дитяти и, чтобы умертвить Его, убивает всех младенцев (Мф. 2.1–18).
А что тельцом обозначен был Лука, ввиду величайшей жертвы Первосвященника, в этом никто не сомневался, ибо повествователь начинает свою речь с первосвященника Захарии; там же напоминается о родстве Марии и Елизаветы; там же повествуется об исполнении над младенцем Христом первого священнодействия. И еще можно привести немало примеров того, что Лука обращает внимание прежде всего на то, что связано со священничеством. Таким образом Марк, не имевший в виду повествовать ни о царственном роде, ни о священническом родстве и служении, и тем не менее оказывающийся занятым тем, что Христос совершал как человек, из четырех вышеназванных образов, по–видимому, мог быть обозначен только образом человека. Но эти три: человек, лев и телец, живут на земле, и именно три названные евангелиста заняты преимущественно тем, что Христос совершал во плоти и теми заповедями, которые Он преподал носящим плоть для благочестивого провождения смертной жизни. Иоанн же парит, как орел, над мраком человеческой немощи и созерцает свет неизменной истины острейшими и сильнейшими своими очами.
10.
Этих четырех святых возниц Господа, с помощью которых живущий по всему миру народ стремится подчиниться бремени Его приятному и игу легкому, — некоторые преследуют клеветой или вследствие нечестивой суетности, или из–за неопытности и неразумия, чтобы подорвать веру в несомненно истинное повествование тех, благодаря которым христианское учение, распространенное по всему свету, достигло такой плодотворности, что неверующие люди уже едва только шепотом осмеливаются произносить свою хулу, ибо и они подавлены обращением язычников и благочестием всех народов. Но так как они своими клеветническими рассуждениями или замедляют некоторых в принятии веры, или смущают иных уже верующих, возбуждая насколько возможно их сомнения; а с другой стороны, так как некоторые наши братья, движимые спасительною верой, желают знать, что следует отвечать на такого рода вопросы как для укрепления своей веры, так и для опровержения их пустословия, то по вдохновению от Бога и с помощью Его (о если бы это помогло и их спасению!) мы в настоящем произведении взяли на себя труд показать заблуждение или безрассудство тех, которые вообразили, будто бы они могут представить достаточно убедительные обвинения против четырех книг Евангелия, написанных четырьмя евангелистами; а чтобы это осуществилось, необходимо показать, что эти четыре писателя не противоречат сами себе, ибо наши противники видят свою победу именно в том, что евангелисты якобы противоречат друг другу.
11.
Но прежде всего должно разрешить вопрос, который обыкновенно смущает многих, а именно: почему Господь Сам ничего не писал, чтобы это вынудило верить и другим, писавшим о Нем? Об этом обычно говорят те язычники, которые не осмеливаются обвинять и злословить Самого Иисуса Христа и признают за Ним высочайшую премудрость, но только премудрость человеческую; такие говорят, что ученики Его приписали своему Учителю большее, чем Он был в действительности, и что именно они стали утверждать, будто Он — Сын Божий, Слово Божие, Которым было все создано, что Он и Бог–Отец — одно, и будто в апостольских писаниях есть нечто подобное, из чего мы узнали, что Его вместе с Отцом должно почитать единым Богом. Таким образом они полагают, что Он должен быть почитаем только как мудрейший человек, но не согласны с тем, что Его следует чтить как Бога.
12.
Таким образом, когда они спрашивают, почему Он Сам не писал, то, как кажется, они были бы готовы верить тому, что Он Сам бы написал о Себе, но не тому, что другие проповедали о Нем по своему усмотрению. Поэтому я спрашиваю у них: на каком основании сами они уверовали в то, что написали об их знаменитейших философах ученики последних, хотя сами эти философы ничего о себе не писали? В самом деле, ведь говорят, что Пифагор, — по сравнению с которым Греция не имеет ничего более ясного в области созерцательной силы, — ничего не написал не только о себе, но и ни о чем другом. А Сократ, которого они превознесли над всеми в области деятельной, направленной к воспитанию в нравах, так что, по заявлению их бога Аполлона, он был провозглашен мудрейшим из эллинов, — пополнил (пусть они не умалчивают об этом!) несколькими стишками басни Эзопа, приспосабливая свои слова и числа к предметам другого; он до того не хотел ничего писать, что говорил, будто это он делает по велению своего демона, как об этом сообщает знаменитейший из учеников его — Платон; однако и сам Платон более предпочитал приукрашивать чужие мысли, чем излагать свои.
Итак, в чем же причина того, что наши противники склонны верить тому, что об этих философах сообщили их ученики, а относительно Христа не хотят верить тому, что о Нем написали Его ученики, тем более, что они согласны признать Его превзошедшим в мудрости всех людей, хотя и не согласны признать Его Богом? Выходит, что те, о которых они не сомневаются, что они были гораздо ниже Его, смогли сделать своих учеников достойными веры, а Он не смог. Поскольку это предположение весьма глупо, то пусть они веруют в Того, Которого признают мудрейшим, не так, как им угодно, а как они находят у научившихся от оного Мудреца тому, о чем они писали.
14.
Но они столь неразумны, что утверждают, будто бы в тех книгах, которые по их мнению написал Он, содержатся описания тех незамысловатых приемов, с помощью которых (как утверждают они) Он совершал чудеса, поразившие всех и повсюду. Однако, думая так, они выдают сами себя относительно того, что они любят и чем восхищаются: они признают Христа мудрейшим потому, что будто бы Он знал нечто непозволительное, что по справедливости осуждается не только правилами христианской жизни, но даже и земными государями. Но они, утверждающие, что читали книги Христа такого рода, почему сами они не совершают ничего из того, что, по сообщению этих книг, является будто бы предметом их изумления?
15.
Таким образом, некоторые из них, верующие или желающие верить, что подобные книги написал Христос, заблуждаются даже в отношении к божественному определению настолько, что утверждают, будто эти книги изначально были ничем иным, как посланиями к Петру и Павлу. И, конечно, могло случиться так, что или враги имени Христова, или те, которые полагали, что столь славным именем они могут придать вес и значение омерзительным искусствам подобного рода, написали такие книги от имени Христа и апостолов, и до того были ослеплены в своей дерзкой лживости, что по заслуге служат посмешищем даже для детей, которые еще весьма наивно, по–детски знают христианские писания.
16.
Действительно, когда у них появилось желание сочинить, будто Христос написал такие книги ученикам Своим, они начали соображать, во что скорее всего поверят их читатели, и придумали, будто Он написал их тем, которые были больше других привязаны к Нему и которым Он вверил это, как достойную сохранения тайну; и сочинителям пришли на ум Петр и Павел, — я уверен, — потому, что во многих местах они видели изображения этих апостолов вместе с Ним; а, кроме того, и потому, что подвиги Петра и Павла, к тому же вследствие мученической смерти их в один и тот же дань, Рим отмечает с особой торжественностью. Таким образом, заслуженно обманываются те, кто разузнавал о Христе и Его апостолах не в собраниях священных книг, а на разрисованных стенах; и неудивительно, что сочинители были обмануты воображением живописцев. В самом деле, во все время, пока Христос жил среди Своих учеников в смертной плоти, Павел еще не был Его учеником. Голосом с неба призвал Он его и сделал Своим учеником и апостолом уже после страдания Своего, после воскресения, после вознесения, после ниспослания Святого Духа с неба, после обращения и удивительной веры многих иудеев, после побиения камнями диакона и мученика Стефана, когда Павел назывался еще Савлом и жестоко преследовал тех, кто веровал во Христа (Деян. 9.1–30). Итак, каким образом эти книги, — которые, по их представлению, Он написал перед смертью, — могли быть написаны для Петра и Павла, как для самых близких учеников, когда Павел еще и не был учеником Его?
17.
Те, которые распространяют вздорные слухи, будто Он соделал столь великие дела и ими освятил имя Свое у обратившихся впоследствии к Нему народов с помощью колдовства и волхвования, пусть также обратят внимание на то, что в таком случае Он никак не смог бы еще до Своего рождения на земле с помощью волшебного искусства исполнить Божественным Духом столь многих пророков, которые предсказали о Нем то, что мы читаем в Евангелиях как о свершившемся, и что ныне мы видим воплощенным во всех уголках земли. Ведь если бы даже Он и волшебством достиг того, чтобы Его почитали, когда Он уже умер, то каким образом стал бы кудесником прежде Своего рождения Тот, для пришествия Которого, как пророка, предназначен был один народ; и все пророческое управление государством этого народа принадлежало Ему, Царю, должному прийти и основать царство небесное для всех народов.
18.
У этого же иудейского народа, назначенного для проповеди о Христе, не было никакого иного Бога, кроме Бога единого, Бога истинного, сотворившего небо и землю и все, что на них; и за отступления от Него иудеи часто предавались во власть своим врагам; и ныне за тягчайшее преступление, — за умерщвление Христа, — они почти изгнаны из самого Иерусалима, который стоял во главе их царства, и подчинены власти Рима. Римляне же обыкновенно с почтением принимали богов тех народов, которых покоряли, и принимали их служение. Но они не захотели сделать этого в отношении к Богу иудейского народа, хотя и победили и покорили иудеев. Я думаю, это потому, что они понимали, что если они примут священнослужение этого Бога, Который повелевал чтить только Его и уничтожать идолов, то они должны будут оставить все, что приняли прежде как предмет почитания; но именно этим верованиям они приписывали возрастание своего могущества. В этом отношении их больше всего искушала ложь демонов; в самом деле, им следовало бы понять, что власть была им дана и возросла сокровенной волею того Бога, в руках Которого находится высшее могущество, а отнюдь не благодаря расположению их богов; потому что если бы последние сколько–нибудь участвовали в этом могуществе, то они скорее покровительствовали бы своим исконным поклонникам, чтобы те не были побеждены римлянами или даже подчинили бы им самих римлян, одержав над ними победу.
19.
Действительно, они не могут сказать даже того, что боги побежденных ими народов возлюбили и предпочли благочестие и нравы их, римлян. Они никогда этого не станут говорить, если вспомнят свое происхождение, покровительство преступникам и братоубийство Ромула. В самом деле, ведь когда Рем и Ромул учредили убежище, где мог бы скрыться каждый виновный в каком–либо преступлении и остаться безнаказанным за свой поступок, то они не установили покаяния для исцеления душ преступников; но при этом они же не оставили безнаказанной робость тех людей, которых они собрали для войны против их родных городов, законов которых сами боялись; с другой стороны, когда Ромул убил брата, который не сделал ему ничего дурного, то он вообразил, что мстит за попранную справедливость, а не просто стремится к первенству во власти.
Не эти ли нравы возлюбили боги, враждебные своим городам и благоприятствующие их врагам? Но почему же они, оставляя своих, не уничтожили тех и, перейдя к этим, не помогли в чем–либо тем? Да потому, что они не имеют власти ни дать царство, ни уничтожить его; и только один Бог делает это в тайном совете, не навсегда имея в виду сделать блаженными тех, которым дал земное царство, и не навсегда несчастными тех, у которых отнял его; но, делая счастливыми или несчастными по той или другой причине, Он распределил временные и земные царства между теми, кому было Ему угодно, по определенному от веков порядку, допуская или подавая то и другое, и на какое Ему угодно время.
20.
Поэтому они не могут сказать и следующего: «Почему же Бог иудеев, Которого вы называете Богом истинным, не только не подчинил им римлян, но не помог также и иудеям, чтобы они не подпали игу римлян?» Ведь всему этому предшествовали явные грехи иудеев, из–за которых, как предвозвестили задолго до этого пророки, это должно было с ними произойти. Но прежде всего так случилось потому, что они в нечестивой ярости своей умертвили Спасителя; при этом в последнем своем грехе они были ослеплены действием других тайных грехов; а что страдания Его будут полезны народам языческим, это было предсказано свидетельством того же пророчества. И царство этого народа, и храм, и священство, и жертвоприношение, и то таинственное помазание, которое на греческом языке называется hrisma, откуда получает значение и имя Христос, и почему народ этот называл своих царей помазанниками, — все это было предназначено только для предвозвещения о Христе и это открылось не в чем ином, как в том, что после начала проповеди и воскресения убиенного Христа все это прекратилось, хотя ни римляне, ни иудеи не знают, что это прекращение было следствием победы первых и покорения вторых.
21.
Те немногие, что остались еще язычниками, не обращают внимания на то удивительное обстоятельство, что Бог иудеев, оскорбленный побежденными и не принятый победителями, в настоящее время проповедуется и почитается всеми народами. Ведь именно Он и есть тот Бог Израиля, о Котором столь давно уже пророк так провозгласил народу Божию: «Богом всей земли назовется Он» (Ис. 54.5). Это совершилось через имя Христа, пришедшего к людям от семени того Израиля, который был потомком Авраама, родоначальника иудеев, ибо и Израилю сказано: «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные» (Быт. 28.14).
Из этого видно, что Бог Израиля, — Бог единый, сотворивший небо и землю и промышляющий о делах человеческих милосердно и праведно, так что правда не препятствует милосердию и милосердие не препятствует правде, — Сам не был побежден в лице Своего иудейского народа, когда царство и священство Свое попустил уничтожить и одолеть римлянам: ибо на самом деле через Евангелие Христа, истинного Царя и Священника, ныне Сам Бог Израиля повсюду уничтожает языческих идолов; ведь именно ради сохранения этих идолов римляне не хотели принять святынь Его, как принимали святыни богов других народов, которых они победили. Таким образом, Он устранил царство и священство пророческого народа, потому что наступило уже то, что было через Него обетовано; но и римское владычество, которым был побежден тот народ, Он покорил Своему имени через Христа, и к ниспровержению идолов, из–за почтения к которым не были приняты Его святыни, обратил его силою и благоговением христианской веры.
22.
Полагаю, что исполнение указанного над Собою, согласно предвозвещенному через столь многих пророков и через священство и царство каждого народа, Христос устроил отнюдь не с помощью волшебного искусства, к тому же еще и до Своего рождения среди людей. Ведь и народ оного погибшего царства, по милосердному промышлению Божию рассеянный повсюду, хотя и остался без всякого царского и священнического помазания, в каковом помазании открывается имя Христа, однако удерживает остатки некоторых своих преданий, дабы нести пророческие книги, свидетельствующие о Христе, и чтобы таким образом из враждебных римлянам свитков подтверждалась истина о провозвещенном Иисусе.
Спрашивается: зачем эти несчастные усугубляют свои несчастья? Ведь если нечто волшебное было написано от Его имени, тогда как учение Христа враждебно этому искусству, то пусть хотя бы из этого они поймут, сколь велико то имя, с помощью которого пытаются добиться почитания своего нечестивого искусства те, которые живут вопреки Его заповедям. Как в разных человеческих заблуждениях многие от Его имени сочинили различные ереси против истины, так и враги Христовы чувствуют, сто для убеждения в предлагаемом ими вопреки учению Христа будет иметь веское значение только то, что носит имя Христово.
23.
Почему же эти пустопорожние хвалители Христа и коварные хулители христианской веры не дерзают злословить Христа? Да потому, что некоторые из их философов, — как написал в своих книгах Порфирий Сицилийский, — спрашивали совета у своих богов, что им говорить о Христе; а те были вынуждены перед своими оракулами хвалить Христа. И это неудивительно, ибо мы и в Евангелии читаем, что Его исповедали бесы (Лк. 4.41); а у пророков наших сказано: «Ибо все боги народов — идолы» (Пс. 95.5). И потому язычники, чтобы не поступать вопреки советам своих богов, воздержались от поношений Христа и начали изливать их на Его учеников; но мне кажется, что языческие боги, с которыми совете вались языческие философы, были бы вынуждены хвалить и учеников Христовых, если бы им был предложен вопрос относительно последних.
24.
Тем не менее они пытаются доказать, что разрушение капищ, осуждение жертвоприношений и сокрушение идольских изображений происходит не по учению Христову, а по наущению Его учеников, которые стремились учить иначе, чем сами научились от Него; таким образом они, почитая и восхваляя Христа, желают устранить христианскую веру; ибо ведь через учеников Христовых возвещены деяния и изречения Иисуса Христа, на которых стоит христианская религия, еще до сего времени неприятная этим, уже весьма немногим и уже не противодействующим ей открыто, но втихомолку еще перешептывающимся о ней. Но если они не хотят верить, что так учил Христос, то пусть читают у пророков, которые наставляли людей не только уничтожать идольские суеверия, но и предсказали, что такое уничтожение будет во времена христианства. Если они сказали ложь, то почему она исполнились так очевидно? А если они сказали истину, то почему эти противятся столь явно божественной силе?
25.
И однако же следует настоятельно у них спросить: кем считают они Бога Израилева; почему они не приняли Его, как приняли богов прочих народов, которых покорило Римское государство, особенно если по их собственному мнению мудрый должен почитать всех богов? Итак, почему же именно Он был исключен из числа прочих? Если потому, что Он имеет наибольшую силу, то почему только Он один и не почитается ими? Если же потому, что Он имеет малую силу или же вовсе не имеет никакой силы, то почему по сокрушении их идолов Он один только и почитается почти всеми народами? Они никогда не смогут выпутаться из сетей вышеприведенного вопроса, ибо поклоняясь меньшим и большим богам, почитаемых у них богами, не поклоняются истинному Богу, Который превзошел всех, почитаемых ими. Если Он велик силой, то почему сочтен таким, которого должно отвергнуть? Если же имеет малую силу или не имеет никакой, то почему только Он отделен от прочих благих? Если Он — злой, то почему Он не был побежден столь многими добрыми? Если Он истинен, то почему отвергаются Его повеления? Если Он лжив, то почему Его предсказания исполняются?
26.
В конце концов, пусть думают о Нем все, что угодно. Разве римляне не признают, что следует чтить даже и злых богов, разве не устраивают капища богам лихорадки и бледности, разве, взывая о помощи к добрым демонам, не умилостивляют при этом и демонов злых? Итак, пусть они думают о Нем, что им угодно; однако, почему они сочли возможным только Его одного ни призывать, ни умилостивлять? Кто же сей Бог, столь им неизвестный, что только Он один еще не находится среди множества их богов, нам же столь известный, что только Он один и почитается нами — уже столь многими народами?
Итак, в ответ на вопрос, почему они не захотели принять святынь этого Бога, они могут сказать только одно: Бог хотел быть почитаем один и запретил чтить тех языческих богов, которых они к тому времени уже почитали. Но тогда их следует расспросить о том, каким именно они считают этого Бога, не хотевшего, чтобы были почитаемы иные боги, которым они строили храмы и возводили статуи, Бога настолько могущественного, что Его желание низложить идолов было куда сильнее их нежелания принять Его святыни. Тут, конечно, они сошлются на мнение того их философа, о котором их оракул объявил им, что он — мудрейший из всех людей. Ведь, по мнению Сократа, каждого бога должно чтить так, как тот это почитание заповедал сам. Поэтому для них было крайне важно не почитать Бога иудеев, ибо если бы они хотели почитать Его иным образом, чем Он заповедал, то, конечно, они чтили бы не Его, а то, что измыслили сами. А если бы они захотели чтить Его согласно Его заповеди, то увидели бы, что других, которым Он запретил поклоняться, им не должно чтить. Из–за всего этого они и отвергли поклонение единому истинному Богу: чтобы не оскорбить многих ложных богов, воображая, что гнев последних для них будет более опасен, чем благодетельно Его благоволение.
27.
Но осторожность их была тщетна и робость — достойна осмеяния. Спросим же: что об этом Боге думают те люди, которым угодно почитать всех богов вообще? Ведь если этого Бога не должно чтить, то каким образом заслуживают почитания все прочие, когда этот не почитается? А если Он должен быть почитаем, то нельзя почитать остальных, ибо Он почитается лишь тогда, когда один только и почитается. А может быть они скажут, что Он — не Бог, хотя они и называют богами тех, которые, по нашему убеждению, могут лишь то, что дозволяется Его определением? Но тогда им придется признать, что их боги менее могущественны, чем Тот, Кто в их глазах не Бог. В самом деле, ведь если боги суть те, прорицания которых спрашивали люди, и которые давали ответы, не сказать чтобы совсем ложные, но лишь приблизительно соответствующие частным делам, то каким образом не есть Бог Тот, предсказания Которого истинны не только в отношении отдельных событий, но даже касательно всего рода человеческого и всех народов: ведь Им наперед было предсказано то, что мы ныне читаем и видим.
Если они называют богом того, во имя которого провозвещала сивилла так и не исполнившиеся судьбы римлян, то каким образом не есть Бог Тот, Который исполнил, как и предвозвестил, что римляне и все народы будут через благовестие Христово веровать в Него, единого Бога, и что все их идолы будут низвергнуты? Наконец, если они называют богами тех, которые через своих прорицателей никогда не дерзали говорить что–либо против этого Бога, то каким образом не есть Бог Тот, Который через Своих пророков не только повелел низвергать их изображения, но даже предсказал, что они будут низложены у всех языческих народов теми, которые после низвержения их получили повеление чтить Его одного и, получив повеление, Ему одному и служат?
28.
А если они могут, то пусть прочтут о том, как некоторые из сивилл и кое–кто из иных их предсказателей пророчествовали, что Бог Израилев будет почитаться всеми народами, и что почитатели других богов поначалу будут отвергать Его; и даже писания пророков Его о будущем настолько по своему значению превосходны, что в послушании им сама римская власть приказала разрушить идолов; пророки их даже убеждали не повиноваться таким приказаниям. Если могут, то пусть читают об этом в книгах своих же прорицателей. Я уже не говорю о том, что написанное в их книгах считают свидетельством о нашей, т. е. христианской вере, равно как и то, что они самолично могли услышать от святых ангелов и от наших пророков, подобно тому как и явление Христа во плоти вынуждены были исповедать даже бесы.
Конечно, многие из них стремятся доказать, будто все это вымышлено нашими единоверцами: нет, сами они, сами должны принудить себя к тому, чтобы представить что–либо, предсказанное прорицателями их богов против Бога евреев, подобно тому, как мы против их богов на основании наших пророческих книг и повеления соблюдаем, и предсказания приводим, и показываем то, что уже сбылось. Те, уже очень немногие, предпочитают скорее скорбеть о том, что все это исполнилось, чем признавать Богом Того, Кто мог провозвестить исполнившееся; в то время как у своих ложных богов, которые суть настоящие демоны, ничего так не ценят, как если когда–нибудь с помощью их ответов узнают нечто, имеющее с ними произойти.
29.
А если это так, то почему они, жалкие люди, не поймут, что истинный Бог есть именно Тот, Который (и они не могут этого не видеть) настолько выделяется из общества их богов, что желая чтить всех богов, они не могут чтить Его вместе с прочими? Таким образом, если они не могут почитать Его вместе с прочими, то почему не избирают Того, Который запрещает почитать других, оставив этих, не запрещающих почитать Его? Или же если и эти запрещают, то пусть где–либо найдут свидетельства этому.
В самом деле, разве не такого рода запреты должны в первую очередь оглашаться народу в храмах? И конечно, запрещение столь многих против одного должно было бы явиться более значительным и сильным, чем запрещение одного против столь многих. Ибо если поклонение этому Богу нечестиво, то бесполезны те боги, которые не уберегают людей от нечестия. А если поклонение Ему благочестиво, то в таком случае нечестиво служение прочим богам, так как оно запрещается при почитании Его. А если они запрещают почитать Его столь нерешительно, что люди больше боятся слушать об этом, чем осмеливаются запрещать, то кто не понимает, кто не чувствует, что должно избрать именно Его, — Который так всенародно запрещает почитать иных богов, Который повелел низложить их изображения, предрек это и действительно низложил, — чем почитать тех, о которых мы не знаем, чтобы они запрещали почитать Его, не читаем, чтобы они предсказывали, не видим, чтобы они были в силах что–либо сделать? Я спрашиваю: Кто есть этот Бог, Который так преследует всех языческих богов, Который враз отменил все их священнодействия?
30.
Но стоит ли об этом спрашивать людей, обнаруживших суетность при размышлении о том, кто Он? Одни говорят: «Это Сатурн»; я думаю, это потому, что освящают субботу, ибо они этот день приписали Сатурну. Варрон же считал Бога иудеев Юпитером, полагая, что Его можно называть каким угодно именем, ибо под Ним понимал бытие. Я думаю, что он был просто поражен Его величием; ведь римляне, действительно, не признают никого выше Юпитера, о чем достаточно ясно свидетельствует их Капитолий; его же они считают царем всех богов. И когда Варрон обратил внимание на то, что иудеи чтут высочайшего Бога, то никого другого он не мог разуметь под этим, кроме Юпитера. Но признает ли кто Бога иудеев Сатурном, или Юпитером, пусть ответит: когда такое было, чтобы Сатурн дерзнул запретить чтить другого бога? И даже самого своего сына Юпитера, который отнял у него власть, он не запрещает чтить. Если же этот последний угоден своим почитателям как более могущественный и как победитель, то пусть они не почитают побежденного и изгнанного. Но и Юпитер не запретил почитать Сатурна, и таким образом допустил быть богом тому, которого смог победить.
31.
Они говорят, дескать басни эти должны быть или истолкованы мудрецами, или осмеяны; а мы почитаем Юпитера, о котором говорит Марон: «Все полно Юпитером» (Эклог. 3), т. е. все имеет животворящий дух. Поэтому и Варрон не без основания полагал, что Юпитер чтится иудеями, поскольку Бог говорит через пророка: «Не наполняю ли Я небо и землю?» (Иер. 23.24). Разве это не то же, что поэт назвал эфиром, говоря: «Так Эфир, всемогущий отец, плодотворным дождем опустился на лоно супруги счастливой» (Георгики, кн. 2). Ведь эфир, говорят они, это не дух, а горнее тело, которое простирается под небом выше воздуха.
Что же выходит? То поэт, следуя учению платоников, представляет, что Бог есть дух, а не тело; то, следуя стоикам, говорит, что Он — тело? Так что же все–таки они почитают в своем Капитолии? Дух ли, или же, наконец, само плотское небо? Зачем их Юпитер держит тот щит, что зовется Эгидой? Ведь происхождение этого названия восходит к той басне, что Юпитера, скрытого матерью, вскормила коза. Но может и это сочинили поэты? Разве и Капитолий — сочинение поэтов? И что, наконец, значит это — не поэтическое, а шутовское разногласие: искать богов в книгах философов, а почитать в храмах по представлениям поэтов?
32.
Но разве был поэтом известный Евгемер, который и самого Юпитера, и отца его — Сатурна, и братьев — Плутона и Нептуна, так ясно представил как людей, что поклонники их скорее должны быть благодарны поэтам за то, что они весьма многое измыслили не для уменьшения их чести, а для их приукрашения; (Цицерон говорит, что этот Евгемер был переведен на латинский язык поэтом Эннием (О природе богов, кн. 1).
Разве и сам Цицерон был поэтом, когда он убеждает как посвященного в таинства того своего противника, с которым состязается в «Тускуланских беседах», говоря так: «А если я попытаюсь исследовать древнее и изучить то, что передали писатели Греции, то откроется, что боги многих народов удалились от нас на небо. Спроси: «Чьи из них могилы показываются в Греции?» Так как ты посвящен, то вспомни, что представляется в мистериях» (Тускул. 1). Конечно, этот писатель достаточно ясно исповедует, что боги были людьми, только он благожелательно предполагает, что они переселились на небо; впрочем, когда он говорил о Ромуле, то не постеснялся заявить всенародно, что и эта предполагаемая почесть усвоена богам людьми. Он говорит: «Того Ромула, который основал этот город, мы возвысили по народной молве и благорасположению вознесли к богам бессмертным» (Речь против Каталины).
Итак, что же удивительного в том, что более древние люди сделали с Сатурном и Юпитером то же, что римляне — с Ромулом, и что, наконец, хотели уже в более позднее время сделать с Цезарем? Об этом и Вергилий написал льстивый стишок: «Вот выступает вперед звезда Цезаря, сына Венеры» (Эклог. 9). Пусть же они посмотрят, не показывает ли историческая истина могилы ложных богов на земле, и не пустословие ли поэтов измыслило на небе их звезды. Ведь не на самом же деле вот та или эта звезда принадлежат Сатурну или Юпитеру; все дело в том, что люди после их смерти присвоили их имена звездам, созданным от начала мира, люди, которые пожелали их, уже умерших, почитать как богов. И если уж на то пошло, то какое такое зло сотворила непорочность или чего хорошего заслуживает похоть, что среди звезд, имеющих круговращение наряду с Солнцем и Луною, Венера имеет свою звезду, а Минерва — нет?
33.
Но и Цицерон, будучи академиком, был еще менее благочестив, чем поэты, так как он осмелился упоминать о могилах богов и вносить это в свои сочинения, хотя все это и не выдумал, а заимствовал из преданий об их святынях. Неужели же и поэты только измышляли, и академики лишь предполагали, когда говорили, что священные предания о таких богах составлены на основании жизни или смерти каждого из них как людей? Неужто и известный египетский жрец Леон был поэтом или академиком, когда он сообщил Александру Македонскому мнения о происхождении этих богов, хоть и отличающиеся от греческих, однако же по смыслу схожие, когда открыто заявил, что они были людьми?
34.
Но что нам до того? Пусть они говорят, что в лице Юпитера они почитают не мертвого человека, и что посвятили Капитолий не мертвецу, а животворящему духу, которым наполняется мир, и пусть они, как им угодно, истолковывают значение его щита, сделанного из козьей кожи в честь его кормилицы. Что говорят они о Сатурне, какого Сатурна они почитают? Не тот ли это, который первым сошел с Олимпа:
Разве изображение его с всегда покрытой головою не намекает на то, что он как бы скрывается? Разве не он показал италийцам земледелие, о чем свидетельствует его серп? «Нет, — говорят они, — ибо хотя тебе и кажется, что он был человеком и как бы царем, но мы Сатурна понимаем в смысле всеобщего времени, что показывает и его греческое имя, которое с прибавлением придыхания (???) суть название времени; по этой причине и на латинском языке он называется Сатурном, как будто он пресыщается годами (???)». Я не знаю, зачем толковать с теми людьми, которые, пытаясь объяснять имена и изображения своих богов, сознаются, что их высший бог и отец всех прочих богов есть время. В самом деле, что еще может это означать, как не то, что все их боги, отцом которых они представляют время, ограничены временем.
35.
Поэтому–то их философы, новые платоники, которые жили уже в христианские времена, краснея от стыда пытались объяснить имя Сатурна иначе, говоря, что он назван Кронос как бы вследствие пресыщения разумом, потому что сытость–де по–гречески называется (???), а разум или мысль — (???), с чем сообразуется и латинское имя, составленное как бы из латинской первой части и греческой последней, так что этим выражается та мысль, что он есть (???).
Действительно, они видели, что нелепо считать Юпитера сыном времени, если они думали или хотели думать, что он есть вечный бог. Но при таком новом толковании, — если только древнейшие из них знали о нем, — удивительно, что оно было неизвестно Цицерону и Варрону, которые утверждали, что Юпитер — сын Сатурна, как бы некий дух, проистекающий от высшего ума, и которого они представляли как бы душою мира, наполняющей все небесные и земные тела. Отсюда и ранее упомянутое мною изречение Марона: «Все полно Юпитером».
Неужели же эти мудрецы, — если бы только могли, — не изменили бы также и суеверия людей, как и вышеуказанное толкование; и как не стали бы ставить вообще никаких идольских изображений, так и Капитолий скорее поставили бы Сатурну, чем Юпитеру. Ибо и они не оспаривают, что каждая разумная душа может быть мудрой только при участии высшей и неизменной премудрости; не только душа каждого человека, но даже и душа всего мира, которую они называют Юпитером. А мы не только делаем им уступку, но даже и проповедуем главным образом то, что существует некая высочайшая Премудрость, при участии Которой каждая мудрая душа бывает поистине премудрой. Но великим и притом неразрешенным вопросом является следующий: имеет ли вся эта телесная громада, называемая миром, какую–либо душу, т. е. разумную жизнь, которой управляется так, как каждое животное? Это мнение следует утверждать только тогда, когда ясно, что оно истинно, а отрицать только тогда, когда ясно, что оно ложно. Но столь ли уж важно это для нас, если известно, что любая душа бывает мудрой и блаженной не через другую какую бы то ни было душу, но только от одной высшей и неизменной премудрости Божией?
36.
Однако римляне, посвятившие Капитолий не Сатурну, а Юпитеру, или другие народы, полагавшие, что Юпитера должно почитать выше всех остальных богов, чувствовали совсем не то, что эти философы; последние, согласно своему новому мнению, с одной стороны, высшие искусства, — если только в этих вещах имели сколько–нибудь силы, — посвящали преимущественно Сатурну, а с другой — преследовали математиков и гадателей по звездам, которые поместили Сатурна между прочими звездами как злого бога, в то время как вышеупомянутые философы называли его творцом мудрецов. Мнение первых против последних в душах людей стало настолько преобладающим, что Сатурна не хотели даже называть по имени: его предпочитали называть не Сатурном, а стариком. Суеверие было столь боязливо, что уже карфагеняне почти изменили наименование своего поселения, чаще называя его городом старика, нежели городом Сатурна.
37.
Итак, нет никаких сомнений в том, что именно вынуждены идолопоклонники почитать и что стремятся они разукрашивать. Но и этих новых толкователей значения имени Сатурна необходимо спросить, что думают они о Боге евреев. В самом деле, ведь им угодно, как и всем язычникам, чтить всех без исключения богов, и в то же время им, гордецам, стыдно смириться пред Христом ради прощения своих грехов. Так что же они думают о Боге Израиля? Ибо если они Его не почитают, то, значит, они не почитают всех богов; а если почитают, то не так, как Он повелел, потому что они чтут и других богов, чтить которых Он воспретил. Ведь Он воспретил это через тех же самых пророков, через которых предсказал то самое будущее, которое ныне терпят их идолы от христиан. Ибо к этим пророкам или были посланы ангелы, которые показали им Бога, Творца всего, единого истинного Бога, Которому все подчинено, через чувственные вещи образно явили должный вид и показали, как Он повелел чтить Себя; или же в некоторых из них через Духа Святого мысли были настолько возвышенны, что в своих видениях они созерцали то, что созерцают и сами ангелы. Но известно, что они служили тому Богу, Который запретил чтить других богов, и служили благочестивою верой в царстве и священстве Его государства (т. е. у иудеев) и в священнодействиях, бывших знаками будущего пришествия Христа, истинного Царя и Священника.
38.
А затем относительно богов язычников (пока они хотят почитать их, они не хотят чтить Того, Который не может почитаться вместе с ними) пусть скажут: «Причина того, что не находится ни одного из них, который запретил бы почитать другого, заключается в том, что каждый из них имеет свои обязанности и служения и занимается делами, касающимися только его одного». В самом деле, если Юпитер не воспрещал чтить Сатурна, так как тот не был просто человеком, тем более изгнанным из своего же царства отцом, а Юпитер, в свою очередь, суть или небесное тело, или дух, наполняющий небо и землю, и потому не могущий запретить почитания высшей мысли, из которой, как они говорят, он проистек; если, с другой стороны, и Сатурн не запретил чтить Юпитера не потому, что был побежден, когда его сын восстал, и убегая от оружия которого он пришел в Италию, но якобы потому, что первоначальный ум благоприятствует рожденной от него душе; то, конечно же, Вулкан наверняка запретил бы почитать Марса, любовника своей жены, а Геркулес — Юнону, свою гонительницу. Что это за отвратительное между ними согласие, когда непорочная дева Диана не запрещает чтить, не говорю уже Венеру, но даже Приапа? Ведь если бы один человек, например, захотел быть и охотником и землевладельцем, то он должен был бы стать служителем их обоих, однако он постыдился бы создать для них смежные храмы. Но пусть они понимают Диану в смысле какой угодно добродетели, а Приапа — в смысле бога оплодотворения, однако они понимают его именно так, что Юноне из числа рождающих женщин стыдно иметь такого помощника; пусть они говорят, что им угодно; пусть истолковывают, как умеют; однако это до тех пор, пока все их доказательства не пристыдил Бог Израилев, так как Он воспретил почитать их всех, но Сам не запрещен почитаться никем, а их священнодействиям и идолам предписал и предсказал уничтожение и исполнил его; так Он явственно показал, что они ложны и лживы, а Он есть истинный и достойный веры Бог.
39.
Но кто не изумится тому, что эти, уже немногие почитатели многих и притом ложных богов, не хотят повиноваться Тому, о Котором каждый из них, будучи спрошенным: кто есть Бог, отвечает по–своему, но никто не дерзает отрицать бытие Бога? Ведь если они будут Его отрицать, то весьма легко могут быть убеждены Его делами, пророчествами и их исполнением. И я говорю не о том, во что, по их мысли, свободно можно не веровать, а именно: что Он в начале сотворил небо и землю и все, что в них есть (Быт. 1); и не об известных древних событиях, а именно: что Он перенес на небо Эноха, что нечестивых уничтожил потопом, что праведного Ноя и дом его спас (Быт. 5.24; 7). Я начинаю исследовать деяния Его среди людей от Авраама, ибо ему чрез ангельское пророчество было открыто обетование, исполнение которого мы ныне видим. В самом деле, ему было сказано: «И благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. 22.18); от его семени произошел народ израильский, от него — Дева Мария, родившая Христа; пусть они дерзнут, если могут, отрицать, что через Него получают благословение все народы. Это обетование было также и к Исааку, сыну Авраама (Быт. 27.4); то же сказано было и Иакову, внуку Авраама (Быт. 28.14), который также был назван Израилем, от которого весь этот народ произошел и получил свое имя, так что Бог этого народа называется Богом Израиля. Это значит не то, что Он не есть Бог всех народов, как незнающих Его, так и знающих; а значит, что в этом народе Он восхотел явить более очевидно силу обетовании Своих. Ибо этот народ, первоначально умножившийся в Египте и освобожденный от рабства в нем со многими знамениями и чудесами, по завоевании многих народов получил к тому же еще и землю обетования, в которой господствовал через царей своих, происшедших из колена Иуды. Этот Иуда был одним из двенадцати сыновей Иакова, внука Авраама, и от имени его они, названные иудеями, многое совершили с помощью Божией и много пострадали за грехи свои, пока наконец не пришло Семя, Которому было обетовано, что в Нем благословятся все народы земли и добровольно сокрушат своих идолов.
40.
И ведь не во времена христианские предсказано то, что исполняется через христиан. Сами иудеи, оставшиеся врагами имени Христова, о будущем вероломстве которых сказано в тех же пророческих писаниях, — сами они имеют и читают пророчество, говорящее: «Господи! сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы» (Иер. 16.19). И вот ныне происходит это; вот ныне народы от крайнего предела земли приходят к Христу, говоря это и сокрушая идолов. И велико именно то, что Бог предстоит в Церкви Своей, разросшейся повсюду, дабы народ иудейский, по заслугам разбитый и рассеянный в разных странах повсюду, переносил собрания свитков наших пророчеств, чтобы народы не думали, будто они составлены нами, и чтобы этот народ, враждебный нашей вере, был свидетелем нашей истины. Таким образом, как же это ученики Христовы учили тому, чего сами не узнали от Христа, — как об этом болтают глупцы, — а именно: чтобы суетная вера в языческих богов и идолов была уничтожена? Разве же можно говорить, что и те пророчества, которые ныне читаются в собраниях книг врагов Христа, измыслили ученики Христовы?
41.
В самом деле, кто провозгласил это, как не Бог Израиля? Ибо ведь самому народу было сказано божественным словом, обращенным к Моисею: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Вт. 6.4). «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу» (Исх. 20.4). А чтобы он к тому же уничтожил это там, где получит возможность, это ему заповедуется так: «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас… Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем» (Вт. 6.14; 7.5). А кто осмелится сказать, что Христос и христиане не относятся к Израилю? Ведь Израиль был внуком Авраама, которому первому, а потом сыну его Исааку, а затем и самому Израилю, внуку его, было сказано: «И благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. 22.18). Но разве не из этого семени произошла та Дева, о которой пророк народа иудейского и Бога Израилева возвещает, говоря: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Ис. 7.14). А слово Эммануил имеет значение: с нами Бог. Итак, Бог Израилев, запретивший почитать других богов и делать идолов, повелевший низвергать их, предсказавший через пророка, что народы от крайнего предела земли будут говорить: «Только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы», Он сам через имя Христово и веру христиан повелел, завещал, потребовал устранения всех этих суеверий.
Итак, напрасно они, — так как их богами, т. е. демонами, боящимися имени Христова, им запрещено злословить имя Христа, — несчастные, хотят сделать чуждым Ему это учение, которым христиане вооружаются против идолов и искореняют все ложные верования где только могут.
42.
Пусть ответят относительно Бога Израилева, о Котором не только христианские, но и иудейские книги свидетельствуют, что Он учил этому и это приказал; о Нем пусть они спросят совета у своих богов, которые запретили злословить Христа; пусть они засвидетельствуют что–либо позорное, если дерзнут, относительно Бога Израилева. Но у кого они будут спрашивать совета? Да и где уже его спрашивать? Пусть читают книги своих сочинителей. Если они в Боге Израилевом видят Юпитера так, как о том написал Варрон, то почему не верят они Юпитеру, что идолов следует сокрушить? Если они считают Его Сатурном, то почему и в этом случае не чтут Его? Или почему не чтут Его таким образом, каким Он повелел через пророков почитать Себя? Почему не веруют Ему в том, что идолов нужно разрушить, а других богов не должно почитать? А если Он не есть ни Юпитер, ни Сатурн (потому что Он так много не говорил бы против святынь Юпитера и Сатурна, если бы был одним из них), то Кто же Он, единственный, Кто не почитался из–за других богов, но после устранения других столь очевидно устроивший так, что почитается только Он один (особенно теперь, когда ниспровергнуто всякое горделивое глумление, которое возбудилось против Христа и вылилось в преследование и избиение христиан)?
Конечно, теперь они уже ищут, где бы им скрыться, если хотят приносить жертвы, или куда бы удалить своих кумиров, чтобы они не были найдены и разбиты христианами. Откуда это, если не от страха перед законами и царями, через которых Бог Израилев обнаружил могущество Свое, когда они уже были покорны имени Христову, именно так, как Он это и обещал, говоря через пророка: «И поклонятся Ему все цари; все народы будут служить Ему» (Пс. 71.11).
43.
И исполняется уже то, что предсказано было через пророка, т. е. что Он имеет оставить нечестивый народ Свой (правда, не весь, потому что многие из израильтян уверовали в Христа, ибо из числа их были и апостолы Его) и усмирить всякого превозносящегося и обидчика, так что только Он один вознесется, т. е. только один Он явится людям высоким и могущественным, пока верующими не будут отвергнуты идолы, а неверующими не будут скрыты, так как от страха пред Ним сокрушается земля, т. е. сокрушаются страхом земные люди, из боязни или пред Его законом, или пред законами тех, которые, веруя в Него и управляя народами, запретили такое святотатство.
44.
Действительно, обо всем этом пророк говорит так: «О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его; и наполнилась земля его идолами; они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж; и Ты не простишь их. Иди в скалу и скройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Покинут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, — и оно будет унижено, — и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. И идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. И в тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю» (Ис. 2.5–21).
45.
Что говорят они об этом Боге Саваофе, что значит: «Бог сил» или «Бог воинств», ибо Ему служат силы и воинства ангелов? Что скажут об этом Боге Израиля, потому что Он — Бог того народа, произведшего семя, в котором благословятся все народы? Почему не почитают только Его одного, хотя утверждают, что почитать должно всех богов? Почему не веруют в Того, Который показал, что все другие боги ложны и устранил их? Я слышал, как некто из них говорил, будто бы он читал, — не знаю у какого философа, — что из того, что иудеи совершают в своих священнодействиях, можно понять, какого Бога они почитают: «Создателя, — говорил он, — тех составных веществ, из которых образован этот видимый телесный мир», так как в писаниях Его пророков весьма ясно показывается, что народу израильскому велено чтить того Бога, Который сотворил небо и землю, и от Которого исходит всякая истинная премудрость. Но зачем нам спорить обо всем этом, когда достаточно и того, что они по некоторому предчувствию говорят о том Боге, отрицать бытие Которого они не могут?
Если Он — творец тех веществ, из которых создан мир, то почему Он не предпочитается ими Нептуну, который, по их мнению, сотворил только моря; или Сильвану, устроителю только полей и лесов; или Солнцу, устроителю дня и всего поднебесного тепла; или Луне, устроительнице только ночи, хотя бы даже она и блистала своею властью над влагой; или Юноне, которая объявляется только воздуходержательницей? Ведь очевидно же, что эти устроители частей мира, кто бы они ни были, необходимо должны быть под властью Того, Кто имеет господство над всеми этими частями и над всей этой громадой! Но Он запрещает почитать их всех. Таким образом, почему они, вопреки повелению большего из богов, не только хотят почитать их, но из–за них не хотят чтить Его? Еще до сего времени они не находят, что бы такое им твердо и вполне ясно провозгласить об этом Боге Израилевом, да и не найдут никогда, пока не поймут, что Он есть истинный Бог, Которым создано все.
46.
Потому некий Лукан, великий между ними стихотворец, долго, как мне кажется, искавший разрешения этого вопроса как путем самостоятельных размышлений, так и изучая книги соотечественников, и не нашедший разрешения, ибо искал нечестиво, все–таки предпочел ненайденного им Бога назвать «неведомым», а не никаким Богом. Действительно, он говорит: «И преданная святыням неведомого Бога–иудея» (Лукан, 2 кн.).
А ведь этот Бог, святой и истинный Бог Израиля, еще не совершал через имя Христово столь многое среди всех народов, сколь многое было совершено до настоящего времени после времени Лукана. А ныне кто столь упорен, чтобы не склониться, кто столь бесчувственен, чтобы не воспламениться, когда исполняется написанное: «Ничто не укрыто от теплоты Его» (Пс. 18.7)? И это тогда, когда как бы в самом ясном свете обнаруживается то, что было гораздо раньше предсказано в том же самом псалме, из которого взят мною этот маленький стих. Ведь апостолы Христовы именем небес обозначены потому, что на них восседает Бог, чтобы они возвещали Евангелие; ибо небеса уже поведали славу Божию, а твердь возвестила о делах рук Его. День дню передает речь, и ночь ночи возвещает знание. Уже нет голосов и речей, слова которых не слышны. По всей земле уже прошел звук, и слова их дошли до пределов земли. Уже на солнце, т. е. в проповедовании, Он поставил жилище Свое, которое есть Церковь, потому что для совершения этого Он, — как далее говорится там, — подобно жениху, вышел из чертога, то есть Слово, соединенное с плотью человеческой, вышло из девичьего чрева. И вот с высоты неба совершилось схождение Его и возвращение Его в высоту неба. И потому непосредственно вслед за тем поставлен стих, который я привел выше. Но еще до сего времени они предпочитают, чтобы их нетвердая и противоречивая болтовня подобно соломе обращалась в прах вместо того, чтобы подобно золоту очищаться от грязи; тогда как уже и статуи ложных богов обратились в ничто, а прежде указанная истинность неведомого Бога сделалась несомненной.
47.
Итак, лживые хвалители Христа, не желающие быть христианами, пусть перестанут утверждать, будто Христос не учил, что их боги должны быть оставлены, а изображения — повергнуты в прах. Ведь Бог Израилев, о Котором было предсказано, что Он будет называться Богом всей земли, уже так и называется: Богом всей земли. Через пророков Он предсказал, что так будет, а через Христа исполнил это в надлежащее время. Ибо несомненно, если Бог Израиля называется Богом всей земли, то необходимо, чтобы исполнилось то, что Он повелел, когда повелевший стал известным. А что через Христа и во Христе Он стал известным, так что Церковь Его распространилась по всем пределам вселенной и через нее Бог Израилев называется Богом всей земли, — об этом желающие пусть читают пророчество, приведенное мною выше (не столь уж оно пространно, чтобы следовало его пропускать). Ведь многое говорится о воплощении, уничтожении и страдании Христовом и о теле Его, для которого Он является главою, т. е. о Церкви, когда не родившая называется как бы неплодною. Действительно, в течение многих веков не открывалась Церковь, которая должна была быть у всех народов в сынах своих, т. е. в своих святых, так как Христос еще не был возвещен евангелистами тем людям, которым Он был предвозвещен через пророков; но говорится, что сынов покинутой будет больше, чем детей той, которая имела мужа; именем мужа этой последней обозначен или Закон или тот Царь, Которого первым избрал народ израильский. Язычники не приняли Закона в то время, о котором говорил пророк, и Царь христиан еще не явился язычникам; и однако же из этих язычников произошло более плодоносное и более многочисленное количество святых.
Именно таким образом пророчествует Исаия, начиная с уничижения Христа и потом обращаясь к приветствию Церкви вплоть до того самого стиха, о котором мы упомянули, когда он говорит: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится, и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, — столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекая бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказания мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно, не открывая уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, намучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании; ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя Его, и Искупитель твой — Святый Израилев; Богом всей земли назовется Он» (Ис. 52.13–54.5).
48.
Что можно сказать против очевидности и выразительности предсказания и исполнения событий? Если они полагают, что ученики Христа измыслили ложь о божестве Его, то разве они будут сомневаться относительно страдания Христова; обыкновенно они не верят в воскресение, но охотно веруют во все то, что по человечеству Он претерпел от людей, потому что хотят верить, что Он — только человек. Итак Он, как овца, был веден на закланье, Он был причислен к злодеям; Он был изъязвлен за грехи наши; мы спаслись язвами Того, лицо Которого было поругано и оплевано, распятие Которого на кресте позорно; за неправды народа израильского Он был предан смерти; Он, не имевший ни вида, ни красоты, когда Его били кулаками, увенчивали терновым венцом, осмеивали висящего на кресте; Он, не открывший уст Своих, как агнец пред стригущими его не подает голоса, когда к Нему обращены были слова ругателей, с насмешкой требующих от Него прорицаний.
Несомненно, Он уже превознесен, уже прославлен. Несомненно, на Него с изумлением взирают многие народы. Цари уже закрыли уста свои, которыми обнародовали против христиан самые свирепые законы. Несомненно, что уже видят те, которым не было возвещено, и понимают те, которые не слышали; потому что народы, которым не возвещали пророки, даже лучше видят, сколь истинно было возвещенное через пророков; а те, которые не слышали слов самого Исаии уже понимают в писаниях его, о Ком он говорил. Но и в самом народе иудейском — кто верил слуху пророков, кому открылась мышца Господня, которая есть сам Христос, провозвещенный через них, когда своими руками допустили относительно Христа те преступления, о совершении которых предсказали им их же собственные пророки? Несомненно, что Он уже имеет часть между великими и делит добычу с сильными, так как то, чем обладал дьявол и демоны, Он распределил, — после изгнания и гибели их, — по учреждениям Своих Церквей и для всяких полезных служений.
49.
Итак, что говорят на это развращенные хвалители Христа и ругатели христиан? Разве может такое быть, чтобы Христос волшебным искусством сделал то, что пророки предсказали гораздо раньше Его рождения; и может ли быть, чтобы это сочинили Его ученики. Разве Церковь, распространенная среди народов, некогда бесплодная, ныне не увеселяется большим числом сынов, чем известная Синагога, которая приняла Закон или Царя, как мужа. Разве она не так расширила место жилища своего, охватывая все народы и языки гораздо дальше, чем простираются законы римского государства; она простирает свои верви даже до персов, индов и других народов; разве имя ее не распростирается между столь многими народами, как направо через истинных христиан, так и налево — через христиан ложных. Разве семя ее уже не наследует многих народов; разве она не населяет уже государств, которые были лишены истинного богопочтения и истинной веры; разве она боялась угроз и неистовства людей, когда облеклась в кровь мучеников, как бы в почетный пурпурный покров; разве не одолела она врагов в столь многих и столь сильных и страшных преследованиях, разве не краснела она, как ненавистная, когда великим преступлением являлось даже быть христианином; но она забыла навсегда посрамление, потому что там, где умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5.20). Разве помнит еще она о вдовстве своем, так как покинутая на время и подвергшаяся поруганию, она стала теперь блистать столь великою славой. Разве, наконец, то, что Господь, сотворивший ее и вырвавший из–под власти дьявола и демонов, уже называется Богом Израиля и всей земли, есть выдумка учеников Христовых? Ведь об этом за столь много времени до того, как Христос сделался Сыном Человеческим, предсказали пророки, книги которых ныне имеются в руках врагов Христовых.
50.
Итак, пусть наконец поймут (ведь все вышесказанное давно уже очевидно даже самым тупым и ленивым), пусть, говорю, поймут развращенные хвалители Христа и ругатели христианской веры, что ученики Христовы и сами научились, и учили тому, что содержит против их богов учение Христово, потому что Бог Израилев, являющийся в книгах пророков, заповедавший считать мерзостью и уничтожить все то, что они желают почитать, через Христа и Церковь Христову уже Сам именуется Богом всей земли, как это Он предуказан за столько времени раньше. Если же они в своем поразительном безумии полагают, будто Христос чтил их богов и благодаря их помощи смог сделать столь много, то неужели и Бог Израилев, Который через Христа исполнил обещанное Им относительно почитания Себя всеми народами и относительно презрения к тем богам и ниспровержения их (Вт. 7.5), чтил их богов?
Где их боги? Где прорицания исступленных людей? Где гадания оракулов? Где предсказания по полету и пению птиц, по внутренностям животных, где прорицания демонов? Почему в древних книгах, посвященных всему этому, мы не находим какое–либо увещание и предсказание против христианской веры, против столь явственно выраженной и уже для всех народов очевидной истины? Они говорят: «Мы оскорбили своих богов и они оставили нас, а потому христиане и взяли над нами верх; и теперь счастье в делах человеческих, ослабев и уменьшившись, рушится и гибнет». Но пусть они прочитают в книгах своих прорицателей, что это должно было с ними случиться из–за христиан; пусть прочитают там, где, — если не Христос, Которого они хотят видеть почитателем своих богов, — то по крайней мере Бог Израилев был бы осужден и представлен ненавистным, о Котором известно, что Он — их ниспровергатель. Но они это представят только тогда, когда, может быть, что–либо выдумают. Когда же они это представят, то само собою откроется, что столь важное обстоятельство представляется столь неизвестным, хотя оно, для предуготовления и предвещания желающих или не желающих быть христианами, конечно, должно было обнародоваться в храмах богов всех народов прежде, чем случилось то, что было предсказано.
51.
Затем относительно того, что они жалуются на уменьшение счастья в делах человеческих в христианские времена: если они будут читать книги своих философов, прорицающих то, что ныне у них отнимается, даже когда те сопротивляются и ворчат, то и тогда они встретят великие похвалы временам христианским. Ведь что в их счастье уменьшается, как не то, чем они нечестиво и изобильно злоупотребляли к великому оскорблению Творца? Не в том ли сейчас наступают дурные времена, что по всем городам приходят в упадок места публичных зрелищ, вертепы позорных дел и всенародные проявления разврата, что ветшают площади и капища, в которых почитались демоны? В самом деле, они разрушаются только из–за недостатка дел, для сладострастного и святотатственного совершения которых они и были воздвигнуты. Разве их Цицерон, когда расхваливал некоего шута Росция, не сказал, что он был так искусен, что был чуть ли не единственным достойным человеком, выступающим на сцене; и при этом был столь добрым, что именно ему и не следовало заниматься этим ремеслом. Что же иное он самым ясным образом показал, как не то, что то место действия было настолько позорным, что человеку тем менее должно было бывать там, чем более хорошим человеком он был? И тем не менее боги их услаждались тем безобразием, которое считалось необходимым устранить от добрых людей.
Есть также открытое признание того же самого Цицерона, где он говорит, что Флора должна быть умилостивляема торжествами игр (Цицерон. Против Вересса, асt. 5). На этих играх обыкновенно творилось такое бесстыдство, что по сравнению с ними всякие другие игры казались верхом благопристойности, хотя от участия в их исполнении и устранялись добродетельные люди. Что же это за матерь Флора? Какова эта богиня, если ее примиряло и умилостивляло бесстыдное, ничем не стесняемое действо? И насколько благопристойнее выступал Росций, чем сам Цицерон, когда чтил такого рода богинь?
Итак, если уменьшением изобилия богатства, которое расточается на такого рода торжества, оскорбляются боги язычников, то ясно, чего стоят те, которые услаждаются ими. А если они в своем гневе сами уменьшили их, то они с большею пользой гневаются, чем умилостивляются. Поэтому язычники пусть или обличают своих мудрецов, которые порицали подобные деяния в развратных людях, или сокрушат своих богов, которые от своих почитателей требовали такого рода деяний (в том, конечно, случае, если еще способны найти как тех, которых могут сокрушить, так и тех, которых могут скрывать); но пусть перестанут с клеветою приписывать христианским временам недостаток благоприятных обстоятельств, при которых они впали в позор и преступления, чтобы этим еще больше не убедить остальных всячески восхвалять власть Христову.
52.
По этому поводу можно было бы сказать еще многое, когда бы необходимость не вынуждала меня закончить эту книгу и возвратиться к намеченной цели данного труда. Все дело в том, что когда я приступил к разрешению евангельских вопросов, где, на первый взгляд, четыре евангелиста кое в чем не согласны между собою, то после изложения, — насколько это возможно, — намерения каждого из них в отдельности, мне необходимо было дать ответ на часто возникающее недоумение: почему мы не можем представить никаких писаний самого Христа. Ибо многие язычники хотели бы верить, будто Он написал нечто такое, — уж и не знаю что, — что могло бы им понравиться, поскольку там, дескать, не было ничего против их богов; иные даже желали бы приписать Ему почитание их идолов, осуществленное посредством волхвования; с другой стороны, им очень хотелось бы верить, будто ученики Его не только лживо говорили о Нем, утверждая, что Он — Бог, Которым создано все, в то время как Он был простым человеком, хотя и превосходящим других в мудрости, но еще и о богах их учили не так, как научились от Него.
Потому–то нам и следует настойчиво обличать их заблуждения о Боге Израилевом, Который через Церковь Христову почитается всеми народами и уже повсюду устранил их святотатственную суету, как об этом Господь предвозвестил через пророков, и как исполнил предсказанное через имя Христово, в Котором обещал благословение всем народам. Из этого они должны понять, что ни Христос не мог учить относительно их богов иначе, чем Бог Израилев повелел и предсказал через пророков Своих, чьими устами обетовал и послал самого Христа, во имя Которого, — согласно обетованию, данному праотцам, когда благословились все народы, — было то, что и сам Бог Израилев стал называться Богом всей земли; ни ученики Его не отступили от учения своего Учителя, когда запрещали почитать богов языческих, чтобы мы не поклонялись бесчувственным изображениям, не имели общения с демонами и не совершали служения твари больше, чем Творцу в послушании веры.
53.
Так как Христос есть Премудрость Божья, через Которую все сотворено, и так как все умные силы ангелов ли то, или людей, бывают мудры только в общении с Тем, к Которому мы прилепляемся через Святого Духа, — благодаря Которому в сердцах наших разливается любовь, — то эта Троица есть единый Бог. Потому для смертных существ, временная жизнь которых проходит в земных делах и всяческой суете, божественным промыслом было решено, чтобы та же самая Премудрость, приняв в единство лица Своего человека, чтобы в Нем временно родиться, жить, умереть и воскреснуть, проповедуя и совершая то, что направлено к нашему спасению, претерпевая и страдая, была для людей, пребывающих в дольнем мире, примером для восстановления их единства, а тем ангелам, которые пребывают в мире горнем, примером постоянства. Ведь если бы в природе разумной души не произошло чего–нибудь подобного, т. е. не начало быть нечто такое, чего прежде не было, то она никогда не перешла бы от жизни нечестивой и неразумной к жизни мудрой и блаженной. А благодаря этому, — так как истина людей созерцающих наслаждается вечными предметами, а вера людей верующих нуждается в предметах, имеющих начало во времени, — человек очищается верой в предметы временные, чтобы достигнуть истинного познания о вечном.
В самом деле, ведь и знаменитейший языческий мудрец Платон в своей книге «Тимей» говорит так: «Сколь великое значение имеет вечность для того, что родилось, столь же великое значение имеет истина для веры». Вечность и истина пребывают в умопостигаемом, рождающееся же и вера — в телесном. Итак, чтобы нам быть призванными от низшего к высшему, рожденное и воспринимает вечность; к истине же должно восходить путем веры. А так как все то, что пребывает в противоречии, соединяется через нечто среднее, и от вечной праведности нас отдалила временная неправда, то и возникла необходимость в средней временной праведности; и это среднее со стороны низшего было временным, а со стороны высшего — праведным; соприкасаясь с низшим, оно возвратило низшее высшему. Вот почему Христос именуется посредником (ходатаем) между Богом и людьми: Он — Бог и человек между Богом бессмертным и смертным человеком, примиряющий человека с Богом, остающийся тем, чем Он был, и сделавшийся тем, чем Он не был. Он, будучи истиною в делах вечных, является для нас верою в вещах временных.
54.
Это великое и неизреченное тайнодействие, это царство и священство открывается для древних через пророчество, а потомкам их проповедуется через Евангелие. Действительно, пришло время подать всем народам то, что долгое время обетовано было через один народ. Поэтому Тот, Который прежде снисхождения Своего посылал пророков, Сам же послал и апостолов после вознесения Своего. Но через принятое им человечество Он является для всех учеников Своих, как для членов тела Своего, главою. Итак, когда они записали о том, что Он явил или сказал, то никоим образом уже не следует говорить, что Сам Он ничего не написал; ведь в действительности члены Его совершили то, что узнали из слов Своего Главы, потому что Он повелел им, как рукам Своим, записать то, что Ему было угодно донести до нас о Своих деяниях и речах. Кто постигнет это участие и согласие членов в различных служениях под единой Главою, тот прочитанное в Евангелиях будет понимать так, как будто увидит саму пишущую руку Господа, которая производила движения в Своем собственном теле.
Поэтому рассмотрим получше, что же такого противоречивого написано в Евангелиях (или что может показаться таковым несведущим людям), чтобы после разрешения этих вопросов еще яснее открылось, что члены этой Главы сохранили неподдельное согласие в единстве самого тела, не только имея в мысли одно и то же, но даже и записывая согласным образом.
КНИГА ВТОРАЯ
1.
Отвергнув легкомыслие тех, которые полагают, что ученики Христовы, написавшие Евангелие, должны быть презираемы за то, что нами не указывается никаких писаний самого Христа, относительно Которого они не сомневаются, что Его должно почитать по мудрости далеко превосходящим прочих людей (правда, не как Бога, а как человека), равно и тех, которые пытаются показать, что Он написал нечто такое, что им по вкусу в силу их развращенности, а не такое, чем они могут, читая и учась, исправиться и встать на стезю добродетели, теперь рассмотрим то, что евангелисты написали о Христе, оставаясь всегда верными себе и согласными между собою, дабы в чем–либо и здесь не претерпели соблазнов в христианской вере те, которые более любопытны, чем восприимчивы, потому что не только перечитывая, но и тщательно исследуя книги Евангелий, они воображают, будто заметили нечто несогласное и противоречивое, и думают, что это должно быть предметом споров и упреков, а не благочестивого созерцания.
2.
Евангелист Матфей начинает так: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 1,1). Этим своим началом он показал, что он намерен повествовать о рождении Иисуса Христа по плоти. Ведь по ней Христос есть сын человеческий, как и Сам Он весьма часто себя называет (Мф. 8.20; 9.6). А то высшее и вечное рождение, по которому Он есть единородный Сын Божий прежде всякой твари, ибо все сотворено через Него, столь неизреченно, что пророк говорит о нем: «Но род Его кто изъяснит?» (Ис. 53.8). Итак, Матфей исследует человеческое рождение Христа, когда называет предков Его от Авраама, которых и доводит до Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Ибо он полагал, что не следует отделять его от супружества с Марией, хотя она и родила Его будучи девой, а не от союза с Иосифом. Этим примером прекрасно явлено всем верующим, находящимся в браке, что супружество может сохраняться и называться таковым даже и при соблюдении телесного воздержания по взаимному согласию, но с сохранением душевной склонности; ведь и у Иосифа и девы Марии родился Сын без всякого плотского соития, каковое должно иметь место только ради рождения детей. Поэтому не должно называть Иосифа отцом Христа, так как он не родил Его от плотского союза, хотя он поистине был и отцом Его, ибо усыновил рожденного от своей жены.
3.
Впрочем, Христа многие действительно считали сыном Иосифа, как будто Он в самом деле родился от его плоти; но это потому, что тогда мало кто знал о девстве Марии. В самом деле, Лука говорит: «Иисус… был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов» (Лк. 3.23). Но и Лука нисколько не колеблясь называл обоих супругов Его родителями, а не одну только Марию, когда говорил: «Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи» (Лк. 2. 41). А если кто–либо думает, что здесь идет речь о Марии и ее кровных родственниках, пусть прочтет там же у Луки: «Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем» (Лк. 2. 33). Итак, если он сам повествует, что Христос рожден не от союза с Иосифом, а от девы Марии, то почему этого последнего он называет отцом Его, как не потому, что и мужем Марии мы считаем его не по плотскому союзу, а по союзу супружескому. Поэтому и отцом Христа, родившегося от его супруги, он был более подходящим, чем если бы Он был усыновлен Иосифом откуда–то со стороны. Отсюда ясно, что слова «как думали, сын Иосифов» сказаны тем, кто воображал, что Он рожден от Иосифа подобно другим людям.
4.
И поэтому, если бы кто–либо захотел доказать, что Мария не происходит от Давида по кровному родству, то было бы достаточно признать Христа потомком Давида по той только причине, по которой и Иосиф вполне правильно называется Его отцом; но еще менее мы должны сомневаться, что и сама Мария имеет некоторое кровное родство с потомством Давида, потому что апостол Павел вполне ясно говорит, что Христос по плоти от семени Давидова (Рим. 1.3). Он не умалчивает также и относительно священнического рода этой Жены, ибо Лука внушает мысль, что Ее родственницей была Елисавета, которая, по его словам, была из дочерей Аарона (Лк. 1.36,5). Следует твердо держаться того мнения, что плоть Христова произошла от обоих родов, а именно: от царского и священнического, которые, по традиции еврейского народа, получали таинственное помазание, или хрисму, от чего и производится имя Христос, предвозвещенное задолго до Его пришествия.
5.
А кого беспокоит то обстоятельство, что евангелист Матфей перечисляет одних предков Христа, по нисходящей от Давида до Иосифа (Мф. 1,1–16), а евангелист Лука перечисляет других, по восходящей от Иосифа до Давида (Лк. 3.23–38), тех легко убедить, чтобы они обратили внимание на то, что Иосиф мог иметь двух предков, одного, от которого он родился, и другого, которым он был усыновлен. Действительно, у этого народа Божия был древний обычай усыновления, так что у них детьми считались и те, которых они не родили; потому что, не говоря уж о дочери фараона, усыновившей Моисея (Исх. 2.10), сам Иаков усыновил внуков своих, родившихся от Иосифа, сказав так: «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, что родятся от тебя после них, будут твои» (Быт. 48.5,6). Отсюда и вышло, что у Израиля было двенадцать колен, исключая колено Левия, которое служило при храме, хотя в действительности их было тринадцать, так как у Иакова было двенадцать сыновей.
Отсюда понятно, что евангелист Лука в своем Евангелии взял не того отца Иосифа, от которого он был рожден, а того, которым он был усыновлен, и предков которого, идя по восходящей, перечислял, пока не дошел до Давида. А так как было необходимо, чтобы оба евангелиста — Матфей и Лука, повествуя истинное, держались, с одной стороны, рода того отца, который родил Иосифа, а с другой — того, который усыновил его, то в ком мы с большей вероятностью можем видеть того, кто держался рода усыновившего отца, как не в том, который хотел сказать, что Иосиф родился не от того, сыном которого, согласно повествованию, он был? Ведь удобнее было назвать его сыном того, которым он был усыновлен, чем сыном того, от плоти которого он не родился. А Матфей словами: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова», (словом «родил» он неизменно продолжает свою речь, пока, наконец, не говорит: «Иаков родил Иосифа»), достаточно сильно выразил ту мысль, что он провел тот порядок или род предков, по которому Иосиф был рожден, а не усыновлен.
6.
И хотя Лука сказал даже, что Иосиф рожден от Илии, однако и это выражение не должно нас смущать настолько, чтобы мы стали искать иного объяснения помимо того, по которому один евангелист упоминает отца родившего, а другой — усыновившего. Притом не лишено смысла и то, что кто–нибудь представляется отцом сына, которого он усыновил, — отцом не по плоти, а по милости; неужто и нас, которым Бог даровал милость быть чадами Его, Бог родил от природы и существа Своего, подобно Единородному Сыну? Несомненно, что Он усыновил нас по любви. Этим словом (усыновил) апостол пользуется довольно часто, и нужно думать, что только затем, чтобы отличить Единородного прежде всей твари, через Которого было создано все, Который один только рожден из сущности Отца и по равенству божественности есть то же, что и Отец. Апостол говорит, что Он был послан для восприятия плоти от того рода, от которого по своей природе происходим и мы, чтобы, приняв участие по любви в нашей смертности, сделать нас причастными Своей божественности по усыновлению. Действительно, апостол говорит так: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4.4,5). Однако же и мы называемся рожденными от Бога, т. е. мы, уже бывшие людьми, получили возможность сделаться сынами Его, но сделаться по милости, а не по природе.
Ведь если бы мы были сынами по природе, то никогда не сделались бы чем–либо иным, потому что Иоанн говорит так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1.12,13). Итак, он называет сынами Божиими от Бога тех же самых, которых называет сынами по полученной милости, — а это и означает то усыновление, о котором говорит Павел. При этом, чтобы яснее показать, какой благодатью это было, он говорит: «И Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1.14); он как бы говорит: «Что удивительного в том, что сделались сынами Божиими, хотя и были плотию, те, ради которых Единственный Сын стал плотию, хотя был Словом. С тем только различием, что мы, сделавшись сынами Божиими, изменяемся к лучшему, а Он, Сын Божий, когда сделался человеком, то к худшему не изменился, но только воспринял низшее». И Иаков говорит: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начаткам Его созданий» (Иак. 1. 18). Но чтобы в слове «родил» нам не почудилось, будто и мы сделались тем, что есть Бог, для этого он ясно показал, что в этом усыновлении нам уступлено только некоторое начинание в творении.
7.
Итак, если бы даже Лука и сказал, что Он родился от того Иосифа, которым был усыновлен, то и это было бы не лишено оснований. В самом деле, ведь он родил Его не в том смысле, чтобы Ему быть человеком, но чтобы быть сыном, подобно тому, как и нас Бог родил, чтобы быть нам сынами Того, Кто сотворил нас, чтобы нам быть людьми. А Единородного Он родил не только для того, чтобы Он был Сыном, но и для того, чтобы Он был Богом, как и Отец. Но если словом «сын» пользуется и Лука, то возникает сомнение: кто из евангелистов упоминает отца, родившего от собственной плоти, а кто — усыновившего. Но так как один говорит: «Иаков родил Иосифа», а другой говорит: «Иосиф, сын Илиев», то даже самим различием слов они прекрасно внушили читателю мысль о том, что каждый из них понимал. Но, как я сказал, это легко воспринять человеку благочестивому, который предпочтет исследовать что угодно, только бы не думать, что евангелист говорит неправду. То же могли бы понять и хулители, если бы они не предпочитали спор благочестивому созерцанию.
8.
А то, что потом должно было быть внушено, чтобы оно действительно могло быть применено к делу и сделалось ясным, требовало читателя внимательного и прилежного. В самом деле, остроумно замечено, что Матфей, решившийся показать во Христе царственную особу, поименовал в ряду поколений сорок лиц, исключая самого Христа. Число же это служит знаком того времени, когда в этой жизни и на этой земле мы должны быть под управлением Христа соответственно трудностям испытаний, которыми, как написано: «Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12.6), и о которых говорит апостол, что скорбями должно войти нам в царство Божие (Деян. 14.22). На них же указывает и тот железный жезл, о котором читаем в псалме: «Ты поразишь их жезлом железным», и там же выше говорится: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс. 2.6,9). И действительно, железным жезлом управляются даже люди добрые, о которых говорится: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1 Пет. 4.17,18). К нам же относится и дальнейшее слово: «Сокрушишь их, как сосуд глиняный» (Пс. 2.9). По этому правилу управляются нечестивые, а злые уничтожаются; как те, так и другие упоминаются совместно вследствие одних и тех же таинств, которые у добрых и злых одни и те же.
9.
Итак то, что это — суть таинственное число трудных времен, когда мы под управлением Христовым вели борьбу против дьявола, показывается также и тем, что и Закон освятил сорок дней поста, т. е. смирения души, и пророки явили через Моисея и Илью, которые постились в течение сорока дней (Исх. 34.28 и 3 Цар. 19.8), и Евангелие являет через пост самого Господа, когда в течение сорока дней Он был искушаем от дьявола (Мф. 4.1,2), изображая в плоти Своей, которую удостоился принять от нашей смертности, не что иное, как наше искушение в течение всего этого времени. Также и после воскресения Своего Он восхотел пробыть с учениками Своими не более сорока дней на этой земле, проводя еще вполне человеческую жизнь и принимая вместе с ними пищу смертных, хотя уже не должен был более подвергнуться смерти, чтобы самими этими сороками днями показать им, что Он желает исполнить сокровенное настоящее, так как говорит: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28.20). Значит, это число обозначает временную и земную жизнь; тут, прежде всего, представляется такая причина (хотя может быть есть и другая, более таинственная): что и времена года проходят через четыре смены, и сам мир разделяется на четыре части, которые св. Писание некогда называет именем четырех ветров, Восток, Запад, Север и Юг (Зах. 14.4); а сорок имеет четыре раза по десять. Затем, само число десять завершается единицей, следующей за четырьмя два раза.
10.
Итак, Матфей, говоря о Царе Христе, приходящем в этот мир и в эту земную и смертную жизнь для управления нами, находящимися в трудностях искушений, начал с Авраама и перечислил сорок человек. Христос явился в плоти от того самого еврейского народа, для отличия которого от прочих Бог выделил Авраама из его земли и из его народа (Быт. 12.1,2), так что и это яснейшим образом относится к пророчествам и предсказаниям о Нем, ибо было обетование, из какого народа Он должен прийти. И хотя сорок родов евангелист разделяет на три части, говоря, что от Авраама до Давида было четырнадцать одних родов, от Давида до переселения в Вавилонию — четырнадцать других и столько же родов до рождества Христова (Мф. 1,17); однако же он не говорит: «Всех их было сорок два».
Действительно, один из предков, а именно Иехония, которым сделано некоторое уклонение в сторону чужеземных народов, когда совершилось переселение в Вавилон, называется два раза. Но где род уклоняется от прямого пути и идет в сторону, там он делает как бы угол; то, что находится в углу, считается два раза, а именно, в конце первого ряда и в начале самого отклонения. Но и это само уже прообразовало Христа, имевшего перейти от обрезания к необрезанию, как бы из Иерусалима в Вавилонию, и там и здесь — краеугольного камня для верующих в Него из тех и других. Тогда Бог приуготовлял это в прообразах для событий, которые должны были произойти в дальнейшем. Ведь и само имя Иехония, которым предъизображен этот камень, значит «приуготовление Бога». Следовательно, перечисляется не сорок два, т. е. четырнадцать, взятое три раза, а только, из–за повторения одного два раза, сорок одно поколение, если мы присоединим и самого Христа, который царственно предстоятельствует над числом сорок в управлении этой временной и земной нашей жизнью.
11.
Так как Матфей хотел показать Его, сходящего к нашей смертности и принимающего участие в ней, то и само родословие в начале своего Евангелия он перечислил по нисходящей, от Авраама до Иосифа и даже до самого рождения Иисуса Христа. А Лука передает о родах не в начале своего Евангелия, а после крещения Христова, и не по нисходящей, а по восходящей, как бы подчеркивая значение Его как священника для искупления грехов, так как, с одной стороны, Его указал голос с неба, а с другой стороны, Иоанн дал Ему свидетельство словами: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1.29). По восходящей он миновал Авраама и дошел до Бога, с Которым мы примиряемся по очищении и искуплении. По заслуге Он принял род по усыновлению, ибо мы через усыновление делаемся чадами Божиими, веруя в Сына Божия. А через плотское рождение Сын Божий главным образом ради нас сделался сыном человеческим. Но Лука достаточно показал, что он назвал Иосифа сыном Илии не потому, что он был рожден от него, но потому, что он был им усыновлен, подобно тому как и самого Адама он назвал сыном Божиим не вследствие сотворения от Бога, но потому, что по благодати, которую он после греха утратил, Адам был помещен в раю как сын.
12.
Потому–то в поколениях у Матфея показывается принятие Господом Христом наших грехов, а в поколениях у Луки обозначается уничтожение наших грехов Господом Христом. Поэтому первый излагает их по нисходящей, а второй — по восходящей. Ибо слово апостола: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной» указывает на принятие грехов, а его прибавление: «в жертву за грех и осудил грех во плоти» (Рим. 8.3) обозначает очищение от грехов. Потому Матфей нисходит от самого Давида через Соломона, с матерью которого Давид согрешил (2 Цар. 11.4). А Лука восходит к Давиду от Нафана, через которого Бог очистил грех его (2 Цар. 12.1–14). К тому же и само число поколений, передаваемое Лукой, самым несомненным образом показывает уничтожение грехов. Действительно, так как к беззакониям людским не присоединилось ни одного беззакония от Христа, Который не соделал ни одного греха, хотя принял их в плоти Своей, то у Матфея, за исключением Христа, мы видим число сорок. А так как Он соединил нас, очищенных и искупленных от всякого греха, с праведностью Отца и Сына, так что было по слову апостола: «А соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)» (2 Кор. 6.17), то в перечислении Луки называется и Сам Христос, с Которого и начинается перечисление, и Бог, до Которого оно доходит, и получается число семьдесят семь, которым обозначается отпущение и уничтожение всех грехов, каковое и Сам Господь ясно указал через таинственное значение этого числа, говоря, что согрешающему должно отпускать не только семь раз, но семьдесят раз семь (Мф. 18.22).
13.
Если тщательно исследовать, то окажется, что это число не случайно относится к отпущению всех грехов. В самом деле, десятеричное число показывается в Законе как число праведности. Но грех есть преступление Закона, и, конечно, преступление десяти, как символа Закона, вполне пригодно выразить не десятикратным числом. Поэтому и в скинии было приказано сделать одиннадцать шерстяных покрывал (Исх. 26.7). Но кто усомнится в том, что шерсть относится к числу знаков греха? При этом, так как наше время обращается в семидневных неделях, то вполне логично, что все грехи подходят под число одиннадцать, взятое семь раз. И в этом–то количестве, по искуплении нас плотью Священника нашего Христа, совершается полное отпущение грехов; от Него это число получает начало, и по примирении нас с Богом к Нему это число переходит через Духа Святого, который в виде голубя явился в том крещении, после которого и упоминается это число (Лк. 3.22).
14.
После перечисления родов Матфей продолжает таким образом: «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого» (Мф. 1.18). Как все это произошло (Матфей об этом умалчивает), Лука изложил после упоминания о зачатии Иоанна, повествуя так: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. К Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, вошел к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою: благословенна Ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1.26–35). Итак то, что указал Матфей, говоря о Марии: «Она имеет во чреве от Духа Святого», не противоречит Луке, ибо Лука изложил то, что Матфей опустил.
А поскольку и тот и другой свидетельствуют, что Мария зачала от Духа Святого, то нет противоречия и в том, что Матфей после присоединил пропущенное у Луки; Матфей продолжает и говорит: «Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» (Мф. 1.19–25).
15.
Относительно города Вифлеема Матфей и Лука согласны. Но каким образом и по какой причине в него пришли Иосиф и Мария, Лука повествует, а Матфей опускает. Наоборот, о волхвах, пришедших с востока, Матфей говорит так: «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился…», и так далее до того места, где написано о волхвах, что они «получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» (Мф. 2,1–12). Все это Лука опустил, как и Матфей, со своей стороны, не рассказал о том, что Господь был положен в яслях, и о том, что пастухам о Его рождении было возвещено Ангелом, и что с Ангелом было множество воинства небесного, хвалящего Бога, и что пастухи пришли и видели, что все, возвещенное им от Ангела, истинно, и что имя Свое Он получил в день обрезания, и что после дней очищения Марии, как повествует тот же Лука, принесли Его в Иерусалим, и о том, что сказали Симеон и Анна, когда, исполнившись Духа Святого, узнали Его в храме, — обо всем этом Матфей умалчивает.
16.
Поэтому естественно спросить: когда произошло то, что опускает Матфей, а сообщает Лука, или то, что опускает Лука, а сообщает Матфей. Действительно, Матфей после рассказа о возвращении в страну свою пришедших с востока волхвов продолжает повествовать, что Иосиф был убежден Ангелом бежать с Младенцем в Египет, чтобы Он не был умерщвлен Иродом; потом Ирод, не нашедши Его, убил мальчиков от двух лет и младше; а после погребения Ирода Иосиф возвратился из Египта и, услышав, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, жил с Мальчиком в городе Галилеи Назарете. Обо всем этом Лука умалчивает. Но и поэтому не может казаться противоречивым повествование, что этот сообщает о том, о чем тот умалчивает, или тот упоминает о том, о чем этот не говорит. Однако спрашивается, когда могло происходить то, что рассказал Матфей об отправлении в Египет и возвращении оттуда после смерти Ирода, чтобы уже поселиться в Назарете, когда Лука упоминает, что они возвратились туда после того, как совершили в храме все то, что надлежало по Закону совершить над Младенцем?
Тут следует заметить (и это впоследствии будет иметь силу и для других подобных мест, чтобы они также не смущали и не тревожили дух), что каждый евангелист так составляет свою речь, чтобы ряд повествования не казался с каким–либо пропуском: умалчивая о том, о чем не желает говорить, так соединяет повествуемое с тем, о чем говорил, что то и другое кажется следующим друг за другом непосредственно. Но так как один говорит о том, о чем другой умолчал, то тщательно рассмотренный порядок показывает, где именно произошло это умолчание. И таким образом становится понятным, что там, где Матфей говорил о волхвах, получивших повеление во сне не возвращаться к Ироду и другим путем возвратившихся в свою страну, там он пропустил то, что Лука сообщил бывшее с Господом в храме и слова Симеона и Анны; и с другой стороны, там, где Лука опустил повествование об отправлении в Египет, о котором рассказывает Матфей, он ввел как будто непосредственно бывшее затем возвращение в Назарет.
17.
Но если бы кто–либо захотел составить в целом виде одно повествование из всего того, что рассказывается или пропускается в обоих повествованиях тем и другим о рождестве Христа, Его младенчестве и детстве, тот мог бы это сделать приблизительно так: «Рождество Христово произошло при следующих обстоятельствах: в дни Ирода, царя Иудейского, жил некий священник по имени Захария, из рода Авии, а жена у него была из дочерей Аароновых и звали ее Елисавета. И были они праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и оправданиям Господа без уклонений. И не было у них сына, ибо Елисавета была бесплодна, и оба они были преклонны в днях своих. Однажды случилось так, что когда он отправлял священнослужение перед Богом в порядке своей очереди (ибо ему выпал жребий, согласно с обычаями священнослужения, совершить служение в храме Господнем), народ же совершал молитвы вне храма, явился ему Ангел Господень, стоящий по правую сторону кадильного жертвенника; Захария, увидев его, был смущен и страх напал на него. Но Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и твоя жена Елисавета родит тебе сына, которого ты назовешь Иоанн, и он будет тебе радостью и весельем и многие рождением его возвеселятся, ибо он будет велик перед Господом: и не будет он пить вина, и еще от чрева матери исполнится Духом Божьим; многих сынов Израилевых обратит он к Господу Богу, и сам будет предшествовать Ему в духе и силе Илии, так что обратит сердца отцов к детям и неверующих к благоразумию праведников, чтобы приготовить Господу народ совершенный». И сказал Захария Ангелу: «Откуда я это узнаю; ведь я стар и жена моя престарелая?» И Ангел в ответ сказал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и посланный говорить с тобою и благовестить тебе это; ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, пока это не сбудется, потому что ты не поверил словам моим, которые исполнятся в свое время». Народ же все это время находился в ожидании Захарии и все удивлялись, что он медлит и не выходит из храма. Но, выйдя оттуда, он не мог говорить, и все поняли, что он имел видение. А он давал знаки руками и оставался немым. Когда же окончились дни служения его, он ушел в дом свой. После этого зачала Елисавета, жена его, и скрывала это пять месяцев.
На шестой же месяц послан был от Бога Ангел Гавриил в город Галилеи Назарет к Деве, обрученной мужу по имени Иосиф, из дома Давидова; а имя Девы — Мария. И, явившись к Ней, Ангел сказал: «Радуйся, исполненная благодати; Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Когда Она увидела Ангела, то была смущена словами его и подумала: «Каково же будет это приветствие?» И Ангел сказал Ей: «Не бойся, Мария; Ты обрела благодать у Бога; вот Ты зачнешь во чреве и родишь Сына и назовешь Его Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и будет Он царствовать в доме Иакова на веки, и царству Его не будет конца». Но Мария сказала Ангелу: «Как это будет, ведь я не знаю мужа?» И Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя; посему и имеющее родиться Святое назовется Сыном Божьим. Вот и родственница Твоя Елисавета, и она зачала сына в старости своей, и сей месяц у нее, называемой неплодною, уже шестой, ибо у Бога не невозможно никакое слово». Мария же сказала: «Вот я, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И Ангел отошел от Нее.
Мария же, быстро собравшись, отправилась в город Иуды, вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И случилось так, что когда Елисавета услышала приветствие Марии, возрадовалось дитя в чреве ее, и Елисавета исполнилась Духа Святого и громким голосом сказала: «Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего. И откуда это мне, что ко мне пришла Матерь Господа моего. Ибо как только был услышан голос приветствия Твоего моими ушами, взыгрался радостно младенец в моем чреве, и блаженна Ты, уверовавшая, потому что совершится сказанное Тебе Господом»; и сказала Мария: «Величает душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. Ибо Он внял смирению рабы Своей, и вот с этого времени Меня будут называть блаженною все народы. Ибо Он, Могущественный, сотворил Мне великое, и имя Его свято, и к боящимся милосердие Его из поколения в поколение. Он сотворил могущество в руке Своей, и рассеял гордых в мысли сердца их. Он низложил могущественных с престола и вознес смиренных. Алчущих Он наполнил благами, и богатых отпустил с пустыми руками. Он принял Израиля, отрока Своего, вспомнил о милосердии Своем; именно так, как говорил отцам нашим, Аврааму и его потомству до века».
Мария оставалась с нею около трех месяцев; когда же возвратилась домой, то оказалась имеющею во чреве от Духа Святого. А Иосиф, муж Ее, так как был праведным и не хотел выдать Ее, то пожелал отпустить Ее тайно. Но когда он думал об этом, то явился ему во сне Ангел Господень со словами: «Иосиф, сын Давида! Не бойся принять Марии, жены своей, потому что Рожденное в Ней — от Духа Святого. А родит Она Сына, и ты назовешь Его Иисус, ибо Он спасет народ Свой от грехов их». И было все это так, что исполнилось сказанное Богом через пророка, который говорит: «Вот Дева будет иметь во чреве и родит сына, и назовется Он именем «Эммануил», что значит: «С нами Бог». И Иосиф, восстав ото сна, сделал так, как повелел ему Ангел Господень, и принял Жену свою, и не знал Ее.
Когда Елисавете пришло время родить, она родила сына. И услышали соседи ее и близкие ее, что Господь возвеличил милосердие Свое над нею и приветствовали ее. И было так, что в день восьмой собрались обрезать младенца и хотели назвать его в честь отца Захарией. А матерь его, напротив, говорила: «Нет, назовем его Иоанном». Ей возражали: «В роде твоем нет никого, кто назывался бы этим именем», и знаками спрашивали отца его, каким именем желал бы он назвать сына. Он же, попросив дощечку, написал: «Иоанн». Тогда же открылись уста его и развязался язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх над всеми соседями их, и по всей нагорной части Иудеи распространилась молва об этом. И все, слышавшие об этом, вопрошали: «Что же это будет за дитя?» Ибо рука Господня была на нем. А Захария, отец его, исполнился Духа Святого и пророчествовал, говоря так: «Благословен Господь Бог Израилев, что Он посетил и совершил избавление народа Своего, и воздвиг нам рог спасения в доме Давида, отрока Своего, как говорил устами бывших от века пророков Своих, — спасение от врагов наших и от руки всех, ненавидящих нас, чтобы оказать милосердие отцам нашим и вспомянуть завет Свой снятый, клятву, которую Он дал отцу нашему Аврааму, что Он даст нам, чтобы мы, освобожденные от руки врагов наших, безбоязненно служили Ему в святости и праведности пред лицом Его во все дни наши. И ты, дитя, назовешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа — уготовлять пути Его для того, чтобы дать познание о спасении народу Его, для отпущения грехов их». Младенец же рос и укреплялся духом, и был в пустыне до дня появления своего в Израиле. Случилось же в те дни, что кесарь Август повелел провести перепись всех народов. И пошли все, чтобы каждому явиться в своем городе. Вышел и Иосиф из Назарета Галилейского в Иудею, в город Давидов, называющийся Вифлеем, потому что он был из дома и семейства Давидова, с обрученною ему в жены Мариею, чтобы явиться к переписи. И было так, что когда они пришли туда, то исполнилось время Ей родить, и Она родила Сына Своего Первородного, запеленала и положила Его в яслях, потому что для них не было места в гостинице. И были в том месте пастухи, не спавшие и проводившие ночную стражу над своим стадом; и вот вблизи их стал Ангел Господень, и сияние Божие окружило их, и они почувствовали великий страх. И сказал им Ангел: «Не бойтесь! Вот я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, потому что ныне родился вам Спаситель, Который есть Владыка Христос из рода Давидова. И вот вам знак: вы найдете младенца, повитого пеленами и лежащего в яслях». И внезапно с Ангелом явилось воинство небесное, которое прославляло Бога и говорило: «Слава в вышних Богу, и на земле мир людям доброй воли». И было так, что когда Ангелы отошли на небо, пастухи стали говорить один другому: «Пойдем в Вифлеем и увидим совершившееся». И они пошли и разыскали Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях; и из слова, которое было сказано им об этом Младенце, они Его узнали. Все, кто слышали это, удивлялись. А Мария сохранила все слова сии, собирая их в сердце Своем. Пастухи же возвратились назад, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. И после того, как исполнились дни, чтобы обрезать Младенца, дано Ему было имя «Иисус», предвозвещенное Ангелом прежде, чем Он был зачат во чреве.
И вот с востока пришли волхвы в Иерусалим, вопрошая: «Где Царь Иудейский, Который родился? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Царь Ирод, услышав это, смутился, и весь Иерусалим с ним. И созвал он всех главных священников и книжников и спрашивал у них, где должен родиться Христос. А они сказали ему: «В Вифлееме Иудином, ибо так написано пророком: «И ты, Вифлеем, земля Иуды, нисколько не меньшая в числе владений Иуды; ибо из тебя выйдет Вождь, Который будет управлять народом Моим Израилем». Тогда Ирод тайно призвал волхвов и тщательно разузнал у них время появления звезды. И, отправляя их в Вифлеем, сказал: «Идите и тщательно расспросите о Младенце, и когда найдете, то сообщите мне. чтобы и я мог поклониться Ему». Волхвы, выслушав царя, отправились в путь, а звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, пока не остановилась над тем местом, где был Младенец. И видя эту звезду, они возрадовались великой радостью; войдя же в дом, нашли Младенца с Мариею, Матерью Его, и пав ниц, поклонились Ему; затем, открыв свои сокровищницы, поднесли Ему подарки: золото, ладан и мирру. После этого, получив указание во сне не возвращаться к Ироду, они другим путем ушли в страну свою.
После исполнения дней очищения Марии по закону Моисееву, Иисуса принесли в Иерусалим, чтобы поставить Его перед Господом, как написано в законе Господнем, что всякий мальчик, разверзающий ложесна, назовется святым перед Господом, и чтобы за него принесли жертву соответственно предписанному в законе Господа: двух горлиц или двух голубиных птенцов. Жил в Иерусалиме некто по имени Симеон, человек праведный и богобоязненный, ожидавший утешения Израиля, и Дух Святой был в нем; он получил извещение от Духа Святого, что не умрет, прежде чем не увидит Помазанника Господня; и вот он силою Духа пришел в Храм. И когда родители младенца Иисуса внесли Его в храм, чтобы исполнить относительно Его должное по закону, то Симеон взял Его в объятия свои, благословил Бога и сказал: «Господи! Ныне Ты отпускаешь раба Своего в мир, потому что очи мои видели спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов: свет для откровения язычникам и славу народа Своего Израиля». А отец Его и Матерь были в изумлении от того, что говорилось о Нем. И Симеон благословил их и сказал Марии, Матери Его: «Вот Он предназначен на падение и восстановление многих среди Израиля, и в признак, которому будут противоречить. И у тебя самой душу пронзит меч, так что во многих сердцах явится раздумье». И была еще Анна пророчица, дочь Фануила из племени Азер. Она прожила многие дни: и с мужем своим прожила семь лет от девства своего, и как вдова около восьмидесяти четырех лет; она не отходила от храма, в постах и молитвах служа день и ночь. И она, в тот час приблизившись, исповедала Господа и говорила о Нем всем, которые в Иерусалиме ожидали избавления.
И вот, когда они совершали все по закону Господню, явился Ангел Господень Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, пока я не скажу тебе, потому что Ирод будет искать Младенца, чтобы погубить Его». И встал Иосиф, взял Младенца и Матерь Его и ночью ушел в Египет. И был он там до кончины Ирода, так что исполнилось сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта Я призвал сына Своего». Ирод же, видя, что он был обманут волхвами, сильно разгневался и послал избить всех младенцев, которые были в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и меньше, т. е. соответственно времени, которое он узнал от волхвов. Тогда исполнилось то, что было сказано в словах пророка Иеремии: «В Раме слышен был голос, плач и рыдания великие: Рахиль, плачущая о детях своих и не хотящая утешиться, потому что их нет». А после смерти Ирода Ангел Господень снова явился во сне Иосифу, говоря: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, потому что умерли искавшие душу Младенца». И тот взял Младенца и Матерь Его и пошел в землю Израилеву. Но слыша, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, побоялся идти туда и, получив уведомление во сне, пошел в Галилею и остановился в городе Назарет, так что исполнилось сказанное через пророков, что Он назовется Назарянином.
Меж тем Младенец, исполненный премудрости, рос и мужал, и благодать Божия была в Нем. И родители Его ежегодно ходили в Иерусалим в дни праздника Пасхи; а когда Он был двенадцати лет, и когда, как обычно, они в дни праздника пошли в Иерусалим, а затем после окончания его возвращались обратно, отрок Иисус остался в Иерусалиме, а родители Его не знали об этом. Предполагая, что он находится среди спутников, провели они день в пути и лишь потом стали искать Его среди родных и знакомых, и не найдя, возвратились в Иерусалим. И было так, что спустя три дня нашли Его в храме сидящим среди учителей, слушающим и спрашивающим их. И все, слышавшие Его, изумлялись Его благоразумию и Его ответам. И Матерь Его сказала: «Сын мой! Что ты сделал с нами? Вот отец Твой и я с горестью искали Тебя». И Он сказал им: «Зачем вы искали Меня? Разве вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». Но они не поняли, что Он им сказал. И ушел Он с ними и прибыл в Назарет, и был у них в повиновении. И Матерь Его сохранила все слова сии в сердце Своем. А Иисус преуспевал в премудрости, возрастал и был в любви у Бога и людей».
18.
С этого момента начинается повествование о проповеди Иоанна, о которой говорят все четверо. Ибо и Матфей после слов, которые я привел выше, а именно тех, в которых он приводит свидетельство из пророка: «Он Назареем наречется», говорит: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской» (Мф. 3.1). А Марк, который ничего не повествовал о рождении, детстве и отрочестве Господа, с этой проповеди начинает благовестие, ибо у него такое вступление: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот, Я посылаю Ангела Моего пред Лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов» (Мк. 1.1–4). Также и Лука после слов: «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков», переходит к проповеди Иоанна: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» (Лк. 3.1,2). А Иоанн, возвышеннейший из четырех евангелистов, сказав о Слове Божьем, Которое есть также и Сын прежде всех веков творения, потому что все сотворено через Него, сообщает о проповедании и свидетельстве Иоанна, говоря: «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн» (Ин. 1.6).
Из этого видно, что повествования четырех евангелистов об Иоанне Крестителе ни в чем не противоречат друг другу: не таковы они, чтобы мы должны были подробно все исследовать и задавать вопросы, как мы только что сделали это, говоря о рождении Христа от Марии и о том, как соглашаются между собою Матфей и Лука, так что мы из повествования того и другого составили одно, показав для наименее понятливых, что каждый из них, упоминая о том, о чем другой умалчивает, или умалчивая о том, о чем другой упоминает, не препятствует надлежащему пониманию повествования другого, чтобы по этому образцу, — или так, как сделал я, или как–либо иначе, каждый видел, что и в прочих местах можно сделать так, как сделано здесь.
19.
Итак, как я уже сказал, мы видим согласие четырех благовестников об Иоанне Крестителе. Матфей говорит: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Марк не говорит: «В те дни», так как он не предпослал никакого рода событий, из которых было бы ясно, о каких днях он говорит, если бы он сказал: «В те дни». А Лука, перечислив земные власти более ясно указал на время проповеди или крещения Иоанна, говоря так: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне».
Нам, однако, не следует думать, будто Матфей обозначает только это время, т. е. время этих правителей, когда говорит: «В те дни»; он, конечно же, подразумевал гораздо больший отрезок времени. Действительно, как только Матфей рассказал о возвращении Христа из Египта по смерти Ирода, — что случилось в дни Его детства или отрочества, как это можно понять из того, что Лука сообщил о том, что Он сделал в храме Иерусалимском когда Ему было двенадцать лет, — Матфей, сказав о возвращении из Египта, вслед за тем говорит: «В те дни приходит Иоанн Креститель», имея в виду не только дни Его детства, но и все дни от Его рождения до того времени, когда начал проповедовать и крестить Иоанн и когда Христос был уже юношей, потому что Он и Иоанн были сверстниками, и повествуя о том, что Ему было почти тридцать лет, когда был Он крещен Иоанном.
20.
Конечно, иных может смутить то повествование Луки об Ироде, когда он упоминает о том, что в дни крещения Иоанна Ирод был четвертовластником Галилеи, т. е. в то время, когда и Господь был крещен; а Матфей говорит, что отрок Иисус возвратился из Египта уже после смерти Ирода. То и другое может быть истинным только в том случае, если существовало два Ирода. И хотя всякому очевидно, что это вполне могло быть, однако какое–то ослепление заставляет безумствовать тех, которые более склонны к злословию евангельской истины, чем к малому размышлению, чтобы уразуметь, что здесь одним именем названо два человека. Примеров этому мы встречаем предостаточно. Ведь этот последний Ирод признается сыном первого, также как и Архелай, которого Матфей называет наследником царства в Иудее после смерти отца; также как и Филипп, которого Лука называет братом четвертовластника Ирода и в то же время — четвертовластником Итуреи; а тот Ирод, который искал души младенца Христа, был царем; второй же Ирод, его сын, назван не царем, а четвертовластником (тетрархом), каковым словом обозначается поставленный над четвертой частью царства.
21.
Далее, возможно кто–либо спросит: «Когда Матфей говорит, что Иосиф боялся возвращаться в Иудею из–за того, что там царствовал Архелай, сын Ирода, то почему он позже не испугался идти в Галилею, где, по свидетельству Луки, был четвертовластником другой его сын — Ирод?» Но времена тогда уже были другие: когда Иосиф решился вернуться в Галилею, ни Архелай уже не был реальным властителем, ни Ирод, но Понтий Пилат, бывший не царем иудеев, но наместником Рима; при кесаре Тиверие сыновья старшего Ирода имели не царскую власть, но четвертовластие.
22.
Может возникнуть и такой вопрос: «Каким образом Матфей говорит, что с отроком Иисусом родители Его пошли в Галилею потому, что не хотели идти в Иудею из–за боязни Архелая, хотя кажется, что они пошли в Галилею скорее потому, что в Галилее был их город Назарет, о чем не умолчал Лука». Но следует иметь в виду, что когда Ангел во сне сказал Иосифу в Египте: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву», Иосифом первоначально это было понято так, что ему будто бы ведено отправиться в Иудею — ведь она первоначально могла быть понята им как земля Израилева; но затем, когда он узнал, что там царствует сын Ирода Архелай, он не захотел подвергаться лишней опасности, хотя под землею Израилевою тогда можно было подразумевать и Галилею, потому что и ее населял народ израильский. Впрочем, этот вопрос может быть разрешен и другим способом, а именно: что родителям Христа могло показаться, что с таким Отроком, о Котором они получили такие ангельские указания, необходимо было жить только в Иерусалиме, где был храм Господа, и потому, возвращаясь из Египта, они и хотели бы идти туда и жить там, если бы только не страшились присутствия Архелая.
23.
Может быть кто–нибудь скажет и следующее: «Как же так, ведь по рассказу Луки родители Его во все годы детства Христа ходили в Иерусалим. Зачем же тогда говорить о страхе перед Архелаем?» Разрешить этот вопрос для меня не представляет труда, хотя ни один из евангелистов и не сказал определенно, как долго царствовал Архелай. В самом деле, ведь могло быть так, что они среди огромной толпы в день праздника тайно ходили в Иерусалим, чтобы затем быстро возвратиться обратно, поскольку боялись жить там в другое время; таким образом, они и жизнь вели благоговейную, не выказывая небрежения к великому празднику, и не подвергали Отрока излишним опасностям. Но так как и о продолжительности царствования Архелая все молчат, то вполне возможно, что слова Луки об их ежегодном паломничестве в Иерусалим относятся к тому времени, когда Архелай был им уже не опасен. Если же в каком–либо повествовании говорится, что царствование Архелая было достаточно продолжительным, то сомневаться в этом нет никакой причины. То, что я сказал выше, достаточно показывает, что родители Отрока так боялись жить в Иерусалиме, что только по страху Божию не пропускали торжественного празднества, во время которого весьма легко могли скрыться; подобное случается довольно часто, когда выбрав удобное время люди приближаются к таким местам, в которых жить страшатся.
24.
Отсюда разрешается и такой вопрос: «Когда Ирод старший, пораженный известием волхвов, был озабочен тем, что родился царь Иудейский, каким образом могли они по окончании дней очищения Матери Его безопасно идти с Ним в храм, чтобы совершить над Ним по Закону Господню то, о чем повествует Лука?» Действительно, что удивительного в том, что в течение одного дня Он мог скрыться от царя, занятого многими другими делами? А если это кажется неправдоподобным, поскольку сильно озабоченный Ирод ожидал, что сообщат ему волхвы относительно Дитяти, то, очевидно, Ирод заметил обман так много дней спустя, что только по окончании дней очищения Матери Его и после совершения над Дитятею в храме Иерусалимском обряда первородных, и даже после отшествия их в Египет ему пришло на ум искать души Дитяти и избить столь многих детей; так что если и это возбуждает сомнение, то я не стану говорить, сколькими заботами могло быть занято царское внимание в течение многих дней, отвлекая его от этого намерения или препятствуя исполнению его. Ведь невозможно даже перечислить всех причин, по которым это могло произойти. А что таковых могло быть весьма много, да к тому же и важных, — то кто окажется столь неопытным в человеческих делах, чтобы это отрицать или в этом сомневаться? Действительно, кому не ясно, как много могло быть сообщено царю других более страшных — истинных или ложных — известий, так что он, боявшийся, как бы царственное Дитя не обратилось против него или его детей, побуждаемый опасениями против других более близких родственников, занял свои мысли, отвлеченные от той заботы, принятием мер предосторожности в делах более близких. Итак, оставив это предположение, скажу следующее. После того, как волхвы ничего не сообщили Ироду, он мог подумать, что они были обмануты ложным видением звезды, и поскольку не нашли Того, Кого считали родившимся, то стыдились возвратиться к нему. Такое предположение вполне могло успокоить его и отвлечь от поисков и преследований Отрока. Когда же после очищения Матери Его родители пришли с Ним в Иерусалим и совершилось в храме то, о чем повествует Лука, слова пророчествовавших о Нем Симеона и Анны стали распространяться и достигли слуха Ирода, вернув его к прежнему намерению. Тогда–то Иосиф по откровению во сне с Младенцем и Матерью Его бежал в Египет. Ирод же, увидев, что он осмеян волхвами и желая осуществить намерение умертвить Христа, убил, как повествует Матфей, многих младенцев.
25.
Матфей об Иоанне говорит так: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мф. 3.1–3). Марк и Лука тоже согласны с тем, что это свидетельство Исаии говорит об Иоанне. Ибо и многие следующие слова из того же пророка упоминает Лука, когда повествует об Иоанне Крестителе. А евангелист Иоанн показывает, что Иоанн Креститель о самом себе привел то же самое свидетельство пророка Исаии (Ин. 1.23), так же, как и Матфей привел некоторые слова Иоанна, которых другие не привели: «Покайтесь, –говорит, –ибо приблизилось Царство Небесное»; эти слова Иоанна другие евангелисты пропустили.
Но уже то, что следует у Матфея дальше: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему», сказано им двусмысленно, ибо трудно понять, сказал ли это Матфей от своего лица, или же он, следуя словам Иоанна, присоединил и это, чтобы показать, что все это сказал Иоанн. Нас не должно приводить в смущение то обстоятельство, что он не говорит: «Ибо я тот, о котором сказал пророк Исаия», но говорит: «Ибо он тот». Действительно, такой оборот речи является обычным у Матфея и Иоанна, ибо тот же Матфей говорит: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин» (Мф. 9. 9), а не: «Увидел меня». Также и Иоанн говорит о себе: «Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его» (Ин. 21. 24); он не сказал: «Это я» и: «Истинно свидетельство мое». Сам же Господь весьма часто говорит: «Сын Человеческий» или: «Сын Божий», а не говорит: «Я».
Итак, и Иоанн Креститель, когда сказал: «Ибо он тот», вполне мог иметь в виду именно себя. А коли так, то неудивительно, что на вопрос о том, кто он, — как сообщает евангелист Иоанн, — он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне» (Ин. 1.23), т. е. ответил так, как говорил и раньше, призывая совершать покаяние. А об одежде его и образе жизни Матфей продолжает повествовать так: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мед». Это же говорит и Марк почти в тех же выражениях. А прочие два евангелиста об этом умалчивают.
26.
Матфей же продолжает так: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму; уже и секира при корне деревьев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь; я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3.5–12).
Все это говорит и Лука, почти повторяя те же слова Иоанна; там же, где у него есть некоторое различие в словах, все–таки не уклоняется от того же смысла. Матфей говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние», а этот вставляет вопрос собравшихся о том, что им делать, и ответ Иоанна о добрых делах, как о плодах покаяния, — что пропустил Матфей; затем, так как они в своих сердцах раздумывали, не есть ли он Христос, то, согласно Матфею, Иоанн отвечал: «Идущий за мною сильнее меня», а Лука говорит: «Но идет Сильнейший меня». Далее, Матфей: «Я не достоин понести обувь Его», а Лука: «У Которого я не достоин развязать ремень обуви». Об этом говорит и Марк, хотя об остальном умалчивает, ибо после упоминания об одежде его и образе жизни он продолжает: «И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1.7,8). К этим трем присоединяется и евангелист Иоанн, когда говорит: «Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня» (Ин. 1. 15). Таким образом он показал, что Иоанн Креститель сказал это тогда, когда и по словам других он говорил то же самое; но он повторил и напомнил сказанное, когда говорит: «Сей был Тот, о Котором я сказал…», и т. д.
27.
Итак, если спросят, какие именно слова сказал Иоанн Креститель: те ли, которые вкладывает в его уста Матфей, или те, которые приводит Лука, или же те, которые приписал ему Марк, умалчивая об остальном, то тот, кто благоразумно представляет себе дело так, что только мысли необходимы для познания истины, в каких бы словах они ни были выражены, — тот никоим образом не сочтет необходимым ломать себе голову подобными вопросами. Конечно, нет противоречия в том, что тот или другой держится своего, присущего ему одному стилю и способу выражения. Нет также противоречия и в том, когда один говорит о том, что другой пропускает. В самом деле, как кто запомнил, или как кому было по душе изложить — короче или пространнее, но, безусловно, одну и ту же мысль, — так тот и излагал.
28.
И этим достаточно объясняется то, что главным образом и относится к делу, а именно: что истина Евангелия получила высшую степень обязательности, хотя слово Божие, остающееся неизменным и вечным выше всякого творения, и преподается твари временными знаками и языками человеческими; и мы не должны думать, что тот или другой лжет, если одно и то же обстоятельство принимают многие, которые его видели или о нем слышали; или когда меняется расположение слов или одни слова произносятся вместо других, но при этом слова, равносильные по значению; или если что–либо сказано в меньшем объеме, — или потому, что вовремя не припомнилось рассказчику, или потому, что оно может быть понято из других слов; или же если ради повествования о другом, о чем кто–либо решил сказать более, он решает не делать полного изложения, а только отчасти касаться чего–либо, чтобы ему достаточно было соответствующего времени; или если тот, кому предоставлена полная возможность прибавлять нечто для освещения и разъяснения мысли, прибавляет только новые слова, а не новые события; или если кто–либо, прекрасно удерживая в памяти событие, не будет в силах, — хотя и будет стараться, — по памяти точно привести те слова, которые он слышал.
Но несомненно кто–нибудь думает, что силою Духа Святого евангелистам должно было быть дано такое свойство, чтобы они были единогласны во всем: и в словах, и в их расположении, и в их количестве; такой не понимает, что чем более возвышается над другими важное значение евангелистов, тем более через них должно утвердиться спокойствие других людей, говорящих истину, так что когда многие повествуют об одном и том же обстоятельстве, то никто из них пусть никоим образом не изобличается во лжи, если он от другого отличается только так, что может защищаться предшествующим примером евангелистов. Ведь, в самом деле, так как невозможно ни подумать, ни сказать, чтобы кто–либо из евангелистов был лжецом, то ясно, что не лжет и тот, кто, вспоминая те или иные события, допустит нечто такое, что, как оказывается, случилось и с ними. И чем более добрым людям свойственно остерегаться лжи, тем более мы должны руководиться столь высоким значением их, чтобы не усматривать лжи в том случае, когда находим, что повествования некоторых различаются между собою лишь настолько, насколько различаются между собою повествования евангелистов. И вместе с тем нам становится понятным, что нужно искать истину не столько в словах и оборотах речи, сколько в передаче событий, когда мы видим, что в той же истине твердо стояли те, кто, не используя одни и тем же способы речи, отнюдь не противоречили друг другу в отношении мыслей и обстоятельств.
29.
Итак, что должно считаться противоречивым в том, что я привел из повествований евангелистов? Может быть то, что один сказал: «Я не достоин понести обувь Его», а другие: «Я не достоин развязать ремень обуви Его»? Кажется, что выражения «понести обувь» и «развязать ремень обуви» суть не одно и то же не только в смысле звучания слов, их расположения или по некоторому способу выражения, но и по самому предмету. Поэтому нужно разобраться, для чего Иоанн считает себя недостойным: носить ли обувь, или развязывать ремень обуви? Ибо если бы он сказал что–то одно, то тот, кто сообщил сказанное дословно, сообщил истину, а тот, кто исказил речь Иоанна, тот хотя и не солгал, однако или подзабыл, или напутал.
Но не следует усматривать у евангелистов никакой неправды, ни той, которая происходит от лжи, ни той, которая есть следствие забывчивости. Таким образом, если вопрос идет о смысле слов, то что еще мы можем предположить как не то, что Иоанн сказал и то и другое или в разное время, или даже в одной фразе? Действительно, он мог сказать: «У Которого я не достоин ни развязывать ремень обуви, ни понести ее», так что один из евангелистов из этого сообщил одно, а другие — другое; однако все сказали истину; если же Иоанн, когда говорил об обуви Господа, имел в виду только Его несравненное превосходство и свое смирение, то какие бы из этих слов он ни сказал — о развязывании ли, или о ношении, все–таки каждый твердо удерживал одну и ту же мысль, когда выражал через упоминание об обуви именно это смирение, а потому и не уклонился от исходного намерения.
Итак, когда мы говорим о сходстве между евангелистами, то самое важное — это понимать, что нет лжи в том случае, когда кто–нибудь, передавая несколько иными словами то, что говорил тот, о котором он повествует, тем не менее выражает то желание, которое хотел выразить и тот, чьи слова он приводит. Действительно, таким образом мы спасительно учимся тому, что искать нужно только тот смысл, который хотел передать говоривший.
30.
Затем Матфей продолжает так: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну — креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Мф. 3.13–15). И остальные свидетельствуют, что Иисус приходил к Иоанну. Но о крещении свидетельствуют трое; впрочем, они умалчивают о словах, сказанных Господу Иоанном, и об ответе Господа Иоанну, которые привел Матфей.
31.
Потом Матфей говорит: «И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Об этом подобным же образом повествуют и два другие: Марк и Лука; но относительно слов голоса, бывшего с неба, изменяют выражения, хотя мысль остается неприкосновенной. Действительно, фразу, приведенную Матфеем: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» другие два передают словами: «Ты Сын Мой Возлюбленный»; но ведь и первое выражение, и второе — служат для разъяснения одной и той же мысли, как мы об этом уже рассудили выше. В самом деле, голос с неба произнес какое–либо одно из этих выражений; но евангелист хотел показать, что слова: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» предназначены для того, чтобы лучше показать слышащим, что Он есть Сын Божий, и притом хотел бы представить, будто сказано: «Ты Сын Мой Возлюбленный», даже если бы было сказано: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный». Ведь здесь не Христу показывается то, что Ему и так было известно; но слушали это те, которые приходили, ради которых и был самый голос.
А относительно того, что один говорит: «В Котором Мое благоволение», другой же: «В Тебе Мое благоволение», то разве не очевидно, что этими словами была сообщена одна и та же мысль? Это различие в словах полезно тем, что выраженное однообразно как правило менее понятно и чаще перетолковывается так и сяк, причем при этом часто искажается существо дела. Действительно, тот, кто захочет понимать слова: «В Котором Мое благоволение» так, что Бог в Сыне имеет Свое благоволение, тот убеждается в этом из слов: «В Тебе Мое благоволение». Из сказанного ясно, что каждый из евангелистов и запомнил слова голоса небесного, и для разъяснения той же самой мысли более свободно изменил эти слова; так что нужно понимать, что здесь сказано всеми как бы так: «Я утвердил в Тебе Мое благоволение», т. е. чрез Тебя благоволил исполнить то, что Мне благоугодно. А то, что по Евангелию Луки имеют некоторые собрания св. Книг, — то напоминает значение слов, содержащихся в псалме: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2.7); хотя этого и не находится в древнейших греческих собраниях св. Книг, однако если бы оно могло быть подтверждено некоторыми достойными доверия списками, то как иначе должно быть понято, как не в том смысле, что то и другое было слышно с неба в каком–либо сочетании слов.
32.
У Иоанна не повествуется, когда было то, что говорится о голубе; но приводятся слова Иоанна, припоминающего, что он видел. При этом спрашивается, каким образом сказано: «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1.33). Действительно, если он тогда познал Его, когда увидел голубя, сходящего на Него, то каким образом он сказал приходящему, чтобы креститься: «Мне надобно креститься от Тебя»; ведь это он сказал прежде, чем сошел голубь. Из этого ясно, что хотя он знал Его (ибо еще во чреве матери возрадовался, когда Мария прибыла к Елисавете), однако о том, чего он еще не знал, он узнал только через сошествие голубя, — именно то, что Он будет крестить некоторым собственным божественным могуществом в Духе Святом, так что никакой человек, принявший крещение от Бога, хотя бы и крестил кого–либо, не мог бы сказать, что ему принадлежит то, что он сообщает, или то, что Дух Святый подается от него.
33.
Далее Матфей говорит: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божиих», и так далее до слов: «Тогда оставляет Его диавол, — и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4.1–12). Все это подобным же образом повествует и Лука, хотя и не в том порядке. Поэтому неизвестно, что было прежде: показаны ли были Ему сначала царства земные, а потом Он был вознесен на крыло храма; или же это прежде, а то — после. Однако, пока очевидно, что все это было, не возникает вопроса по существу; а то, что Лука иными словами выражает те же самые мысли, не всегда на это следует обращать внимание, коль скоро истине не наносится никакого ущерба. А Марк свидетельствует, что Он был искушаем от дьявола сорок дней и сорок ночей; но он умалчивает, что было сказано Ему и что Он отвечал. С другой стороны, он не умолчал о том, что Ангелы служили Ему, о чем ничего не сказал Лука (Лк. 4. 1– 13; Мк. 1, 12, 13). А Иоанн пропустил все это место.
34.
Повествование Матфей продолжает так: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею»; об этом же говорят Марк и Лука (Мф. 4.12; Мк. 1.14; Лк. 4.14); Лука, впрочем, в этом месте ничего не говорит об аресте Иоанна. А евангелист Иоанн пишет, что прежде чем Иисус пошел в Галилею, к Нему присоединились Петр и Андрей; что тогда было дано Петру его новое имя, так как прежде его звали Симон; что на следующий день, когда Он уже хотел идти в Галилею, Он нашел Филиппа и сказал ему, чтобы тот следовал за Ним. Затем Иоанн переходит к повествованию о Нафанаиле и о том, как на третий день, остановившись в Галилее, Иисус сотворил известное чудо превращения воды в вино (Ин. 1.39–2.11). Прочие евангелисты все это пропустили, сразу повествуя о возвращении Иисуса в Галилею; отсюда понятно, что Иоанном вставлено несколько дней, о которых умолчали остальные. Но это отнюдь не противоречит тому месту, в котором Матфей повествует о словах Господа Петру: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16.18). Однако, Симон скорее всего получил новое имя тогда, когда, по словам Иоанна, было сказано ему: «Ты наречешься Кифа, что значит «камень» (Петр)» (Ин. 1.42), так что говоря после: «Ты — Петр», Господь называет его этим именем снова, ибо Он не сказал: «Ты будешь называться Петром», но: «Ты — Петр», потому что ему уже прежде было сказано: «Ты наречешься».
35.
Затем Матфей говорит: «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском», и т. д. вплоть до Нагорной проповеди. В той же последовательности повествует и Марк. Но в то время как Матфей непосредственно переходит к той пространной речи, которую Он произнес на горе, Марк говорит о другом, а именно о том, что Он учил в синагоге и все изумлялись учению Его. Он также сказал (о чем упомянул и Матфей после Его прекрасной речи), что «Он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Рассказал также и о человеке, из которого был изгнан нечистый дух, а затем и о теще Петра. А в этом с ним согласен Лука (Мф. 4.13; 7.29; Мк. 1.16–31; Лк. 4.31–39). Но Матфей ничего не сказал об этом бесноватом; о теще же Петра не умолчал, но только сказал об этом позже.
36.
Матфей, после рассказа о призвании учеников, которым во время рыбной ловли Он приказал следовать за Собою, говорит о том, что Он обходил Галилею, уча в синагогах, проповедуя Евангелие и исцеляя всякую немощь, а когда собрались к Нему толпы народа, Он взошел на гору и произнес обширную речь. Итак, отсюда понятно, что тогда и произошло то, о чем сообщает Марк после истории об избрании учеников, т. е. когда Он обходил Галилею и учил в синагогах; к тому же времени относится и история с тещей Петра.
37.
Конечно, может возникнуть вопрос: почему Иоанн говорит не «в Галилее», а «вблизи Иордана» за Господом последовал сперва Андрей с другим, имя которого не названо, а потом и Петр, получивший тогда же это имя, а затем призван был следовать за Ним и Филипп. Прочие же три евангелиста довольно согласно между собою говорят относительно призванных от рыбной ловли, а особенно Матфей и Марк, ибо Лука не называет Андрея, который, по словам Матфея и Марка, был на том корабле; они кратко сообщают о том, как было дело (подробнее всего говорит об этом Лука), упоминая и о чуде при ловле рыбы, и о том, что Господь начал еще прежде этого проповедовать толпе. В этом месте, как может показаться, Лука противоречит остальным, ибо говорит, что только Петру было сказано Господом: «Отныне будешь ловить человеков», в то время как те говорят, что это было сказано обоим братьям. Впрочем, это могло быть сказано прежде Петру, так как он удивлялся по поводу большого улова, на что указывает Лука, а после этого — обоим братьям, о чем упомянули два другие евангелиста.
Итак, нужно тщательно вникнуть в то, что мы сказали об Иоанне, ибо здесь может возникнуть немало недоумений в связи с тем, что его повествование весьма отличается от прочих как в отношении мест и времени, так и относительно самого призвания. Действительно, если вблизи Иордана, прежде чем Иисус пришел в Галилею, по свидетельству Иоанна Крестителя за Ним последовали двое, из которых один был Андрей, приведший к Иисусу затем и брата своего Симона, впоследствии названного Петром, то каким образом у других евангелистов говорится, что Он нашел их ловящими рыбу в Галилее и призвал к ученичеству (Мф. 4.13–23; Мк. 1.16–20; Лк. 5.1–11; Ин. 1.35–44)? Следует думать, что у Иордана они еще не безраздельно привязались к Господу, но только узнали кто Он и в изумлении возвратились к своим.
38.
Ведь тот же Иоанн говорит, что в Кане Галилейской, когда Он претворил воду в вино, уверовали в Него ученики Его. Об этом он повествует так: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак» (Ин. 2.1,2). Конечно, если они тогда уверовали в Него, как Иоанн говорит несколько позже, то они еще не были учениками Его, когда были приглашены на брак. Но это сказано в таком же смысле, в каком мы говорим, когда заявляем, что апостол Павел рожден в Тарсе Киликийском; ведь и он тогда еще не был апостолом. Поэтому, когда мы слышим, что ученики Христа были приглашены на брак, то должны понимать, что они еще не были тогда учениками, но только должны были ими стать; но, конечно, они уже были учениками Христа, когда обо всем этом было рассказано и написано. Поэтому повествователь и называет их учениками.
39.
Что же касается слов Иоанна: «После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; и там пробыли немного дней» (Ин. 2.12), то неизвестно, соединились ли уже с Ним Петр, Андрей и сыновья Зеведея. Ибо Матфей сначала сказал, что Он прибыл и жил в Капернауме, а потом, что Он призвал их с корабля во время ловли рыбы; а Иоанн говорит, что с Ним пришли в Капернаум ученики Его. Не восстановил ли здесь Матфей то, что ранее пропустил, ибо он не говорит: «После этого, ходя близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев», но: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев», и т. д.? Поэтому не исключено, что он нарушил последовательность в повествовании, чтобы вставить пропущенное им ранее; если так, то становится понятно, что, как сказал Иоанн, вместе с Ним прибыли в Капернаум и ученики Его. Были с Ним и другие ученики, так как за Ним уже следовал Филипп. В самом деле, в повествованиях евангелистов не показано, в каком порядке были призваны все двенадцать апостолов, потому что не упомянуты ни способ призвания, ни само призвание всех, но только призвание Филиппа, Петра, Андрея и сынов Зеведеевых, да сборщика податей Матфея, который назывался также Левий. Однако в отдельности получил от Него имя только Петр, потому что сынов Зеведея Он назвал не каждого в отдельности, но обоих вместе «Сынами грома».
40.
Необходимо также обратить внимание на то, что евангельские и апостольские писания называют учениками Его не одних только двенадцать, но и всех тех, которые, веруя в Него, приготовлялись Его учением к Царству Небесному. Из всех них Он избрал двенадцать, которых и назвал апостолами, как говорит Лука, ибо он немного после говорит: «И сошел с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа» (Лк. 6.13–17). Также и из других мест Писания очевидно явствует то, что учениками Его названы все, которые учились у Него тому, что касается вечной жизни.
41.
Но можно спросить, каким образом призвал Он сперва Петра и Андрея, а потом, немного пройдя вперед, двух сынов Зеведея, как повествуют Матфей и Марк; потому что Лука говорит, что обе их лодки были наполнены большим уловом рыбы, и называет помощниками Петра двух сынов Зеведея Иакова и Иоанна, которых позвали на помощь, ибо они не могли вытащить наполненных сетей и вместе с тем удивлялись такому большому количеству пойманной рыбы. Но все они, подогнав корабли к берегу, последовали за Ним. Из этого нужно понять, что первоначально произошло то, о чем сообщает Лука, и Господь призвал их не тогда, и только Петру было предсказано, что он будет ловить людей. И это сказано не в том смысле, что он никогда уже не будет ловить рыбу; ибо мы читаем, что и после воскресения Господа Его ученики занимались ловлей рыбы (Ин. 21.3). Итак, сказано, что с этого времени Петр будет ловить людей, но не сказано, что он уже больше не будет ловить рыбу. Из этого дается возможность понять, что они по привычке возвращались к ловле рыбы, так что то, о чем повествуют Матфей и Марк, произошло уже после, а именно то, что Он призвал их по два и Сам приказал им следовать за Собой: сначала Петру и Андрею, а потом двум сынам Зеведея. Тогда они и последовали за Ним; не после подведения кораблей к берегу, а после того, как Он призвал их и приказал следовать за Собою.
42.
Нужно рассмотреть также и то, каким образом евангелист Иоанн говорит, что Иисус пошел в Галилею прежде, чем Иоанн Креститель был заключен в темницу. Ведь после того, как он сообщил, что в Кане Галилейской Он претворил воду в вино и сошел в Капернаум с Матерью и учениками, где они оставались немного времени, он говорит, что Иисус пошел в Иерусалим к празднику Пасхи; после этого прибыли в землю Иудейскую также и ученики Его, и Он проводил там время и крестил; после этого Иоанн продолжает: «А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу» (Ин. 3.22–24); а Матфей говорит: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею» (Мф. 4.12). Подобным образом и Марк: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею» (Мк. 1.14). Лука, правда, ничего не говорит о предании Иоанна, но и он после повествования о крещении и искушении Христа говорит, как и те два, что Он пошел в Галилею. Ибо он так связывает свое повествование: «И окончив свое искушение, диавол отошел от Него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею» (Лк. 4.13,14). Из этого понятно, что эти три евангелиста не говорят противоположно Иоанну, но пропустили сначала о пришествии Господа в Галилею после того, как Он был крещен, когда Он там претворил воду в вино, ибо тогда еще не был предан Иоанн, но они включили в свои повествования тот приход в Галилею, который был после предания Иоанна; об этом Его приходе в Галилею евангелист Иоанн говорит так: «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, — хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, — то оставил Иудею и пошел опять в Галилею» (Ин. 4.1–3). Таким образом мы понимаем, что тогда Иоанн был уже предан; Иудеи же слышали, что Он приобретает учеников и крестит больше, чем крестил и приобретал учеников Иоанн.
43.
А теперь остановимся на той пространной речи, которую по Матфею Господь произнес на горе: не противоречат ли здесь ему прочие евангелисты? Действительно, Марк совершенно не упоминает о ней и не говорит ничего похожего на нее, кроме нескольких истин, которые Господь повторил в других местах, приводимых им не в связанной речи, а разбросанных по тексту. Однако он оставляет место по ходу своего повествования, из чего мы можем понять, что речь эта была произнесена, но Марком пропущена; он говорит: «И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». В этой проповеди, о которой Марк говорит, что Он произносил по всей Галилее, понятно, была сказана и та речь, которую Он произнес на горе, о чем сообщает Матфей; действительно, тот же Марк продолжает: «Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить» (Мк. 1.39,40); он сообщает об этом очищенном прокаженном так, что становится понятно: это тот самый человек, о котором говорит и Матфей, упоминая об очищенном тогда, когда Господь сошел с горы после произнесения своей речи; Матфей говорит так: «Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот, подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить» (Мф. 8.1,2).
44.
Об этом прокаженном упоминает и Лука (Лк. 5.12,13), и снова не соблюдая порядка во времени, но также припоминая пропущенное. Впрочем, тот же Лука и сам сообщил пространную речь Господа, в которой сделал такое же начало, что и Матфей, ибо Матфей пишет: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», а Лука: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Затем многое, что следует дальше, в повествовании Луки также подобно Матфеевому. А к концу речи он и заключение повторяет то же, а именно о человеке благоразумном, который созидает на камне, и неразумном, который созидает на песке, за исключением того, что не говорит, как Матфей, что на дом устремились «дождь и ветры», а только — «поток». Итак, понятно, что и он записал ту же самую речь Господа, но только пропустил некоторые наставления, которые предложил Матфей; но он представил другие, которых тот не сказал; а некоторые изложил не в тех же самых словах, но только сходными выражениями, сохраняя при этом истину в неприкосновенности.
45.
Как я уже сказал, все это просто понять, но смущает то обстоятельство, что Матфей говорит, будто бы эта речь была сказана Господом, сидящим на возвышенном месте. Лука же говорит, что стоящим на ровном месте. Таким образом, это несогласие показывает, что один видел одно, а другой — другое. Но что нам мешает предположить, что Христос в другом месте повторил нечто такое, что уже сказал прежде? Конечно, эти две речи, из которых одну привел Матфей, а другую — Лука, не отделяются продолжительным промежутком. Это потому, что и прежде нее, и после оба они сообщили нечто или сходное, или одно и то же, так что не является неразумным полагать, что их повествования, когда они делают такие вставки, касаются тех же мест и того же времени; в самом деле, Матфей так повествует об этом: «И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из–за Иордана. Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 4.25–7.29). Отсюда можно видеть, что Он хотел избежать многочисленной толпы и потому взошел на гору, как бы отдалившись от народа, чтобы говорить только Своим ученикам.
Об этом обстоятельстве, по–видимому, свидетельствует и Лука, повествуя так: «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами… И сошед с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возвел очи Свои на учеников Своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие» (Лк. 6.12–29). Отсюда можно понять, что на горе Он из многих избрал двенадцать, которых назвал Апостолами, (что пропустил Матфей); тогда же Он произнес речь, которую внес Матфей, а Лука не привел; тогда, то есть — на горе; а потом, когда сошел, то на ровном месте произнес другую, подобную, о которой Матфей умалчивает, а Лука — нет; но обе эти речи были закончены одинаковым образом.
46.
Что же касается слов Матфея о том, что было после окончания проповеди: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его», то они относятся к тем людям, из которых Он избрал двенадцать. А относительно следующих затем событий: «Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот, подошел прокаженный…», следует думать, что это было после той и другой речи, т. е. не только той, которую приводит Матфей, но и той, которую вставляет Лука. Ибо не ясно, сколько времени прошло после схождения с горы; и Матфей хотел обозначить только то, что после этого сошествия многие толпы были с Господом, когда Он очистил прокаженного, а не то, сколько времени прошло с этого момента, особенно в виду того, что Лука говорит, что Господь, уже находясь в городе, очистил того же прокаженного, о чем Матфей сказать не позаботился.
47.
Впрочем, не исключено, что Господь был только с учениками на какой–то наиболее возвышенной части горы, когда избрал из них двенадцать; а потом Он сошел с ними вниз не с горы, а с самой высокой ее точки на ровное место, то есть на некоторую горную равнину, и мог принять много народа, и стоял там, пока к Нему собрались толпы; и после того, как Он сел, приступили ученики Его ближе, и таким образом к ним и прочим бывшим там толпам Он обратился с одною речью, о которой сообщают Матфей и Лука, используя различный способ повествования, но имея в виду одно и то же содержание и истины, которые они оба и представляли. Ведь мы уже прежде указали (а это должно быть легко видно и без особого предупреждения), что если кто–либо нечто пропускает, о чем другой сказал, то в этом нет противоречия, как и в том случае, если кто–либо говорит нечто другим способом, пока излагается одна и та же истина и в обстоятельствах, и по сути; так что слова Матфея о сошествии с горы можно понимать и в отношении к тому равнинному месту, которое могло быть около горы. А затем Матфей повествует, как Марк и Лука, об очищении прокаженного.
48.
После этого Матфей продолжает и говорит: «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает», и далее до слов: «И выздоровел слуга его в тот час» (Мф. 8.5–13); это же о слуге сотника сообщает и Лука, но не после очищения прокаженного, о котором он вспомнил и упомянул позже, а после окончания той пространной речи, делая такую связь: «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти», и далее до того места, где говорится, что слуга выздоровел (Лук. 7. 1– 10). Из этого следует, что Он вошел в Капернаум после окончания своей речи, но при этом ничего нельзя сказать о том, сколько времени прошло между этими двумя событиями. И именно в этот самый промежуток был очищен прокаженный, о котором Матфей сказал в своем месте, а Лука вспомнил после.
49.
Итак, мы уже видим, согласны ли относительно этого слуги сотника Матфей и Лука. Но вот Матфей говорит: «К Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». На первый взгляд то, что говорит Лука, противоречит этому: «Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин — просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для Него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой».
Если дело обстояло именно так, то каким образом будет истинным сообщение Матфея, если сам сотник не подходил, а послал друзей? Мы поймем это, если тщательно вдумаемся, не использовал ли Матфей просто особый оборот речи. Ведь мы сами часто говорим «найти подход» не в смысле непосредственно подойти (да и проходимцы — отнюдь не путешественники!); если получение желаемого возможно при посредстве третьих лиц, то ходатайство тем более может совершаться через других. Поэтому нет ничего несообразного в том, что Матфей пожелал выразиться по возможности кратко, хотя приближение сотника к Господу совершилось не непосредственно, а через его друзей.
50.
Сверх того, необходимо также обратить внимание на возвышенность таинственной речи евангелиста соответственно написанному в псалме: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались» (Пс. 33.6). Поэтому сам Иисус похвалил веру сотника, с которой тот приступил к Нему, так что сказал: «И в Израиле не нашел Я такой веры»; мудрый евангелист предпочел сказать, что он сам приступил к Иисусу, а не те, через которых Он выразил свою просьбу. А затем Лука для того раскрыл, каким образом все это произошло, чтобы нам было побуждение из этого уразуметь, как именно приступил к Нему сотник, о чем говорит и другой, который не может лгать. Ведь и та женщина, которая страдала кровотечением, хотя и держала только края Его одежды, однако более коснулась Господа, чем те толпы, которые теснили Его. Так что кто более верует, тот более и касается Господа; так и сотник: чем более веровал, тем более приступил к Господу. А относительно прочего, что в этой главе один пропустил, а другой — сказал, то здесь, если следовать известному правилу, прежде нами уже предложенному, не находится ничего, что было бы противоречивым.
51.
Матфей продолжает повествовать так: «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им» (Мф. 8.14,15). Когда это было, — то есть до или после какого события, — этого Матфей ясно не указал. Марк, например, повествует об этом прежде рассказа об очищении прокаженного; а то, что совершилось после речи на горе, о которой Марк умолчал, по–видимому, теперь он вставил. И Лука о теще Петра повествует после того события, после которого и Марк, но прежде речи, которую изложил пространно, но которая может почитаться за ту, о которой, как о сказанной на горе, говорит Матфей. Но что за важность в том, когда кто–либо ставит событие в том или другом месте, или когда вносит его вне порядка, или вспоминает пропущенное, или прежде занимается тем, что было после, когда в то же время он ни другому, повествующему о том или ином, не противоречит, ни самому себе? В самом деле, ведь никто не может даже прекрасно и верно познанные обстоятельства вспомнить в каком угодно порядке (ибо порядок наших воспоминаний зависит не столько от нас, сколько от воли Всевышнего). Весьма вероятно, что каждый из евангелистов полагал должным повествовать о событиях в том порядке, в каком Богу было угодно возбуждать их в его памяти; важно лишь одно: никакой из указанных порядков нисколько не уменьшает ни важности, ни истинности евангельской.
52.
Но если кто–либо в благочестивом усердии задал бы вопрос: «Почему же Дух Святой, разделяющий свойства каждого как Ему благоугодно, и потому, без сомнения, руководящий и направляющий мысли святых при составлении имеющих столь высокое значение книг, при собирании того, что они должны писать, дозволил, чтобы один так, а другой иначе расположил свое повествование?», — тот с помощью Божией может это решить. Но это не входит в задачу нашего настоящего труда, который мы предприняли с той лишь целью, чтобы показать, что евангелисты не противоречат ни самим себе, ни друг другу, в каком бы порядке каждый из них не пожелал повествовать как об одних и тех же обстоятельствах, так и о различных деяниях и изречениях. Поэтому там, где не достаточно ясен порядок последовательности, для нас не должно быть столь уж важно, по какой именно причине каждый из них выбрал тот или иной; но там, где он очевиден, и при этом кому–либо кажется, что налицо противоречие у евангелиста или самому себе, или другому, — тут, конечно, нужно все внимательно рассмотреть и растолковать.
53.
Итак, Матфей продолжает: «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8.16,17). Здесь евангелист недвусмысленно показал, что все это произошло в день излечения тещи Петра. То же говорит и Марк, продолжая вышесказанное так: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1.31–35). И хотя нет необходимости под словами: «когда же наступил вечер», понимать именно вечер того же дня, и под словами: «утром рано» — утро той же ночи, однако же логично усматривать здесь сохранение упомянутой последовательности событий. Лука же, когда рассказал о теще Петра, хотя и не сказал: «Когда наступил вечер», тем не менее прибавил то, что одинаково с этим по смыслу: «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, вышел из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, пришел к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них» (Лк. 4.40–42). И здесь мы видим соблюдение того же порядка в распределении времени, который находим у Марка. А Матфей, как кажется, воспроизводит в порядке не то, что было сделано, а то, что было опущено; он упомянул о теще Петра после того, как сообщил, что в тот же самый день было совершено при наступлении вечера; затем он не присоединяет сообщения о рассвете, но повествует так: «Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел (ученикам) отплыть на другую сторону». Это есть уже нечто иное, а не то, что говорят Марк и Лука, которые после вечера говорят о рассвете. Ибо в этих словах мы видим упоминание о событии какого–то другого дня.
54.
Затем Матфей продолжает: «Тогда один книжник подошел сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты не пошел», и т. д. до слов: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8.19–22). Подобным же образом повествует и Лука. Но он говорит об этом после многого другого, не указав ясно последовательности времени, причем неизвестно почему: или потому, что пропустил нечто из происшедшего раньше, или же, может быть, потому, что прежде обратил внимание на событие более позднее. Лука также упоминает и о сказавшем: «Я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Об этом Матфей умалчивает. Затем Лука уже переходит к другому, а не к тому, что следует в порядке времени: «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим…» (Лк. 9.57; 10.1). Правда, слова «после сего» ясны; но в какой промежуток времени после сего Господь совершил это — не ясно. Впрочем, это было в тот самый промежуток времени, который Матфей указал сначала, ибо Матфей и далее удерживает тот же порядок, повествуя следующим образом:
55.
«И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море», до слов: «и прибыл в Свой город». Об этих двух событиях, последовательно сообщенных Матфеем, т. е. об успокоении моря и о тех, которые имели свирепого демона и бежали в пустыню, подобным же образом повествуют Марк и Лука (Мф. 8.23–34; Мк. 4.36; 5.17; Лк. 8.22–37). И тем и другим те же самые мысли сказаны иными словами, но однако же мысли не другие, как, например, то, что говорит Матфей, что Он сказал: «Что вы так боязливы, маловерные? Марк приводит так: «Что вы так боязливы? как у вас нет веры? т. е. Той совершенной веры, что подобна горчичному зерну. А Лука говорит: «Где вера ваша?» Таким образом, все вместе может быть выражено так: «Что вы так боязливы? где вера ваша? Маловерные!» Из этих слов один говорит одно, а другой — другое.
Также и слова, которые они произносят, чтобы пробудить Его, Матфей воспроизводит так: «Господи! спаси нас: погибаем»; Марк: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?»; Лука: «Наставник! Наставник! погибаем». У пробуждающих Господа одна и та же мысль; они хотят быть спасены. И нет нужды выпытывать, что именно было сказано Христу. Велика ли важность в том, какое из этих трех выражений прозвучало, если суть каждого из них одна и та же? Впрочем, ведь могло быть и так, что были сказаны все эти слова, так как будивших Его было много: одни сказаны одними, другие — другими. Также и в словах по укрощении бури: по Матфею: «Кто Этот, что и ветры и море повинуются Ему?»; по Марку: «Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?»; по Луке: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?» Кто не увидит, что это одна и та же мысль.
56.
А то, что Матфей говорит о двух спасенных от легиона бесов, получившего позволение войти в стадо свиней, А Марк и Лука называют одного, то это следует понимать так, что один из них был личностью более славной и известной, о котором страна скорбела и об исцелении которого весьма много заботилась. Желая это отметить, два евангелиста сочли нужным упомянуть об одном, о которым молва распространилась более широко и очевидно. И то обстоятельство, что слова демонов приведены евангелистами не одинаково, не дает повода к какому–либо сомнению, так как они могут быть сведены по значению к одному и тому же смыслу, или же можно понимать так, что они были сказаны все вместе.
И что может быть противоречивого в том, что у Матфея говорится во множественном числе, а у других в единственном; ведь они сами повествуют, что на вопрос, как его называть, спрошенный отвечал, что имя ему легион, потому что бесов было много; равно как и в том, что говорит Марк, а именно, что стадо свиней было около горы, а Лука — на горе; ведь стадо свиней было так велико, что нечто из него было на горе, а нечто — около горы, потому что, как ясно указал Марк, было две тысячи свиней.
57.
После этого Матфей продолжает, все еще сохраняя порядок времени, и так соединяет рассказ: «Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели», и т. д. до слов: «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам» (Мф. 9.1–8). Об этом расслабленном упомянули также Марк и Лука; но, по словам Матфея, Господь сказал: «Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои», а Лука не говорит «чадо», а просто: «Сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои». Марк же говорит, что это совершено было не в Назарете, который называется Его городом, а в Капернауме, и об этом он говорит так: «Чрез несколько дней опять пришел Он в Капернаум… И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои», и проч. (Мк. 2.1–12). А Лука не сообщает, в каком месте это было совершено, а говорит так: «В один день, когда Он учил… принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом; и не нашедши, где пронести его, за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои», и т. д. (Лк. 5.17–26).
58.
Итак, возникает вопрос: почему Матфей пишет, что это совершилось в городе Господа, а Марк — в Капернауме? Это было бы действительно трудно разрешить, если бы Матфей прямо назвал Назарет; но так как вся Галилея могла бы называться городом Христовым, потому что Назарет был в Галилее, подобно тому, как и все царство, состоящее из стольких городов, называется Римским Царством, и когда из стольких городов составлено государство, о котором написано: «Славное возвещается о тебе, град Божий!» (Пс. 86. 3), и когда еще прежде сам народ Божий, живший в столь многих городах, называется даже одним домом, домом Израилевым, — то кто усомнится в том, что Иисус совершил это в Своем городе, когда Он совершил это в Капернауме, городе Галилеи, куда Он возвратился, переплыв пролив? Так что, придя в Галилею, Он правильно называется возвратившимся в Свой город, в каком бы городе Галилеи это ни совершилось; а тем более в Капернауме, в своего рода метрополии этого края.
59.
Итак, после этого Матфей продолжает так: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним» (Мф. 9.9). Марк об этом рассказывает так, сохраняя при этом тот же самый порядок после истории об исцелении расслабленного: «Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он встав последовал за Ним» (Мк. 2.14). Понятно, что Левий и Матфей — одно и то же лицо. И Лука ведет речь об этом после исцеления того же расслабленного: «После сего Иисус вышел, и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним» (Лк. 5.27,28). Кажется наиболее вероятным, что Матфей вставляет этот эпизод как пропущенный им ранее, ибо нужно думать, что Матфей был призван раньше известной речи, произнесенной на горе; ведь Лука указал, что именно на этой горе произошло избрание двенадцати из множества учеников, причем избранных Он наименовал апостолами (Лк. 6.13).
60.
Далее Матфей продолжает: «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его», и т. д. до слов: «Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9.10–17). Здесь Матфей не указал, в чьем доме возлежал Иисус со сборщиками податей и грешниками. Из этого могло бы показаться, что Матфей об этом рассказал не в порядке следования событий, но воспроизвел по памяти то, что было в другое время, если бы Марк и Лука, подобным же образом повествующие об этом, не заявили ясно, что Иисус возлежал в доме Левия, т. е. Матфея, и там было сказано все то, что следует дальше. Ибо Марк об этом, сохраняя ту же последовательность, говорит так: «И когда Иисус возлежал в доме его (т. е. Левия, о котором он упомянул выше), возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники» (Мк. 2.15–22). О том же повествует и Лука: «И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними» (Лк. 5.29–39). Итак, очевидно, в чьем доме это происходило.
61.
Мы уже видели, что все три евангелиста привели и слова, как те, которые были сказаны Господу, так и те, которые Он сказал в ответ; Матфей говорит так: «Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Почти в таких же словах говорит это Марк: «Книжники и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» А Лука, как видно, вспоминал об этом несколько иначе, потому что пишет: «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?», не желая, конечно, этим подчеркнуть, что он не подразумевает здесь Учителя, но лишь указывая на то, что упрек этот относился ко всем: и к Нему, и к ученикам Его. Ведь поэтому, конечно, Лука и говорит, что Господь ответил: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Он ответил им так только потому, что слова: «едите и пьете» относились прежде всего к Нему. И хотя Матфей и Марк сообщили, что этот упрек сделан был ученикам Его, но, укоряя учеников, выговаривали Учителя, Которому ученики подражали.
Итак, мысль здесь одна: она внушена тем лучше, что сообщена в различных выражениях при сохранении одной и той же истины. Что же до ответа Господа, то по сообщению Матфея он был таков: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»? ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марк и Лука почти в тех же словах удержали ту же мысль, только оба они не вставляют свидетельства из пророка: «Милости хочу, а не жертвы». Слова же «к покаянию» разъясняют, что не потому Христос любил грешников, что они грешники, также как и сравнение с больными отлично внушает мысль, чего хочет Бог, призывая грешников как врач больных, чтобы они спаслись от беззакония, как от болезни; а это совершается через покаяние.
62.
Слова Матфея: «Тогда подходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?», Марк привел в таком виде: «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?» Кажется, что Марк потому присоединил фарисеев, что они сказали это вместе с учениками Иоанна, тогда как Матфей передает, что это сказали только ученики Иоанна. Однако слова, сказанные ими, которые мы читаем у Марка, скорее показывают, что это сказали одни о других, т. е. участники пира, бывшие там, подошли к Иисусу и сказали Ему об учениках Иоанна и фарисеях, что те постятся; т. е. подошли те, которых это соблазнило, и сказали Ему вышеприведенное. Эту мысль яснее всего выразил Лука, сказав после ответа Иисуса о призыве грешников к покаянию: «Они же (т. е. те, кто роптали о присутствии мытарей и грешников на пиру) сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют?» Из всего этого можно сделать вывод, что и слова Матфея обозначают только то, что среди прочих были и ученики Иоанна, и все наперебой, кто как мог, делали этот упрек; но мысль евангелистов, при всем различии способов выражения, сохраняет одно и то же содержание.
63.
Одинаково вставили Матфей и Марк и известное место о сынах чертога брачного, что они не будут поститься, пока с ними жених; а Лука говорит: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься». Мысль та же, разве что несколько усиленная. Что же до того, что Матфей вначале сказал не «поститься», а «печалиться», то после он добавил: «Тогда и будут поститься», «поститься», а не «печалиться». Таким образом он указал, что Господь говорит о таком посте, который связан с уничижением в печали и скорби, так что понятно, что другое настроение, относящееся к радости мысли, привязанной к духовному и поэтому до некоторой степени удерживающейся от телесных яств, Господь обозначил дальнейшими сравнениями о новой ткани и новом вине, чтобы этим показать, что людям душевным и плотским, заботящимся о теле и поэтому еще удерживающим древние чувства, такой пост не соответствует; эти сравнения одинаково объясняются и другими двумя евангелистами. Ведь уже достаточно ясно, что нет ничего противоречивого в том, что один приводит то, что другой пропустил в словах или в содержании, пока он не отступил от той же самой истины или пока другие не противоречат тому, что иногда приводится иначе.
64.
Далее Матфей, соблюдая порядок повествования, говорит: «Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива», и проч. до слов: «И разнесся слух о сем по всей земле той» (Мф. 9.18–26). Об этом говорят и Марк с Лукой; но они изменяют порядок действий, ибо вспоминают об этом и вставляют в рассказ в другом месте, т. е. после повествования о том, что по изгнании демонов и дозволения им войти в свиней Он переправился через пролив из страны Гадаринской. Ибо Марк таким образом продолжает рассказ после известного события в Гадаринии: «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его», и т. д. (Мк. 5.21–43). Из этого можно понять, что совершившееся с дочерью Иаира было после возвращения из страны Гадаринской, но насколько после — не указано.
Действительно, если бы не было промежутка, то не было бы времени для тех событий, о которых только что сообщил Матфей, т. е. событий в его доме; только он повествует о них, как будто дело касается не его, а кого–то другого, что в обычае у евангелистов, хотя речь идет именно о нем и о его доме. После этого события ничего другого не следует, кроме сообщенного о дочери начальника синагоги. Действительно, он так сопоставляет события, что сам переход ясно показывает: его повествование последовательно и события следуют в таком же порядке; действительно, когда он выше упомянул слова Иисуса о новой ткани и о новом вине, то непосредственно прибавил: «Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник».
Лука же, когда он переходит после повествования о чуде в стране Гадаринской к рассказу о дочери начальника синагоги, делает это не так, что будто основывается на
Матфее, который показывает, что это совершилось после известных притчей о ткани и вине; он делает такой переход к другим событиям: «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и падши к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом», и т. д. (Лк. 8.40–56). Дело представляется так, что толпа тотчас же приняла Иисуса, потому что ожидала Его возвращения; а прибавку «и вот, пришел человек» не следует понимать как событие, происшедшее непосредственно в этот момент, но нужно иметь в виду повествование о пиршестве сборщиков податей, о котором говорит Матфей.
65.
Итак, в этом повествовании, которое мы ныне начали подвергать рассмотрению, о той женщине, которая страдала кровотечением, все три евангелиста согласны безо всяких недоразумений. И для сущности дела не важно то, что один умалчивает, а другой упоминает, а также и то, что по словам Марка Он сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?», а по словам Луки: «Кто прикоснулся ко Мне?»; один сказал, как обычно говорят, а другой особенным образом, но оба выразили одну и ту же мысль; потому что обычно мы говорим: «Ты терзаешь меня», а не: «Ты терзаешь одежду мою», хотя ведь вполне ясно, что мы хотим этим сказать.
66.
Но при всем этом Матфей повествует, что начальник синагоги указал Господу, что дочь его не близится к смерти или умирает, а уже скончалась; два другие евангелиста, — что она близка к смерти, но еще не умерла, так что даже говорят, будто после пришли сообщить о ее смерти, и что поэтому не должно тревожить Учителя, как будто Он мог возложением руки только не допустить ее умереть, но никак не пробудить мертвую. Следует думать, что Матфей ради краткости счел лучшим сказать, что Господа просили сделать именно то, что Он и сделал, т. е. пробудил умершую. Он обратил внимание не на слово отца о дочери своей, а преимущественно на его желание, и употребил именно те слова, которые соответствовали этому желанию. Ведь отец был в таком отчаянии, что желал видеть дочь именно оживленною, так как не верил в то, что найдет в живых ту, которую оставил умирающей. Итак, первые два евангелиста представили подлинные слова Иаира, а Матфей — то, чего он желал и о чем думал. Выходит, что у Господа просили и то, и другое: и чтобы Он исцелил больную, и чтобы Он воскресил мертвую. А так как Матфей решил сообщить кратко, то он и представил отца сказавшим то, чего и тот хотел, и Христос совершил. Конечно, если бы те два евангелиста или один какой–либо из них приписали и отцу слова, сказанные вестниками из дома, т. е. чтобы Иисус не беспокоился, ибо девица умерла, то это противоречило бы словам, приведенным у Матфея; а в действительности мы не читаем, что он не соглашался на то, что говорили и чему противились вестники из дома, т. е. чтобы Учитель пришел. Поэтому и слова Господа: «Не бойся, только веруй, и спасена будет» являются не укором недоверяющему, а большим укреплением верующего. Действительно, у него была такая же вера, как и у того, который говорил: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9.24).
67.
При таком положении дела в отношении к различным, но не противоречащим друг другу словам евангелистов, мы учимся весьма полезному и крайне необходимому правилу: в словах каждого мы должны усматривать только его намерение. Никто не должен считаться лжецом, если он другими словами выразит намерение кого–либо, не приводя его слов; пусть жалкие буквоеды не думают, что истина в каком–либо отношении связана с буквенными знаками; нужно искать только истинный дух говорящего и, конечно, не в одних только словах, но и во всех остальных душевных знаках.
68.
А то, что в некоторых списках у Матфея находят слова: «Не умерла женщина (а не «девица»), но спит», хотя Марк и Лука называют ее двенадцатилетней девицей, то это, следует думать, связано с тем, что Матфей говорит по еврейскому обычаю. Действительно, и в других местах Писаний мы находим, что женщинами называются не только те, которые вышли замуж, но и чистые, невинные жены; так и о самой Еве говорится: «И создал Господь Бог… жену» (Быт. 2.22), и в известном месте в книге Чисел повелевается не убивать женщин, которые не знали мужеского ложа, т. е. дев (Чис. 31.18); подобным словоупотреблением пользуется даже апостол Павел, когда говорит о Христе, как о родившемся от жены (Гал. 4.4). Это предположение куда разумнее того, что она в двенадцать лет была уже замужней или испытала мужа.
69.
Матфей продолжает так: «Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, Сын Давидов! и проч. до слов: «А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского» (Мф. 9.27–34). Эти события излагает один только Матфей, потому что те два слепца, о которых повествуют и другие, не те же самые; просто подобные события случались неоднократно, так что хотя бы даже Матфей и не сообщил об этом последнем событии (Мф. 20.29–34), однако можно было бы видеть, что сказанное им было сказано о двух других. Мы советуем понять и тщательно запомнить, что есть подобные одно другому события, что доказывается именно тогда, когда один и тот же евангелист говорит об обоих. Таким образом, когда мы находим некоторые подобные события у отдельных евангелистов и в них видим нечто противоречивое, что не может быть разрешено, то пусть это рассматривается у нас как не то же самое, а только как подобное или совершенное одинаковым образом.
70.
Далее у Матфея неясно обнаруживается порядок событий, потому что после случая со слепцами и немым духом повествование идет так: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях… И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами», и так далее до слов: «Истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 9.35–38; 10.1–42). Во всем этом месте, которое мы указали, Он дал много наставлений Своим ученикам; но, как было сказано, трудно понять, привел ли все это Матфей в порядке очередности событий, или же этот порядок ему подсказала его память. Марк это место, как видим, сократил и приступил к нему с такими словами: «Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать…», и проч. до слов: «Оттрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них» (Мк. 6.6–11). Но прежде этого Марк, после рассказа о воскресении дочери начальника синагоги, сообщил о том, что Господу все изумлялись в отечестве Его потому, что у Него столь великая премудрость и сила, о чем Матфей упоминает после увещания ученикам и после многого другого (Мф. 13.54). Таким образом, неизвестно: Матфей ли восстановил пропущенное о событиях в Его отечестве, или Марк предупредил воспоминания, т. е. неясно, кто из них следовал порядку совершавшихся событий, а кто удерживал последовательность мысли в воспоминании. А Лука непосредственно вслед за воскрешением дочери Иаира присоединил повествование о власти и увещаниях, которые Он дал ученикам (Лк. 9.1–6); впрочем, также кратко, как и Марк, но и не так, чтобы можно было найти последовательность в ряде событий. Лука противоречит Матфею при перечислении учеников в другом месте, когда они были избраны на горе, говоря об Иуде Иаковлевом, которого Матфей называет Фаддеем, а некоторые списки имеют имя Левия; но кто когда–либо запрещал одного и того же человека называть двумя или тремя именами?
71.
Часто спрашивают: каким образом Матфей и Лука упомянули, что Господь сказал ученикам, чтобы они не носили с собою даже и посоха, тогда как Марк говорит: «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха»; но далее он же продолжает: «ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе», так что показывает, что его повествование вращается там же, где и повествование тех, которые сказали, что не должно брать с собой даже и посоха. Это недоумение разрешается тем, что посох, который по Марку должно носить, понимается с одним значением, а тот, которого по Матфею и Луке не должно носить, с другим, подобно тому, как и под искушением в одном случае разумеется обольщение, а в другом — испытание; также как и суд тот, о котором говорится: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5.29) понимается в другом значении сравнительно с тем, в котором говорится: «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым» (Пс. 42.1). Первый суд — осуждение, а второй суд — суд для рассмотрения тяжбы.
72.
Есть много и других слов, которые имеют несколько значений и в различных местах понимаются по–разному, что иногда требует особого разъяснения, как например: «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14.20). Скрытая здесь мысль кратко может быть выражена так: «Не будьте детьми, но будьте детьми». Также и то: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым» (Там же, 3.18), какое может иметь другое значение как не то, что «не будь мудрым, чтобы быть мудрым». А иногда скрытые наставления высказываются так, чтобы учить ищущего, как то, что говорится в послании к Галатам: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо, кто почитает себя чем–нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом; ибо каждый понесет свое бремя» (Гал. 6.2–5). Если слово «бремя» не понимать в различных значениях, то несомненно можно подумать, что в этом месте одно и то же само себе противоречит, и это в одной и той же мысли и в словах, употребленных рядом. Тот, кто прежде сказал: «носите бремена друг друга», потом говорит: «каждый понесет свое бремя». Но одно дело — бремя взаимной немощи, и совсем другое — бремя при отчете Богу за свои действия; первое выносится в общении с братьями, второе же, личное, несется каждым отдельно. Таким же образом и жезл понимается духовно, когда апостол говорит: «С жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости?» (1 Кор. 4.21), понимается он и телесно, когда мы употребляем это слово в применении к какому–либо другому делу; не будем говорить о других образных значениях этого слова.
73.
Итак, должно принимать и то и другое, т. е. и то, что апостолы не носили посоха, и то, что они носили только посох: действительно, когда, по Матфею, Он говорит: «Не берите с собою ни золота, ни серебра… ни посоха», то непосредственно вслед за этим продолжает: «Ибо трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10.9,10); Он ясно показывает, почему Он не хотел, чтобы они это имели и носили: не потому, что в них нет нужды для поддержания этой жизни, но для того, чтобы показать, что все это должно быть доставляемо теми самыми верующими, которым они проповедовали Евангелие, как жалованье воинствующим, как плод винограда делателям, как молоко стада пастырям.
Поэтому апостол Павел говорит: «Какой воин служит когда–либо на своем содержании? Кто насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Здесь говорится о том, что необходимо проповедникам Евангелия. Поэтому немного спустя он говорит: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью». Отсюда ясно, что Господь заповедал не то, что благовестники должны получать средства к жизни только от тех, которым они проповедуют Евангелие; в противном случае тот же апостол поступил против этой заповеди, потому что он своими руками приобретал себе средства к жизни, чтобы не быть кому–либо в тягость (1 Фес. 2.9); но Он дал возможность, в силу которой они знали, что это им следует как должное. Когда Господь что–либо заповедует, то в случае не совершения этого является преступление непослушания, но когда дается возможность (власть), то каждому позволительно ею не пользоваться и как бы поступаться своим правом. Итак, говоря это ученикам, Господь указывал то, что тот же апостол более ясно объясняет так: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым» (1 Кор. 9.7–15). Итак, когда он говорит, что Господь так установил, а он этим не пользовался, то, конечно, он показывает, что власть пользования дана, но не положена неизбежная нужда пользоваться этим.
74.
Господь, заповедуя, чтобы провозвещающие Евангелие жили от Евангелия, этим говорит апостолам, дабы они в заботливости своей были беспечны и не носили с собою того, что необходимо для сей жизни, ни малого, ни великого. Поэтому и сказано: «ни посоха», чем показывается, что Его служителям должно быть все дано и чтобы они не искали чего–либо более, чем нужно. А добавив: «ибо трудящийся достоин пропитания» Он недвусмысленно показал, в виде чего и по какой причине все это говорится. Итак, эту власть Он назвал посохом, когда «заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха»; здесь можно было кратко сказать и так: «Ничего необходимого не берите с собою, даже посоха, кроме только посоха», так что словами «ни посоха» дается понять, что не нужно брать самых незначительных вещей, а прибавкой: «кроме только посоха» указывается на возможность (власть), полученную от Господа, не иметь нужды в том, чего они не имеют у себя. Господь сказал и то и другое, но так как ни один евангелист не выразил вместе того и другого, то и кажется, что один противоречит другому; но на основании вышеуказанного пусть так более никто не думает.
75.
Подобное же подразумевается и тогда, когда Матфей говорит, что не нужно носить обуви; и тут Господь запрещает заботу о том, что в ней будет недостаток. Также следует понимать и относительно двух одежд, т. е. чтобы кто–нибудь из них не думал, что необходимо носить с собою другую, кроме той, которая на плечах, заботясь о том, что в ней будет нужда; ведь эту (другую) он может получить в силу обретенной власти.
Поэтому Марк, говоря, чтобы они обувались в сандалии или подошвы, показывает, что такая обувь имеет некоторое таинственное значение, а именно: чтобы нога не оставалась без защиты, но не была и покрыта, т. е. чтобы благовествования не скрывалось, но и не опиралось на земные удобства. Кроме того, Он запрещает не носить или иметь две одежды, а, лучше сказать, надевать: «не носить двух одежд», чем увещевает только к тому, чтобы они ходили в простоте, а не в изобилии.
76.
Следовательно, нельзя сомневаться в том, что Господь сказал все, но частью в прямом смысле, а частью — в переносном; а евангелисты внесли в свои Евангелия так, что один сказал одно, а другой — другое; а нечто внесено двумя или тремя, или даже всеми четырьмя евангелистами. Однако все это собрано не так, как было сказано или сделано. А кто полагает, что Господь не мог в одной и той же речи одно сказать в прямом смысле, а другое — в переносном, тот пусть обратит внимание на остальное; тогда он увидит, что думать так крайне неблагоразумно. Такой, пожалуй, может вообразить (скажем что–нибудь одно, случайно пришедшее на ум), что в образном смысле должно понимать то увещание, что левая рука не должна знать, что делает правая, а также учение о милостынях или какое–либо иное наставление.
77.
Я снова хочу напомнить читателю, что Господь в тех или других местах своих речей повторял сказанное Им ранее; так что в том случае, если порядок речей или событий у одного евангелиста не совпадает с порядком у другого, читающему не следует думать, что здесь есть в чем–либо противоречие, ибо это лишь означает, что в другом месте снова сказано то, что говорилось где–то еще; и это должно иметь в виду не только относительно событий, но и относительно речей. Ведь ничто не препятствует думать, что это совершалось во второй раз; но бессмысленным святотатством является злословие Евангелия, когда человек не верит, что снова совершилось то, в невозможности повторения чего никто не может быть убежден несомненно.
78.
Матфей далее говорит: «И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедыватъ в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?», и т. д. до слов: «И оправдана премудрость чадами ее» (Мф. 11.1–19). Лука также приводит все это место (Лк. 7.18–35) об Иоанне Крестителе: как он послал учеников к Иисусу, какого рода ответ получили те, которых он послал, и что Господь сказал об Иоанне после их ухода; правда, не в том же самом порядке; впрочем, здесь не совсем понятно, кто из евангелистов в своем рассказе следует действительному порядку событий, а кто воспроизводит их по мере припоминания.
79.
Затем Матфей говорит: Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись», и проч. до слов: «Земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Мф. 11.20–24). Лука также сообщает подобное (Лк. 10.12–15), присоединяя это место к речи Господа из Его уст, откуда преимущественно видно, что он приводит это в том самом порядке, в котором оно было сказано Господом; а Матфей сохранил у себя порядок слов по мере припоминания; впрочем, если слова Матфея: «Тогда начал Он укорять города» вздумают понимать так, что словом «тогда» он хотел указать только на известный момент, а не на некоторый продолжительный промежуток времени, когда это говорилось или делалось, то тогда придется допустить, что это было сказано два раза. Ведь и у одного и того же евангелиста иногда находится нечто такое, что Господом сказано дважды. Так, например, у того же Луки дважды находится сказанное Господом о том, что в пути не должно носить сумы и тому подобного (Лк. 9.3 и 10.4). Отсюда следует, что нет ничего удивительного в том, что у отдельных лиц и нечто другое повторено в том же порядке, в каком оно было сказано, и что, поэтому, оказывается различный порядок у отдельных повествователей, так как сказанное является и тогда, когда один сказал, и тогда, когда другой снова припомнил.
80.
Матфей далее пишет: «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче», и проч. до слов: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11.25–30). Отчасти об этом говорит и Лука, хотя и не говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Господом это, конечно же, сказано было, но, вероятно, Лука не все сказанное вспомнил. Действительно, Матфей говорит: «В то время, продолжая речь…», и т. д. после укора, сделанного городам, а Лука после этого укора вставляет нечто иное, правда, немногое; а вышеприведенные слова он присоединяет так: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал…» (Лк. 10.21). Поэтому, даже если бы Матфей и не сказал «в то время», это не показалось бы неразумным в виду того, что Лука вставляет в средине так мало.
81.
Матфей продолжает: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями», и т. д. до слов: «Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мф. 12.1–8). Это же повторяется, хотя и безо всякого недоуменного вопроса, Марком и Лукой (Мк. 2.23–28; Лк. 6.1–5). Но они не говорят: «В то время». Отсюда можно сделать вывод, что Матфей преимущественно удержал порядок следования событий, а прочие — держались порядка своих воспоминаний; впрочем, это заключение справедливо в том только случае, если слова «в то время» понимать в широком значении, т. е. тогда, когда происходило много различных событий.
82.
Затем Матфей повествует: «И отошел оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, там был человек, имеющий сухую руку», и т. д. до слов: «И стала она здорова, как другая» (Мф. 12.9–13). Об этом исцеленном не умалчивают ни Марк, ни Лука (Мк. 3.15; Лк. 6.6–10). Но можно было бы думать, что события с колосьями и с этим исцеленным произошли в тот же день, потому что и здесь упоминается о субботе, если бы только Лука не обнаружил, что исцеление руки произошло в другую субботу, потому что слова Матфея: «И отошел оттуда» в действительности значат, что туда Он пришел только тогда, когда перешел оттуда; но сколько дней спустя Он пришел в их синагогу после прохождения через посевы, об этом ничего определенного не сказано. Благодаря этому высвобождается место для повествования Луки.
Но может возникнуть вопрос: «Каким образом Матфей говорит, что они спросили Господа: «Можно ли исцелять в субботы?», желая найти повод к обвинению; и Он предложил им притчу об овце: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро»; тогда как Марк и Лука гораздо лучше отражают вопросивших Господа словами: «Что должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить?» Итак, должно понять, что прежде они спросили Господа: «Позволительно ли исцелять в субботу?» И потом, когда Он, уразумевая их помышления, т. е. что они ищут повода для обвинения, поставил среди них того, кого хотел исцелить, и спросил то, что, по словам Марка и Луки, Он и спросил; и после, в ответ на их молчание, Он предложил им притчу об овце и заключил ее словами, что позволительно делать добро; и уже после всего этого, окинув их гневным взором (как говорит Марк), опечаленный слепотою их сердца, сказал человеку: «Протяни руку свою».
83.
Матфей продолжает, вводя такую связь в повествование: «Фарисеи же вышедши имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус узнав удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа», и так далее до слов: «И на имя Его будут уповать народы» (Мф. 12.14–21). Об этом упоминает только он один; два другие продолжают речь о другом.
Похоже, что порядок событий несколько удержал Марк, который говорит, что Иисус, узнав злые помышления иудеев против Себя, удалился со своими учениками к морю, что к Нему стеклись толпы и что Он исцелил многих (Мк. 3.7–12). А после этого Он начал переходить к другим предметам, не к тем, которые следуют непосредственно за этим; весьма трудно понять, действительно ли собрались к Нему толпы тогда, когда Марк пишет: «Потом взошел на гору». Об этом, по–видимому, упоминает и Лука, когда говорит: «В те дни взошел Он на гору помолиться» (Лк. 6.12). Само «в те дни» достаточно ясно показывает, что это описанное событие не непосредственно следовало за предыдущим.
84.
Затем Матфей говорит: «Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть» (Мф. 12.22). Об этом Лука сообщает не в том порядке, но после многого другого, и говорит только о немом, а не о слепом (Лк. 11.14); но не следует думать, что он говорит о другом, так как нечто умалчивает: ведь он присоединяет в дальнейшем повествовании то же, что и Матфей.
85.
Матфей продолжает так: «И дивился весь народ и говорил: не Сей ли Христос, Сын Давидов?», и проч. до слов: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12.23–37). Марк присоединяет слова об Иисусе, что Он якобы изгоняет бесов силою бесовского князя, но не по поводу исцеления указанного выше немого, но после кое–чего другого, о чем говорит только он один, а этим связывает свое повествование или заимствуя из другого места, или же нечто пропуская, а потом снова возвращаясь к прежнему порядку событий (Мк. 3.22–30). А Лука говорит то же, что и Матфей, и почти теми же словами (Лк. 11.14–26); называя же Духа Божия перстом Божиим, он не отступает от той же истины, потому что так он лучше учит нас понимать, что есть перст Божий, когда мы об этом читаем в каком–либо месте св. Писания.
86.
Далее Матфей говорит: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение», и т. д. до слов: Так будет и с этим злым родом» (Мф. 12.38–45). Также повествует и Лука в том же самом месте, но в несколько отличном порядке (Лк. 11.16–37), потому что о том, что они просили у Господа знамения с неба он рассказал после известного чуда с немым, и не туда отнес то, что им ответил на это Господь, но говорит, что этот ответ был дан после прихода толп, и это он присоединяет после того, как вставил несколько слов о женщине, сказавшей Господу: «Блаженно чрево, носившее Тебя». А об этой женщине он говорит, когда привел речь Господа о том, как дух нечистый, выйдя из человека, снова возвратился и нашел дом очищенным. Итак, после слов о той женщине, когда он привел ответ толпам, просившим знамения с неба, после вставки притчи об Ионе пророке и речи самого Господа, он привел сказанное о царице с Юга и о Ниневитянах. Таким образом, он сообщил нечто, о чем Матфей умолчал, а нечто и пропустил из того, о чем тот сказал. Но кто не видит, что не столь уж важно, в каком порядке Господь сказал это; в силу особого для нас значения евангелистов мы должны знать одно: нет лжи в том, что кто–нибудь из них передает чью–либо речь не в том порядке, в каком она была произнесена, потому что для дела ничуть не важно, происходило это так или этак. Более того, Лука приводит здесь обширную речь Иисуса и сообщает о ней нечто такое, что Матфей приводит в речи Господа на горе (Мф. 5 — 7); из этого нам становится понятным, что она была произнесена дважды: и тогда, и теперь.
87.
Теперь рассмотрим, насколько евангелисты согласны друг с другом в том, что говорится в следующем месте из Матфея: «Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома», и т. д. до слов: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Мф. 12.46–50). Мы должны, без сомнения, понимать, что это совершилось в том порядке, в каком и рассказано. В самом деле, ведь он предпослал вводные слова: «Когда же Он еще говорил к народу», чем ясно дал понять, что Господь продолжал речь, приведенную евангелистом выше. Ибо и Марк, записав слова Господа, сказанные о хуле на Духа Святого, говорит: «И пришли Матерь и братья Его» (Мк. 3.31–35), пропустив при этом некоторые события, которые привели Матфей и, несколько пространнее, Лука. Лука, однако, не выдержал последовательности в передаче этой истории, поставив ее впереди говоренного Иисусом раньше. Кроме того, он вставил ее так, что она является как бы ни с чем не связанной, отделенной как от выше, так и от нижеприведенных событий. Действительно, после упоминания о некоторых притчах, он так приводит вспомнившееся ему происшествие с Матерью и братьями Его: «И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа». Он не указал, когда именно они подошли к Нему. Затем, когда он описал случившееся, то говорит так: «В один день Он вошел с учениками Своими в лодку» (Лк. 8.19–22). Очевидно, что говоря «в один день» Лука не имел в виду именно тот день, события которого он описал выше. Таким образом то, что Матфей говорит о Матери и братьях Его, ничем не противоречит сообщениям Марка и Луки.
88.
Матфей продолжает: «Вышел же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа», и проч. до слов: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13.1–52). Все это произошло непосредственно после того, что Матфей сообщил о Матери Его и братьях; а что Матфей в повествовании сохранил порядок событий, это доказывается тем, что, переходя от того события к этому, он так связал рассказ: «В тот день». Говоря так, он (если только по обычному в Писаниях словоупотреблению под днем не разумеется время) ясно показывает, что это совершилось непосредственно вслед за сказанным выше. Марк выдерживает тот же порядок (Марк. 4.1–34). А Лука после того, что рассказывает о Матери и братьях Господа, переходит к другому, но при этом ничем не указывает на временную последовательность событий, что могло бы противоречить вышеприведенному порядку (Лк. 8.22). Итак, ни то, что поведал Матфей о словах Господа, ни то, что, вторя Матфею, привели Марк и Лука, не дает никаких оснований для недоуменных вопросов; а в том, что рассказал только один Матфей, тем более нет ничего противоречивого.
89.
Далее Матфей говорит: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда», и т. д. до слов: «И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мф. 13.53–58). Здесь он не указывает явно на то, что одно событие следовало за другим. Марк же, равно как и Лука, дает понять, что сохраняет такую последовательность, приведя после истории с притчами случай в лодке, где Иисус уснул, и известное чудо изгнания бесов в земле Гадаринской (Мк. 4.35; 5.17 и Лк. 8.22–37), о которых Матфей сделал вставку выше (Мф. 8.23–34). Итак, посмотрим теперь, согласно ли с другими двумя, т. е. с Марком и Лукой, то, что, по Матфею, Господь сказал в отечестве Своем и что было сказано Ему, так как и евангелист Иоанн в различных местах своего повествования пространно упоминает как о том, что нечто подобное было сказано Господу (Ин. 6.42), так и о том, что сказал Господь.
90.
Действительно, Марк приводит здесь почти все то же, что и Матфей, кроме того, что Господь согражданами своими назван был сыном Марии и плотником (Мк. 6.1–6), а не сыном плотника, как у Матфея. Но этому не следует удивляться, потому что могло быть сказано и то, и другое, — ведь они считали плотником Того, Кто был сыном плотника. А Лука то же самое событие описывает более пространно: он приводит его немного спустя после крещения и искушения Его, несомненно изображая прежде то, что совершалось после многих промежуточных событий. Отсюда каждый может усмотреть (и это при рассмотрении столь важного вопроса, как согласие евангелистов, является необходимым), что они заведомо нечто пропустили, или же, не зная, каков был порядок событий, привели тот, который сохранился в их воспоминаниях. Это можно с полной ясностью понять из этого места, потому что здесь Лука, прежде чем сообщить о каком–либо деянии Господа в Капернауме, наперед привел то событие, которое мы ныне рассматриваем: когда Его соотечественники изумлялись могуществу в Нем силы и презрительно отзывались о Его незнатном происхождении.
В самом деле, ведь Лука говорит, что Господь сказал им: «Конечно, вы скажете Мне присловье: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме» (Лк. 4.23), хотя у Луки еще ничего не было сказано о совершенном в Капернауме. Для ясности приведем то место, после которого Лука перешел к рассматриваемому повествованию. Рассказав о крещении и искушении Господа, Лука продолжает так: «И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловье: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме» (Лк. 4.13–23), и проч. до конца этого места его повествования. Итак, разве не очевидно, что Лука сознательно опережает события, желая заранее рассказать о том, что произошло (о чем он говорит прямо) уже после великих дел, совершенных в Капернауме, о которых он сам намерен сообщить позднее.
91.
Матфей продолжает: «В то время Ирод четвертовластника услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». То же самое и таким же образом говорит и Марк, но не в том же порядке (Мк. 6.14–16). Действительно, после того, как Господь послал учеников, сказав им, чтобы они ничего не брали с собою в путь, кроме посоха, Марк, закончив речь, присоединил и это сообщение, не побуждаемый, однако, какой–либо необходимостью, в силу которой мы были бы вынуждены признать, что это событие было тесно связано по времени с предшествующими по Марку. Он не сказал как Матфей «в то время», ни «в тот день», ни «в тот час». А Лука, удерживая тот же порядок повествования, что и Марк, и не вынуждая читателя признавать, что порядок следования событий был именно такой, о том же предмете говорит так: «Услышал Ирод четвертовластника о всем, что делает Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых; другие, что Илия явился; а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое? И искал увидеть Его» (Лк. 9.7–9). В этих словах Лука согласен с Марком; а то, что он упоминает о колебании Ирода и о его словах, дает основание полагать, что Ирод в конце концов утвердился в той мысли, которую открыто заявляли другие, так как, по словам Матфея, он говорит: «Это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Если бы он сказал: «Да неужто это Иоанн» или: «Как такое может быть», то тогда, конечно же, речь бы шла о том, что он все еще сомневался. Лука, рассказав об этом, перешел к другому, другие же два, Матфей и Марк, далее сообщают, каким образом был обезглавлен Иоанн.
92.
Далее Матфей говорит: «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу», и т. д. до слов: «Ученики же его пришедши взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу» (Мф. 14.3–12). Марк сообщает об этом почти теми же словами (Мк. 6.17–29). А Лука вспомнил об этом не в том порядке, а непосредственно после крещения Господа; так что Лука загодя описал то, что случилось гораздо позже. Действительно, упомянув слова Иоанна о Господе, что лопата в руке Его и Он соберет пшеницу в житницу Свою, а плевелы сожжет огнем неугасимым (Лк. 3.15–21), Лука непосредственно за этим прибавил то, что, по весьма ясному сообщению Иоанна, совершилось не непосредственно после (так как Иоанн сообщает, что после крещения Иисус пошел в Галилею, где претворил воду в вино, а потом, после кратковременного пребывания в Капернауме, возвратился в Иудею, и там около Иоанна крестил многих, прежде чем Иоанн был заключен в темницу (Ин. 2.1–12; 3.22–24).
Только несведущий в Писаниях не поймет, что Ирод был оскорблен Иоанном гораздо позже его слов о житнице и пшенице и лишь тогда заключил его в темницу. Отсюда очевидно, что Лука, случайно вспомнивший об этом оскорблении, рассказал о трагедии Иоанна прежде многих событий, о которых имел намерение повествовать. Но и Матфей с Марком в своем рассказе расположили события с Иоанном не в том порядке, в котором совершавшееся представляется в их писаниях. Ведь и они сказали, что после предания Иоанна Господь пошел в Галилею (Мф. 4.12; Мк. 1.14), и уже после многого, что было сделано Им в Галилее, пришли к Ироду с сообщением, заставившем Ирода усомниться, не воскрес ли из мертвых Иоанн, которого он обезглавил (Мф. 14.1,2; Мк. 6.14–16); по этому поводу они и сообщают все, касающееся заключения и умерщвления Иоанна.
93.
После слов об извещении Христа о смерти Иоанна Матфей продолжает свое повествование так: «И услышав Иисус удалился», и проч. до слов: «И сжалился над ними и исцелил больных их» (Мф. 14.13,14). Он говорит, что это было непосредственно после страдания Иоанна. Таким образом, после совершилось то, о чем прежде сообщено и что побудило Ирода сказать: «Иоанна я обезглавил». И действительно, мы должны считать позднейшим то, что молва принесла Ироду, так что он пришел в смятение и стал колебаться относительно того, кто бы мог быть Тот, о Котором ему сообщили после того, как Иоанна он обезглавил. А Марк, сообщив о страданиях Иоанна, говорит, что апостолы возвратились к Иисусу и возвестили Ему все, что сделали и чему учили, и только он один говорит, что Господь повелел им отдохнуть немного в уединенном месте, затем взошел с ними на корабль и отплыл, а толпы, видевшие это, пришли туда раньше их; и Господь, сжалившись над ними, учил их многому, а когда время было позднее, тогда и совершилось то, что все присутствующие были накормлены пятью хлебами и двумя рыбами (Мк. 6.30–44).
Об этом чуде упомянули все четыре евангелиста. Даже Лука, который о страдании Иоанна рассказал намного раньше (Лк. 3.20), теперь, после упоминания об Ироде и его сомнении относительно того, кто такой Господь, непосредственно прибавил то же, что и Марк, т. е. что к Нему возвратились апостолы и рассказали, что они сделали; что Он удалился с ними в пустынное место; что при этом за Ним последовали многие толпы народа; что Он говорил им о Царстве Божием и исцелил тех, которые страдали недугом; и после он также упоминает, что в конце дня было совершено чудо с пятью хлебами (Лк. 9.10–17).
94.
Но Иоанн, который во многом отличается от трех остальных евангелистов, потому что он больше останавливается на речах, произнесенных Господом, чем на чудесно совершенных действиях, после упоминания о том, что Он, оставив Иудею, снова пошел в Галилею (т. е. после предания Иоанна Крестителя), присоединил к своему повествованию многое из того, что Он во время перехода проповедал по случаю встречи у колодца с самарянкой; спустя же два дня, по словам Иоанна, Он пошел оттуда в Галилею, потом пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино и исцелил сына некоего царедворца (Ин. 3.5, 43–54). Но о другом, сделанном или произнесенном Им в Галилее, прочие евангелисты сказали, а Иоанн умолчал; напротив, он точно передал (о чем умолчали другие), что Он в праздничный день пришел в Иерусалим и совершил там чудо над тридцативосьмилетним больным, не имевшим человека, который опустил бы его в водоем, где исцелялись подверженные различным недугам; он упомянул также и о многих речах Господа по этому поводу. А после этого он говорит, что Господь переправился через Тивериадское море и что за Ним последовала большая толпа народа; что потом Он удалился на гору, где и сел со Своими учениками при приближении Пасхи Иудейской, а затем, подняв очи и увидев множество народа, напитал их пятью хлебами и двумя рыбами (Ин. 5–6.13), т. е. то, о чем говорят и прочие евангелисты; при этом, несомненно, он пропустил то, через что другие перешли к повествованию об этом чуде. Однако, хотя и идя различными путями повествования, все евангелисты сошлись вместе у чуда с пятью хлебами.
95.
Матфей подводит свое повествование к известному чуду с пятью хлебами так: «Когда же настал вечер приступили к Нему ученики Его», и т. д. до слов: «А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф. 14,15–21). Об этом чуде сообщают все четыре евангелиста (Мк. 6.34–44; Лк. 9.12–17) и считается, что их рассказы несколько расходятся. Поэтому необходимо внимательно исследовать их тексты, дабы научиться тому, как действовать и рассуждать в других аналогичных случаях, неизменно следуя при этом истине. И исследование необходимо начинать не с Матфея, а с Иоанна, у которого повествование построено так, что он назвал даже имена учеников, с которыми Господь беседовал по этому предмету. Действительно, он говорит: «Иисус, возвел очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?, и проч. до слов: «И собирали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели» (Ин. 6.5–13).
96.
Здесь не так уж важно, что он упомянул о том, что хлебы были ячменные, о чем другие не сказали; также не суть важно и то, что он не привел количества народа: что там было пять тысяч человек, кроме женщин и детей, о чем сказал Матфей. Понятно: один упомянул одно, другой — другое. Важно вот что: каким образом все сказанное ими истинно. В самом деле, если Господь, по Иоанну, посмотрев на толпы, спросил для испытания Филиппа, где они могли бы достать им пищи, то при этом может закрасться сомнение, как может быть истинным то, что Господу предложили ученики, а именно: отпустить толпы, чтобы они могли купить себе пищи в соседних местах, как о том сообщают другие евангелисты, равно как и то, что Господь, по словам Матфея, сказал им: «Не нужно им идти; вы дайте им есть». С Матфеем согласны Марк и Лука, пропуская только его слова: «Не нужно им идти». Таким образом, становится ясным, что после этих слов Господь посмотрел на толпы и сказал Филиппу то, о чем упоминает Иоанн, а эти пропускают.
Затем, приведенный у Иоанна ответ Филиппа Господу Марк приписывает всем ученикам; впрочем, он мог, как это часто бывает, употребить множественное число вместо единственного. Таким образом, слова Филиппа: «Им на двести динариев не довольно будет хлеба» значат то же, что, по словам Марка, спросили ученики: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» А слова Господа, приведенные Марком: «Сколько у вас хлебов?» прочие пропустили. А то, что, по Иоанну, подсказал Андрей о пяти хлебах и двух рыбках, другие евангелисты, заменив множественным числом единственное, сообщили как сказанное всеми учениками. Лука также соединил в одну мысль ответ и Андрея, и Филиппа. В самом деле, слова Луки: «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб» напоминают слова Андрея; а дальнейшие слова: «Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» относятся, по–видимому, к ответу Филиппа, если бы он не умолчал о двухстах динариях. Впрочем, то же можно иметь в виду и относительно слов Андрея. Ведь, когда он говорит: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки», то тут же прибавляет: «Но что это для такого множества?» А это и значит сказать: «Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
97.
Итак, мы видим, что слова разнятся, а в предметах и мыслях — согласие полное; из этого мы получаем спасительный урок: искать в словах только намерение говорящих, к объяснению которого должны быть внимательны все истинные повествователи, говорят ли они что–либо о человеке, ангеле или Боге; а их желание может быть явлено из слов, лишь бы только они не противоречили друг другу по существу.
98.
Конечно, в этом месте следует обратить внимание читателя и на остальное, являющееся случайным: на то, как Лука говорит, что им было ведено расположиться по пятидесяти, а Марк — по сто и по пятидесяти в ряд. Но это не должно смущать, ибо один назвал часть, а другой — целое; действительно, тот, кто сообщил о сотнях, тот сообщил пропущенное другим; таким образом, противоречия нет. Конечно, если бы один сказал о полусотнях, а другой о сотнях, то вышло бы некоторое противоречие и нелегко было бы разрешить, почему сказано и так, и этак. Однако, говоря по правде, при внимательном исследовании и это противоречие могло бы быть снято. Я упомянул об этом потому, что часто встречается нечто такое, что для маловнимательных и безрассудных людей кажется противоречивым, а на самом деле не таково.
99.
Затем Матфей говорит: «И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один», и проч. до слов: «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф. 14.23–33). Так же продолжает и Марк после повествования о чуде с пятью хлебами: «Вечером лодка была посредине моря, а Он один на земле», и т. д. (Мк. 6.47–54); почти то же, за исключением речи о Петре. Тут необходимо предупредить, чтобы не дать повода к сомнению, что Марк, говоря о хождении Господа по водам, сказал, что Он хотел пройти мимо их. Каким образом кто–то смог понять это в том смысле, что Он хотел их гибели, как бы людей чуждых Ему, которые настолько не узнали Его, что Он им казался привидением? Ведь Он подошел к ним, находившимся в смущении и кричавшим, с такими словами: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». Итак, каким образом Он хотел погубить тех, кого так ободряет, если только Его желание погубить их не имело своей целью вызвать тот их вопль, по которому нужно было прийти к ним на помощь.
100.
Иоанн несколько подробнее описал эти события, ибо после рассказа о чуде с пятью хлебами также говорит о затруднительном положении лодки и о хождении Господа по водам, так соединяя рассказ: «Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер и море волновалось» (Ин. 6.15–21). Здесь может показаться противоречивым только то, что Матфей говорит, будто Он взошел на гору, отпустив народ, чтобы там помолиться в уединении, а Иоанн пишет, что Он был на горе с теми же толпами, которых напитал пятью хлебами. Но так как и сам Иоанн говорит, что после этого чуда Он удалился на гору, чтобы не быть удержанным толпой, которая хотела сделать Его царем, то, конечно, становится понятным, что с горы они уже спустились на низину, когда хлебы раздавались народу. А потому нет никакого противоречия в том, что Он снова взошел на гору, как говорят Иоанн и Матфей.
101.
А Лука после повествования о чуде с пятью хлебами переходит к другому и уклоняется от общего порядка. Действительно, он не говорит ничего ни о лодке, ни о хождении Господа по волнам; но сказав: «И ели и насытились все», прибавил: «В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня народ?» (Лк. 9.17,18). Таким образом, он сначала рассказывает не о том, о чем остальные евангелисты, сообщившие, что Господь, ходящий по водам, подошел к плывущим в лодке ученикам. И потому следует думать, что Он спросил учеников: «За кого почитает Меня народ?» не на той горе, на которую, по словам Матфея, Он взошел, чтобы помолиться в уединении (ведь Лука, по–видимому, согласен с Матфеем, говоря: «Когда Он молился в уединенном месте», так как и тот сказал: «Взошел на гору помолиться наедине»), а совершенно в другом месте, также уединенном, но с Ним были ученики Его.
102.
Матфей продолжает так: «И переправившись прибыли в землю Геннисаретскую, и проч. до слов: «Есть неумытыми руками — не оскверняет человека» (Мф. 14.34–15.20). Об этом же говорит и Марк, не давая никакого повода к недоуменным вопросам (Мк. 7.1–23); и хотя о кое–чем говорится у него иначе, но этим он не отступает от общей им мысли. А Иоанн, после рассказа о вступлении на землю с лодки, на которую взошел Господь, ходивший по морю, по своему обыкновению сосредоточил свое внимание на речи Господа и сообщил то, что Он говорил о хлебе. И непосредственно после приведения этой речи он снова уносится в своих умозрениях (Ин. 6.22–72). Однако же в том, в чем он расходится с другими, его переход к иным предметам не противоречит порядку повествования других. В самом деле, чем он препятствует нам признавать то, что те, о которых говорят Матфей и Марк, были исцелены, и что тем, которые следовали за Ним на другой берег моря, Он говорит сообщаемое у Иоанна; ведь Капернаум, куда они переправились, по словам Иоанна, находится около озера Геннисар, в каковую землю они пришли согласно Матфею.
103.
После слов Господа, когда Он говорил с фарисеями об умывании рук, Матфей продолжает и соединяет повествование так, что самим переходом показывает последовательность событий. Он говорит: «И вышел оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские», и т. д. до слов: «И исцелилась дочь ее в тот час» (Мф. 15.21–28). О женщине Хананеянке упоминает и Марк, сохраняя тот же порядок событий и не давая повода к каким–либо сомнениям, за исключением добавленного им, что Господь был в доме, когда приступила к Нему жена, просящая за свою дочь (Мк. 7.24–30). Однако, не составляет труда увидеть, что Матфей умолчал о доме, хотя и повествует о том же самом событии; но его слова, что ученики в таких выражениях обратились к Господу: «Отпусти ее, потому что кричит за нами», говорят о том, что эта женщина кричала с мольбами вслед проходящему Господу. Итак, слова Марка о доме можно понять только в том смысле, что женщина вошла туда, где был Иисус, т. е. куда Он вошел по предыдущим словам Марка. А слова Матфея позволяют допустить, что Иисус в молчании вышел из того дома; таким образом открывается связь и в остальном повествовании. А свидетельство Марка о том, что Господь ответил ей о невозможности бросать хлеб детей псам, поставлено вслед за словами, сказанными Матфеем об учениках, просивших за женщину Господа, Его ответом, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева, и сообщением Матфея о том, что она последовала за Ним и поклонилась Ему со словами: «Господи! помоги мне»; потом уже сказано то, о чем упоминают оба евангелиста.
104.
Матфей так продолжает свое повествование: «Перешел оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там», и проч. до слов: «А евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей» (Мф. 15.29–38). Об этом втором чуде с семью хлебами и несколькими рыбками упоминает и Марк и почти в том же порядке, только с прибавлением того, о чем никто другой не говорит, а именно о глухом, которому Господь открыл слух, плюнув и сказав: «еффафа», т. е. «отверзись» (Мк. 7.31–8.9).
105.
Если бы кто–нибудь из евангелистов, не сказав об известном чуде с пятью хлебами, поведал бы об этом с семью, то его можно было бы признать несогласным с прочими. Кому бы не пришло в голову, что это одно и то же событие, но переданное не совсем точно или тем, или другим, или всеми вместе; но или один по ошибке сообщил о семи хлебах вместо пяти, или другие сказали вместо семи о пяти, или же и те и другие допустили ложь, или обманулись по забывчивости? Такое же противоречие можно было бы увидеть и в числе двенадцати и семи коробов и корзин, а также и в количествах пять и четыре тысячи, которые были накормлены Но так как сообщившие о чуде с семью хлебами не умолчали и о чуде с пятью, то это никого не приводит в смущение и все понимают, что речь здесь идет о двух разных событиях.
106.
Затем Матфей говорит: «И отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские», и проч. до слов: «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И оставив их, отошел» (Мф. 15.39–16.4). То же самое Матфей сказал уже в другом месте (Мф. 12.39). Из этого следует еще раз сделать для себя вывод, что Господь иногда повторял сказанное ранее, так что если при наличии противоречивого обстоятельства какое–нибудь место не может быть разрешено, то нужно понимать, что оно сказано дважды. Конечно, держась такого же порядка, Марк, сказав об известном чуде с семью хлебами, поведал то же, что и Матфей (Мк. 8.10–12). Нас не должно смущать то обстоятельство, что Марк о просящем знамения с неба не сказал того же, что и Матфей, а только: «Не дастся роду сему знамение»; тут и так понятно, что именно с неба, ибо об этом они и просили; кроме того, он пропустил сказать об Ионе, о чем сообщил Матфей.
107.
Матфей продолжает: «Переправившись на другую сторону…», и т. д. до слов: «Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского» (Мф. 16.5–12). То же самое и в том же порядке приводит и Марк (Мк. 8.13–21).
108.
Далее Матфей говорит так: «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих…», и проч. до слов: «И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16.13–19). Марк рассказывает об этом почти в том же порядке, но сначала вставляет рассказ о возвращении слепому зрения (о чем поведал только он один); тому слепому, который сказал Господу: «Вижу проходящих людей, как деревья» (Мк. 8.22–29). А Лука припоминает об этом вопросе ученикам и вводит его после повествования о чуде с пятью хлебами (Лк. 9.18–20). Как мы выше сказали, такой порядок воспроизведения в памяти нисколько не противоречит порядку следования событий друг за другом. Но может вызывать недоумение то обстоятельство, что, по словам Луки, Господь спросил учеников, за кого считают Его люди, тогда, когда Он молился в уединенном месте, Марк же говорит, что они были спрошены Им в пути. Но это может смущать только того, кто никогда не молился в пути.
109.
Я напоминаю о том, что мною уже было сказано выше: пусть никто не думает, что Петр получил имя тогда, когда ему было сказано: «Ты — Петр». Но это произошло тогда, когда, по словам Иоанна, ему было сказано: «Ты наречешься Кифа, что значит «камень» (Петр)» (Ин. 1.42). Отсюда следует, что это произошло и не в том месте, где Марк, перечисляя поименно двенадцать учеников, сказал, что Иаков и Иоанн названы «сынами грома», потому что там лишь сказано, что Господь положил ему называться Петром (Мк. 3.16–19); ведь он говорит так только в качестве напоминания, а не в том смысле, что это тогда совершилось.
110.
Матфей далее говорит: «Тогда (Иисус) запретил ученикам Своим…», и т. д. до слов: «Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16.20–23). В таком же порядке это присоединяют Марк и Лука (Мк. 8.30–33 и Лк. 9.21,22), но Лука не сказал, что Петр противился страданиям Христовым.
111.
Потом Матфей продолжает: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвертись себя и возьми крест свой и следуй за Мною», до слов: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф. 16.24–27). Это присоединяет и Марк, сохраняя ту же последовательность; но он не говорит о Сыне Человеческом, имеющем прийти с Ангелами Своими, чтобы воздать каждому по делу его. Однако он тоже прибавляет, что Господь тогда сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8.34–38). Можно понять, что это относится к той мысли, что Он воздает каждому по делу его. И Лука присоединил то же самое и в том же порядке с небольшим различием в словах, вполне соглашаясь с той же истиной (Лк. 9.23–26).
112.
Затем Матфей говорит: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Это явление Господа на горе в присутствии трех учеников, Петра, Иакова и Иоанна, когда Ему было дано свидетельство Отчим голосом, представлено тремя евангелистами в одном и том же порядке и совершенно в тех же самых выражениях (Мф. 16.28; 17.9; Мк. 8.39; 9.9 и Лк. 9.27–36). А остальное, как могут видеть читатели, различно по словам и выражениям, но изложено в полном согласии в мыслях, как это мы показали во многих местах выше.
113.
А то, что Марк указывает на это, как на совершившееся спустя шесть дней, подобно Матфею, а Лука — спустя восемь дней, не должно оставлять без внимания, ибо иных это приводит в смущение; таких нужно наставить, представив основания для этого. Мы иногда обозначаем дни, говоря так: «Спустя столько–то дней»; но мы порой не считаем того дня, в который говорим, и того, в который ожидается событие, о котором идет речь, а говорим лишь о промежуточных целых днях. Так и делают Матфей и Марк; они исключают тот день, в который говорил Иисус, и тот, в который Он представил им известное видение на горе, и говорят только о днях средних. Лука же, причислив конечные, т. е. первый и последний дни, сказал «восемь».
114.
Также и то, что Лука говорит о Моисее и Илье: «Сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии», не должно считаться противоречивым тому, что присоединили Матфей и Марк, т. е. что Петр будто бы указывал на это тогда, когда Моисей и Илья еще говорили с Господом. Ведь, на самом деле, они это не выразили ясно, а скорее умолчали о том, что при уходе их Петр внушал эту мысль Господу. Лука еще прибавляет, что когда они вошли в облако, то был голос из облака, о чем другие не сказали, но они не сказали и чего–либо обратного.
115.
Матфей продолжает так: «И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?», и проч. до слов: Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе» (Мф. 17.10–13). То же самое, хотя отчасти и другими словами, сказал и Марк (Мк. 9.10–12); но он не прибавил, что они поняли Его слова, как указание на Иоанна Крестителя, когда Он сказал, что Илья уже пришел.
116.
Далее Матфей говорит: «Когда они пришли к народу…», и т. д. до слов: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17.14–21). Это же и в том же самом порядке воспроизводят Марк и Лука, не давая повода к какому–либо недоуменному вопросу (Мк. 9.16–28; Лк. 9.38–40).
117.
Матфей продолжает так: «Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. И убьют Его, и в третий день воскреснет. И они опечалились» (Мф. 12.22–23). В том же порядке о том же самом вспоминают Марк и Лука (Мк. 9.29–31; Лк. 9.44–45).
118.
Далее Матфей говорит: «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?», и проч. до слов: «Найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» (Мф. 17.24–27). Об этом говорит только один Матфей, и после этой вставки следует тому же порядку расположения событий, по которому вместе с ним идут Марк и Лука.
119.
Затем Матфей говорит так: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?», и т. д. до слов: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 18). Из этой пространной речи, следуя тому же расположению, Марк предложил не все, но только кое–что, и еще сам включил нечто такое, чего Матфей не говорит (Мк. 9.33–49). А вся речь до того места, до которого мы назначили рассмотрение, вызвана только вопросом Петра о том, сколько раз должно прощать брату. Действительно, Господь говорил это так, что всякому должно быть ясно, что и вопрос Петра, и ответ на него относятся к одной и той же речи. А Лука, при соблюдении того же порядка, не вспоминает ни о чем, кроме дитяти, которое Господь поставил перед учениками как пример для подражания, когда они помышляли о своем величии (Лк. 9.46–48).
120.
Матфей так продолжает свое повествование: «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскою стороною», и проч. до слов: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19.1–12). Об этом сообщает и Марк, держась того же порядка (Мк. 10.1–12). Конечно, можно видеть, что нет никакого противоречия, когда тот же Марк влагает в уста Господа вопрос фарисеям: «Что заповедал вам Моисей?, и такой их ответ, что им дозволено давать разводную запись; в то время как Матфей сказал словами Господа, которыми Он показал им из книги Закона, что Бог соединил мужа и жену, и потому человеку не должно их разъединять, а они сослались на Моисея: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Но Он снова сказал им: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала не было так». Действительно, ведь и Марк не умалчивает об этом ответе Господа; но это уже после того, как они ответили на вопрос о разводной записи.
121.
В каком порядке или способе выражения мы должны это рассматривать, для истинности дела это нисколько не важно: они ли сами предложили вопрос Господу, запретившему развод и подтвердившему слова Свои из Закона, именно: вопрос о разводной записи, дозволенной им тем же самым Моисеем, который написал и то, что Бог соединил мужчину и женщину (Быт. 2.24), или же они сами это ответили из заповеди Моисея на Его вопрос. Ведь и Его намерение было таково, чтобы дать им основательный ответ, почему это позволил Моисей, только после того, как они вспомнят об этом. Это намерение Его, то, которое представлено у Марка, ясно обозначено в самом вопросе. С другой стороны, и их намерение состояло в том, чтобы на основании обязательности и значения Моисея, повелевшего давать разводное письмо, они могли заключить о Его полном и несомненном отрицании развода; ведь, испытывая Его, они подошли с намерением сказать именно это. Это их намерение выражено у Матфея в том, что не они были спрошены Господом, а сами собой включили вопрос о заповеди Моисея, чтобы одержать видимый перевес над Господом, так как Он запрещает развод супругов.
122.
А еще это может быть понято и так, как это видно из слов Марка, что Господь спросил их, поскольку они сначала спросили Его, должно ли отпускать жену: «Что заповедал вам Моисей?», так как они ответили, что Моисей позволил писать разводную запись и отпускать, то Он отвечал им из книги Закона, данного Моисеем, как Бог установил брак мужчины и женщины словами, которые привел Матфей. А когда они услышали то, что первоначально сами отвечали на Его вопрос, то повторили так: «Почему же Моисей позволил давать разводную запись?» Тогда Иисус указал им, что причина этого — жестокость их сердец; эту причину Марк поставил впереди для краткости, как бы в ответ на тот их первый вопрос, который вставил Матфей; он справедливо полагал, что истина нисколько не потерпит ущерба, в каком бы месте в тех же самых словах не был дан ответ на сказанное дважды, когда Господь дважды теми же самыми словами ответил на это.
123.
Матфей продолжает: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился», и проч. до слов: «Ибо много званных, а мало избранных» (Мф. 19.13–20.16). Этот порядок вместе с Матфеем удержал и Марк (Марк. 10.13–31); о работниках, посланных в виноградник, вставляет только один Матфей. А Лука, после ответа Его на споры учеников между собой о том, кто из них больший, присоединил рассказ о том изгоняющем бесов человеке, которого они видели, хотя он и не ходил за Ним. С этого места Лука расходится с другими, когда говорит, что Он восхотел идти в Иерусалим (Лк. 9.46–51); но после многих вставок он снова сходится с ними при воспоминании о том богаче, которому было сказано: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим» (Лк. 18.18–30), о котором первые два евангелиста говорят в том порядке, в каком далее они и идут одним и тем же путем; ведь и Лука не преминул сказать о детях, прежде чем поведал о том же богаче, что и они.
124.
Затем Матфей продолжает так: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им…», и т. д. до слов: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20.17–28). Вместе с ним этот же порядок выдерживает и Марк, говоря о сынах Зеведея, что ими самими, а не матерью их, как говорит Матфей, было высказано пожелание сесть по правую и по левую стороны Его в славе Его. Таким образом, Марк кратко указал, что скорее они сами, чем их мать, высказали это. Сверх того, Матфей и Марк говорят, что Господь отвечал скорее им, чем их матери. А Лука, указав в том же порядке, что Он предсказал ученикам Своим о страдании и воскресении, пропустил то, о чем упоминают эти евангелисты; после этой вставки их повествования встречаются с тем, что поведал Лука, у Иерихона (Лк. 18.31–35). А то, что Матфей и Марк говорят о князьях народов, которые господствуют над подчиненными, и что между учениками Его не будет так, но больший между ними будет слугою других, — то ведь и Лука говорит нечто подобное, но не в том месте (Лк. 22.24–27); причем и сам порядок показывает, что Господом второй раз была высказана та же самая мысль.
125.
Потом Матфей говорит: «И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа», и проч. до слов: «И тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним» (Мф. 20.29–34). Об этом событии говорит и Марк, но только в отношении к одному слепому (Мк. 10.46–52). Это несогласие разрешается так же, как разрешен вопрос о двух страдавших от легиона демонов, а именно: из двух слепых один был более известен и знаменит в том городе; этим, кстати, объясняется и то, что Марк упоминает имя его и его отца, что встречается нечасто при упоминании о столь многих, исцеленных Господом. Таким образом, несомненно, этот Вартимей, сын Тимея, лишившись большого благополучия, был повержен в такое всем известное несчастье, что был не только слепым, но даже сидел и просил милостыню. Вот потому–то Марк пожелал упомянуть только его одного, так как его прозрение доставило этому чуду столь же большую известность, сколь общеизвестно было бедствие Вартимея.
126.
А Лука, как следует из его текста, хотя и повествует о таком же чудесном событии, но только с другим слепым, ибо он говорит, что это случилось во время их приближения к Иерихону (Лк. 18.35–43), а другие — что это произошло тогда, когда они выходили из Иерихона. Но упоминание одного и того же города и схожесть событий дают повод думать, что это все–таки совершилось один раз. А несогласие евангелистов в том, что один говорит о приближении к Иерихону, а другие — об удалении от него, убедительно, конечно, только для тех, которые более склонны верить в ложность Евангельских повествований, чем признать, что Иисус сотворил два одинаковых чуда. А что это более вероятно и скорее можно признать истинным, всякий верный сын Евангелия видит, так сказать, невооруженным глазом; всякий же заядлый спорщик, когда будет убежден в этом, пусть отвечает сам, или молчанием, или, если не хочет молчать, рассуждениями.
127.
Матфей продолжает так: «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской…», и т. д. до слов: «Благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21.1–9). Об этом повествует и Марк, соблюдая тот же порядок (Мк. 21.1–10). А Лука остался в Иерихоне, рассказывая о том, что Матфей и Марк пропустили, а именно о Закхее, начальнике мытарей, и воспроизводя нечто, сказанное в притчах. А после этого и Лука поспешил за другими к повествованию об осленке, на котором воссел Иисус (Лк. 19.1–38). Пусть не смущает то обстоятельство, что Матфей говорит об ослице и осленке, а остальные об ослице умалчивают. Впрочем, нужно припомнить то правило, которое мы внушали выше относительно расположившихся по сотням и по пятидесяти, когда пять тысяч насыщались от пяти хлебов; после ссылки на него читателя уже не должно было бы смутить даже то, если бы Матфей умолчал об осленке, как остальные умолчали об ослице; ведь было бы куда более противоречивым, если бы один сказал об ослице, а другие — об осленке. Итак: нет повода к какому–либо возражению даже тогда, когда один вспомнил об одном, а другой — о другом; но насколько менее может быть повода к этому, когда один сказал только об одном, а другие также и о другом!
128.
Также и Иоанн, хотя умолчал о том, что Господь послал учеников Своих привести к Нему этих животных, однако вкратце внес сообщение об осленке, и даже со свидетельством из пророка, которое приводит Матфей (Ин. 12.14–15). В этом пророческом свидетельстве можно усмотреть несколько различный способ выражения, однако общность мысли несомненна. Недоумение может быть вызвано тем, что Матфей приводит слова пророка таким образом, будто пророк говорит и об ослице. Но это, конечно, не так.
По моему мнению, причина всего этого состоит в том, что Матфей, по преданию, писал Евангелие на еврейском языке. Но известно, что перевод, известный как перевод Семидесяти, в некоторых местах заключает нечто иное, сравнительно с еврейским (оригиналом), хотя эти Семьдесят знали этот язык и поодиночке переводили одни и те же еврейские книги. Если же затем начать искать причину этого разногласия, т. е. почему столь важный перевод Семидесяти отступает от содержания еврейских списков, то я не вижу другого более вероятного объяснения кроме того, что Семьдесят переводили под действием того же Духа, Которым было сказано и переводимое ими, что было подтверждено удивительным их согласием, о котором провозглашают повсюду. Таким образом они, при некотором различии в словах, но не отступая от воли Господа, Которому принадлежит сказанное и Которому должны служить их слова, обнаружили в себе только то, чему теперь мы изумляемся в согласии четырех евангелистов. При этом нам ясно, что нет лжи в том, когда кто–либо передает о чем–нибудь несколько иным способом, но не отступает от мысли того лица, с которым он должен быть в согласии и единодушии. Знать об этом полезно и в жизни для предохранения себя от лжи и в виду необходимости осуждать ее; полезно это и для самой веры, чтобы мы не думали, что истина охраняется как бы заколдованными звуками, как будто Бог вручает нам самую истину так же, как и слова, которыми она выражается. Истина, которую нужно провозглашать, должна быть предпочтительнее слов, которыми она выражается; так что нам не следовало бы производить и разысканий о них, если бы мы могли знать истину, как ее знает Бог, а в Нем — ангелы Его.
129.
Далее Матфей говорит: «И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: кто Сей?», и проч. до слов: «Вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21.10–13). Об этом изгнании торгующих из храма говорят все (Мк. 11.15–17; Лк. 19.45,46; Ин. 2.1–17); но Иоанн — в совершенно другом порядке, так как после свидетельства Крестителя об Иисусе сказал, что Он пошел в Галилею, где претворил воду в вино и оттуда, проведя несколько дней в Капернауме, Он, по словам Иоанна, пошел в Иерусалим, так как была пасха Иудейская, и, сделав бич из веревок, изгнал торговавших из храма. Из этого видно, что Господь совершил это не один, а два раза. В первый раз тогда, когда об этом упомянул Иоанн, а во второй — когда об этом поведали прочие три евангелиста.
130.
Затем Матфей говорит: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые…», и т. д. до слов Иисуса: «Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горе сей скажете: «поднимись и ввергнись в море», — будет; и все, чего не попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21.14–22).
131.
Об этом говорится и у Марка, но он не выдерживает такой же последовательности. Действительно, во–первых, подобно Матфею, сказавшему, что Он вошел в храм и изгнал из храма торгующих и покупающих, Марк об этом не говорит; а говорит он, что Господь, обозрев всех, так как был уже вечер, вышел с двенадцатью в Вифанию; а когда на другой день вышел из Вифании, то захотел есть и проклял смоковницу, о чем свидетельствует и Матфей. И, во–вторых, тот же Марк прибавляет, что Господь прибыл в Иерусалим и, вошедши в храм, изгнал торговцев и покупателей из храма, и будто бы не в первый, а во второй день (Мк. 11.11–17). Но так как Матфей вводит такую связь: «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию», при возвращении из которой утром проклял смоковницу, то вероятнее, что именно Матфеем выдержана последовательность событий после изгнания торгующих из храма. В самом деле, слова «оставив их, вышел вон» можно понять только по отношению к тем, которые негодовали на возгласы детей: «Осанна Сыну Давидову!»
Итак, Марк пропустил то, что произошло в первый день, когда Он вошел в храм; но он вспомнил о словах Спасителя, когда Тот на смоковнице не нашел ничего, кроме листьев; а это, по общему свидетельству обоих евангелистов, было на второй день. А то, что Господь сказал ученикам о вере и о возможности перенести гору в море, — все это произошло не во второй день, когда смоковнице было сказано: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», а в третий. Итак, Марк, упомянув об изгнании торгующих из храма во второй день, пропустил совершившееся в первый; ибо он говорит, что в тот же самый день вечером Он вышел из города, и когда они утром проходили мимо, ученики увидели, что смоковница высохла до корня; Марк вспомнил также слова Петра Господу: «Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла»; тогда Иисус и поведал ученикам о могуществе веры. А Матфей передал так, как будто все это, т. е. слова, обращенные к дереву, и немедленное засыхание смоковницы, и удивление учеников при виде этого, и Его ответ о силе веры, — все это было в один и тот же день. Отсюда ясно, что Марк вспомнил во второй день о том событии, о котором пропустил сказать в первый, а именно об изгнании торгующих и покупающих из храма. Матфей же, хотя упомянул о совершившемся во второй день, т. е. о проклятии дерева при возвращении из Вифании, пропустил при этом сказанное у Марка: о прибытии Его в город и о выходе из него вечером, а также и о том, что когда Он утром проходил мимо, ученики удивлялись засохшему дереву. Кроме того, к событиям второго дня, когда дерево засохло, он присоединил еще и совершившееся в третий день, т. е. удивление учеников тому, что дерево засохло, и то, что ученики слышали от Господа о могуществе веры; Матфей так сопоставлял события, что только из рассказа Марка можно распознать, где и что пропустил Матфей.
132.
Матфей продолжает так: «И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?», и проч. до слов: «Я вам не скажу, какою властью это делаю» (Мф. 21.23–27). Все это почти в тех же самых словах изложили и два другие: Марк и Лука (Мк. 11.27–33; Лк. 19.47–20.8); в последовательном изложении событий они ни в чем не противоречат друг другу, за исключением того, о чем я сказал выше, а именно: Матфей, пропустив нечто, относящееся к другому дню, так сопоставил события, что если не разобраться, то можно подумать, что он все еще продолжает вращаться в пределах второго дня, а Марк — третьего. Лука же рассказал так, как будто он не соблюдал последовательность дней; но после упоминания об изгнании из храма продавцов и покупателей умолчал о выходе в Вифанию и возвращении в город, не рассказав при этом и обо всем, что было связано со смоковницей; причем, пропустив это, он далее поведал то, что мы выше привели из Матфея.
133.
Далее Матфей говорит: «А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду, государь»; и не пошел; который из двух исполнил волю отца», и т. д. до слов: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется; а на кого он упадет, того раздавит» (Мф. 21.28–44). Марк и Лука не упоминают о двух этих сыновьях, но они не обошли молчанием то, о чем Матфей повествует потом: о винограднике, врученном работникам, которые преследовали посланных к ним рабов господина, а потом убили возлюбленного сына и выбросили за пределы виноградника. При этом Марк и Лука соблюдают ту же последовательность, что и Матфей (Мк. 12.1–11 и Лк. 20.9–18).
134.
Итак, здесь может явиться только один недоуменный вопрос, а именно: Матфей говорит, что Господь спросил иудеев: «Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?», а затем прибавляет, что они сказали в ответ: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои»; а Марк говорит, что этот ответ дан был не ими, а сам Господь, непосредственно после Своего вопроса, как бы Сам ответил Себе. Но легко заметить, что или фразы «они сказали», «они ответили», хотя и пропущены, но подразумеваются; или же этот ответ усвоен Господу, потому что от имени их, так как они сказали истину, ответ дает Тот, Который есть сама истина.
135.
Гораздо больше сомнений возбуждает то обстоятельство, что Лука не только приписывает, подобно Марку, вышеозначенный ответ Господу, но еще и вкладывает в уста иудеям ответ противоположный, будто бы они сказали: «Да не будет». Действительно, Лука так передает эту беседу: «Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет! Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие, написанное: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла»? (Пс. 117.22)». Если вдуматься, то слова Господа о камне, отвергнутом строителями, но сделавшемся главою угла, вставлены с тем, чтобы этим свидетельством были опровергнуты противоречившие рассказанной притче. Ведь и сам Матфей приводит эти слова так, как будто они сказаны возражающим; он говорит: «Неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Разве этим он не дает понять, что были такие, которые возражали Иисусу? То же отмечает и Марк, который приводит эти слова в таком виде: «Неужели вы не читали сего в Писании: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Эта мысль, безусловно, наиболее уместна после возражений со стороны иудеев.
136.
Итак, нам остается признать, что среди слушавшего Господа народа некоторые отвечали то, что приводит Матфей, а другие то, что не упустил сказать Лука. Тем, которые дали Господу тот ответ, который привел Матфей, другие возражали: «Да не будет!» Но ответ первых Марком и Лукой приписан Господу, ибо, как я выше сказал, через них говорила сама истина: или, если они были злыми, по их неведенью, как и Каиафа, который, будучи первосвященником, изрек пророчество, не понимая, что он говорит (Ин. 11.49–51); или же сознательно, как через понимающих и уже верующих. Ведь там была та толпа, через которую исполнилось известное пророчество, когда народ, встречая с великим торжеством входящего в Иерусалим, восклицал: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (Пс. 117.26; Мф. 21.9).
137.
Пусть нас не смущает и то, что Матфей сказал, будто первые священники и старейшины народа подошли к Господу и спросили, какой властью Он это делает и кто дал Ему эту власть; это тогда, когда Он со Своей стороны спросил их: «Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков?» А на их ответ, что они этого не знают, сказал им: «И Я вам не скажу, какою властью это делаю». Далее Матфей продолжал говорить таким образом: «А как вам кажется? У одного человека было два сына…», и т. д. По Матфею речь идет связно до того места, где говорится о передаче виноградника другим виноградарям. Действительно, можно подумать, что все это Господь говорил первосвященникам и старейшинам народа, которые спросили Его о Его власти. Конечно, если они спрашивали как искусители и враги, то не в них нужно видеть верующих, т. е. тех, которые представили Господу ясное свидетельство из пророка.
Было бы глупым отрицать саму возможность присутствия верующих в той толпе, которая тогда слушала притчи Господа. Ведь Матфей ради краткости умолчал о том, о чем не умолчал Лука, т. е. что притча эта сказана была не только тем, которые спрашивали Его о Его власти, но и народу, потому что он говорит так: «И начал Он говорить к народу притчу сию». Таким образом, под именем этого народа необходимо понимать и тех, которые были подобны восклицавшим: «Благословен Грядущий во имя Господне!», и, следовательно, среди них и были отвечавшие: «Злодеев сих предаст злой смерти». Поэтому их ответ Господу Марк и Лука передали так, как будто это сказал сам Тот, Который есть истина, часто провозглашаемая даже устами злых людей, побуждая к этому ум человека не в виду его святости, а в силу собственного могущества. Кроме того, вследствие возможности в них таких качеств, не напрасно же они рассматриваются в самом теле Господа как Его члены, так что голос их вручается Тому, членами Которого они были, ибо Он крестил уже больше, чем Иоанн (Ин. 4.1), и имел толпы учеников, как об этом часто свидетельствуют евангелисты; из их числа были и те пятьсот братии, которым, по свидетельству апостола Павла, Он явился после воскресения (1 Кор. 15.6).
138.
Есть у евангелиста Иоанна речь Господа, из которой легче уразуметь то, что я говорю: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда, как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха; Но раб не пребывает в доме вечно: сын пребывает вечно; итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас» (Ин. 8.31–37). Конечно, Он не сказал бы: «Ищете убить Меня» тем, которые уверовали в Него и которым Он сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это было сказано тем, которые уже веровали в Него; но была там и толпа, среди которой было немало врагов Его. И вот, хотя евангелист ясно и не указывает, кто были возражавшие, но из самого ответа и из того, что они заслужили выслушать от Господа, достаточно ясно, кому и какие слова должно приписать.
Итак, как в этой толпе, по Иоанну, были уже уверовавшие в Иисуса, но были и такие, которые хотели убить Его, так и в той, о которой ныне идет речь, были коварно испытывавшие Господа, какою властью Он это делает, но были и такие, которые бесхитростно и с верой восклицали: «Благословен Грядущий во имя Господне!», поэтому были и такие, которые говорили: «Злодеев сих предаст злой смерти». Этот ответ может быть понят как слово самого Господа или потому, что Он есть сама истина, или вследствие единства между Главою и членами. Наконец, были и такие, которые отвечавшим говорили: «Да не будет», потому что они понимали, что притча сказана относительно них.
139.
Далее Матфей говорит: «И слышавшие притчи Его, первосвященники и фарисеи, поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его; но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка», и проч. до слов: «Ибо много званных, а мало избранных» (Мф. 21.45–22.14). Эту притчу о приглашенных на брак сообщает один Матфей; нечто подобное приводит и Лука, но это не то, как видно из последовательности повествования, хотя в этом и есть некоторое подобие (Лк. 14.16–24). Но как Марк, так и Лука, удерживая тот же самый порядок, свидетельствуют о том, что иудеи все это признали сказанным о них, как указал и Матфей после изложения притчи о винограднике и об умерщвлении сына хозяина (Мк. 12.12 и Лк. 20.19). А потом они обращаются к другим событиям, присоединяя в конце то, что и Матфей вставил по порядку после этой притчи о браке, которую привел он один.
140.
Итак, Матфей продолжает: «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому–либо, ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?», и т. д. до слов: «И слышав народ дивился учению Его» (Мф. 12.15–33). Марк и Лука сообщают эти два ответа подобным же образом, не отступая в последовательности передачи их от Матфея: один о золотой монете для подати кесарю, а другой — относительно женщины, вышедшей замуж за семерых братьев, последовательно умерших один за другим (Мк. 12.13–27 и Лк. 20.20–40). Действительно, после известной притчи о работниках в винограднике и рассказе о замышлявших козни иудеях, против которых и была сказана притча, о чем упомянули все трое, эти два (Марк и Лука) пропускают притчу о приглашенных на брачный пир, о чем сообщил только один Матфей; но далее они идут все вместе, сообщая и о подати кесарю, и о жене семи мужей в одной и той же последовательности, не давая повода к какому–либо недоуменному вопросу.
141.
Матфей таким образом продолжает повествование: «А фарисеи, услышавши, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?», и проч. до слов Господа: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22.34–40). Об этом упоминает и Марк, соблюдая тот же порядок (Мк. 12.28–34). И пусть не смущает то обстоятельство, что Матфей называет искушающим того, от которого Господу был предложен вопрос, Марк же об этом умалчивает и в конце заключает речь, что Господь на его мудрый ответ сказал: «Недалеко ты от Царствия Божия». Ведь могло же быть так, что он приступил с целью искусить, но в ответе Господу был правдив. А, возможно, нам следует полагать, что это искушение не преследовало злой цели, но было искушением со стороны человека осторожного, желавшего испытать вопрошаемого.
142.
Лука же вставляет нечто подобное не в этой последовательности (Лк. 10.25–37), но в совсем другом месте. И трудно сказать, об этом ли событии здесь говорится, или же то был другой человек, с которым Господь вел речь об указанных двух заповедях; скорее можно предположить, что это был другой; это следует не только из того, что в порядке изложения замечается полное различие, но и из того, что сей человек представляется сам как дающий ответ на вопрос Господа и в своем ответе упоминающий эти две заповеди; а когда Господь сказал ему: «Так поступай, и будешь жить», т. е. чтобы он исполнял то, что по собственному его признанию есть наиважнейшее в законе, евангелист продолжает: «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?» Тогда Господь предложил притчу об отходившем из Иерусалима в Иерихон и попавшем в руки разбойников. Поскольку представленный Лукою законник является и искушающим, и сам дает ответ о двух заповедях, и так как вслед увещанию Господа: «Так поступай, и будешь жить» о нем говорится: «Но он, желая оправдать себя…», он не кажется добрым; а тот, о котором в похожем контексте упоминают Матфей и Марк, изображен так хорошо, что ему говорится от Господа: «Недалеко ты от Царствия Божия»; то, пожалуй, Лука говорит о другом человеке.
143.
Матфей продолжает: «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын?», и т. д. до слов: «И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его» (Мф. 22.41–46). Марк упоминает об этом в той же последовательности и в том же порядке. А Лука умалчивает только о том человеке, который спросил Господа: «Какая наибольшая заповедь в законе?» Но пропустив это, и он далее соблюдает ту же последовательность, сообщая, что Господь спросил иудеев: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов?» (Лк. 20.41–44). Для понимания неважно, что, по Матфею, когда Иисус спросил у иудеев, что они думают о Христе, чей Он сын, они ответили: «Давидов», и именно тогда Он произнес слова: «Если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?», а по сообщению Марка и Луки не находится указаний ни на Его вопрос, ни на их ответ. Действительно, мы должны понимать, что после их ответа двумя евангелистами указана мысль самого Господа, как она была Им выражена слушавшим Его, которых Он хотел наставить в Своем учительском служении и отклонить от учения книжников. Они знали о Христе только то, что Он по плоти был от семени Давида, но не признавали в Нем Бога, хотя Он был Господом самого Давида. Поэтому–то согласно указанию двух евангелистов Господь представляется обращающимся от тех, которые находились в заблуждении, к тем, которых он хотел освободить от их заблуждения. Таким образом, слова: «Как же Он сын ему?» нужно понимать не так, что они обращены к первым, но ко вторым, к тем, которых Он хотел наставить.
144.
Далее Матфей держится в повествовании такого порядка: «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают», и проч. до слов: «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «благословен Грядущий во имя Господне!» (Мф. 23). Что подобную речь произнес Господь против фарисеев, книжников и законников, об этом упоминает также и Лука, но только будто бы это случилось в доме какого–то фарисея, который пригласил Его на пир. Чтобы сообщить об этом, Лука разошелся с Матфеем около того места, где оба они упомянули о сказанном Господом о знамении Ионы, о трех днях и ночах, о царице Южной, о Ниневитянах и о духе нечистом, который возвратился и нашел дом убранным; после этой речи Матфей говорит: «Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним» (Мф. 12.39–46).
А Лука в той же речи, упомянув нечто из слов Господа, пропущенное у Матфея, затем отступает от той последовательности, которую они с Матфеем до этого места соблюдали: «Когда же Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать; Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные!» И далее следует речь против тех же фарисеев, книжников и законоучителей в таком же роде, как и у Матфея в настоящем месте, которое мы ныне взяли для рассмотрения (Лк. 11.29–52). Итак, хотя Матфей говорит об этом, не указывая на дом фарисея, однако он и не говорит определенно о том месте, где это было сказано, что могло бы противоречить рассказу Луки.
Впрочем, так как Господь пришел уже в Иерусалим из Галилеи, и, по Матфею, после Его входа в Иерусалим предыдущие события так связаны с этой речью, что вероятнее всего признать, что все это произошло в Иерусалиме, а Лука повествует об этом, как о бывшем еще во время путешествия Господа в Иерусалим, то мне кажется, что было две подобных друг другу речи, из которых одну привел один евангелист, а другую — другой.
145.
Конечно, необходимо обратить внимание на то, каким образом говорится: «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «благословен Грядущий во имя Господне!», когда, согласно тому же Матфею, эти слова уже были сказаны (Мф. 21.9). Ведь и Лука говорит, что Господь отвечал так тем, которые убеждали Его уйти из того места, потому что Ирод хотел убить Его. Лука даже вспоминает, что эти же слова были сказаны, как и у Матфея, против самого Иерусалима. В самом деле, из слов Луки можно понять, что дело было так: «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя. И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу; а впрочем Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: «благословен Грядущий во имя Господне!» (Лк. 13.31–35).
Правда, этому повествованию Луки не противоречит, по–видимому, то, что толпы народа говорили Господу при приближении Его к Иерусалиму: «Благословен Грядущий…», потому что согласно той последовательности, которой следовал Лука, Он еще не прибыл туда, и эти слова еще не были сказаны. Но ведь Лука не говорит, что оттуда Господь пошел в Иерусалим. Напротив, Он задерживается на пути Своем, и Его слова: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу» являются сказанными в таинственном и образном значении, ибо Он пострадал не в тот третий день, почему Он непосредственно и продолжает: «Впрочем Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день». Конечно, все это вынуждает нас понимать в таинственном смысле и следующие Его слова: «Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: «благословен Грядущий во имя Господне!», т. е. понимать, что речь здесь идет о том Его пришествии, когда Он придет в славе Своей.
Вместе с тем полагают и так, что Его слова: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу» относятся к телу Его, т. е. к Церкви. В самом деле, демоны изгоняются, когда народы веруют в Него, оставив отеческие суеверия, и совершаются исцеления, когда жизнь идет по Его заповедям после отречения от дьявола и мира сего до воскресения, в котором, как бы в третий день, закончится созидание Церкви, т. е. ее усовершенствование до ангельской полноты через бессмертие даже тела. По этой причине настоящее расположение событий у Матфея никоим образом не должно полагаться в каком–либо отношении разногласием. А Лука должен быть понимаем или как предупредивший то, что происходило в Иерусалиме, и при воспоминании сделавший вставку, прежде чем повествование его привело Господа в Иерусалим; или же так, что Господь отвечал тем, которые убеждали Его остерегаться Ирода, что было при приближении Его к этому городу; а Матфей говорит, будто Он сказал это толпам, когда уже дошел до Иерусалима и когда уже окончилось все то, о чем было рассказано выше.
146.
Матфей продолжает так: «И вышед Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено» (Мф. 24.1,2). Марк также упоминает об этом почти в той же последовательности, лишь несколько отступив для рассказа о вдове, которая положила две лепты в сокровищницу (Мк. 12.41–13.2), о чем вместе с ним упоминает только Лука. Ибо ведь у Марка после того, как Господь беседовал с иудеями, расспрашивая их, каким образом они признают Христа сыном Давидовым, говорится о том, что сказал Господь для предохранения себя от фарисеев и от их лицемерия. Это место Матфей изложил весьма подробно и сообщил о многом, сказанном тогда Господом. При этом, после одного и того же места, которое Марк представил кратко, а Матфей — пространно, Марк, как я сказал, не внес ничего более, кроме речи о вдове, самой бедной и, в то же время, самой богатой, присоединив также и то, что опять–таки совпадает с Матфеем: о будущем разрушении храма. Лука, со своей стороны, после вопроса о том, каким образом Христос есть сын Давида, упоминает о лицемерии фарисеев весьма немногое. А после этого и он, подобно Марку, переходит к вдове, которая бросила в сокровищницу две мельчайшие монеты, и уже затем прибавляет и о будущем разрушении храма, как Матфей и Марк (Лк. 20.46–21.6).
147.
Затем Матфей говорит: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят», и т. д. до слов: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Эту обширную речь Господа будем рассматривать одновременно по сообщениям трех евангелистов, Матфея, Марка и Луки, потому что они присоединили ее, удерживая один и тот же порядок (Мф. 24.3–25.46; Мк. 13.4–37 и Лк. 21.7–36). Правда, каждый из них прибавляет и нечто особенное, в чем, однако, нет основания подозревать какого–либо противоречия.
148.
Итак, вот слова Матфея: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»; Марк вторит ему так: «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Он не говорит: «И тогда придет конец», но это вполне ясно подразумевается, ибо именно на вопрос учеников о конце говорится: «Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие», т. е. именно эта проповедь и должна предшествовать концу.
149.
А слова Матфея: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте…» Марк передает таким образом: «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно…», при некотором расхождении в словах, тем не менее очевидно, что Марк выразил ту же самую мысль; ведь ясно, где не должно быть мерзости запустения. А Лука говорит о том же, но уже вполне конкретно: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Ведь тогда–то и наступит мерзость запустения на месте святом.
150.
Записанное тем же Матфеем: «Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что–нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои» Марк приводит почти дословно. А Лука слова: «Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» передает одинаково с другими, но остальное выражает иначе, ибо затем он говорит: «И кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». На первый взгляд, слова двух первых евангелистов: «Кто на кровле, пусть не сходят» весьма отличаются от слов Луки: «Кто в городе, выходи из него»; может быть это потому, что при наступлении столь великой опасности смятение будет велико, так что подвергшиеся осаде будут поражены ужасом и захотят видеть, какая опасность угрожает, или каким бы путем от нее ускользнуть. Но тогда каким образом он говорит: «Выходи из него», если он выше сказал: «Увидите Иерусалим, окруженный войсками»? Действительно, следующие слова: «Кто в окрестностях, не входи в него», по–видимому, представляют более подходящий совет: ведь нетрудно сделать так, чтобы находящиеся вне осажденного города не входили в него; но каким же образом могут уйти находящиеся внутри, раз город уже окружен войском?
Не значит ли «в городе» такую опасность, когда человек уже не может ускользнуть для сохранения настоящей жизни; это же подразумевается в словах «на кровле» двух других евангелистов: что душа должна быть готова и свободна, не занята и не угнетена плотскими желаниями; так что «выходи из него» означает: пусть не увлекаются более стремлением к этой жизни, но пусть будут готовы переселиться в жизнь иную; об этом говорят и слова: «Да не сходит взять что–нибудь из дома своего», а именно: пусть не поддаются каким–либо плотским стремлениям с намерением приобрести какую–либо выгоду. Наконец, слова Луки: «Кто в окрестностях, не входи в него» значат то, что люди, по доброму расположению сердца оказавшиеся вне этой жизни, пусть снова уже не желают ее по побуждению плоти; эту же мысль другие два евангелиста выразили словами: «Кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои», т. е. не обращаться к прежним заботам, которые сбросил с себя.
151.
А слова Матфея: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, или в субботу» Марк передал только отчасти. Он говорит: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Лука же совсем не вспомнил о них; но зато только он один сказал нечто такое, что, по моему мнению, осветило эту мысль, выраженную другими в несколько скрытом виде; Лука говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно: ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий…». Под всем этим разумеется бегство, о котором говорит Матфей, чтобы оно не случилось зимой или в субботу. Под зимой понимаются заботы этой жизни, о которых явно говорит Лука, а под субботой — пьянство и обжорство. Действительно, заботы тягостны, как зима, а опьянение погружает и закрывает сердце плотской радостью и разгулом; это зло обозначено именем субботы потому, что и прежде был, и теперь у иудеев есть весьма дурной обычай предаваться в этот день забавам, ибо многие из них уже забыли о духовной субботе.
Впрочем, если бы даже в указанных словах Матфея и Марка следовало видеть что–то совсем другое, или если бы Лука имел в виду нечто иное, то тем самым еще нет причины сомневаться или недоумевать. И мы своею целью ставили не истолкование Евангелий, а защиту их от злословии и упреков в подделке и лживости. Но другие части этой речи, представленные у Матфея согласно с Марком, не возбуждают никаких вопросов, а то, что у него согласно с Лукой, Лука представил не в той речи Господа, а в другой, находящейся в ином месте. Там Лука воспоминает и вводит в книгу события и речи, случившиеся после, если только все это не было сказано дважды: и теперь, как сказано у Матфея, и тогда, когда это приводит Лука.
152.
Матфей далее говорит: «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: вы знаете, что чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие» (Мф. 26.1,2). К этому свидетельству присоединяются и два другие: Марк и Лука (Мк. 14.1 и Лк. 22.1). Но только они не внушают мысли, что это было сказано Господом; действительно, они пропустили сказать об этом; но от своего лица говорят: Марк: «Чрез два дня надлежало быть празднику Пасхи»; Лука: «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою». А Иоанн в трех местах упомянул о близости того же самого праздничного дня (Ин. 11.55; 12.1 и 13.1), причем в третий раз в том же месте, где об этом упоминают и те три евангелиста, т. е. уже перед приблизившимся страданием Господа.
153.
Но дотошный читатель не может не заметить некоторого противоречия в том, что Матфей и Марк, сказав, что до Пасхи осталось два дня, уже после упомянули, что Иисус был в Вифании, где произошло драгоценное помазание; а Иоанн говорит, что Иисус пришел в Вифанию за шесть дней до Пасхи и сразу после этого сообщает о том же помазании (Ин. 12.1). Итак, каким образом те двое, сказавшие, что Пасха будет через два дня, оказываются затем вместе с Иоанном в Вифании, сообщая то же, что и он, о помазании драгоценным миром, тогда как он говорит, что Пасха будет спустя шесть дней? Но те, которых смущает этот вопрос, не понимают, что события с помазанием Матфей и Марк представили задним числом, т. е. оно произошло не после их слов о двух днях до Пасхи, а раньше, когда до Пасхи оставалось еще шесть дней. В самом деле, каждый из них, говоря, что Пасха будет через два дня, относительно события в Вифании не сказал: «После этого, будучи в Вифании», но Матфей: «Когда же Иисус был в Вифании», а Марк: «И когда был Он в Вифании»; а это, конечно, может быть понято, как случившееся прежде, нежели то, о чем сказано «за два дня до Пасхи». Итак, из повествования Иоанна видно, что Иисус пришел в Вифанию за шесть дней до Пасхи; там совершилось то пиршество, в связи с которым упоминается об известном драгоценном помазании; оттуда Иисус прибыл на осле в Иерусалим; и только затем совершается то, о чем сообщают, как о бывшем после этого Его пришествия в Иерусалим.
Таким образом, с того дня, в который Он пришел в Вифанию и когда совершилось известное событие помазания, и до того дня, в который все это совершено и сказано, мы даже без особого на то указания евангелистов понимаем, что прошло четыре дня. А Лука своими словами: «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою» даже не указал и двух дней; но мы должны в этой упомянутой близости разуметь двухдневный промежуток. А когда Иоанн говорит: «Приближалась Пасха Иудейская» (Ин. 11.55), то также не указывает на двухдневный промежуток; потом же, когда упомянул о некоторых событиях, произошедших после этих слов, желая показать, насколько близка была Пасха, он сказал: «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю…» (Ин. 12. 1,2). Это и есть то, что вспоминают Матфей и Марк задним числом, уже после того, как сказали, что спустя два дня будет Пасха. Таким образом, в своем повторении они возвращаются к тому дню в Вифании, который был за шесть дней до Пасхи, и рассказывают о вечере и драгоценном помазании то же, что и Иоанн, который затем направил свою мысль в Иерусалим и по окончании описания событий, совершившихся там, перешел к дню, бывшему за два дня до Пасхи, от которого другие евангелисты отступили, возвращаясь к тому, что совершилось в Вифании, т. е. к помазанию. По окончании повествования об этом событии, они снова возвращаются туда, откуда отступили, т. е. к сообщению речи Господа, которую Он произнес за два дня до Пасхи. Действительно, если мы из середины выбросим то, что они сообщили вне порядка, по памяти и задним числом, и восстановим действительный порядок, то, по словам Матфея, речь должна направиться так, что Господь говорит: «Вы знаете, что чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам…» (Мф. 26.2–14), и проч. Так вот, между словами: «Чтобы не сделалось возмущения в народе» и словами: «Тогда один из двенадцати» и вставлено то, что было в Вифании, приведенное евангелистами задним числом, с пропуском чего мы восстановили повествование, дабы внушить мысль, что здесь нет противоречия в последовательности во времени. А по словам Марка, с подобным же пропуском рассказа о той вечере в Вифании, который и он вставил задним числом, последовательность в повествовании получается такая: «Чрез два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков; и искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им» (Мк. 14.1–10), и проч. И здесь между словами: «Чтобы не произошло возмущение в народе» и словами: «И пошел Иуда Искариот» вставлено известное событие в Вифании. Лука же этот случай пропустил. Все это мы рассказали, дабы связать те шесть дней до Пасхи, о которых сказал Иоанн, и те два дня до Пасхи, о коих упомянули Матфей и Марк, потому что после этого они вспомнили о том же, о чем, по словам Иоанна, Господь сказал в Вифании.
154.
С того места, где мы окончили рассматриваемое повествование, Матфей продолжает так: «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову», и т. д. до слов: «Сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26.3–13). Мы уже обращали внимание на то, что совершилось в Вифании, о женщине и драгоценном помазании. Что касается Луки, то хотя он и упоминает о подобном событии, и хотя имя того, к которому был приглашен Господь, совпадает, потому что его и Лука называет Симоном, однако, так как нет ничего противоестественного и необычного в том, что один человек может иметь два имени, а тем более в том, что два человека имеют одно имя, то гораздо вероятнее, что это был другой Симон, а не тот прокаженный, в доме которого в Вифании совершилось помазание. Да и Лука об этом событии не говорит, что оно произошло в Вифании; и хотя он не упомянул о городе или доме, где оно совершилось, однако не похоже, чтобы его повествование относилось к тому же самому месту.
Однако же, я убежден, что события было два, а женщина — одна, которая, как грешница, приступила к ногам Иисуса, лобызала их, омывала слезами, обтирала волосами и помазала маслом. Господь, применив к ней притчу о двух должниках, сказал, что отпускаются ей грехи многие, так как она возлюбила много; мы должны понимать, что это сделала та же самая Мария, но два раза, причем первый случай описывает Лука (Лк. 7.36–50). Об этом событии повествует и Иоанн. Хотя он не так изображает совершившееся, как Лука, однако и он упомянул об этой женщине, называя ее Марией, когда начал говорить о имеющем воскреснуть Лазаре, прежде чем Господь прибыл в Вифанию. Об этом он повествует таким образом: «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими» (Ин. 11.1,2). Говоря так, Иоанн является свидетелем в пользу Луки, который сообщил, что это произошло в доме некоего фарисея Симона. Итак, Мария некогда уже совершила это. А то, что она сделала в Вифании снова, есть нечто иное, что не имеет отношения к повествованию Луки, но одинаково сообщается остальными тремя евангелистами (Ин. 12.1–8; Мф. 26.7–13; Мк. 14.3–9).
155.
Итак, нам нужно обратить внимание, каким образом сходно у Матфея, Марка и Иоанна то, о чем, несомненно, они говорят как об одном и том же событии в Вифании, где и ученики (как сообщают все три евангелиста) выражали недовольство женщиной за трату драгоценнейшего мира. Когда Матфей и Марк говорят, что миром была помазана глава Господа, а Иоанн — ноги Его, то это не несет в себе противоречия по тому правилу, которое мы показали, когда говорили о том, что Он напитал толпы пятью хлебами. Ведь и там был такой, который говорил, что народ был расположен по пятисот и по сто человек, тогда как другой указал только на сотни, а третий — только на пятьсот; но в этом нельзя видеть противоречия: ведь возможно, что когда один расположил только по сотням, другой расположил по пятьсот, из чего нужно сделать вывод, что в действительности было и то, и другое. Из этого примера следует, что когда евангелисты сообщают о похожих, но в то же время и в чем–то отличных событиях, необходимо понимать так, что случаи приводятся все–таки разные. Поэтому и здесь нужно признать, что женщина умастила миром не только голову, но и ноги Господни.
156.
Все же прочее, касающееся данного события, как мне кажется, не должно вызывать недоумений. И если другие евангелисты свидетельствуют о недовольстве учеников, а Иоанн указывает только на Иуду, то это лишь означает, что говоря «ученики» евангелисты имели в виду именно Иуду. Можно также предположить, что мнение Иуды разделяли и другие, хотя и молчали, или же что Иоанн упомянул Иуду только потому, что прочие, осуждая расточительство, пеклись о бедных, Иуда же — только о себе.
157.
Матфей продолжает: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников», и проч. до слов: «Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху» (Мф. 26.14–19). В этом отрывке нет ничего, что противоречило бы сказанному Марком и Лукой (Мк. 14.10–16; Лк. 22.3–13). Действительно, Матфей, написав: «Пойдите в город к такому–то и скажите ему: «Учитель говорит: время Мое близко, у тебя совершу пасху с учениками Моими» имел в виду того же человека, что и Марк и Лука, упоминавшие о нем как о хозяине дома.
158.
Затем Матфей говорит: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?», и т. д. до слов: «При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал» (Мф. 26.20–25). В этом месте ни один из евангелистов не приводит ничего такого, что могло бы вызвать недоумение у читателей (Мк. 26.17–21; Лк. 22.14–23; Ин. 13.21–27).
КНИГА ТРЕТЬЯ
1.
Так как теперь повествование всех четырех (евангелистов) подошло к тому моменту, когда им необходимо следовать до конца вместе, то они (в своих дальнейших писаниях) уже лишь весьма немного отличаются друг от друга, хотя порою один и упоминает о чем–либо таком, что другой пропускает. Как мне кажется, сходство всех евангелистов будет наиболее очевидным, если начиная отсюда мы станем сопоставлять описанные всеми ими события и сводить их к единому порядку и (цельному) повествованию. Таким образом, по моему мнению, будет удобнее и легче разъяснить то, что мы взяли на себя, выбирая из сообщений евангелистов те события, которые каждый из них смог или захотел вспомнить; при этом, конечно же, относительно всего этого необходимо показать, что здесь нет никакого взаимного противоречия.
2.
Итак, начнем с Матфея: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26.20–26). Об этом упоминают также Марк и Лука (Мк. 14.17–22 и Лк. 22.14–23). А то, что Лука дважды упоминает о чаше: в первый раз прежде преломления хлеба, а во второй — после, то, пожалуй, первым упоминанием он по своему обыкновению предупредил событие; но и первое, и второе в совокупности выражают ту же мысль, что передали и другие (евангелисты). А Иоанн ничего не сказал о Теле и Крови Господа в этом месте, но позже он свидетельствует более пространно, что Господь сказал об этом (Ин. 6.32–64); здесь же, упомянув, что Господь восстал от вечери и умыл ноги учеников, а также, хотя только намеком, ссылаясь на Писание указав, что Его предаст тот, кто вкушает Его хлеб, он (Иоанн) переходит к тому событию, которое сообщают одинаково и прочие три евангелиста: «Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит» (Ин. 13.21–22). «Они весьма опечалились, — как говорят Марк и Матфей, — и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?» «Он же, — продолжает Матфей, — сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Далее тот же Матфей говорит: «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться». В этом месте с ним полностью согласен Марк. Затем Матфей прибавляет: «При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли Равви? Иисус говорит ему: ты сказал». Однако, из этого ответа Господа еще трудно было понять, был ли это он (т. е. Иуда — предателем).
3.
Затем Матфей продолжает и вставляет (речь) о таинстве тела и крови, данном ученикам от Господа; о том же сообщают Марк и Лука. Но когда Господь передал чашу, то снова стал говорить о Своем предателе, о чем повествует Лука: «И вот, рука предающего Меня со Мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению; но горе тому человеку, которым Он предается». Об этой повторной речи сообщает и Иоанн, а эти (Матфей и Марк) — пропустили; также и Иоанн пропустил то, о чем (прежде) сказали они. Итак, к тому, что, по словам Луки, Господь сказал после вручения чаши, нужно присоединить и записанное Иоанном: «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса; ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припадши к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана».
4.
Может показаться, что Иоанн будто бы противоречит не только Луке, который сказал, что сатана вошел в сердце Иуды, когда тот заключил договор с иудеями, что передаст (Иисуса) за обещанные деньги, но и самому себе, так как он уже выше, прежде, чем (Иуда) вкусил хлеба, сказал: «Диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его». Действительно, как иначе входит дьявол в сердце, если не вводя в беззаконные мысли нечестивое решение? Тут нам следует понимать, что в настоящем (последнем) месте Иуда в еще большей мере оказался во власти дьявола; и наоборот, подобно этому, те, которые приняли уже Духа Святого, когда (Иисус) дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого» (Ин. 20.22), еще полнее приняли Его потом, когда Он был ниспослан им свыше в день Пятидесятницы. Итак, после вкушения сатана вошел в Иуду, и, как последовательно передает Иоанн: «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что–нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем; если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его».
5.
«Дети! Не долго уже быть Мне с вами: будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю зам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды» (Ин. 13.33–38). Об этом отречении от Него Петра упоминает не только Иоанн, но и остальные три (евангелиста) (Мф. 26.30–35; Марк. 14.26–31; Лк. 22.31–34). Но не все они одинаковым образом приходят к воспоминанию об этом, потому что Матфей и Марк говорят (об этом) после того, как Господь вышел из дома, в котором вкушал пасху, а Лука и Иоанн — прежде чем Он вышел оттуда. Но мы можем предположить, что или те ввели в повествование слова позже, чем должно, или эти — раньше.
Однако, некоторое недоумение может вызвать еще и то обстоятельство, что они представили не только различные слова, но и мысли Господа, смущенный которыми Петр выразил известную готовность умереть или вместе с Господом, или за Господа; так что, пожалуй, следует думать, что Петр в различных местах речи Христовой трижды выразил готовность свою, и что трижды ему было сказано Господом об имеющем быть троекратном отречении его прежде пения петуха.
6.
Действительно, ведь вполне могло быть и так, что в некоторые отделенные друг от друга промежутки времени Петр был побужден к тому, чтобы выразить готовность (умереть), как и после — отречься от Него; также и Господь ответил ему трижды; хотя, впрочем, три раза безо всякого перерыва, (не вставляя) каких–либо слов или действий, Он спросил Петра после воскресения Своего: любит ли он Его, и на его троекратный одинаковый ответ Сам трижды дал ему одну и ту же заповедь о том, что Петр должен пасти овец Его (Ин. 21.15–17). Итак, из самих слов евангелистов, достаточно отличающихся друг от друга, ясно видно, что наиболее вероятно предположение, что Петр троекратно высказал свою готовность (умереть) и три раза услышал от Господа о своем будущем троекратном отречении.
Вспомним то, что я ныне внес из Евангелия Иоанна. Несомненно, Он сказал: «Дети! Не долго уже быть Мне с вами: будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь?» Из всего сказанного очевидно, что Петр был побужден сказать это, когда услышал слова Господа: «Куда Я иду, вы не можете придти». Тому же Петру Иисус сказал: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Тогда Петр сказал: «Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя». Вот на эту–то готовность его Господь и ответил относительно его будущего отречения. А приведя слова Господа: «Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди, братьев твоих», Лука присоединил ответ Петра: «Господи, с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти». А Он–сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». Кто не заметит, что последние слова суть нечто иное, чем те, которыми Петр был побужден к выражению своей готовности умереть.
Матфей же говорит: «И воспевши пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «поражу пастыря, и рассеются овцы стада». По воскресении, же Моем предварю вас в Галилее». Также говорит и, Марк, Но каково сходство в словах или мыслях этого места с тем, что побудило Петра к выражению своей готовности как по словам Иоанна, так и по словам Луки? Здесь, (у Матфея) такая последовательность: «Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы и надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики».
7.
Почти слово в слово с Матфеем вспоминает и Марк; только он гораздо точнее выразил слова Господа о том, как это все произойдет: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Таким образом, хотя все сказали, что Господь предсказал отречение Петра от Него прежде, чем пропоет петух, но не все сказали сколько раз (пропоет); один только Марк сказал об этом более определенно. Отсюда некоторым кажется, что Марк не совпадает с другими (евангелистами), ибо такие люди невнимательны и, кроме того, их внимание часто затемнено, поскольку они руководствуются враждебным отношением к Евангелию. Итак, полное отречение Петра было (именно) троекратным отречением. Он переживал душевный трепет и тяжесть предполагаемой в нем лжи, пока горьким плачем и душевной скорбью не исцелился, убедившись в действительности того, что ему было предсказано. Но если все это, т. е. троекратное отречение, началось после первого пения петуха, то, как может показаться, три (евангелиста) допустили неточность. Из них Матфей сказал: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня»; а Иоанн: «Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Действительно, они различными словами выразили одну и ту же мысль Господа, а именно ту, что Петр отречется от Него, прежде чем будет петь петух. Но, с другой стороны, если Петр окончил троекратное отречение раньше пения петуха, то можно подумать, что Марк от лица Господа сказал нечто лишнее: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня».
В самом деле, зачем Марк говорит «дважды», если оказывается, что все это троекратное отречение совершилось раньше первого пения петуха, а, следовательно, и раньше второго, и третьего, и всех вообще пений петуха в ту ночь? Но так как это тройное отречение началось прежде пения петуха, то те три евангелиста имели в виду не то, когда его Петр окончит, а то, каково оно будет и когда начнется, т. е. что оно будет троекратным и начнется до пения петуха, ибо в его душе оно уже сложилось раньше, чем начал петь петух. Действительно, хотя на словах это полное троекратное отречение началось раньше первого крика петуха, а окончилось раньше второго, но в настроении души Петра и в его страхе оно полностью совершилось до первого крика. И при этом не столь уж и важно, через сколько промежутков оно обнаружилось в троекратном словесном отказе, так как оно вполне овладело сердцем Петра еще до первого пения петуха, внедрившись в него вследствие настолько сильного страха, что он смог отречься от Господа не только после первого вопроса, но и после второго, и после третьего.
Итак, подобно тому, как посмотревший на женщину с похотью уже совершил с нею прелюбодеяние (Мф. 5.28), так и в Петре, когда бы он словами не выразил страх, который столь сильно завладел его душою, что ожесточил его вплоть до третьего отречения, все троекратное отречение должно быть отнесено полностью к тому времени, когда на него напал этот страх, вполне достаточный, чтобы вызвать троекратное отречение. Поэтому, если бы даже известные слова отречения Петра еще до первого пения петуха начали вырываться из его потрясенной допросами груди, то не настолько неразумно и лживо было бы сказать, что Петр троекратно отрекся раньше пения петуха, коль скоро еще прежде пения душой Петра овладел такой сильный страх, что он смог довести его до третьего отречения. Значит, нас не должно смущать то, что троекратное отречение, начатое еще до пения петуха, не было окончено прежде первого пения. Например: если кому–нибудь будет сказано: «В эту ночь, прежде чем начнет петь петух, ты сядешь писать письмо, в котором трижды меня обругаешь», то, конечно, нельзя будет утверждать, что предсказание было ложным только потому, что этот некто приступил к письму раньше всякого пения, а окончил его после первого пения петуха. Итак, Марк только более подробно описал предсказанное Господом событие, чем отнюдь не противоречил остальным.
8.
А если ставится вопрос о подлинных словах Господа, которые Он сказал Петру, то их, пожалуй, найти нельзя, да и напрасно их отыскивать, так как мысль Его, ради понимания которой слова и произносятся, может быть отлично познана даже из различных слов евангелистов. Таким образом, или Петр под влиянием различных выражений в речах Господа три раза отдельно заявил о своей готовности (положить душу), и Господь три раза предсказал ему его отречение, что представляется более вероятным; или же каким–либо другим способом сообщения всех евангелистов можно свести к одному и показать, что Петру, выразившему свою готовность (умереть), Господь однажды предсказал, что тот отречется от Него. Но здесь не может быть никакого упрека в противоречии, ибо такового и в помине нет.
9.
Таким образом, теперь мы постараемся следовать самому расположению повествования у всех. Итак, после того, как Петру было предсказано это (отречение), Иоанн продолжает и вставляет речь Господа, Который говорит: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много…», и проч. Он обстоятельно передает прекрасные и весьма возвышенные слова этой речи, пока не доходит до того места, где говорится: «Отче Праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня; и Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин. 14.17).
Когда же, как об этом упоминает Лука, между ними возник спор о том, кто из них должен считаться большим, Он сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются; а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». А Симону, как присоединяет Лука, Он сказал: «Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня. И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: «и к злодеям причтен». Ибо то, что о Мне, приходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 22.24–38). Далее, как говорят Матфей и Марк: «И воспевши пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «поражу пастыря, и рассеются овцы стада»; По воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы и надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики». (Мф. 26.30–35). Это мы внесли по словам Матфея. Но и у Марка читаем почти то же самое (Мк. 14.26–31), за исключением тех слов о двукратном пении петуха, о чем мы уже сказали выше.
10.
Итак, Матфей продолжает следующим образом: «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания…» (Мф. 26.36–46). Это же говорит и Марк (Мк. 14.32–42). И Лука сообщает о том же, не называя определенно двора, когда говорит: «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую; за Ним последовали и ученики Его. Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Лк. 22.39–46). Это то место, которое другие (евангелисты) назвали Вифания. Там, по нашему представлению, был сад, о котором упоминает Иоанн, говоря так: «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его» (Ин. 18.1). Потом, по словам Матфея, Он сказал ученикам: «Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там». И, взяв с Собою Петра и двух сынов Зеведея, начал скорбеть и печалиться. Тогда Он сказал: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». «И, — продолжает Матфей, — отошед немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Еще, отошед в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня».
11.
Обо всем этом говорит также и Марк, причем почти теми же словами и в таком же порядке, иногда сокращая некоторые мысли, а (порой) сообщая и нечто большее. Иным кажется, что эта часть беседы в изложении Матфея противоречит самой себе в том, что Господь после третьей молитвы подходит к ученикам Своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня». Но разве непременно следует полагать, что слова «спите и почиваете» сказаны в порицание? Возможно, что это было Его дозволением, и именно поэтому Марк, приведя их, прибавил: «Кончено», и уже потом внес слова: «Пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки грешников». Следует полагать, что после слов: «Спите и почиваете» Господь на некоторое время замолк, чтобы дать исполниться тому, что Он позволил, а потом прибавил: «Кончено», т. е. достаточно уже отдыхать. Но так как об этом промежуточном молчании Господа не упомянуто, то (некоторые) и стараются в этих словах Господа усмотреть иной оттенок мысли.
12.
А Лука пропустил сказать о том, сколько раз Господь молился; впрочем, он сообщил то, о чем умолчали (Матфей и Марк), а именно: что Его молящегося укреплял ангел, и о кровавом поте, падающем каплями на землю. Таким образом, когда Лука сказал: «Встав от молитвы, Он пришел к ученикам», то не выразил ясно, сколько раз была молитва; однако Лука не противоречит этим двум другим (евангелистам). И Иоанн, сказав, что Господь вошел с учениками Своими в сад, не говорит, что Он там делал до того времени, пока не явился Его предатель с иудеями, чтобы схватить Его.
13.
Таким образом, эти три (евангелиста) передают об одном и том же событии так, как мог бы говорить о нем один и тот же человек три раза, несколько разнообразя описание, но безо всякого противоречия. Действительно, Лука более точно указал, насколько (Господь) отступил от них, т. е. отделился для молитвы, говоря: «Отошел от них на вержение камня». Затем Марк сперва своими словами сказал то же о прошении Господа, чтобы, если возможно, миновал Его час сей, т. е. час страдания, который потом он назвал чашей. Далее Марк слова Господа представил в таком виде: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня». Если к этим словам присоединить то, что Марк сказал выше от своего лица, то ясно выступает такая мысль: «Отче! если возможно, а Тебе все возможно, пронеси мимо чашу сию». Чтобы кто–нибудь не подумал, что Он уменьшил власть Отца, когда сказал «если возможно», Он не сказал «если можешь сделать», но «если возможно». А возможно то, чего Он пожелает. Таким образом, слова «если возможно» имеют значение «если Тебе угодно». Действительно, Марк все это показал достаточно ясно. Упоминание же евангелистов о словах Господа: «Но не чего Я хочу, а чего Ты» (что равносильно словам: «Но пусть будет воля Твоя, а не Моя») достаточно показывает, что слова «если возможно» сказаны не в смысле невозможности этого для Отца, а в виду того, что это зависит от Его воли, и особенно это ясно из того, что Лука и здесь более подробно внушил ту же мысль: он привел слова Господа не как «если возможно», а «если бы Ты благоволил». С этой мыслью более ясно соединяется и сказанное у Марка: «Все возможно Тебе».
14.
Сообщение же Марка, что Господь воскликнул: «Авва Отче!», значит, что (Он возгласил) по–еврейски: «Авва!», т. е. «Отче!» И очень может быть, что Господь сказал в таинственном смысле то и другое (слово), желая показать, что в Своем лице Он принимает страдания Своего Тела, т. е. Церкви, краеугольным камнем которой Он был и которая приходит к Нему отчасти из евреев, — к ним относится «Авва», а отчасти из язычников, к которым относится «Отче». (Еф. 2.11–12). И апостол Павел, не упуская из виду этого таинства, говорит: «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва Отче!» (Гал. 4.6).
В самом деле, необходимо, чтобы добрый Наставник и истинный Спаситель, сострадая наиболее немощным, в Своем лице показал, что Его мученики не должны отчаиваться, если в их сердца закрадется скорбь во время страданий под влиянием человеческой немощи, так как они преодолеют ее, предпочитая своей воле волю Божию, ибо Он знает, что полезно для тех, которым Он подает совет. Обо всем этом рассуждать подробно сейчас не время; ведь теперь речь идет только о согласии евангелистов, в разнообразии выражений которых мы учимся усматривать истину не иначе, как через распознание мысли говорящего. Ведь «Авва» — это то же, что и «Отче»; но для научения таинству (сказано) более ясно: «Авва Отче»; а для обозначения единства достаточно: «Отче». И хотя должно верить тому, что Господь воскликнул: «Авва Отче! но в полной мере истина может проявиться только тогда, когда другие говорят, (что Он сказал) «Отче!», показывая, что эти две Церкви из иудеев и эллинов таковы, что являются в то же время одною. Итак, слова: «Авва Отче!» сказаны в том же смысле, в каком Господь когда–то сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора», имея в виду, конечно же, язычников, тогда как у Него в тот момент были овцы из народа Израильского. Но так как Он далее прибавил: «И тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10.16), то насколько имеет значение в отношении к иудеям и язычникам (возглас) «Авва Отче!», настолько же к одному стаду подходит одно только (слово) «Отче».
15.
По словам Матфея и Марка: «И когда еще говорил Он, вот, Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его; и тотчас подошед к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его» (Мф. 26.47–56; Мк. 24.43–50). И (Господь) сначала сказал ему, как об этом вспоминает Лука: «Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк. 22.47–53); потом, по словам Матфея, Он сказал: «Друг, для чего ты пришел?»; а затем следует то, что привел Иоанн: «Кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «это Я», — они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, — да сбудется слово, ременное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого» (Ин. 18.2–11).
16.
Но, по словам Луки: «Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечем?» И вот один из них, — о чем сообщают все евангелисты, — «ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». А ударившим, как сообщил Иоанн, был Петр; пораженный же назывался Малх. Затем, по словам Луки: «Иисус сказал: оставьте, довольно», а после, согласно Матфею, прибавил: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» К этим словам можно присоединить и то, что Он сказал по свидетельству Иоанна: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Затем, по словам Луки, Он коснулся уха того, который был ранен, и исцелил его.
17.
И пусть не смущает как якобы противоречивое то, что говорит Лука, а именно, что Господь на вопрос учеников: «Не ударить ли мечем», отвечал: «Оставьте, довольно», как будто Он хотел этого одного удара и отсеченного уха, а большего — не желал. На самом деле очевидно, что Господу не было угодно вообще все то, что Петр сделал мечом. Более верно то, что на вопрос говоривших: «Господи! не ударить ли нам мечом?», Он тотчас же отвечал: «Оставьте это», т. е. пусть не смущает вас, что будет далее. Они должны допустить дело до того, чтобы Его схватили и чтобы исполнилось то, что о Нем написано. Но в промежутке между словами вопрошавших и Его ответом Петр нанес удар, движимый стремлением защищать Господа. Однако о том, что совершилось одновременно, нельзя одновременно сообщить. Но если возможно другое, лучшее понимание, то пусть будет так, лишь бы только была известна истина евангелистов.
18.
Далее Матфей вспоминает, что Господь в тот час сказал толпе: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вам к сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня». Затем Он присоединил и те слова, которые привел Лука: «Но теперь — ваше время и власть тьмы». «Сие же все было, — продолжает Матфей, — да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставивши Его, бежали». Так говорит и Марк; но, как прибавляет тот же Марк: «Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них».
19.
«А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины» (Мф. 26.57–75). А согласно Иоанну, Иисуса сперва отвели к Анне, тестю Каиафы (Ин. 18.12–27). Марк же и Лука не называют имени первосвященника (Мк. 14.53–72; Лк. 22.54–62). А приведен Он был связанным, и в толпе той был военный трибун (тысяченачальник) и отряд, а также и служители из иудеев, как говорит Иоанн. В этом же месте повествования Марк говорит: «Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня». И Лука свидетельствует о том же: «Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». А вот и слова Иоанна: «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический; а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик… ввел Петра». Таким образом Петр и попал внутрь, о чем сказали и другие.
20.
«Первосвященники и старейшины, — говорит Матфей, — и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли». Ибо, прибавляет Марк: «Свидетельства сии не были достаточны». «Но наконец, — продолжает Матфей, — пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И Марк вспоминает, что другие казали: «Мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я». А вот говорит Матфей: «Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал». Итак, выходит, что ответ: «Ты сказал» имеет то же значение, что и ответ: «Я». Действительно, у Марка читаем: «Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». То же говорит и Матфей, хотя и не приводит ответ Иисуса: «Я». «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? вы слышали богохульство». О том же говорит и Матфей, прибавляя: «Вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти». Об этом же свидетельствует и Марк. А Матфей продолжает: «Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» То же пишет и Марк, вспоминая также, что они закрывали Его лицо. Обо всем этом повествует и Лука.
21.
Можно понять, что Господь претерпевал это до самого утра в доме первосвященника, где подвергся искушению и Петр. Однако, относительно этого искушения евангелисты повествуют в несколько различном порядке, ибо Матфей и Марк вспоминают вначале о поруганиях, а затем уже — об искушении Петра, Лука же — наоборот: сперва об искушении, а потом — о поруганиях над Господом. Иоанн, в свою очередь, сначала начинает говорить об искушении Петра, затем вставляет несколько слов о поруганиях, далее прибавляет, что Он был отведен к Каиафе, а потом снова возвращается к Петру.
22.
Затем Матфей продолжает так: «Петр же сидел вне во дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся пред всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И опять он отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух». Так говорит Матфей; но понятно, что когда Петр первый раз отрекся и вышел вон, запел первый петух; об этом Матфей молчит, зато вспоминает Марк.
23.
Вот слова Марка: «И вышел вон на передний двор; и запел петух. Служанка, увидевши его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них. Он опять отрекся». Но это была не первая служанка, а другая, о чем говорит Матфей. Лука же вовсе не уточняет, кто это был во второй раз. Вот его слова: «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку — нет». В этот промежуток времени, обозначенный Лукою как «вскоре потом», Петр и выходил за ворота и пропел первый петух. По словам же Иоанна, Петр отрекся в третий раз тогда, когда уже возвратился и вновь стоял у костра.
24.
Но кто–либо может сказать: «Он еще не выходил, а только встал, чтобы выйти». Так может думать только тот, кто полагает, что вторично Петр отрекся, стоя у дверей. За ответом обратимся к Иоанну: «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал Ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего; что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе». Отсюда мы видим, что и Анна был первосвященником. Об этих двух первосвященниках говорит и Лука в самом начале своего Евангелия (Лк. 3.2).
Сообщив об этом, Иоанн снова возвращается к Петру, чтобы задним числом дополнить (рассказ) о троекратном отречении. «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет». Итак, мы видим, что во второй раз Петр отрекся не перед дверью, а стоя у костра. Но так как он перед этим выходил, то, следовательно, затем возвратился. Это могло быть так: когда он встал и пошел от костра, вторая служанка заметила его и сказала сидевшим во дворе: «И этот был с Иисусом Назореем». Он, выходя, слышал это, и возвратившись назад, отрекся. Действительно, и Марк говорит: «Служанка, увидевши его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них», т. е. говорила это не Петру, а тем, что остались сидеть у огня. И когда Петр, желая оправдаться, вернулся назад, один из сидящих спросил его: «Не из учеников ли Его и ты?» Итак, понятно, что перед вторым отречением на Петра указали дважды: один раз другая служанка, о которой говорят Матфей и Марк, во второй — тот человек, о котором упомянул Лука. Возможно также, что Петр, выходя, и не слышал слов, сказанных служанкой, а когда вернулся, был спрошен одним из толпы. Как бы там ни было, очевидно, что во второй раз Петр отрекся, стоя у костра, а Матфей и Марк, упомянув, что он вышел вон, для краткости не сказали о его возвращении.
25.
Теперь разберем, насколько согласны они относительно третьего отречения. Марк говорит так: «Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите. Тогда петух запел во второй раз». Лука же говорит об этом так: «Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух». А Иоанн так излагает события: «Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? Петр опять отрекся; и тотчас запел петух». Итак, слова Матфея и Марка «немного спустя» Лука уточняет: «Прошло с час времени». Иоанн же ничего не говорит об этом промежутке. Далее, первые два говорят о многих вопрошавших, Лука и Иоанн — об одном, причем Иоанн указывает на него, как на родственника пострадавшего. Все это не должно смущать, ибо присутствовало много народа, что хотели подчеркнуть Марк и Матфей, а спрашивал — один, о чем сказали Лука и Иоанн. Или, возможно, многие спрашивали, но Лука и Иоанн привели вопрос того, кто либо был главным из вопрошавших, либо именно его вопрос при письме первым пришел к ним на ум. Что же касается пения петуха после третьего отречения, то мы, вместе с Марком, считаем его вторым.
26.
Затем Матфей продолжает так: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед вон, плакал горько». А Марк говорит так: «И вспомнил Петр слово, сказанное Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня. И начал плакать». У Луки же читаем: «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И вышед вон, горько заплакал». Иоанн о плаче Петра умолчал. Во всем этом вызывает удивление только одно: каким образом, согласно Луке, «Господь, обратившись, взглянул на Петра». В самом деле, допрос шел во внутреннем дворе, а, согласно Марку, еще и в верхних частях дома, Петр же был во дворе внешнем, среди рабов, которые грелись у огня. Так как же Господь мог бросить телесный взгляд на Петра? Я полагаю, что этот взгляд был брошен по действию свыше, так что Петру вспомнилось, сколько раз он уже отрекся и что предсказал ему Господь. Таким образом, милосердный взгляд Господа привел его к раскаянью, и он спасительно заплакал. Все это подобно тому, как мы ежедневно говорим: «Господи! воззри на меня» или: «Воззрел Господь на того–то», имея в виду того, кто по божественному милосердию избежал опасности или заботы; таким же образом, я полагаю, и посмотрел Господь на Петра, и Петр вспомнил слова Господа. Потому–то Матфей и Марк, умолчавшие об этом взгляде, сказали, что Петр вспомнил не «слова Господа», как написал Лука, а «слова Иисуса», как бы давая понять, что Иисус бы взглянул телесными очами, а Господь — божественною силою.
27.
Далее Матфей говорит: «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю» (Мф. 27.1–10). Подобным образом передает и Марк: «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату» (Марк. 15.1). Лука же, после слов об отречении Петра, воспроизвел то, что творили с Господом под утро: «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион, и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня; отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все: итак Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я. Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его! И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату» (Лк. 22.63–23.1). Итак, Лука подробно рассказал о том, что было под утро; ночью же происходило то, о чем кратко упомянули Матфей и Марк, т. е. показания лжесвидетелей. Иоанн же, помимо отречения Петра, передал события той ночи в нескольких словах, упомянув лишь около четверти происшедших событий. Однако, только от него мы знаем, что «Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе… От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро…»; т. е. по какой–то причине Каиафа отсутствовал на том сборище, потом же, когда Иисуса привели к нему, обвинение уже было понятно и Каиафе было ясно, что Он должен умереть; поэтому Его безо всякого промедления отослали к Пилату.
28.
О том, что делал Пилат с Господом, об этом далее говорит Матфей. Но прежде он делает отступление, чтобы сообщить о смерти Иуды, о чем сообщает только он один: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши сребреники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля та «землею крови» до сего дня. Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит: «и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника, как сказал мне Господь».
29.
Некоторых смущает то обстоятельство, что этого свидетельства нет в книге пророка Иеремии. Однако, есть такие евангельские списки, в которых не указывается имя пророка, и, пожалуй, нам следует скорее доверять именно этим спискам. Действительно, эти слова были сказаны не Иеремиею, а Захариею. А почему в большинстве списков мы встречаем имя Иеремии — объяснить трудно, тем более, что в древнейших свитках было просто написано: «Сбылось реченное чрез пророка», и хотя имя пророка не указано вовсе, но понятно, что речь идет о пророке Захарии.
30.
Или, возможно, имя Иеремии появилось по таинственному действию промысла Божия, которым управлялись умы евангелистов? Ведь могло же быть так, что уму Матфея, составлявшего Евангелие, представился вместо Захарии Иеремия, как это часто бывает, и он безо всякого сомнения вставил это имя. Однако, поскольку воспоминания евангелистов направлялись Духом Святым, то имя этого пророка могло появиться только в том случае, если Господь повелел так написать. Объяснить же это можно только тем, что все святые пророки известны удивительным согласием между собою, ибо все, что написано ими, через них сказал Дух Святой, а, значит, у них все общее, и сказанное Захарией настолько же Захарьино, насколько и Иеремиино, и наоборот. Отсюда понятно, что книги их всех — это как бы одна книга одного, и те доказательства, которые пытаются выдвинуть люди неверующие или просто неопытные, — для подтверждения якобы несогласия святых евангелистов, — эти же доказательства люди верующие и ученые принимают как свидетельства единства всех святых и пророков.
31.
Есть и еще одна причина, о которой нельзя не упомянуть. Дело в том, что Захария говорит о тридцати сребрениках, но ничего не говорит о покупке поля. У Иеремии же есть известие, что он купил поле у сына брата своего и задолжал ему деньги. Таким образом, читатель, находя у Иеремии слова о покупке поля, а у Захарии — о тридцати сребрениках, связывает два пророчества в одно и постигает их общий смысл. Что же касается слов, присоединенных Матфеем к этому пророчеству, которых нет ни у Захарии, ни у Иеремии: «Которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника, как сказал мне Господь», то из этого должно заключить, что евангелист, включив эти слова, по откровению от Господа указал, что пророчество это относится к обстоятельству, связанному с оценкой Иисуса. Далее, запись на купленное поле бросали в глиняный сосуд, из чего и выходит поле горшечника. Что же до места погребения странников, то Господь сказал Иеремии, что покупка им поля значила то, что оно будет местопребыванием освобожденных в той земле. Я высказал все эти мысли не с тем, чтобы окончательно прояснить столь сложный вопрос, но чтобы показать, что следует со всею тщательностью разобраться в этих пророческих свидетельствах, сведенных воедино в одном евангельском рассказе.
32.
Сообщив о судьбе Иуды предателя, Матфей продолжает так: «Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтоб я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали Его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят! Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят! Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мф. 27.11–26).
33.
Почти так же и теми же словами повествует и Марк. Но слова Пилата, обращенные к народу с тем, чтобы отпустить одного узника, приведены несколько иначе: «Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» Тут стоит вспомнить, что иудеи своих царей называли помазанниками, поэтому вопрос Пилата мог значить следующее: «Хотите ли, отпущу вам Помазанника?», т. е. Христа. И далее Марк говорит: «Пилат отвечая опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским?» Ясно, что Марк словами «Царь Иудейский» хотел сказать то же, что Матфей словом «Христос». О том же, что Пилат умыл руки пред народом, желая показать, что он невиновен в крови Праведника, об этом Марк и другие умалчивают. Но Матфей ясно показал, что Пилат достаточно узнал Иисуса, чтобы отпустить Его. Об этом вкратце говорит и Марк, приводя следующие слова Пилата: «Какое же зло сделал Он?» Но народ еще сильнее стал кричать: «Распни Его!» Далее Марк говорит: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Таково сообщение Марка (Мк. 15.2–15).
34.
Лука же о событиях у Пилата говорит следующее: «И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем». Об этом два другие евангелиста не говорят, хотя и упоминают об обвинениях. Итак, благодаря Луке мы точно знаем, в каком преступлении Его ложно обвинили. Далее Лука не сообщает о словах Пилата: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?», а сразу приводит его вопрос: «Ты Царь Иудейский?», на который Иисус ответил: «Ты говоришь». Так же вспоминают Матфей и Марк, хотя и в несколько другом порядке, поскольку и здесь евангелисты дополняют друг друга. Затем Лука продолжает так: «Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в Этом Человеке. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? И узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое–нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы; но Он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и сильно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Об этой встрече Иисуса с Иродом и о том, что там происходило, повествует только Лука, остальные же умалчивают.
Далее Лука говорит: «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне Человека Сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также: ибо я посылал Его к нему, и ничего не найдено в Нем достойного смерти; итак, наказав Его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его! Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников». Хотя Матфей не упомянул о том, сколько раз пытался Пилат отпустить Иисуса, но сказав: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается…», дал ясно понять, что попытки были многократными. Рассказ о том, что происходило у правителя, Лука завершает такими словами: «И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю» (Лк. 23.2–25).
35.
Теперь рассмотрим свидетельство Иоанна о тех же событиях. (Иоанн) говорит: «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе». О самих обвинениях Иоанн молчит, но его, ни в чем ему не противореча, дополняет Лука: «И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем». Сказанное же Иоанном, по моему мнению, следует понимать так, что вначале они не хотели выдвигать обвинений, полагая, что в виду их высокого положения в народе Пилат осудит Христа и без указания ими обвинений. Нет сомнений в том, что на судилище у Пилата было сказано многое, каждый же из евангелистов привел, соблюдая краткость, лишь часть; но все вместе они излагают так, что слова одного дополняют сказанное другими. Иоанн продолжает: «Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, — да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?» Может показаться, что здесь Иоанн противоречит другим, ибо те так привели ответ Иисуса: «Ты говоришь». Но Иоанн, позже приведя и такой ответ, ясно показал, что первый ответ Иисуса был другими пропущен. Обратим внимание на дальнейшее: «Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь». Вот в этом месте Иоанн подходит к тому, о чем сказали и остальные евангелисты.
Далее следует продолжение речи Господа: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем; есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим». Последние слова дополняют сказанное Лукою: «Мы нашли, что Он развращает народ наш».
Затем Иоанн продолжает так: «Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию, и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю». С этими словами иудеев совпадает (по смыслу) и то, что привел Лука: «Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем». Включая в свое повествование эти крики иудеев, Иоанн как бы восполняет то, что он не сказал об их обвинениях прежде, сообщив лишь: «Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе».
Свой рассказ о бывшем у Пилата Иоанн завершает так: «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по–еврейски Гаввафа. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие» (Ин. 18.28–19.16).
36.
Теперь нам следует рассмотреть, что поведали евангелисты о страданиях Господа. Матфей начинает так: «Тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздевши Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27.27–31). Марк же сообщает таким образом: «А воины отвели Его внутрь двора, то есть, в преторию, и собрали весь полк; И одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него и, становясь на колени, кланялись Ему» (Мк. 15.16–20). Понятно, что слова Матфея и Марка об одежде обозначают, что глумящиеся воины облачили Иисуса не в царский пурпур, а в одежду, окрашенную в красный цвет соком растения, называемого coccum; есть также и красный пурпур (т. е. красное сукно), по цвету похожее на соссum. Поэтому, возможно, Марк и упомянул о пурпуре, хотя речь шла о красильной ягоде. Лука ничего не сообщает об этом, а Иоанн, прежде чем сказать о предании Иисуса на распятие, упоминает об этом так: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по ланитам». Отсюда ясно, что Матфей и Марк сообщили об этом задним числом, (т. е.) что все это произошло не тогда, когда Пилат предал Иисуса на распятие, (а раньше); (Матфей и Марк) здесь вставили то, что прежде пропустили. Сюда же относится и то, что далее говорит Матфей: «И плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие». Марк же так завершает эту часть повествования: «Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его».
37.
Итак, Матфей продолжает: «Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его» (Мф. 27.32). Похоже сообщает и Марк: «И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его» (Мк. 15.21). А Лука говорит так: «И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом» (Лк. 23.26). У Иоанна же читаем: «И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, а по–еврейски Голгофа; там распяли Его…» (Ин. 19.16–18). Из этого можно понять, что до восхождения на Голгофу Иисус Сам нес крест Свой; Симон же, как вспоминают предыдущие три (евангелиста), был принужден к этому уже в пути, при поднятии (креста) на (лобное) место. Таким образом, первую половину пути описал Иоанн, а вторую — остальные.
38.
Матфей продолжает так: «И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит: «лобное место» (об этом все евангелисты говорят одинаково), дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить» (Мф. 27.33,34). Марк же сообщает: «И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял» (Мк. 15.23). Из этого можно понять, что речь шла о винном уксусе, смешанном со смирной: Матфей говорит о желчи потому, что вино со смирной — горчайший из напитков. А слова Марка: «Он не принял» означают, что Иисус пить не стал, но отведал, как о том свидетельствует Матфей.
39.
Затем Матфей говорит: «Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там» (Мф. 27.35,36). Об этом же говорит и Марк: «Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять» (Мк. 15.24). А у Луки читаем: «И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел» (Лк. 23.34,35). Сообщения этих трех евангелистов кратки, Иоанн же рассказывает подробно: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: «разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий». Так поступили воины» (Ин. 19.23,24).
40.
Матфей продолжает: «И поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27.37). А Марк, прежде чем сказать об этом, говорит: «Был час третий, и распяли Его» (Мк. 15.25). Он сообщает об этом после того, как рассказал о разделе одежд. Все это требует самого тщательного рассмотрения, ибо с этим местом (у Марка) связаны большие недоразумения. Действительно, можно подумать, что Иисус был пригвожден к кресту в третий час, а с часа шестого и по девятый была тьма, так что с момента распятия и до наступления тьмы прошло три часа. Возможно, такое толкование и было бы правильным, если бы Иоанн прежде не сказал: «Пилат… вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по–еврейски Гаввафа. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие» (Ин. 19.13–16). Итак, если только в шестом часу Он был предан Пилатом на распятие, то каким же образом Он был распят в часу третьем, о чем, как полагают некоторые, будто бы говорит Марк?
41.
Вначале исследуем, в какой час Он мог быть распят, а затем постараемся понять, почему Марк сказал, что Он распят был в час третий. Итак, шел час шестой, когда Иисус был предан на распятие Пилатом; именно шел, то есть окончился пятый час и начался шестой. Но у них (евангелистов) не принято было говорит: «пятый с четвертью» или «пятый с половиной». Писанию вообще свойственно употреблять целое вместо части, как мы уже показали выше, исследуя вопрос о шести и восьми днях, после которых Он взошел на гору. Таким образом, в начале шестого часа Он был предан Пилатом на распятие, по окончании же этого часа наступила та тьма, о которой свидетельствуют три евангелиста (Мф. 27.45; Мк. 15.33; Лк. 23.44).
42.
Но почему же Марк, сообщив, что распинатели Его разделили одежды Его, бросив о них жребий, прибавил: «Был час третий, и распяли Его»? Ведь Его сперва распяли, а потом разделили одежды, о чем свидетельствуют другие и что очевидно само по себе. Если бы Марк просто хотел сообщить о времени совершившегося действия, ему было бы достаточно сказать: «Был час третий»; так что это дополнение: «И распяли Его» сделано не иначе, как для того, чтобы обозначить нечто задним числом, что стало бы предметом спорным, если бы Писание стали читать с того времени, когда Церкви уже было доподлинно известно, в который час Господь был повешен на древе, чтобы возможно было или исправить ошибку, или отвергнуть ложь. Но так как он (Марк) знал, что Господь был повешен воинами, а не иудеями, то этими словами он прикровенно показал, что истинными распинателями были не те, которые, неся службу, исполняли приказ, а кричавшие: «Распни Его!» Таким образом понятно, что когда иудеи, крича, требовали казни, был час третий; но так как при этом они не могли сами исполнить желаемое, они и предали Его Пилату, о чем ясно сообщил Иоанн: «Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого» (Ин. 18.29–31). Но то, что они не могли сделать своими руками, они совершили своим языком, а было это, как указал Марк, в третьем часу.
43.
Если же кто–либо станет утверждать, что когда иудеи впервые стали требовать распятия, третий час еще не наступил, тот неразумнейшим образом явит себя врагом Евангелия; ведь у нас нет никаких доказательств тому, что тогда еще не было третьего часа, и поэтому в данном вопросе следует целиком доверяться говорящему истину евангелисту, а не вздорным человеческим измышлениям. «Почему ты признаешь верным (сообщение), что это был третий час?» Отвечаю: потому что верю евангелистам, а если веришь им, то как иначе можно понять, что Господь был распят и в третьем часу, и в шестом? На шестом часе мы настаиваем, исходя из ясного указания Иоанна. Но Марк упоминает о часе третьем. Если мы с тобой оба верим слову Евангельскому, то покажи иначе (чем я), как могло быть и то, и другое; докажешь иначе — с радостью приму. Ведь Евангельская истина мне дороже, чем собственное мнение. Или пусть кто–нибудь другой приведет лучшее объяснение, а не приведет — то чем плохо и это? Примем наилучшее, твердо при этом разумея, что никто из евангелистов не мог ни солгать, ни впасть в заблуждение, стоя на столь великой и священной высоте своего служения.
44.
Вспомним еще раз, как говорит Марк: «Пилат отвечая опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? Они опять закричали: распни Его!» Затем Марк, не вставляя ничего более, сразу говорит о том, что Пилат предал Господа на крест, о чем Иоанн сообщает как о бывшем в часу шестом. Мы видим, о сколь многом Марк умолчал, а именно: о многократных попытках Пилата отнять Его у иудеев. Действительно, Матфей говорит: «Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят!» Тогда, как мы утверждаем, был час третий. Далее тот же Матфей сообщает: «Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят! Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается…», и т. д. Что же странного в том, что пока продолжались эти попытки Пилата отстоять Иисуса, пока иудеи шумели и требовали казни — прошло два или три часа? Таким образом и наступил шестой час, в начале которого Пилат предал Его на распятие, а в конце — наступила тьма.
45.
А Лука повествует, что когда Пилат сказал: «Итак, наказав Его, отпущу», то: «Весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву… Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его!» Тогда–то и был час третий. Лука продолжает: «Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников». Разве не понятно, что речь идет о продолжительном и нарастающем шуме, что Пилат долго колебался и не сразу повторял свое предложение, и не в одно мгновение уступил?
46.
Справься также у Иоанна и посмотри, как медлил Пилат, как желал уклониться от столь отвратительного дела! Иоанн повествует об этом обстоятельнее других, хотя и он указывает далеко не все из того, что случилось за те два часа. Ведь после того, как он (Пилат) позволил бичевать Иисуса, одеть в шутовские одежды и всячески поносить (это, как я полагаю, он сделал для того, чтобы смягчить ярость воинов и не допустить убийства), то: «Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!», как бы желая умиротворить их Его бесславным видом. Затем Иоанн прибавляет: «Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!» Тогда, говорим мы, был час третий.
Далее следует: «Пилат говорит им: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию, и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить Его». Итак, Пилат стал искать (возможности) отпустить Его, что, конечно же, потребовало определенного времени на размышления, переговоры с иудеями и их возражения, о чем (евангелист) умолчал. В конце концов иудеи сказали то, что вынудило Пилата уступить. Иоанн говорит: «Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по–еврейски Гаввафа. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестой». Итак, с того момента, когда иудеи впервые потребовали распятия, и до того времени, когда Пилат сел на судилище, прошло два часа, (т. е.) завершился час пятый и пошел шестой. Здесь Пилат сделал последнюю попытку: «И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие». И затем, пока Его вели к лобному месту, пока распинали между двух разбойников, пока бросали жребий и делили одежды, пока Он вновь подвергался поношениям — исполнился час шестой и наступила тьма.
47.
Итак, пусть прекратят нечестивое упорство и веруют, что Господь Иисус Христос в третий час был распят словами иудеев, а в шестой — руками воинов. Марк же, наибольший из всех (евангелистов) сторонник краткости (изложения), пожелал только указать волю Пилата и его попытку (спасти) жизнь Иисуса. Действительно, Марк говорит (об этом) куда меньше, чем Матфей; Матфей — меньше, чем Лука; Лука же — меньше, чем Иоанн; но и Иоанн приводит далеко не все события, происшедшие у Пилата. Поэтому разумно и благочестиво веровать, что в этом промежутке прошло два с небольшим часа.
48.
Но кто–либо может сказать, что Марк, говоря о третьем часе, просто имел в виду, что он уже истек (то есть речь могла идти о любом часе после третьего). Но тогда почему бы ему не сказать, что иудеи сами пригвоздили Иисуса к кресту? Такой толкователь позволяет себе толковать слишком вольно и (как бы) предписывает законы повествования об истине. Так он мог бы говорить только в том случае, если бы сам повествовал об этом, предпочитая свое намерение намерению евангелиста Марка. Но ведь воспоминания евангелистов направлялись рукою Того, Который управляет водою, — как написано, — как Ему угодно. Итак, если эти святые и правдивые мужи написали (нечто) якобы случайное, то не следует искать здесь заблуждения или ошибки. И апостол говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих» (2 Кор. 4.3). И еще: «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» (Там же, 2.6), т. е. кто способен понять, как было бы лучше. И Господь говорит о том же: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. 9.39). Ведь в этом и состоит высшее богатство премудрости и познания Божия, по которому из одной и той же глины делается один сосуд для почета, а другой –для поругания; а плоти и крови говорится: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9.20,21).
Так кто же познал мысль Господа, кто был Ему советником, когда Он (именно) так направил сердца вспоминающих евангелистов и в вершине здания Церкви возвел их до столь высокой степени значения, что даже и тем, что в их писаниях может показаться противоречивым, многие, преданные по справедливости похотям сердец и превратному уму, освобождаются от слепоты. В самом деле, пророк говорит Господу: «Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того» (Пс 91.6,7).
49.
Я прошу и убеждаю тех, которые читают эти рассуждения, составленные нами с помощью Божьей, чтобы они вспоминали эти мои слова при всяком подобном затруднении, дабы впредь не было необходимости повторять сказанное еще и еще, И кто пожелает внять этому без упрямого нечестия, тот легко увидит, в сколь удобном месте привел Марк свое указание о третьем часе, ибо теперь каждый может вспомнить, когда иудеи распяли Господа; действительно, им бы хотелось взвалить всю тяжесть преступления на римских правителей и солдат, но (Марк) вспомнил об этом именно тогда, когда описал действия служителей (по свидетельству Иоанна это были солдаты), разделивших Его одежды по жребию. Поэтому, чтобы кто–либо не перенес замысел этого преступления с иудеев на солдат, (Марк) говорит: «Был час третий, и распяли Его». Отсюда добросовестный исследователь увидит, что сделанное солдатами в шестой час, было в еще большей мере сделано теми, кто в третий час с криком требовал распять Его.
50.
Нет также недостатка в таких, которые под словами Иоанна: «Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестой» желают разуметь третий час дня, в который Пилат сел на судилище; и тогда, выходит, по окончании того же третьего часа Он был распят на кресте; когда же Он уже висел на древе, прошло еще три часа, и Он испустил дух. Таким образом, уже начиная с того часа, когда Он скончался, т. е. с часа шестого, и вплоть до девятого была тьма. Действительно, они говорят, что в тот день была пятница пред Пасхою иудейской, а с субботы начинались опресноки. Но истинная Пасха, Пасха не иудейская, а христианская, которая совершалась уже в страданиях Христа, начала приготовляться от часа девятого ночи, когда Христос был приуготован иудеями к смерти. Ведь (слово) parasceve означает приготовление. Таким образом, от этого девятого часа ночи до Его распятия истек шестой час приготовления по Иоанну и был третий час дня по Марку. Так что Марк просто назвал третьим часом дня тот час, в который Господь был пригвожден к древу.
Какой верующий не возрадовался бы такому решению вопроса, если бы только можно было угадать то мгновение после девятого часа ночи, с которого началась пятница нашей Пасхи, т. е. приготовление смерти Христовой. Ведь если мы скажем, что оно началось тогда, когда Господь был схвачен иудеями, то тогда была лишь первая половина ночи; если же тогда, когда Его привели в дом Каиафы, то тогда еще не пропели петухи, к Пилату же Его привели уже утром. Скорее следует допустить, что это приготовление началось тогда, когда первосвященники, выслушав Его, решили: «Повинен смерти». Что ж, ничего не препятствует нам принять, что это действительно был девятый час ночи; с этого часа до того, когда Пилат сел на судилище, прошло около шести часов, и это был не (шестой) час дня, а (шестой час) пятницы, т. е. приготовления к совершению жертвоприношения Господа, которое есть истинная Пасха; так что по окончании шестого часа пятницы, совпадающего с третьим часом дня, Господь был распят на кресте.
Итак, следует ли предпочесть это понимание, или же приведенное нами ранее? Спорить об этом, это все равно, что вопрошать, кто более приблизился к Господу: сотник или посланные им друзья, о чем мы уже говорили выше (Кн. 2, гл. 20). Нужно полагать, что вопрос о часе страданий Господа, обыкновенно возбуждающий бесстыдство спорщиков и смущающий неопытность слабых, разрешен.
51.
Матфей далее говорит: «Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую» (Мф. 27.38). Подобным же образом говорят Марк и Лука (Мк. 15.27; Лк. 23.36). И то, что сказал Иоанн, также не должно вызывать вопросов. Он пишет: «Там распяли Его и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса» (Ин. 19.18). Иоанн не сказал, что это были разбойники, но, так как он и не сказал, что то были люди невинные, то противоречия тут нет.
52.
Затем Матфей продолжает так: «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста». Марк пишет о том же почти дословно. Далее Матфей пишет: «Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти! если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога: пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын» (Мф. 27.39–43). Марк и Лука, хотя отчасти и другими словами, но выражают те же самые мысли; впрочем, один пропускает то, что приводит другой. О главных священниках, которые осмеивали распятого Господа, они говорят единодушно, Марк же умолчал о старейшинах; все вместе они упомянули обо всех первенствующих лицах, так что здесь можно подразумевать и книжников, и старейшин.
53.
Матфей далее пишет: «Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его» (Мф. 27.44). Марк не противоречит ему, хотя говорит о том же другими словами (Мк. 15.32). Но может показаться, что им противоречит Лука, если только не вспомнить о довольно обычном у евангелистов способе передачи событий. Действительно, Лука говорит: «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23.39–43). Итак, по словам Матфея и Марка разбойники, распятые с Ним, поносили Его, а по свидетельству Луки один из них поносил Его, а другой и унимал товарища, и веровал в Господа. Как же это понять? Для этого нужно представить, что Матфей и Марк, кратко останавливаясь на этом событии, употребили вместо единственного числа — множественное, подобно тому, как в послании к евреям мы читаем сказанное во множественном числе: «заграждали уста львов», когда известно это об одном Данииле, или: «умирали от меча», когда предание существует только об одном Исаии.
Но так как язычники и за это поносят Евангелие, то пусть они посмотрят, как выражались их писатели, сколько у них было Федр, Медей и Клитемнестр, хотя на самом деле их было по одной; да и что необычного в том, чтобы сказать: «Крестьяне меня обижали», хотя обида была нанесена одним. Свидетельство Луки об одном разбойнике противоречило бы свидетельствам других, если бы те сказали, что оба разбойники укоряли Господа. Тогда под множественным числом нельзя было бы разуметь одного: но в данном случае нет никаких доказательств, что, говоря в множественном числе, они имели в виду непременно обоих злодеев; такое употребление множественного числа часто допустимо и тогда, когда речь идет об одном.
54.
Матфей продолжает так: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого» (Мф. 27.45–49). С этим согласны и два другие (Мк. 15.33–36; Лк. 23.44,45); но Лука объясняет, почему произошла тьма: потому что затмилось солнце. Матфей говорит: «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахвани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он». Марк почти согласен с ним в словах, в мыслях же — согласен полностью. Затем Матфей говорит: «И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить». Так говорит и Марк: «А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его». Матфей же повествует, что относительно Ильи сказал совсем не тот, кто принес губку, ибо пишет: «А другие говорили: постой; посмотрим, придет ли Илия спасти Его». Из этого мы можем понять, что так говорили и человек с губкой, и прочие воины. А Лука, прежде чем сказать о хуле разбойника, так упомянул об этом уксусе: «Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Самого Себя» (Лк. 23.36,37). Лука одной фразой передал все то, что было сделано и сказано воинами. Читателя не должно смущать то обстоятельство, что по его словам уксус приносил не один из них: употребляя вместо единственного числа множественное, Лука применил тот способ изложения, о котором шла речь выше. Об этом уксусе упомянул и Иоанн, когда сказал: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам Его» (Ин. 19.28,29). Прочие же евангелисты не упомянули об этом «жажду» и о бывшем там сосуде, наполненном уксусом.
55.
Матфей продолжает: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух» (Мф. 27.50). Подобным образом говорит и Марк (Мк. 15.37). А Лука объясняет, что именно Он воскликнул этим громким голосом; он говорит: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух» (Лк. 23.46). А Иоанн умолчал как о первых словах, приведенных Матфеем и Марком, так и о последних, о которых упомянул один Лука. Но Иоанн привел то, что упустили другие, а именно, что Господь воскликнул: «Совершилось!», после того как отведал уксуса, — что, по нашему пониманию, Он сказал раньше того громкого восклицания. В самом деле, вот слова Иоанна: «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив голову, предал дух» (Ин. 19.30). Именно после этого «совершилось!» и был испущен Господом тот великий вопль, о котором этот евангелист умолчал, а те три сказали. Действительно, трудно предположить, чтобы порядок был другим. Первоначально Он сказал: «Совершилось!», когда исполнилось над Ним все, сказанное у пророков, и как будто только Он этого и ожидал, потому что, конечно, Он мог умереть, когда захотел бы; а потом уже, предавая Себя Богу, Он испустил дух. Если же кому–либо кажется, что это может быть изложено в каком угодно ином порядке, то особенно следует остерегаться того, чтобы кому–нибудь не показалось, что какой–либо евангелист противоречит другому, если он умолчал о том, что сказал другой, или сказал о том, о чем другой умолчал.
56.
Затем Матфей говорит: «И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу» (Мф. 27.51). А Марк описывает это так: «И завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу» (Мк. 15.38). Лука же об этом говорит следующим образом: «И завеса в храме разодралась по середине» (Лк. 23.45), но не в том же порядке. Желая присоединить одно чудо к другому, он после слов: «И померкло солнце» счел необходимым присоединить рассказ о завесе, предупреждая случившееся после того, как Господь испустил дух, чтобы затем снова возвратиться к передаче событий о питье из уксуса, о громком восклицании Господа и о самой смерти, которая, конечно, совершилась прежде раздирания завесы и распространения тьмы. В самом деле, ведь Матфей, сказав о том, что Иисус испустил дух, сразу после этого повествует о завесе. Он этим прямо указал, что она разодралась тогда, когда Иисус испустил дух. Но если бы он не прибавил: «И вот», а просто сказал: «завеса разодралась», то было бы неизвестно, не вспомнили ли он и Марк об этом позднее, чем следует, а Лука, напротив, сохранил порядок событий.
57.
Матфей продолжает: «И земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим». Он говорит об этом один, но не следует опасаться, что этим он противоречит остальным евангелистам. Он же далее продолжает: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27.51–54). Марк повествует так: «Сотник, стоящий напротив Его, видев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15.39). Лука говорит так: «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно Человек этот был праведник» (Лк. 23.47). Нет противоречия в том, что Матфей говорит, будто сотник и бывшие с ним, видя землетрясение, удивлялись, тогда как Лука говорит, что он удивлялся, слыша, что Господь испустил дух с таким восклицанием, показав, какую имел Он мощь, когда умирал. В самом деле, в том, что Матфей сказал не только «видя землетрясение», но еще прибавил «и все бывшее», он показал, что место у Луки безупречно, ибо по его словам сотник удивлялся самой смерти Господа; потому что и она была между тем, что чудесным образом тогда совершилось. Но хотя бы Матфей даже и не прибавил этого, все–таки должно это понимать так, что поскольку тогда совершилось многое достойное удивления, то повествователям вольно было припоминать то, что им было угодно. И они не противоречат друг другу в том случае, когда один говорит, что сотник удивлялся одному, а другой — другому, так как он удивлялся всему.
А то, что по словам одного сотник сказал: «Воистину Он был Сын Божий», а по словам другого: «Истинно Человек Сей был Сын Божий», пусть не смущает того, кто не забыл, что мы говорили выше, поскольку то и другое выражение вполне совпадают по мысли; также нет противоречия и в том, что один евангелист употребил слово «человек», а другой — нет. Может показаться противоречивым то, что по словам Луки сотник не сказал «Сын Божий», а сказал «праведник». Но мы должны понимать, что или сотник сказал и то и другое, или же один евангелист сказал одно, а другой — другое. А, может быть, Лука хотел выразить мысль сотника, каким образом он сказал, что Иисус есть Сын Божий. Возможно, сотник не разумел Его как Единородного, равного Отцу, но назвал Его Сыном Божьим потому, что признавал Его праведным, подобно тому, как многие праведники названы сынами Божьими. И слова, сказанные Лукою: «Сотник же, видев происходившее», таким образом включают все чудесное, бывшее в тот час, и он упоминает только об одном чудесном событии, составными частями которого были все происшедшие чудеса. Прибавление у Матфея о тех, которые были с сотником, и умолчание о них у других евангелистов по нашему последнему правилу не является противоречием, так как один говорит, а другой умалчивает.
58.
Далее Матфей говорит: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Заведеевых» (Мф. 27.55,56). Марк говорит так: «Были тут и женщины, которые смотрели издали; между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим» (Мк. 15.40,41). Я не вижу ничего, что могло бы показаться противоречивым у этих двух евангелистов. В самом деле, какая важность в том, что некоторых женщин они назвали вместе, а некоторых — каждый отдельно? Лука же связывает события таким образом: «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это» (Лк. 23.48,49). Лука вполне согласен с двумя предыдущими относительно присутствия женщин, хотя ни одной из них он не назвал по имени. И относительно толпы, которая была в том месте, и видя бывшее, била себя в грудь и возвращалась назад, он согласен с Матфеем. Но один только он упомянул о Его знакомых, стоявших вдали. Ибо и Иоанн упомянул о присутствии женщин, прежде чем Господь испустил дух, говоря так: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19.25–27).
Если бы Матфей и Марк яснейшим образом не назвали Марии Магдалины, то мы могли бы сказать, что она была то вдали от креста, то вблизи его, потому что никто из них, кроме Иоанна, не упомянул матери Господа; а теперь, каким образом та же самая Мария Магдалина представляется стоящею вместе с другими женщинами вдали, как это говорят Матфей и Марк, и вблизи креста, как говорит Иоанн? Это могло быть только так: они были на таком расстоянии, что можно было сказать и «вблизи», потому что они находились у Него на виду, и «вдали», если сравнивать с толпою, вместе с сотником и воинами окружавшею Его гораздо ближе. Можем мы понимать еще и так, что те, которые были с матерью Господа после того, как Он поручил ее ученику, начали отступать, чтобы освободиться от тесноты в толпе, и наблюдали за происходившим из более отдаленного места, так что прочие евангелисты, которые сообщили о них после смерти Господа, вспомнили, что те стояли вдали.
59.
Матфей продолжает: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, пришед к Пилату, просил Тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать Тело» (Мф. 27.57,58). Марк говорит так: «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть, день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер; и призвав сотника, спросил его: давно ли умер? И узнав от сотника, отдал Тело Иосифу» (Мк. 15.42–45). Лука же говорит так: «Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил Тела Иисусова» (Лк. 13.50–52). А Иоанн после того, как рассказал о разбитых голенях тех, которые были распяты с Господом, и о боке Иисусовом, пронзенном копьем, — о чем рассказал только он один, — в согласии с другими присоединил такое сообщение: «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный — из страха от Иудеев, просил Пилата, чтобы снять Тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял Тело Иисуса» (Ин. 19. 38). Здесь нет ничего такого, в чем кто–либо из евангелистов казался противоречащим другим. Но, возможно, кто–нибудь станет спрашивать, каким образом Иоанн не противоречит самому себе, когда вместе с прочими свидетельствует, что Иосиф просил Тела Иисусова, но только он один говорит, что тот был тайным учеником Господа из–за страха перед иудеями. Действительно, почему Иосиф, бывший из страха тайным учеником, осмелился просить Тела Его, чего не осмелился ни один из тех, которые следовали за Господом? Однако каждому должно быть понятно, что он сделал это, полагаясь на свое достоинство, в виду чего он мог смело войти к Пилату; ради оказания последнего долга при совершении погребения он меньше заботился об иудеях, хотя обыкновенно избегал их вражды, слушая учение Господа.
60.
Матфей продолжает: «И взяв Тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и привалив большой камень к двери гроба, удалился» (Мф. 27.59,60). Марк говорит так: «Он, купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, который был высечен в скале; и привалил камень к двери гроба» (Мк. 15.46). Лука же говорит: «И сняв Его, обвил плащаницею и положил Его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен» (Лк. 23.53). Из этих трех повествований не может возникнуть никакого вопроса о разногласии. А Иоанн упоминает, что погребение Господа было исполнено не одним только Иосифом, но также и Никодимом. Действительно, он говорит так: «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста». Затем Иоанн продолжает, присоединяя и Иосифа: «Итак, они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен: там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19.39–42). И здесь ничто не вызывает недоумения у людей, умеющих правильно мыслить. Ведь и те, которые умолчали о Никодиме, не утверждали, что Господь был погребен одним только Иосифом, хотя и упомянули только о нем одном; и может быть потому сказали, что Он был обвит Иосифом одной плащаницей. Что мешает читателям думать, что другие плащаницы могли быть принесены Никодимом и наложены поверх первой, как рассказывает Иоанн. Впрочем, мы можем вспомнить о повязках, которые накладывались на голову, и о повязках, которыми обвязывали все тело: ведь все они были из полотна; так что, хотя была одна плащаница, вполне правильным было бы сказать: «Обвязали Его плащаницами», потому что плащаницею называется то, что ткется из льна.
61.
Затем Матфей говорит: «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба» (Мф. 27.61). Об этом Марк повествует так: «Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали» (Мк. 15.47). Из этого ясно, что между ними нет никакого разногласия.
62.
Матфей продолжает: «На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «после трех дней воскресну»; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: «воскрес из мертвых»; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать» (Мф. 27.62–66). Об этом повествует один только Матфей, и никто из других евангелистов не рассказывает чего–либо, что казалось бы противоречащим этому.
63.
Затем тот же Матфей продолжает: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам» (Мф. 28.1–15). С ним согласен Марк (Мк. 16.1–11). Но может приводить в смущение следующее: каким образом, согласно Матфею, ангел сидел на камне, отваленном от гроба. Действительно, Марк говорит, что они, входя в гроб, видели юношу, сидящего с правой стороны и одетого в белую одежду, и пришли в изумление. Возможно, это следует понимать в том смысле, что Матфей умолчал о том ангеле, которого они видели при входе, а Марк умолчал о том, которого они видели вне, сидящем на камне; так что они видели двух, и от каждого из двух в отдельности слышали то, что ангелы говорили об Иисусе: вначале от того, которого они видели вне, сидящем на камне, затем от того, которого они видели, входя в гроб, сидящем с правой стороны. Или, может быть, мы должны понимать так, что это было при входе во гроб в какой–нибудь ограде каменной стены, которой, вероятно, было тогда огорожено место перед скалою, а в этой последней было высечено место для погребения, так что на том же самом пространстве они видели сидящем с правой стороны того ангела, который, по словам Матфея, сидел на камне, отваленном от входа в гроб землетрясением, то есть от места погребения, которое было высечено в скале.
64.
Можно также задать вопрос, каким образом Марк говорит: «И вышедши побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись», тогда как Матфей говорит: «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его». Мы можем понять это только так, что они никому из этих ангелов не осмелились ничего сказать или ответить на то, что от них слышали, равно как и стражам, которых они видели лежащими; потому что та радость, о которой упоминает Матфей, не противоречит страху, о котором говорит Марк. Действительно, мы должны понимать, что и то и другое возникло в их душах, хотя бы о страхе сам Матфей ничего не сказал; впрочем, Матфей упоминает и о страхе.
65.
Также и о самом часе, в который женщины пришли к гробу, возникает вопрос, которого нельзя оставлять без внимания. Действительно, Матфей говорит: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб», а у Марка читаем: «Весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца»; но здесь они не противоречат другим двум, т. е. Луке и Иоанну. Действительно, слова Луки: «В первый же день недели, очень рано», и слова Иоанна: «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно», соответствуют словам Марка: «На рассвете первого дня недели», т. е. когда небо уже стало отчасти светлеть, как это бывает только перед самым восходом солнца, ибо это и есть тот свет, который обыкновенно называется зарею; поэтому Марк не противоречит тому, кто говорит: «Было еще темно». Ведь когда мы говорим: «утром», то это отнюдь не всегда означает, будто над землею уже видно солнце. Поэтому–то часто прибавляется: «Очень рано утром, на рассвете», чтобы слушающие понимали, что речь идет о зыбком промежутке времени между мраком ночи и светом дня.
66.
И сами три дня, в которые Господь умер и воскрес, могут быть правильно поняты только с точки зрения того способа изъяснения, по которому о целом говорится как о части. Ибо Господь Сам говорит: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12.40). Но время здесь считается или с того мгновения, когда Он испустил дух, или с того, когда он был погребен, и не берется в полном виде, если мы не примем среднего дня; т. е. целый день субботы с его ночью, а те дни, которые заключают субботу между собою, т. е. пятница и первый день недели, называемый у нас днем Господним, не будем понимать в смысле части вместо целого. Действительно, что проку в том, что некоторые, столкнувшись с подобными затруднениями и не зная, сколь важно при разрешении вопросов иметь в виду тот способ выражения в Священном Писании, когда частью называется целое, желают считать ночью те три часа от шестого до девятого, когда затмилось солнце, а днем — те три другие часа, когда оно снова показалось над землею, т. е. от девятого часа и до захода солнца? Далее, конечно, они считают ночь наступающей субботы, которая, вместе со своим днем, образует второй день и вторую ночь; а затем следует ночь первого дня недели, т. е. рассветающего дня Господня, в который воскрес Господь. Итак, получается две ночи и два дня, и еще одна ночь, хотя она и может пониматься в целости, и этим не раскрывается, что тот рассвет был ее последней частью, почему даже не причисляя тех шести часов, во время которых солнце затмилось и снова засияло, будет основание для признания трех дней и трех ночей.
Следовательно, пользуясь весьма обычным способом речи в Священном Писании, по которому под частью понимается целое, мы найдем первый день в том времени пятницы, когда Господь был распят и погребен, и должны принимать самую последнюю часть пятницы вместо целого дня с его ночью, который был уже окончен. Средний же день, т. е. день субботний, — не отчасти, а весь целиком. День третий — опять же по первой своей части, т. е. по ночи, должно считать целым со своим дневным временем. Таким образом и набегает три дня. Это объяснение похоже на то, каким мы прояснили вопрос о восьми днях, после которых Он взошел на гору, когда Матфей и Марк, обращая внимание на целые средние дни, сказали: «Спустя шесть дней», а Лука о том же самом сказал: «Спустя восемь дней» (смотри выше: Кн. 2, гл. 56, отд. 113).
67.
А теперь рассмотрим остальное: каким образом оно согласно с повествованием Матфея. Ведь Лука ясно говорит, что женщины, пришедшие к гробу, видели двух ангелов, из которых каждый отдельно упомянут двумя другими евангелистами: один — Матфеем, а именно тот, который сидел на камне вне гроба, а другой — Марком, которого видели в гробе с правой стороны. Лука же рассказывает так: «День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели на гроб, и как полагалось Тело Его; возвратившись же приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба, и вошедши не нашли Тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, — сказали им: что вы ищите живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим» (Лк. 23.54–24.12). Итак, каким образом ангелы были видны сидящими каждый в отдельности: один, по словам Матфея, вне гроба на камне, а другой, по словам Марка, внутри его, с правой стороны; тогда как по словам Луки два ангела стояли возле вошедших в гроб женщин, хотя и говорили им почти то же? О первых двух мы уже сказали выше, что же касается того, о чем говорит Лука, то не исключено, что потом, внутри, когда женщины смотрели на то место, на котором лежало тело Господа, они увидели двух других ангелов, стоявших, как говорит Лука, и говоривших почти то же, что и два первых, для ободрения их духа и для укрепления их веры.
68.
Теперь рассмотрим то, что пишет Иоанн: насколько и в чем он согласен с другими евангелистами. Он повествует так: «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба; итак бежит, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый, и наклонившись увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал; ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала; и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало Тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она обратившись говорит Ему: Раввуни! — что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей» (Ин. 20.1–18). Мы видим, что Иоанн согласен с прочими в смысле времени и места, а что касается двух ангелов, то в этом он согласен с Лукой. Но уже то, что эти ангелы не стояли, как у Луки, а сидели, равно как и многое другое в этом повествовании, может показаться противоречивым и требует тщательного рассмотрения.
69.
По этой самой причине все то, что совершалось около часа воскресения Господня, изложим, опираясь на свидетельства всех евангелистов, в виде некоторого целостного повествования. В первый день недели на рассвете, как согласно передают все (евангелисты), приходили иные ко гробу. Уже совершилось то, о чем вспоминает один только Матфей, т. е. землетрясение, отваливание камня, ужас стражей, объятые которым они лежали как мертвые. Первой пришла, как повествует Иоанн, Мария Магдалина; с ней, несомненно, были другие женщины, которые служили Господу. (Но Мария Магдалина) пламенела наибольшей любовью, так что Иоанн не без основания упомянул о ней одной, умолчав о тех, которые были с нею, — о чем свидетельствуют другие (евангелисты). Итак, она пришла и, увидев, что камень отвален от гроба, прежде чем более тщательно присмотрелась к чему–либо, не сомневаясь, что тело Иисуса оттуда унесено, убежала, — о чем говорит тот же Иоанн, — и сообщила Петру и Иоанну. Действительно, он (Иоанн) и есть тот ученик, которого любил Иисус.
Они поспешили ко гробу, и опередивший всех Иоанн наклонился и увидел лежащие пелены, но в гроб не вошел; Петр пришел вслед (за ним), вошел во гроб и увидел пелены и головную повязку, лежащую не с пеленами, но свернутую отдельно. Затем вошел и Иоанн, увидел то же самое и поверил тому, что сказала Мария, (т. е.) что Господь был унесен. «Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала», т. е. перед этим местом каменного гроба, однако же внутри того места, в которое вошли, потому что там был сад, как упоминает все тот же Иоанн. Тогда увидели ангела, сидящего с правой стороны камня, отваленного от гроба; об этом ангеле сообщают Матфей и Марк. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам». Марк также не пропустил сказать нечто подобное.
«А Мария, — продолжает Иоанн, — стояла у гроба и плакала; и когда плакала, наклонилась во фоб и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало Тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Здесь должно понимать так, что ангелы встали, ибо согласно Луке их видели уже стоящими, и сказали, по словам того же Луки, находящимся в страхе женщинам, склонившим взоры к земле: «Что вы ищите живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще а Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Тут вспомнились им слова Его.
После этого Мария, — как говорит Иоанн, — «обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она обратившись говорит Ему: Раввуни! — что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Тогда она вышла из гроба, т. е. из того места, где был сад, а с нею и другие, которых, по словам Марка, охватил трепет и ужас, и они никому ничего не сказали. И уже после этого произошло то, о чем сообщает Матфей: «Се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему».
Итак, мы видим, что дважды состоялась беседа с ангелами и дважды — с самим Господом: один раз тогда, когда Мария приняла Его за садовника, и другой раз — когда Он встретился с ними по дороге и самим повторением (явления) утвердил их (в вере) и освободил от страха. «Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Поэтому Мария Магдалина и пришла с вестью к ученикам о том, что она видела Господа, и что Он так сказал ей; причем не только она, но и другие, о которых упоминает Лука, «возвестившие все это одиннадцати и всем прочим… И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Согласно с этим свидетельствует и Марк. Действительно, сообщив, что они в страхе и трепете бежали и никому ничего не сказали, он прибавил, что воскресший Господь явился утром в первый день недели Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов, что она пришла с вестью к тем, которые были вместе с нею плачущими и скорбящими, и что они слыша о том, будто Он жив и явился ей, не поверили.
Матфей также не забыл (упомянуть) о том, что по уходе женщин, которые все это видели и слышали, пришли в город и некоторые из стражей, которые лежали как мертвые, и сообщили первосвященникам, что произошло. Те же, посовещавшись со старейшинами, подкупили воинов, дабы те распустили слух, что, пока они спали, ученики выкрали тело Его; воины так и поступили, и эта весть, быстро распространившаяся среди иудеев, владеет их умами и поныне.
70.
Теперь нам надлежит тщательно рассмотреть, каким образом Господь явился ученикам после Своего воскресения, ибо тут нам предстоит явить не только согласие четырех евангелистов между собою (Мф. 28; Мк. 16; Лук. 24 и Ин. 20,21), но и согласие их с апостолом Павлом, который об этом говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братии в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как (некоему) извергу» (1 Кор. 15.3–8). Но никто из евангелистов не держался такой последовательности; поэтому необходимо исследовать, противоречат ли они друг другу, или просто дополняют.
Итак, из евангелистов только Лука не упоминает о том, что Господь явился женщинам. Матфей же говорит, что (Господь) встретил их, когда они возвращались от гроба. Марк, как и Иоанн, сообщает, что сперва Он явился Марии Магдалине. Но как это произошло — Марк не говорит. Это разъясняет Иоанн. Лука же не только умолчал об этом, но, повествуя о встрече с Ним Клеопа и его спутника, так приводит их слова, что можно понять: женщины рассказали только о своей беседе с ангелами. Действительно, у Луки читаем: «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус приблизившись пошел с ними; но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его; а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло; но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли Тела Его, и пришедши сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив; и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили; но Его не видели».
Хотя Лука сообщает о том, что Петр поспешил ко гробу, раньше, чем приводит этот разговор, должно понимать, что он этим упредил события. Последовательность же событий была такою: вначале женщины увидели, что камень отвален от гроба, и поспешили сообщить об этом другим, откуда узнали о случившемся и Клеопа со своим спутником. Затем ко гробу пошли Петр и Иоанн, после чего и являлся Господь. Действительно, Клеопа, сказав: «И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили», не упоминает при этом Петра. То же, что Лука говорит об одном Петре, не упоминая об Иоанне, отнюдь не значит, что он противоречит Иоанну: ведь (именно) Петру первому сообщила о случившемся Мария Магдалина. Тут следует понять, что один евангелист просто дополняет другого.
71.
Но явился ли Господь кому–либо из мужчин прежде, чем явился Петру? Тут трудно сказать определенно. Действительно, и Павел не говорит: «Сперва явился Кифе», но говорит: «Явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братии в одно время». Здесь возникает новое затруднение: каким двенадцати и каким пятистам? Иные полагают, что под двенадцатью следует понимать двенадцать апостолов, а так как тогда апостолов было только одиннадцать, то в некоторых сборниках мы и находим: «одиннадцати». Это, однако, позднее исправление, внесенное теми, кто был убежден, что речь шла именно об апостолах, но никаких точных указаний на этот счет нет. Возможно, речь шла о каких–то других Его учениках. Что же до последовательности явлений, то можно признать вполне вероятным, что сперва Он явился Петру, а затем Клеопе и его спутнику, о чем подробно повествует Лука и вкратце упоминает Марк.
72.
То же, что Марк говорит: «Явился в ином образе двум из них», Лука передает словами: «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Действительно, с их глазами случилось нечто, и они пребывали в таком состоянии вплоть до преломления хлеба, так что им вместо Его лица виделось другое изображение; и только после совершения таинства преломления хлеба открылись глаза их, как о том повествует Лука. Итак, по состоянию их мысли, еще не знавшей, что Христу должно пострадать и воскреснуть, нечто подобное пережили и их глаза: не потому, что колебалась истина, а потому, что они сами еще не были в силах воспринять истину и думали о чем–то другом. Так что не может считаться познавшим Христа тот, кто не причащается тела Его, т. е. Церкви, на единство которой апостол Павел указывает словами: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10.17); когда же Он подал им благословенный хлеб, открылись у них глаза, и они узнали Его. Разумеется, открылись они для познания Его именно вследствие устранения препятствия, которое не позволяло им узнать Его. Не ходили же они, в самом деле, с закрытыми глазами; но было в них нечто такое, что не позволяло им узнавать виденное.
Но все это я говорю отнюдь не потому, что Господь не мог преобразовать Свою плоть, так что в действительности получился бы иной внешний вид, необычный для их зрения: ведь Он и прежде Своего страдания преобразился на горе, когда лицо Его сияло как солнце (Мф. 17.2). Ибо Тот, Кто мог воду претворить в вино, Тот и из любого тела мог создать любое другое. Но в данном случае идет речь о неузнавании знакомого, ибо ясно (из текстов), что не Он стал иным, а их глаза были удержаны. Не исключено, что это препятствие исходило от сатаны, Христос же дозволил это до времени совершения священнодействия хлеба, дабы мы постигали, что при участии в единстве тела Его устраняются преграды, воздвигнутые врагом, так что Христос может быть познан.
73.
Таким образом, эти (двое) — это именно те, о которых рассказал и Марк. Ведь и он (как и Матфей) говорит, что они пошли и возвестили прочим. Но к тому времени уже распространился слух, что Иисус воскрес; о том рассказали женщины и Симон Петр. Но эти двое (путники) умолчали об этом, упомянув лишь о виденных ангелах; возможно, не узнав Христа, они побоялись говорить о воскресении, дабы не быть преданными в руки иудеям. Что же касается слов Марка: «И те возвратившись возвестили прочим; но и им не поверили», в то время как Лука сообщает, что тогда уже (ученики) со слов Симона говорили, что Он воскрес, то это следует понимать так, что одни верили, а другие — нет. Действительно, Марк многое упустил из того, о чем рассказал Лука, но кое в чем и дополнил. Таким образом, речь, как это часто бывало и прежде, идет не о противоречии, а о дополнении друг друга.
74.
Затем Лука продолжает так: «Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди их и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа; но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И сказав это, показал им руки и ноги». Обо всем этом вспоминает и Иоанн, говоря так: «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки (и ноги) и ребра Свои». Далее у Луки следует то, что пропустил Иоанн: «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда; и взяв ел пред ними». Затем к этому следует присоединить то, что сказал Иоанн, а Лука — пропустил: «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». Далее опять читаем у Луки: «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима; вы же свидетели сему; и Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Вот каким образом вспомнил Лука об обетовании Святого Духа, исполнение которого Господом мы находим только в Евангелии Иоанна (Ин. 14.26; 15.26). Итак, следует еще раз обратить внимание и твердо усвоить, каким образом евангелисты подтверждают друг друга даже в том, о чем сами не говорят. О том, что совершилось после, Лука умалчивает и не упоминает более ни о чем, кроме вознесения Иисуса на небо; при этом он говорит так, как будто это совершилось в тот же первый день, хотя он же в «Деяниях Апостолов» указывает, что это случилось в день сороковой (Деян. 1.2–9).
75.
Иоанн же далее упоминает о другом явлении Господа ученикам спустя восемь дней, причем там был и Фома, отсутствовавший в первый раз и не поверивший им, но сказавший: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей… не поверю». Иоанн говорит: «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь Мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие».
76.
Сообщение об этом втором явлении, упомянутом Иоанном, мы находим и у Марка. Марк как всегда краток и говорит так: «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». Тут смущает не то, что Марк назвал их «лежащими на вечери», ибо Иоанн мог это попросту опустить, но слово «наконец», которое наводит на мысль, что более Господь не являлся, тогда как Иоанн рассказал и о третьем Его явлении на море Тивериадском. Кроме того, поскольку вознесение Господа состоялось на сороковой день, то в этот день он никак не мог упрекать учеников за их неверие другим, ибо и сами они уже видели Его воскресшим несколько раз. Остается предположить, что Марк этим словом хотел обозначить то, что это было последним событием только того дня, когда случилось это явление, что, конечно же, никак не противоречит Иоанну.
77.
Затем, безо всякого перерыва Марк переходит к последнему явлению, о чем свидетельствуют его слова: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями».
78.
Иоанн же, хотя и признается, что многое пропустил из того, что совершил Иисус, пожелал рассказать о третьем явлении Господа у моря Тивериадского семи ученикам: Петру, Фоме, Нафанаилу, сыновьям Зеведеевым и еще двум, чьи имена он не привел, когда те ловили рыбу; когда те бросили сети по Его указанию с правого борта лодки и вытащили сто пятьдесят три большие рыбы; когда Он трижды спросил Петра, любит ли тот Его, и, получив его заверения в любви, поручил ему пасти овец Своих, предсказав (Петру) его кончину; когда о самом Иоанне сказал: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» На этом, собственно, и заканчивается Евангелие Иоанна.
79.
Теперь следует спросить, когда Он впервые явился ученикам в Галилее; именно об этом явлении, как о третьем, сообщает Иоанн, говоря, что оно произошло у моря Тивериадского, т. е. в Галилее, о чем нетрудно догадаться, если вспомнить, с чего начинается сообщение Иоанна о чуде с пятью хлебами: «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады» (Ин. 6.1). Но как из этого можно понять, что в первый раз Иисус явился ученикам именно в Галилее? А ведь по словам Матфея: «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам». Ему вторит Марк: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его здесь нет. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». Из всего этого можно понять, что Иисус впервые явился ученикам только в Галилее.
Об этом явлении Марк не упоминает, но говорит, что утром в первый день недели Господь явился Марии Магдалине, которая сообщила о том ученикам, а те ей не поверили. После этого Он явился двум из них на дороге. Все это случилось, по совместному свидетельству Луки и Иоанна, в Иерусалиме в день воскресения. Затем Марк переходит к тому Его явлению, которое сам же называет последним, после чего следует Его вознесение, которое, как мы знаем, совершилось на горе Масличной (Елеонской), неподалеку от Иерусалима. Таким образом, Марк ни разу не упоминает о том, о чем, по его же словам, предрек ангел.
Матфей же, напротив, не говорит ни о каком другом месте явления (ученикам), помимо Галилеи. После того, как он привел слова ангела, он говорит о встрече женщин с Иисусом, затем присоединяет рассказ о подкупе стражей и продолжает так: «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились Ему; а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». Так заканчивает Матфей свое Евангелие.
80.
Если бы о явлении Иисуса повествовал один только Матфей, ни у кого не возникало бы сомнения в том, что нигде, кроме Галилеи, Он ученикам не являлся. Далее, если бы Марк ничего не сказал о предсказании ангела, могло бы показаться, что Матфей сообщил об удалении учеников в гористую часть Галилеи лишь затем, чтобы подтвердить приведенное им пророчество. Иоанн же и Лука вполне ясно свидетельствуют, что Господь явился ученикам Своим в первый день Своего воскресения в Иерусалиме, откуда до Галилеи весьма далеко, так что в течение одного дня они не могли и сходить в Галилею, и вернуться в Иерусалим. А Марк, со своей стороны, приведя ангельское пророчество, нигде ни словом не упоминает о явлении Христа в Галилее. Все это побуждает нас спросить: каким же образом сказано: «Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите»?
Если бы Матфей не сказал о том, что одиннадцать учеников пошли в Галилею, где увидели Его и поклонились Ему, мы бы, пожалуй, решили, что слова ангела следует понимать не буквально, а аллегорически. Однако же ясно, что явление в Галилее действительно произошло. Но посмотрим, должно ли оно было быть именно первым. В самом деле, ангел не сказал: «В Галилее вы увидите его в первый раз», или: «Вы увидите Его только в Галилее», но: «Там Его увидите», т. е. явно не указал ни дня, ни последовательности событий, что вынуждало бы нас с необходимостью признать, что явление в Галилее было первым. Выходит, что Матфей не противоречит остальным, но побуждает каждого верующего, стремящегося к исследованию (Писаний), задуматься над таинственным смыслом (ангельских) слов.
81.
Но еще нам предстоит выяснить, когда именно телесным образом Он мог быть видим в Галилее, как о том говорит Матфей: «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились Ему; а иные усомнились». Очевидно, что это произошло не в первый день воскресения, ибо Лука и Иоанн недвусмысленно свидетельствуют, что под вечер этого дня Он был видим в Иерусалиме. О том же говорит и Марк, хотя и не столь определенно. Итак, когда же произошло это явление в Галилее? Ясно, что не тогда, когда о том говорит Иоанн как о явлении у моря Тивериадского, поскольку там было только семь учеников и они ловили рыбу, а Матфей упоминает об одиннадцати на горе. Выходит, это не произошло ни в первый день, ни в последующие восемь, после которых, по словам Иоанна, Он вновь явился ученикам и Его впервые увидел Фома, так как, если бы явление в Галилее случилось в этом промежутке времени, Фома бы уже видел Его.
Впрочем, последнее не столь очевидно, поскольку нет точных указаний на то, что эти одиннадцать, о которых говорит Матфей, были именно одиннадцать апостолов, а не просто одиннадцать учеников: ведь учеников было гораздо больше, чем апостолов. Итак, среди этих одиннадцати учеников на горе в Галилее могли быть не все апостолы, и Фома вполне мог отсутствовать. Действительно, когда Марк говорит об одиннадцати, то он говорит не просто «одиннадцати», а «самим одиннадцати»; также и Лука говорит: «Возвратились в Иерусалим, и нашли одиннадцать Апостолов и бывших с ними»; таким образом, и тот и другой, когда хотят подчеркнуть, что речь идет об одиннадцати апостолах, выделяют это особо. Матфей же этого не делает, так что можно допустить, что в Галилее в числе одиннадцати были не только апостолы и это видение вполне могло случиться в течение первых восьми дней.
82.
Но есть и другое обстоятельство, вынуждающее нас к осторожности в суждениях: Иоанн, говоря о явлении Господа семи ученикам у моря Тивериадского, дает понять, что это было третье Его явление. Если же мы примем, что Он явился одиннадцати ученикам на горе в течение первых восьми дней, то явление у моря будет не третьим, но, по меньшей мере, четвертым. Однако, в любом случае свидетельство Иоанна нельзя понимать так, что он говорил о количестве явлений, поскольку уже в первый день Своего воскресения Господь являлся несколько раз: сперва женщинам, затем Петру, потом двум путникам на дороге и, наконец, многим ученикам, ведшим беседу в доме в начале ночи. Поэтому Иоанн скорее дает понять не о количестве самих явлений, а о количестве дней, в которые являлся Господь.
83.
Итак, у всех четырех евангелистов мы находим десять упоминаний о явлениях Господа людям после воскресения. Сначала у гроба женщинам (Ин. 20.14); затем им же, возвращающимся от гроба (Мф. 28.9); в третий раз — Петру (Лк. 24.34); в четвертый — двум на дороге (Там же, 15); в пятый — многим в Иерусалиме, где не было Фомы (Ин. 20.19–24); в шестой — там, где Его увидел Фома (Там же, 26); в седьмой — у моря Тивериадского (Ин. 21.1); в восьмой — на горе в Галилее (Мф. 28.16,17); в девятый — ученикам, возлежащим на вечери (Мк. 16,14); в десятый — в тот же день, но уже не на земле, а при вознесении на небо, о чем упоминают Марк и Лука. Действительно, Марк говорит: «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо» (Там же, 19). А Лука, пропустив все то, что произошло в течение сорока дней после воскресения, к первому дню сразу присоединяет последний, говоря так: «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24.50,51). Таким образом, (ученики) могли видеть Его не только на земле, но и возносящимся на небо. Итак, в Евангельских посланиях Он представлен являвшимся людям девять раз на земле и один раз при вознесении на небо.
84.
Но, как о том свидетельствует Иоанн, записано далеко не все, Он же в течение сорока дней вплоть до вознесения являлся людям довольно часто (Деян. 1.3). Но при этом Он являлся не непрерывно, изо дня в день. В самом деле, от первого дня воскресения, по словам того же Иоанна, прошло восемь дней, прежде чем Он явился вторично. Далее ничего определенного сказать нельзя, помимо того, что Он являлся когда хотел, где хотел и кому хотел. Об этом, проповедуя Корнилию, говорит Петр: «Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян. 10.41). Это, конечно же, не значит, что они вместе с Ним ели и пили в течение всех сорока дней, что противоречило бы указанию Иоанна, но все же предполагает, что происходило это довольно часто. Что до числа сорок, то это число, как четырежды повторенная десятка, может таинственным образом указывать на время бытия или всего мира, или земной жизни, или на что–то еще, о чем мы не можем и помыслить.
85.
Теперь сопоставим все это с тем, что говорит апостол Павел на предмет того, нет ли в его словах чего–либо спорного. «…Он погребен был и… воскрес в третий день, по Писанию, и… явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братии в одно время». Так говорит апостол. Он не сказал: «Сперва явился Кифе», ибо это противоречило бы Евангелиям, в которых написано, что сперва Он явился женщинам. Далее, «потом двенадцати» говорит о каких угодно двенадцати и в какое угодно время. То же относится и к пятистам братии, так что здесь пока мы не встречаем никаких противоречий. «Потом, — продолжает Павел, — явился Иакову». Надо полагать, что здесь идет речь о каком–то особом явлении, о котором евангелисты умолчали. «Также всем Апостолам». Но об этом писали и евангелисты. «А после всех явился и мне, как (некоему) извергу». Но это, как мы знаем, случилось уже после Его вознесения на небо.
86.
А теперь вернемся к тому, о чем мы начали говорить раньше, но затем отложили, а именно: в чем таинственный смысл того, что Воскресший сказал, согласно Матфею и Марку: «По воскресении же Моем предварю вас в Галилее» (Мф. 27.32 и 28.7; Мк. 14.28 и 16,7). Хотя это и исполнилось, но исполнилось после многих других событий, в то время как из самих слов можно понять, что оно должно было исполниться в первую очередь. Но шла ли здесь речь именно о месте, называемом Галилея? Действительно, слово «Галилея» означает или «переселение», или «откровение». Если понимать его в смысле «переселения», то не означает ли это перехода благодати Христовой от народа Израиля к язычникам? Проповедуя язычникам Евангелия, апостолы никогда бы не заслужили у них доверия, если бы Господь не предварил их пути в сердцах (этих) людей. Тогда становятся понятными слова (ангела): «Он… предваряет вас в Галилее: там Его увидите», т. е. там вы найдете Его члены, где узнаете Его живое тело в тех, которые вас примут.
Если же понимать «Галилею» как «откровение», то смысл этого будет таков: впредь Он уже будет не в образе раба, а в том образе, в котором Он равен Отцу, т. е. уже не телесный и израненный, но как Свет истинный, как тот свет, что «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1.9,5). Он прежде нас пришел туда, откуда, приходя к нам, не отступил, и где, будучи впереди нас, нас не оставил. Это и будет истинное откровение, истинная Галилея, когда мы будем подобны Ему; там мы и увидим Его таким, каков Он есть. Это будет также и истинное переселение, если мы будем праведны и заслужим жизнь вечную. Отсюда переселятся праведные и там узрят Его так, как не дано увидеть нечестивым, ибо нечестивый «не будет взирать на величие Господа» (Ис. 26.10). Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17.3), т. е. знают в этой вечности, куда Он приведет рабов через образ раба, дабы свободные свободно созерцали образ Божий.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
1.
Исследовав повествование Матфея и сопоставив с ним три другие Евангелия, мы доказали, что они не противоречат ни в чем ни друг другу, ни, тем более, самим себе. Рассмотрим теперь подобным образом и Евангелие от Марка (за исключением того, что мы уже исследовали при сопоставлении с Матфеем). Тут следует обратить внимание только на то, что произошло до вечери Господней, ибо, начиная с этого события, все нами уже рассмотрено и сопоставлено тщательнейшим образом.
2.
Марк начинает так: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков…», и проч. до слов: «И приходят в Капернаум» (Мк. 1.1–21). Весь этот отрывок совпадает с тем, что говорил Матфей, а слова Марка о том, что Господь вошел в Капернаум в синагогу и учил в субботу, согласны со словами Луки (Лк. 4.31).
3.
Марк продолжает: «И дивились Его учению, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники…», и т. д. до слов: «И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов» (Мк. 1.22–39). Хотя здесь мы и находим нечто, чего нет у других евангелистов, но, как уже говорилось выше, все дело в выборе последовательности передачи событий. Другие также упоминают обо всем этом, но в других местах. Но когда Лука говорит о духе нечистом так, будто он вышел из человека, не причинив ему никакого вреда, а Марк пишет: «Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него», то закрадывается сомнение, не противоречит ли одно другому. Действительно, одно дело «сотрясать» (а в некоторых свитках написано даже «терзая его»), и совсем другое — «нимало не повредить». Но Лука также говорит: «И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив» (Лк. 4.33–35). Понятно, что «сотрясши его» и «повергнув его посреди синагоги» — это одно и то же событие, описанное разными словами. Что же до отсутствия повреждений, то это именно и значит: после падения (или сотрясения) исцеленный остался цел и невредим, т. е. члены его от этого не пострадали.
4.
Тот же Марк говорит: «Приходит к Нему прокаженный и, умоляя его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить», и проч. до слов: «И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты — Сын Божий» (Мк. 1.40–3.11). Нечто подобное говорит и Лука, тем самым не возбуждая никаких сомнений. Марк продолжает: «Потом взошел на гору и призвал к Себе, кого Сам хотел… Поставил Симона, нарекши ему имя Петр», и т. д. до слов: «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились» (Мк. 3.13–5.20). Об именах учеников я подробно говорил выше, при рассмотрении (Евангелия от) Матфея. Теперь же еще раз повторю, что никому не следует думать, будто бы Симон только теперь получил имя Петра, ибо это противоречило бы Иоанну. Здесь Марк, перечисляя имена всех двенадцати, желал только напомнить, как прежде звался Петр. Все же прочее в этом его повествовании не может показаться противоречащим кому–либо (из остальных евангелистов).
5.
Марк далее говорит: «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа», и т. д. до слов: «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили» (Мк. 5.21– 6.30). Здесь его повествование полностью совпадает с тем, что сказал Лука, о прочем же мы уже рассуждали выше. Марк продолжает: «Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного», и проч. до слов: «Но, сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились…» (Мк. 6.31–7.37). И здесь слова Марка и Луки совпадают, что же до остального, то об этом уже было сказано выше. Но тут следует предостеречь, чтобы кто–либо не подумал, будто своими последними словами Марк противоречит тем очевидным свидетельствам, что Ему заранее было известно, как поведут себя люди. Так, согласно Иоанну, «Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке» (Ин. 2.24,25). Да и как можно усомниться в том, что истинные чаянья людей ведомы Тому, Кто предвозвестил отречение Петра, которого не было в нем тогда, когда он искренне выражал готовность умереть за Него и с Ним? Но тогда как нам понимать Марка — ведь Он не мог не знать, что чем больше Он будет запрещать, тем больше люди будут разглашать. Зачем же нужны были эти запреты? (Это можно понять только так) Он хотел этим показать, сколь горячо должны проповедать о Нем те, которым Он повелел, если даже те, которым Он запрещал, не могли молчать о Нем.
6.
Марк продолжает: «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть…», и проч. до слов: «Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему; ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо, кто не против вас, тот за вас» (Мк. 8.1–9.40). То же говорит и Лука (Лк. 9.49,50), хотя и опускает слова: «Ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Противоречия в этом нет, но как совместить сказанное Марком далее со словами: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12.30; Лк. 11.23)? Кто–либо может решить, что об учениках Он говорит: «Кто не против вас, тот за вас», а о Себе: «Кто не со Мною, тот против Меня». Но разве возможно не быть с Ним тому, кто с Его учениками? Ведь тогда придется усомниться в словах: «Кто принимает вас, принимает Меня» (Мф. 10.40); или: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25.40). Далее, разве может не быть против Него тот, кто против Его учеников? Тогда что же будут значить слова: «Отвергающийся вас Меня отвергается» (Лк. 10.16); или: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25.45); или: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9.4), когда Савл гнал Его учеников?
Здесь это следует понимать так: Он хочет внушить ту мысль, что настолько человек не с Ним, насколько он против Него; и насколько он не против Него, настолько он с Ним. Например, тот, кто изгонял бесов именем Христа, но не следовал за Его учениками, конечно, не был против них и был с ними настолько, насколько употреблял силу во имя Христово; в том же, что он не следовал им, он не был с ними и был против них. А так как ученики запрещали ему делать именно то, в чем он был с ними, то Господь и сказал: «Не запрещайте ему». Запрещать же следовало то, что он был вне их общества, дабы споспешествовать единству Церкви, и именно так поступает Вселенская Церковь, когда осуждает у еретиков не общие с ними священнодействия, ибо в этом еретики не против Церкви, но с Церковью, а осуждает и запрещает разделение и отделение (т. е. ереси и расколы), а также противные миру и истине лжеучения, ибо в этом они против нас, поскольку не с нами.
7.
Затем Марк говорит: «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый», и проч. до слов: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9.41–50). Об этих словах Господа Марк упоминает непосредственно после того, как Он не позволил запрещать изгонявшему бесов именем Его, но не следовавшему за Его учениками. Здесь Марк сказал и нечто такое, о чем говорили Матфей и Лука, и нечто такое, о чем упомянул только Матфей, и нечто такое, чего не привел ни один из других евангелистов. Но и то, в чем он, на первый взгляд, совпадает с другими, было сказано теми по другим поводам и в контексте других событий. Поэтому мне кажется, что здесь Господь повторил то, что уже говорил и прежде; прежние слова привели Матфей и Лука, эти же — Марк.
Действительно, Марк так связывает свое повествование: «Кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Этим Господь показывает, что тот человек (изгонявший бесов именем Христовым), о котором сказал Иоанн, не потому не следовал за учениками Его, что был как бы еретик, а скорее потому, что не осмеливался следовать, хотя и склонялся к истине христианства. О таких людях Он и говорит, что они не теряют награды своей. Это значит, что вследствие своей благорасположенности к христианам они могут полагать себя в полной безопасности, хотя еще и не омыты крещением Христовым и не вошли в единство Его тела. Это происходит потому, что они уже управляются милосердием Божиим и, таким образом, отходят из жизни сей не теряя награды. Такие люди, даже прежде того, как присоединятся к христианскому сообществу, часто приносят куда больше пользы делу Христову, нежели иные из назвавшихся христианами и напоенных христианскими священнодействиями, которые деяниями своими и себя, и послушавшихся их увлекают к вечному мучению. И именно таких, как бы сравнивая их с телесными членами, Он учит отсекать как соблазняющую руку, т. е. избегать общения с ними, ибо лучше без них достигнуть жизни, чем с ними пойти в геенну. Но и тут речь идет прежде всего о таких, чья развращенность и содействие злу известны всем: к таким не следует проявлять сочувствия, но «отсекать», отказывая в общении и не допуская к таинствам. Но если развращенность кого–либо известна лишь немногим, большинство же считает его человеком достойным, то такового следует терпеть, как терпят мякину на гумне до проветривания; (его нужно терпеть), не соглашаясь с ним в беззаконии, но и не нарушая общения с ним добрых людей ради них самих: так поступают те, кто имеют в себе соль и мир между собою.
8.
Марк продолжает: «Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. Опять собирается к Нему народ; и, по обычаю своему, Он опять учил их», и т. д. до слов: «Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 10.1–12.44). Все эти события были рассмотрены нами при сопоставлении остальных с евангелистом Матфеем; что же до двух лепт вдовы, то об этом сообщили только двое (Лк. 11.1–4). Во всем этом нет никаких разногласий; начиная же с этого места и вплоть до вечери Господней, подробно рассмотренной нами ранее, у Марка мы не встречаем ничего такого, что потребовало бы особого обсуждения.
9.
Теперь рассмотрим Евангелие Луки, останавливаясь лишь на том, что не было обсуждено нами при исследовании писаний Матфея и Марка. Лука открывает свое благовествование словами: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, — то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк. 1.1–4). Все это еще не имеет никакого отношения к Евангельскому повествованию, но зато открывает нам, что и Деяния Апостолов также написал Лука, ибо эта книга начинается так: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал» (Деян. 1.1,2). Конечно же, слова «о всем, что Иисус делал и чему учил» не следует понимать буквально, ибо, как написал Иоанн: «Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21.25). Мы уже, впрочем, показали, что другими евангелистами было рассказано немало такого, чего Лука в своем повествовании не коснулся. А его слова: «Многие начали составлять повествования» подразумевают, по всей видимости, тех людей, которые не смогли справиться с этой взятой ими на себя обязанностью; поэтому–то Лука и говорит, что ему все пришлось тщательно исследовать с самого начала. При всем этом Лука не только довел свой рассказ до воскресения и вознесения Господа, заняв достойное место среди составителей Евангельских писаний, но и описал деяния апостольские, причем сделал это так, что только его книга считается в Церкви достойной.
10.
Итак, Лука начинает Евангелие следующим образом: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета»,, и т. д. до слов: «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова» (Лк. 1.5–5.4). Все это не должно вызывать никаких сомнений. Правда, Иоанн говорит нечто подобное, но речь там идет о совсем других событиях, происшедших после воскресения Господа.
Действительно, там не только указано другое время, но и само событие несколько иное, так как сети были заброшены по правую сторону (лодки) и было поймано сто пятьдесят три рыбы. И хотя рыб было предостаточно и они были велики, евангелист замечет, что сети выдержали, тогда как Лука, описывая лов, говорит, что от множества рыбы сети начали рваться. Остального, сходного с Иоанном, Лука ничего не сказал, за исключением обстоятельств, связанных со страданием и воскресением Христа. Но все это место уже обстоятельно нами рассмотрено и доказано, что никаких разногласий там нет.
11.
Иоанн остается последним, потому что не остается ни одного такого, с которым его можно было бы сопоставлять. Но ведь что бы такого не сказали отдельные повествователи, что не сказано другими, трудно представить, чтобы это могло вызывать недоумения. Таким образом ясно, что первые три, т. е. Матфей, Марк и Лука, преимущественно освещают вопросы, связанные с человечеством Господа нашего Иисуса Христа, по каковой стороне Своей Он — Царь и Священник. И потому Марк, представленный (в Апокалипсисе), как кажется, в образе человека, является преимущественно или спутником Матфея, так как вместе с ним говорит о царственном лице (Его), которое обыкновенно не бывает без сопровождения, о чем я говорил уже в первой книге, или же, что более вероятно, Марк выступает совместно с обоими. Действительно, в одних местах своего рассказа он ближе к Матфею, в других — к Луке. И тут мы видим указание на льва и тельца, т. е. на царственность Господа, подчеркнутую Матфеем, и на Его священничество, о чем говорит Лука; то, что Христос — человек, Марк свидетельствует и в том, и в другом отношении. А божество Иисуса Христа, по которому Он равен Отцу, по которому Он — Слово и Бог у Бога, по которому сделалось Слово плотью и обитало среди нас (Ин. 1.1–14), по которому Он и Отец — одно, — все это мы находим преимущественно у евангелиста Иоанна. Поэтому он, подобно орлу, постоянно парит с возвышеннейшими словами Христовыми и спускается, так сказать, на землю крайне редко. Наконец, хотя он и свидетельствует, что хорошо знал Матерь Господа, однако ничего не говорит ни о рождении Его, ни о крещении, разве только представляет возвышенное свидетельство Иоанна (Крестителя) об этом, и, пропустив все остальное, направляется (с Господом) сразу на брак в Кане Галилейской. Там же, хотя по упоминанию евангелиста и была Матерь Господа, но Он говорит: «Что Мне и Тебе, Жено?» (Ин. 2. 1– 11), т. е. не указывая на ту, от которой Он принял плоть, а преимущественно отмечая Свое Божество, — когда имел в виду претворить воду в вино, — потому что это Божество сотворило и эту женщину, а не (Само) было сотворено в ней.
12.
Затем, спустя несколько дней, проведенных в Капернауме, (Иоанн) возвращается в храм, где, по его словам, Он сказал о храме тела Своего: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Там же, 12–22); здесь он внушает ту мысль, что в (этом) храме не только Бог–Слово стало плотью, но и то, что эту плоть Он Сам воскресил, разумеется, потому только, что Он одно с Отцом и не действует отдельно от Него; ведь в остальных местах, пожалуй, что во всех, Писание говорит, что Бог воскресил Христа, и даже, что Он Сам воздвиг Себя, ибо Он есть один Бог с Отцом.
13.
Потом Иоанн приводит продолжительную и божественную речь, которую Он вел с Никодимом. Затем вновь обращается к свидетельству Иоанна (Крестителя) и говорит, что друг Жениха радуется только по призыву Его, чем убеждает нас в том, что душа человеческая не сама для себя сияет и не (сама по себе) блаженствует, но только по участию в неизменной мудрости. Далее он (переходит) к женщине Самарянке, где упоминается о такой воде, что пьющий ее не будет чувствовать жажды вовек. Потом снова возвращается в Кану Галилейскую, где из воды Он сотворил вино; здесь говорится о Его словах царедворцу, сын которого был немощен: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Ин. 3.1– 4.54). До этого места он желает возвести мысль верующего выше всего изменяемого и хочет, чтобы верующие не искали даже чудес, которые, хотя и по действию свыше, но все же имеют дело с преходящими телами.
14.
Затем Он возвращается в Иерусалим; здесь исцеляется больной, страдавший в течение тридцати восьми лет. И что говорится по этому поводу, и сколь много говорится! Там сказано: «Искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Здесь достаточно ясно показывается, что Он странно, не так, как обыкновенно говорят святые люди, называл Бога Отцем Своим, внушая при этом мысль, что Он равен Богу; в самом деле, немного выше Он сказал иудеям, когда они злословили о субботе: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Поэтому они и негодовали, что (Господь) не только называл Бога Отцем Своим, но и хотел дать понять, что Он равен Ему, говоря так: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю», последовательно показывая, что как Отец делает, так должно делать и Сыну, потому что Отец ничего не делает без Сына. И там же, немного спустя, когда все стали гневаться из–за Его слов, Он говорит: «Ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5)
15.
Только после этого Иоанн наконец спускается (с высот) к трем остальным (евангелистам), ходящим с тем же Господом по земле, чтобы напитать пять тысяч человек пятью хлебами; однако, и здесь Иоанн один только упоминает о том, что когда захотели поставить Его царем, Он без спутников удалился на гору. Мне кажется, что этим обстоятельством разумная душа хотела убедить (нас) в том, что она господствует над мыслью и разумом только тогда, когда находится на высоте, вне всякого общения с людьми, в уединении, ибо и Он единственный у Отца. Но это таинство не затрагивает преходящих плотских людей, потому что оно слишком возвышенно. Поэтому и (Господь) удаляется от них на гору, так как они земною душой стремились к царству Его; поэтому же Он и в другом месте говорит: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 28.36). Но один только Иоанн говорит об этом, возвышаясь над землею в своем поднебесном полете и веселясь духом от света Солнца правды.
Там же он, — после чуда с пятью хлебами, — побыв немного вместе с другими тремя (евангелистами), пока они переправлялись за море, а Господь ходил по волнам, — непосредственно вслед за этим вновь воспаряет к величайшей, пространнейшей и возвышеннейшей речи Иисуса, начавшейся по поводу хлеба, когда Он сказал толпам народа: «Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились; старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную», и далее, так же прекрасно и возвышенно. Тогда–то, испугавшись такой высоты, от Него отпали многие, следовавшие за Ним, но зато еще теснее привязались те, которые могли постигнуть значение слов: «Дух животворит, плоть не пользует ни мало» (Там же, 6). Конечно, дух приносит пользу через плоть, но и сам по себе дух приносит пользу; а плоть без духа не приносит никакой пользы.
16.
А затем, сколь возвышенно Он отвечал братьям своим, — т. е. родственникам по плоти, — когда они подсказывали Ему пойти на праздник, где Он мог бы объявить Себя народным толпам: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время; вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы». Его слова: «Для вас всегда время» означают, что (близкие Его) желают того дня, о котором пророк сказал: «Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь» (Иер. 17.16).
Но потом, когда Он пришел к празднику в храм, сколь чудесны, божественны и возвышенны были Его речи, о которых вспоминает Иоанн! Он говорил о том, что они не могут идти туда, куда идет Он; что они знают кто Он и откуда Он; что им известно, что истенен Тот, Который послал Его и Которого они не знают. Он как бы говорил: «Вы знаете, откуда Я, но и не знаете, откуда Я». Этим Он давал понять слушавшим Его, что хотя Он и известен им по плоти, но неизвестен по Божеству. Там же говорил Он и о даре Духе Святого, из чего можно было понять, кто Он, дающий этот дар (Ин. 7).
17.
Затем Иоанн повествует о том, что произошло при возвращении с горы Елеонской, когда привели к Нему женщину, взятую при прелюбодеянии, осужденную на побивание камнями. Но когда спросили Его, как ее наказать, Он, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Хотел ли Он этим показать, что имена этих судей будут написаны на земле, тогда как имена учеников Его будут записаны на небе, или давал понять, что уже пришло время, чтобы закон Его был записан на земле, которая принесла плод, а не на бесплодном камне, как прежде? Сказав женщине: «Иди и впредь не греши», Он назвал Себя светом миру и продолжил: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Назвав Себя «от начала Сущим», Он этим отличил Себя от того света, который Он сотворил, ибо Он — свет, через Который создано все. Таким образом то, что Он назвал Себя светом миру не следует понимать так, как понимаемо сказанное им Своим ученикам: «Вы свет мира». Действительно, они подобны светильникам, как и Иоанн Креститель, о котором Он сказал: «Он был светильник, горящий и светящий» (Ин. 5.35). Но Он — это как бы изначальный источник света, о чем сказано: «И от полноты Его все мы приняли» (Ин. 1.16). Там же Он сказал, что Он Сын и Истина, без которой (истины) никто не обретет свободы (Ин. 8.1–36).
18.
Потом, после дарования Иисусом зрения слепому от рождения, Иоанн останавливается на продолжительной речи Его об овцах, о пастыре, о двери и о возможности положить душу Свою и снова принять ее, в чем Он явил превосходнейшую власть Своего Божества. Затем, когда они были на празднике обновления в Иерусалиме, Иоанн вспоминает слова иудеев: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин. 10.22,23); воспользовавшись удобным случаем, он передает Его возвышенный ответ: «Я и Отец — одно». Тогда же Он предуказывает воскрешение Лазаря словами: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». В этих словах мы познаем высоту Его Божества, через участие в котором мы будем жить вовеки. После этого Иоанн вместе с Матфеем и Марком снова сходится в Вифании (Мф. 26.6–13; Мк. 14.3–9), где произошло известное событие с драгоценным маслом, которым Мария умастила Его ноги и главу (Ин. 9.1–12.8). Отсюда и вплоть до времени страданий и воскресения Господа Иоанн идет совместно с тремя остальными евангелистами, о чем уже шла речь выше.
19.
Впрочем, что касается речей Господа, Иоанн продолжает возноситься к тому, о чем Господь, — начиная с указанного времени, — говорил возвышенно и весьма продолжительно. Действительно, тогда, когда язычники через Филиппа и Андрея выразили желание видеть Иисуса, Он произнес пространную речь, о которой не вспомнил ни один из евангелистов; один только Иоанн приводит прекрасные слова о свете, просвещающем и творящем сынов света (Ин. 12.20–50). А затем, на самой (тайной) вечери, — о которой поведал каждый евангелист, — сколь многие и сколь прекрасные слова вспоминает Иоанн, о которых забыли сказать другие! Им приводится не только похвала смирению, когда Он омыл ноги учеников, но и когда удалился изобличенный куском хлеба предатель, тот же Иоанн привел изумительную и чудную речь Его, где Он сказал, что видевшие Его видели и Отца, и еще много говорил о Духе Утешителе, и о Своей славе у Отца прежде бытия мира, и что Он объединил нас в Себе так, как едины Он Сам и Отец (Ин. 13.17). Еще многое, дивное и вдохновенное говорил Он, но дано ли нам должным образом рассуждать обо всем этом? И стоит ли искать здесь что–либо, что могло бы быть отнесено к другому месту?
Мы искренне желаем всем ревнителям слова Божия и священной истины поверить в то, что и Иоанн, как и три прочих евангелиста, является провозвестником и проповедником Иисуса Христа, равно как и другие апостолы, которые, правда, не оставили Евангелий, однако исполнили свой долг тем, что их распространяли. Тем не менее Иоанн, с первых строк своей книги устремляясь к самому возвышенному во Христе, очень редко бывал на земле вместе с остальными (евангелистами), а именно: сперва около Иордана, приводя свидетельство Иоанна Крестителя; затем у моря Тивериадского, в связи с чудом с пятью хлебами и хождению по водам; в третий раз в Вифании, когда речь шла об умащении маслом; наконец, начиная с вечери, он со всеми повествует о страстях и воскресении Господнем. Но и здесь он куда возвышенней и пространней других говорит о речах Господа, приводит слова Иисуса, поразившие Пилата, о том, что царство Его не от мира сего; далее, (по словам Иоанна) Господь, воскреснув, уклонился от Марии, сказав: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20.17), а дуновением на учеников Он даровал им Духа Святого, чтобы мы не думали, что сей Дух, единосущный с Троицей, есть только Дух Отца, а не Дух Сына.
20.
Наконец, вручая овец своих любящему и трижды исповедавшему свою любовь Петру, Он говорит, что этот же Иоанн по Его воле может жить до Его пришествия (Ин. 21.15–25), чем, по моему мнению, Он научил нас высокому таинству, а именно: что само евангельское служение Иоанна, уносящее его к чистейшему свету Слова, где умственному взору предстает единство и неизменяемость Троицы, и весьма отличающее его от прочих как человека, в понимании которого Слово стало плотью, — (это служение) может быть точно познано только тогда, когда Господь явится Сам; поэтому Иоанн так пребудет, пока Он явится; и будет он пребывать в вере верующих, а после явится для созерцания лицом к лицу, когда придет Жизнь наша, и мы явимся с Ним во славе.
Но не следует думать, что человек, еще ведущий эту смертную жизнь, рассеяв туманы телесных и чувственных образов может овладеть яснейшим светом неизменной истины и прильнуть к ней умом, отрешенным от привычек настоящей жизни. Нет, нужно довериться высшему и правдивейшему авторитету, говорящему, что пока мы в теле, мы удалены от Господа, и ходим верою, а не созерцанием (2 Кор. 5.7). И человек, твердо стоящий в вере, надежде и любви, таким образом достигает созерцания через залог, принятый им от Духа Святого, Который наставит нас на всякую истину, когда Бог, воздвигший Иисуса Христа из мертвых, оживотворит и наши смертные тела через обитающего в нас Духа Его.
Но прежде чем оживотворится то, что мертво по причине греха, тленно и отягчает душу, прежде чем с Божией помощью выйдем из этого окутавшего всю землю тумана, из этого плотского мрака, наше виденье, как бы подавленное ярким блеском, возвращается к своей немощи, сохраняя стремление вновь возрастать, но не имея той чистоты, с помощью которой можно было бы укрепиться. И чем больше кто–либо способен к этому, тем большим он и является, и наоборот. Если же ум еще не испытал ничего подобного, хотя в нем благодаря вере обитает Христос, то он должен усиленно искать (этого) посредством уменьшения и прекращения похотей этого мира, с помощью нравственной деятельности, ходя (в мире) в сопровождении трех евангелистов с Ходатаем Христом, должен твердо держаться Того, Который, будучи Сыном Божиим, ради нас сделался сыном человеческим, чтобы вечная сила Его и Божество, снизойдя к нашей немощи и смертности, из нашего существа создало нам жизнь в Себе и для Себя. Чтобы не грешить, пусть такой человек подчиняется царствующему над нами Христу; а если он случайно согрешит, то будет очищен Священником Христом, и таким образом воспитанный в деле доброго поведения и жизни, на крылах двойной любви поднятый от земли, он будет просвещен тем же Словом–Христом, — Словом, Которое было в начале, Словом у Бога, Которое — Бог. Поэтому, тогда как у первых трех евангелистов для людей, которые способны распознать это, сияют дары деятельной силы, у Иоанна мы находим дар силы созерцательной.
Но хотя одному дается слово премудрости через Духа, другому слово познания в том же Духе; иной знает день Господень и из недр Его пьет нечто сладостное и несказанное; иной возвышается до третьего неба и слышит таинственный глагол: однако все, пока пребывают в теле, далеки от Господа; но всем, верующим с доброй надеждой и записанным в книге жизни, соблюдется сказанное: «Я возлюблю его и явлюсь к нему Сам» (Ин. 14.21). И насколько кто во время удаления своего от Бога усовершенствуется в познании и разумении этого, настолько пусть бережется диавольских пороков: гордости и ненависти. Пусть вспомнит он Евангелие Иоанна, которое чем более возбуждает к созерцанию истины, тем полнее наставляет в сладости любви. И так как вернейшею и спасительнейшею заповедью является: «Чем ты больше, тем более смиряйся перед всеми» (Сир. 3.19), то этот евангелист и представляет Христа возвышеннее прочих: у него Господь омыл ноги ученикам Своим.
Слово въ день Пятидесятницы
Въ переложеніи на русскій языкъ съ латинскаго текста, находящагося у Migne’я, Patrologia latina, t. XLVI, col. 325 и д. Срав. «Воскресное Чтеніе» за 1838 г., № 26.
Настоящимъ торжествомъ мы, братіе, прославляемъ пришествіе Святаго Духа, Котораго послалъ Господь на землю, по Своему обетованію, которое Онъ изрекъ Своимъ ученикамъ следующимъ образомъ: аще не иду Азъ, Утешитель не пріидетъ къ вамъ: аще ли же иду, послю его къ вамъ (Іоан. 16, 7). И вотъ, после того какъ Господь пострадалъ, умеръ, воскресъ и вознесся на небо, оставалось исполниться Его обетованію. Ожидая исполненія этого обетованія, ученики Его, числомъ, какъ сказано, яко сто и двадесять (Деян. 1, 16), т. е. десятикратно увеличившимся въ сравненіи съ числомъ апостоловъ (ибо апостоловъ Господь избралъ двенадцать, а Духа послалъ ста двадцати), пребывали въ одномъ доме, терпяще единодушно въ молитве и моленіи (Деян. 1, 14). Проводя такъ время, они самою верою и молитвою, самымъ духовнымъ ожиданіемъ соделали себя новыми мехами, способными вмещать въ себя новое, небесное вино. И вотъ оно излилось! Ибо Господь Іисусъ Христосъ, этотъ многоплодный виноградный гроздъ, уже созрелъ и былъ прославленъ. Вы, братіе, уже слышали, какимъ великимъ чудомъ было ознаменовано это событіе. Все, присутствовавшіе въ горнице, знали только одинъ языкъ. Нисходитъ Духъ Святый, и, исполнившись Его, они стали говорить разными языками всехъ народовъ, дотоле для нихъ непонятными и незнакомыми. Учителемъ ихъ былъ Тотъ, Кто пришелъ съ неба: Онъ вселился въ нихъ и преисполнилъ ихъ. Въ то время не для однихъ только ста двадцати учениковъ, собравшихся въ одной горнице, но и для каждаго, кто принималъ Духа Святаго, знаменіемъ сего служило то, что всякій, внезапно исполнившись Духа, говорилъ разными языками. Спустя немного времени, по свидетельству Писанія, веровали и язычники, крестились, принимали Духа Святаго и — говорили разными языками (Деян. 10, 44–48). Тогда ужасахуся вси и недоумевахуся, другъ ко другу глаголюще: чтó убо хощетъ сіе быти? Иніи же ругающеся глаголаху, яко виномъ исполнени суть (Деян. 2, 12–13). Видящіе смеялись и однакоже отчасти говорили правду, потому что новые мехи наполнены были новымъ виномъ. Вамъ же известно изъ евангельскаго повествованія, что никтоже вливаетъ вина нова въ мехи ветхи (Матф. 9, 17), ибо душевенъ человекъ не пріемлетъ яже Духа Божія (1 Кор. 2, 14). Плоть есть ветхое, а благодать — новое; и чемъ более человекъ обновляется благодатію, темъ успешнее онъ можетъ умудряться въ истине. И вотъ, когда излилась благодать Духа Святаго, излились разноязычные глаголы!
Но, братіе, неужели ныне не даруется Духъ Святый? Кто думаетъ такъ, тотъ не достоинъ общенія съ Духомъ Святымъ, ибо Онъ даруется и ныне. Почему же ныне никто не говоритъ на всехъ языкахъ, какъ въ то время говорили исполнившіеся Духа Святаго? Отъ чего это зависитъ? Отъ того, что прообразуемое этимъ даромъ языковъ ныне пришло въ исполненіе. Хотя Господь и отвечалъ ученикамъ Своимъ, вопрошавшимъ о времени устроенія царства Его — несть ваше разумети времена и лета, яже Отецъ положи во Своей власти (Деян. 1, 7); однако Онъ тогда снова обещалъ то, что ныне исполнилъ: пріимете силу, нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми свидетели во Іерусалиме же и во всей Іудеи и Самаріи и даже до последнихъ земли (Деян. 1, 8). Вскоре потомъ Церковь, заключавшаяся тогда въ одномъ доме, приняла Святаго Духа. Церковь эта состояла изъ малаго числа членовъ, а по языкамъ она уже и тогда была всемірная. Это служило прообразомъ будущаго состоянія Церкви. Ибо на что указывалось темъ, что первенствующая Церковь, будучи малочисленна, говорила однако всемірными языками? Не на то ли, что нынешняя Церковь, многочисленная и распространившаяся отъ востокъ солнца до запада, говоритъ языками всехъ народовъ? Такъ исполняется ныне то, что тогда было обетовано. Мы это видимъ и слышимъ. Слыши дщи и виждь (Псал. 44, 11), сказано было самой царице, т. е. слыши обетованіе и виждь его исполненіе: веренъ тебе Богъ твой, веренъ Женихъ твой, веренъ тебе Искупитель твой, стяжавшій тебя кровію Своею, веренъ тебе Тотъ, Кто сотворилъ тебя изъ неимеющей вида и образа — невестою прекрасною, изъ нечистой — девою чистою. Ты сама получила о себе обетованіе, но получила его въ чадахъ немногихъ, а исполненіе обетованія — въ чадахъ безчисленныхъ. Итакъ, пусть никто не говоритъ: если я получилъ Духа Святаго, то почему не говорю разными языками?
Послушайте о семъ и еще, братіе мои, желающіе иметь общеніе Духа Святаго. Духъ нашъ, которымъ мы живемъ, называется душею; и смотрите, чтó душа творитъ въ теле. Она оживляетъ все члены его: очами видитъ, ушами слышитъ, ноздрями обоняетъ, языкомъ говоритъ, руками делаетъ, ногами ходитъ. Она присуща всемъ членамъ и все ихъ оживляетъ; она разливаетъ по всемъ членамъ одну жизнь, а чрезъ каждый членъ совершаетъ дело особенное. Не слышитъ глазъ, не смотритъ ухо, не видитъ языкъ, не говоритъ ни глазъ, ни ухо; но все они живутъ: живетъ ухо, живетъ языкъ; занятія у нихъ различны, а жизнь у всехъ общая. Такъ и Церковь Божія — чрезъ однихъ святыхъ совершаетъ чудеса, чрезъ другихъ изрекаетъ истину, въ однихъ святыхъ хранитъ девство, въ другихъ блюдетъ супружеское целомудріе, въ однихъ творитъ то, въ другихъ — иное. Каждый членъ Церкви имеетъ свойственную себе деятельность, и все равно живутъ. Но, что душа въ отношеніи къ телу человеческому, то же Духъ Святый въ отношеніи къ Церкви, которая есть тело Христово. Духъ Святый такъ же действуетъ во всей Церкви, какъ душа действуетъ во всехъ членахъ одного тела. Но смотрите, чего вамъ должно опасаться, смотрите, что должно вамъ наблюдать и чего следуетъ страшиться. Случается, что отъ живаго тела отсекается какой нибудь членъ, напримеръ рука, перстъ или нога: остается ли душа въ отсеченномъ члене? Доколе онъ въ теле, дотоле и живетъ, а будучи отделенъ отъ тела, лишается жизни. Такъ и человекъ — дотоле остается христіаниномъ, доколе живетъ въ теле Христовомъ въ Церкви, а находясь въ отлученіи отъ нея, онъ духовно умираетъ: отлученнаго оставляетъ Духъ Божій. Итакъ, если желаете жить въ Духе Святомъ, храните любовь, возлюбите истину, ревнуйте о единеніи, да тако достигнете блаженной вечности. Аминь.
Молитва блаженного Августина
Господь Иисус, дай мне познать себя и познать Тебя и ни к чему иному не стремиться, как только к Тебе.
Дай мне отвратитъся от себя и полюбить Тебя, и все делать ради Тебя.
Дай мне смирить себя, и вознести Тебя, и ни о чем другом не помышлять, как только о Тебе.
Дай мне умертвить себя и ожить в Тебе, и все, что случится, принять от Тебя.
Дай мне уйти от себя и последовать Тебе, и всегда жаждать идти к Тебе.
Дай мне убежать от себя и поспешить к Тебе, чтобы заслужить мне покровительство Твое.
Дай мне устрашиться себя и убояться Тебя, чтобы быть среди избранных Твоих.
Дай мне не доверять себе, но уповать на Тебя, чтобы стать послушным Тебе.
Дай моему сердцу не стремиться ни к чему, кроме Тебя, и стану, как нищий, ради Тебя.
Взгляни на меня — и возлюблю Тебя.
Призови меня — и увижу Тебя.
И вечно возрадуюсь о Тебе.
Аминь.
О бессмертии души
1.
Если наука существует в чем–нибудь (а существовать она может только в том, что наделено жизнью), и если она существует всегда (а, коли так, то вместилище ее тоже должно быть вечным), то, следовательно, то, в чем существует наука, живет вечно. К такому выводу приходим мы, т. е. наша душа, а так как делать правильные умозаключения без науки нельзя, а без науки может существовать только та душа, которая лишена ее в силу своей природы, то, значит, в человеческой душе наука существует.
Итак, поскольку наука существует, то она непременно существует где–нибудь (ведь не может же она существовать в «нигде»). Точно также не может она существовать в чем–нибудь таком, что лишено жизни, ибо мертвое ничего не знает и не познает, в том же, что не знает и не познает, наука существовать не может. Равным образом, наука существует всегда, поскольку то, что существует, и существует неизменно, необходимо существует всегда. А что наука существует, этого не отрицает никто. И кто признает невозможным, чтобы линия, проведенная через центр круга, не была наибольшею из всех линий, которые проводятся не через центр, и признает это истиной, известной науке, тот не отрицает существование неизменной науки.
Далее, все, в чем существует что–либо всегда, не может не существовать всегда. Ибо ничто, существующее всегда, не допустит лишить себя когда–нибудь того, в чем оно всегда существует. Затем, когда мы производим умозаключения, то это бывает делом души. Ибо это дело лишь того, что мыслит; тело же не мыслит; да и душа мыслит без помощи тела, потому что когда мыслит — от тела отвлекается. Притом то, что мыслится, должно (по крайней мере, в момент осмысления) полагаться неизменным, телесное же постоянно пребывает в становлении. Поэтому тело не может помогать душе в ее стремлении к пониманию, хорошо уже, если оно не мешает.
Потом, без науки никто не умозаключает правильно. Ибо правильное умозаключение состоит в усилии мысли дойти от известного к неизвестному, а в душе, которая ничего не знает, ничего известного ей нет. Все же, что знает душа, она имеет в себе, и все, что обнимается знанием, относится к какой–либо науке. Ибо наука есть знание каких бы то ни было вещей. Следовательно, душа человеческая живет всегда.
2.
Разум, несомненно, есть или сама душа, или же он пребывает в душе. Но разум наш лучше, чем наше тело, а наше тело — некоторая субстанция. Быть же субстанцией лучше, чем быть ничем. Следовательно, разум не есть ничто. Затем, если в теле существует какая–либо гармония, она необходимо существует, как субъект, именно в теле, неотделимо от него; и ничего в этой гармонии не предполагается такого, что с одинаковой необходимостью не существовало бы в теле, как субъект, с которым неразделима сама гармония. Но тело человеческое подлежит изменениям, а разум неизменен. Ибо изменчиво все, что не существует всегда одинаковым образом. А два, и четыре, и шесть существуют всегда одинаково и неизменно — они всегда остаются теми же, что они есть: в четырех содержится два и два, но в двух столько не содержится — два не равняются четырем. Основное положение это неизменно — следовательно, оно есть разум. Но когда изменяется субъект, не может не изменяться то, что существует в субъекте неотделимо от него. Итак, душа не есть гармония тела. С другой стороны, смерть не может быть присущей вещам, не подлежащим изменению. Следовательно, душа живет всегда, независимо от того, есть ли она сам разум, или разум существует в ней, но существует нераздельно.
3.
Есть некоторая доблесть постоянства. Не всякое постоянство неизменно, но всякая доблесть может нечто совершать, и, совершая нечто, остается, в то же время, доблестью. Далее, всякое действие выражается движением или производит движение. Следовательно, не все, что движется, подлежит изменению. Но все, что получает движение извне, от другого, а само ничего не приводит в движение, есть смертное; и ничто смертное не есть неизменное. Отсюда выводится прямое, без всякого исключения следствие: не все, что движется, подлежит изменению.
Но нет движения без субстанции, а всякая субстанция или живет, или не живет; все же, что не живет, бездушно; и действия бездушного не существует. Следовательно, то, что приводит в движение так, что само не изменяется, может быть только живой субстанцией. Всякая же субстанция такого рода приводит в движение тело с некоторой постепенностью. Следовательно, не все, что приводит в движение тело, подлежит изменению. Тело же приводится в движение не иначе, как с некоторой последовательностью времени: оно может двигаться, например, медленнее или быстрее; следовательно, существует нечто, что движется с последовательностью времени, и, однако же, не изменяется. Все же, что движет тело во времени, хотя стремится и к одной цели, не может, однако, совершить все разом и не совершать множественных действий. Ибо то, что может делиться на части, не может быть вполне единичным, единым, какой бы силою оно ни приводилось в движение; равно нет и никакого тела без частей, и времени без промежутков; и нельзя произнести самого коротенького слога так, чтобы конец его ты не слышал тогда, когда начала уже не слышишь.
Далее, когда нечто совершается подобным образом, предполагается ожидание того, что оно может совершаться, и память, которая, по возможности, удерживала бы все это. Ожидание относится к вещам будущим, память — к прошедшим. С другой стороны, напряжение действия относится к настоящему времени; через него будущее переходит в прошедшее; причем ожидание конца начатого движения тела невозможно без памяти. Ибо каким образом стали бы мы ожидать прекращения того, что началось, если уже успели забыть или об этом его начале, или даже о том, что оно вообще приведено в движение? Опять–таки, напряжение действия, имеющее отношение к настоящему, невозможно без ожидания его окончания: нет ничего, чего бы или еще не было, или уже не было. Следовательно, в действии может быть нечто такое, что относится к тому, чего еще нет. В действующем может быть одновременно многое, хотя бы то многое, что приводится в действие, одновременно быть не могло. Поэтому оно может быть и в движущем, хотя бы в движимом и не могло быть. Но то, чего одновременно быть не может, и, однако же, переходит из будущего в прошедшее, естественно, относится к изменяемому. Отсюда мы заключаем, что может быть нечто, что, приводя в движение изменяемое, само остается неизменным. Ибо, коль скоро напряжение движущего не изменяется, а, в силу сообщаемого им движения, изменяется поминутно движимое им тело, как, например, неизменное напряжение приводит в движение и руки художника, и подвластные ему дерево и камень, то кто усомниться в логической последовательности сказанного?
Итак; если под воздействием души совершается некоторое изменение тела и это входит в намерение души, — отсюда еще не следует с необходимостью, чтобы изменялась она сама; и из этого не следует еще заключать, чтобы и она умирала. Ибо при этом напряжении она может иметь и память о прошедшем, и ожидание будущего — а все это невозможно без жизни. Хотя никакая смерть не происходит без изменения, а изменение не бывает без движения, однако не всякое изменение производит смерть и не всякое движение производит изменение. О самом нашем теле можно сказать, что каким–либо действием оно приведено в сильное движение и изменилось, пожалуй, вследствие возраста; нельзя, однако же, при этом сказать, что оно умерло, т. е. лишилось жизни. Позволительно поэтому думать, что и душа наша не непременно потеряет жизнь, если бы ей и случилось, в силу движения, претерпеть некоторое изменение.
4.
Если есть в душе нечто неизменное, что без жизни существовать не может, то в душе необходимо есть и жизнь вечная. Дело же обстоит именно так, что если есть первое, будет и второе. Но первое есть. Ибо, не упоминая о другом, кто осмелится утверждать, что основания чисел изменчивы; или что какое–либо искусство обязано своим существованием не разуму; или что искусство не существует в художнике, хотя бы он и не употреблял его в дело; или что оно может существовать вне его души, или там, где нет жизни; или что неизменное может когда–нибудь не быть; или что наука — это нечто одно, а разум — совсем другое? Хотя мы и говорим о той или иной науке, что она есть как бы некоторый свод разумных положений, однако мы можем с полным на то основанием называть и представлять науку как тот же самый разум. Но так это или иначе, из этого, во всяком случае, следует, что наука неизменна. Наука же, очевидно, не только существует в душе знающего ее, но и нигде не существует, если не в душе, и притом — с нею нераздельно. Ведь если бы наука отделилась от души или существовала вне души, она или существовала бы в «нигде», или переходила бы последовательно из души в душу–Но, как нет местопребывания для науки вне жизни, так и жизни, соединенной с разумом, нет нигде, кроме как в душе. Далее, невозможно, чтобы то, что существует, не существовало нигде, или чтобы то, что неизменно, когда–нибудь не существовало. А если бы наука переходила из души в душу, переставая быть в одной, чтобы установить местопребывание в другой, то всякий, обучающий науке, неизменно бы ее терял, а каждый обучаемый постигал бы ее только благодаря забвению или смерти учащего. Если же это, как оно и есть в действительности, в высшей степени нелепо и ложно, то душа человеческая бессмертна.
Но если наука иногда существует в душе, а иногда — нет, что проявляется обыкновенно в форме забвения или неведения, то вышеприведенное доказательство бессмертия души может утратить свою силу, если, конечно, только что сказанное не будет опровергнуто надлежащим образом. Итак, или в душе существует нечто, что в данную минуту ей не приходит на ум, или в образованной душе нет знания музыки в тот момент, когда ее мысль занята исключительно геометрией. Но последнее ложно, — следовательно, первое истинно. Душа чувствует себя имеющей лишь то, что приходит ей на ум. Следовательно, в душе может быть нечто такое, присутствия чего душа сама в себе не чувствует. Как долго это происходит, для дела неважно. Ибо, если душа бывает занята другим так долго, что ей трудно возвратиться к тому, над чем прежде работала ее мысль, это называется забвением или неведением. Но если то, что мы открыли относительно каких–либо свободных наук, рассуждая сами с собой или наводимые чужими вопросами, мы открыли не где–либо в другом месте, а именно в нашей душе (а открыть означает не то же самое, что создать или родить; ибо иначе душа временными открытиями рождала бы вечное, так как часто открывает именно вечное, ибо что может быть так вечно, как теория круга; или что есть другое в этого рода науках, о чем можно было бы сказать, что оно когда–нибудь не было или не будет?), то очевидно, что душа человеческая бессмертна, и что все истинные разумные положения существуют в тайниках ее, хотя вследствие неведения или забвения и кажется, что она не имеет их или потеряла.
5.
Теперь рассмотрим, до какой степени может быть допускаемо изменение души. Если душа — субъект по отношению к науке, существующей в ней, и если субъект не может изменяться без того, чтобы не изменилось и то, что есть в нем, то как мы можем владеть неизменной наукой и неизменным разумом, если изменчива душа, в которой они существуют?
Нет большего изменения, чем изменение на свою противоположность; а кто станет отрицать, что душа (чтобы опустить остальное) в одном случае бывает глупой, а в другом — мудрой? Итак, рассмотрим прежде всего, сколько допускается способов так называемого изменения души. По моему мнению, изменений этих, наиболее наглядных и наиболее ясных, существует два рода (видов же их гораздо больше). Ибо душа представляется изменяющейся под действием страстей — или телесных, или ее собственных. Под действием страстей телесных изменения происходят в силу возраста, в силу болезней, страданий, трудов, неудач, чувственных наслаждений. В силу собственных страстей душа терпит изменения от желаний, от радости, от страха, от досады, от любви к наукам, в процессе изучения наук.
Все эти изменения, сами по себе отдельно взятые, не должны внушать никаких опасений, если только не служат несомненным доказательством смерти души. Но посмотрим, не противоречат ли они тому нашему основному положению, по которому с изменением субъекта по необходимости изменяется все, что есть в субъекте. Нет, не противоречат. Ибо это положение имеет место при таком изменении субъекта, после которого он бывает вынужден совершенно изменить свое наименование. Но если воск почему–то станет вместо белого черным, если вместо квадратной, он получит круглую форму, из мягкого сделается твердым и из разогретого — холодным, — все это будет в самом субъекте и субъектом останется именно воск. Воск останется воском, хотя с ним и произойдут указанные изменения. Следовательно то, что существует в субъекте, может подвергаться изменению, между тем как сам субъект в том, что составляет его особенность, не изменится. Но если бы с тем, что есть в субъекте, совершилось такое изменение, что то, что понималось под его именем, уже решительно не могло бы под ним пониматься: как, например, если бы воск от огня обратился в пар и подвергся такому изменению, что перестал бы уже быть воском, то, в таком случае, уже никоим образом нельзя было бы представлять, что в субъекте так или иначе осталось что–нибудь из того, что существовало в нем постольку, поскольку он был этим, а не иным субъектом.
Поэтому, если душа оказывается таким субъектом, в котором, как мы сказали выше, разум существует нераздельно и необходимо обусловливает бытие самого субъекта; если душой может быть только душа живая, и разум не может в ней быть без жизни, а разум бессмертен, то бессмертна и душа. Ибо разум никоим образом не может продолжать своего существования, если перестанет существовать его субъект. А это и случилось бы, если бы с душой произошло такое изменение, которое сделало бы ее не душой, т. е. заставило бы ее умереть. Но никакие из приведенных изменений, производятся ли они телом или же самой душой (хотя вопрос о том, производятся ли некоторые из них самой душой, т. е. сама ли она служит их причиной, — вопрос весьма спорный), не приводят к тому, чтобы душа не была более душою.
Следовательно, изменения эти не только безопасны сами по себе, но не подрывают и наших выводов.
6.
Итак, я нахожу необходимым направить все умозрительные силы на то, чтобы выяснить, что такое разум и какие можно дать ему определения, дабы всячески прояснить вопрос о бессмертии души.
Разум есть взор души, которым она самостоятельно, без посредства тела созерцает истинное; или он — само созерцание истинного без посредства тела, или он — то самое истинное, которое созерцается.. Что первое существует в душе, в том не сомневается никто; второе и третье может вызывать сомнения. Впрочем, и второе невозможно без души. Но относительно третьего существуют разногласия: то истинное, которое душа может созерцать без тела, как орудия, существует ли оно само собою, а не в душе, и может ли оно существовать без души? Притом, каким бы образом оно ни существовало, душа не могла бы созерцать его сама собою без какой–либо связи с ним. Ибо все, что мы созерцаем, мы схватываем мыслью или чувством и разумением. Но то, что мы схватываем чувством, мы чувствуем существующим в нас и заключенным в пространстве, из которого оно не может быть изъято. А то, что представляется уму, представляется находящимся не где–либо, но в самом же осмысливающем его уме.
Поэтому, связь между созерцающей душой и созерцаемым истинным или такова, что либо субъектом служит душа, а это истинное существует в субъекте, либо, напротив, — истинное служит субъектом, а душа — существующим в субъекте, или же и то, и другое — независимые субстанции. Если имеет место первое из этих трех, то душа бессмертна, также как и разум, согласно предшествующему рассуждению; так как разум может быть присущ только живой душе. То же следствие необходимо вытекает и из второго. Ибо, если истинное есть то, что мы называем разумом, то в нем нет, как это очевидно, ничего, что подлежало бы изменению; ничто, существующее в нем, как в субъекте, измениться не может.
Итак, весь спор касается третьего. Ибо, если душа есть субстанция, и разум, с которым она связана, — также субстанция, то никому не покажется нелепым предположение, что первая может прекратить свое существование, в то время, как последний будет его продолжать. Но очевидно, что пока душа неотдельна от разума и тесно соединена с ним, она неизбежно должна оставаться жить. Но какая же сила может отделить ее? Уж не телесная ли, которая и могуществом слабее, и происхождением ниже, и по свойствам своим весьма отлична? Никоим образом. Следовательно, одушевленная? Но и это — каким образом? Неужели какой–то другой, более могущественный дух, может созерцать разум не иначе, как только устранив от этого другой дух? Но, с одной стороны, ни одному из созерцающих нельзя отказать в разуме, уж коли они оба созерцают, а, с другой, — если нет ничего могущественнее самого разума, ибо нет ничего неизменнее, то дух, не соединившийся еще с разумом, никоим образом не может быть могущественнее того, который соединен.
Остается, чтобы или сам разум отделился от души, или душа по своей доброй воле отделилась от него. Но в природе разума нет той зависти, которая заставляла бы его отказывать душе пользоваться собою. Далее, — что более важно, — всему, что соединяется с разумом, разум тем самым сообщает бытие: а этому противоположно уничтожение. Было бы явной нелепостью, если бы кто сказал, что душа может отделиться от разума по доброй воле (если вообще возможно какое–либо взаимное отделение Между вещами, которые не находятся в определенном месте). Сказать так можно лишь вопреки всему вышесказанному, чему мы представили другие опровержения. Итак, что же? Не следует ли заключить, что душа бессмертна? Но, может быть, она не может отделиться, но может угаснуть? Если, однако, сила разума, через свое единение с душой воздействует на последнюю, — а не воздействовать она не может, — то, без всякого сомнения, воздействует в том смысле, что дает ей возможность Продолжать существование. Разум, он потому и разум, что в нем предполагается высшая неизменность. Поэтому, на кого она известным образом действует, того она как бы принуждает продолжать существование. Итак, душа не сможет угаснуть, если не будет отделена от разума. Отделиться же, как мы доказали выше, она не может. Следовательно, она не может и умереть.
7.
Отвращение души от разума, следствием которого бывает глупость, не может не сопровождаться для нее убытком. Если обращение к разуму и привязанность к нему дает ей известное превосходство, так как она причисляется к вещам неизменным, какова, в частности, истина, представляющая собой самое высшее и первоначальное, то отвращение от него уменьшает для души все это, что и составляет убыток. Всякий же убыток ведет к ничтожеству, а под смертью, в прямом смысле слова, и следует понимать то, что нечто, бывшее чем–либо, становится ничем. Склоняться к ничтожеству, значит склоняться к смерти. Если душа такой убыли не подвергается, то трудно сказать, кто, собственно, ей подвергается; а со всем этим соединяется и остальное.
Не следует, однако, думать, что склоняющееся к ничтожеству непременно умирает, т. е. достигает последней степени ничтожества. Так, всякое тело — часть чувственного мира, а потому чем оно больше и чем более занимает места, тем оно более приближается к целому (миру), и насколько это делает его большим, настолько оно и больше. Ибо целое больше, чем часть. Поэтому же уменьшаясь, оно, естественно, становится меньше. Следовательно, уменьшаясь, оно подвергается убыли. Уменьшается же оно прежде всего тогда, когда что–либо от него отсекается. Из этого, вроде бы, следует, что подобное отсечение ведет тело к уничтожению. Но никакое отсечение не доводит до ничтожества. Ибо всякая остающаяся часть продолжает быть телом, а всякое тело занимает в пространстве какое–нибудь место. А это было бы невозможно, если бы оно не имело частей, каждая из которых, в свою очередь, не могла бы быть отсечена. Следовательно, через бесконечное сечение оно может уменьшаться до бесконечности, подвергаться через это убыли и склоняться к уничтожению, хотя дойти до ничтожества не может никогда.
То же можно сказать и относительно самого пространства и какого угодно расстояния. Определив их и отняв от них, например, половину, а затем и из оставшегося удаляя последовательно по половине, мы будем уменьшать размеры и идти до конца, которого, однако же, никоим образом не достигнем. Зачем же нам бояться этого относительно нашей души? Во всяком случае она лучше и живучее тела, которое от нее и получает свою жизнь.
8.
Но если то, что делает тело телом, заключается не в его массе, а в его форме? А подобная мысль имеет под собой неопровержимое основание — ибо тело тем предпочтительней, чем оно благовиднее и красивее, и тем ничтожней, чем оно противнее и безобразнее. Такая убыль зависит не от отсечения массы, о котором сказано достаточно, а от потери вида. Нужно подумать и рассудить об этом предмете, чтобы кто–нибудь не стал утверждать, что душа умирает вследствие такой убыли, а именно: так как, будучи глупой, она теряет, некоторым образом, свой вид, форму, то позволительно–де думать, что подобная потеря может дойти до такой степени, что душа совершенно лишится всякого вида, и из–за этого дойдет до полного ничтожества и будет вынуждена умереть. Поэтому, если бы мы оказались в состоянии доказать, что и с телом не может такого случиться, чтобы оно потеряло тот свой вид, который, собственно, и делает его телом, то, может быть, мы вправе были бы считать доказанным, что тем более у души нельзя отнять того, что делает ее душой. Ибо всякий, внимательно всмотревшийся в самого себя, признает, что душа, какой бы она ни была, все же выше тела.
Итак, вступлением к нашему рассуждению пусть послужит то положение, что никакая вещь не творит и не рождает сама себя; ибо, иначе, она существовала бы прежде, чем получила свое существование. Если же последнее ложно, то первое — истинно. Также и то, что не сотворено и не рождено, а, между тем, существует, по необходимости должно быть вечным. Кто припишет подобную природу и превосходство какому–нибудь телу, тот крайне заблуждается. Но зачем нам опровергать его? Ведь, в таком случае, мы тем более должны будем приписать это душе. Действительно, если есть хоть какое–нибудь вечное тело, то не вечной души нет никакой. Ибо любая душа предпочтительнее любого тела, как, в сущности, и все вечное — не вечному. Но если, как справедливо утверждают, тело сотворено, то оно сотворено чем–либо творившим, и притом — не низшим тела. Ибо оно не было бы в состоянии дать тому, что творило, все то, что есть в творимом, если бы качества последнего были бы превосходящими качества первого. Творящему нужно для творения иметь нечто лучшее, чем то, что оно творит.
Значит, мировое тело создано некоторой силой и природой более могущественной и лучшей, но ни в коем случае — не телесной. Ведь если бы тело было создано телом, оно не было бы мировым. Высказанное нами в начале этого рассуждения положение, что никакая вещь не может получить бытие сама от себя, вполне истинно. Эта же сила и нетелесная природа, — зиждительница мирового тела, — и держит мир присущим ей могуществом. Ибо, сотворив, она не удалилась и не оставила сотворенного. Она —такая субстанция, которая не есть тело, и которая, так сказать, не имеет движения относительно места, которое бы могло отделить ее от субстанции, занимающей место; и эта зиждительная сила не может оставаться в бездействии, не охранять сотворенное ею и допускать, чтобы последнее теряло форму, как бы оно ни было разнообразно. Ибо, что существует не само через себя, то непременно перестанет существовать, если будет оставлено тем, через что существует; и мы не можем сказать, чтобы тело, которое сотворено, получило то, что могло бы уже поддерживать само себя, хотя бы и было оставлено Творцом.
Но душа, превосходство над телом которой очевидно, имеет все это в высшей степени. И если она может продолжать свое существование сама через себя, то это служит доказательством ее близости к бессмертию. Ибо все подобное нетленно и уже потому не может умереть, что ведь само себя не оставит. Изменчивость же тела очевидна. Это достаточно показывает общее движение самого мирового тела. Всматривающимся внимательно в это движение, насколько такая природа может быть наблюдаема, открывается, что порядок, в котором происходят изменения, служит подражанием тому, что неизменно. Но то, что существует само через себя, не имеет нужды и ни в каком движении, так как все жизненное для него находится в нем же самом. Ибо всякое движение есть движение к другому, в котором движущееся имеет нужду.
Итак, мировому телу присуща форма благодаря поддержке и охранению со стороны той лучшей природы, которая его создала; в силу чего упомянутая изменчивость не отнимает у тела возможности быть телом, а заставляет его, посредством самого упорядоченного движения, переходить от формы к форме. Ибо ни одна какая бы то ни было его часть не доводится до полного уничтожения. Творческая сила все объемлет своим могуществом, не утомляющимся и не прекращающим своей деятельности, и дает продолжать существование всему, что существует от нее и через нее. Поэтому никто не должен доходить до такой глупости, чтобы полагать тело лучшим, нежели душа, или, признав противоположное, думать, что хоть тело и не перестает быть телом, душа же может стать не душой. А если этого не случится, и душа не сможет продолжать своего существования, если не будет жить, то несомненно, что душа никогда и не умрет.
9.
Если же кто–нибудь скажет, что душе следует бояться не той смерти, вследствие наступления которой бывшее нечто обращается в ничто, но той, что лишает живущее жизни, тот пусть обратит внимание на то, что никакая вещь не лишается самой себя. Душа есть известного рода жизнь; поэтому все, что одушевлено, живет, а все неодушевленное, что могло бы быть одушевлено, считается мертвым, т. е. лишенным жизни. Следовательно, душа не может умереть. Ибо, если бы она могла лишиться жизни, она была бы не душой, а просто чем–то одушевленным. Если же это нелепо, то душе еще гораздо менее следует бояться этого рода смерти, который вовсе не должен быть страшен для жизни. Ведь, если бы душа умирала тогда, когда оставляла бы ее эта жизнь, то тогда душою следовало бы признавать саму жизнь, которая в данный момент ее оставляет. Так что душой будет не то нечто, что оставляется жизнью, а сама жизнь, оставляющая то, что умирает, но себя саму, разумеется, не оставляющая. Следовательно, душа не умирает.
10.
Но, может быть, мы должны считать, что душа — это только некоторая организация тела, как думали иные? Но подобное представление никогда не пришло бы им на ум, если бы той же самой душою, отрешенной и очищенной от телесных привычек, они были бы в состоянии созерцать то, что существует истинно и пребывает неизменным. Ибо кто, пристально всматривающийся в себя не испытал, что он тем более здраво понимает чтобы то ни было, чем более бывает в состоянии отвлечь и освободить умственное внимание от телесных чувств? Этого никак не могло бы случиться, если бы душа была организацией телесной. Ибо такая вещь, которая не имела бы своей собственной природы и не была бы субстанцией, а была бы присуща субъекту — телу, как его цвет и форма, никоим образом не усиливалась бы, отстраняясь от этого самого тела для восприятия постигаемого только умом, а насколько могло бы тело, настолько же могла бы усматривать и она, и посредством такого созерцания становилась бы лучше и превосходней. Ибо форма, или цвет, или даже самая организация тела, которая представляет собою определенное смешение известных четырех стихий, из которых состоит само тело, никоим образом не может отстраниться от того, в чем существует, как в субъекте, нераздельно.
К тому же то, что уразумевает душа, когда отвлекается от тела, отнюдь не телесно; тем не менее, оно существует, и существует по преимуществу, потому что всегда существует одним и тем же образом. Ничего не может быть нелепее утверждения, что видимое нашими глазами существует, а усматриваемое нашим умом не существует, когда только безумному свойственно сомневаться в том, что ум несравненно превосходит глаз. Созерцая же то, что представляется всегда существующим одинаковым образом, душа показывает, что она соединена с этим некоторым удивительным и нетелесным способом, т. е. не по месту. Все это или существует в ней, или она сама существует в этом. И при этом одно из двух: или она существует в другом, как в субъекте, или и то, и другое — субстанция.
Если имеет место первое, то душа не существует в теле как в субъекте, вроде цвета и формы, потому что она или сама есть субстанция, или присуща, как субъекту, другой субстанции, которая не есть тело. Если же верно второе, то душа не существует в теле как в субъекте, в виде цвета, потому что сама — субстанция. Организация же тела существует в субъекте–теле, как цвет. Итак, душа не есть организация тела, но душа есть жизнь; никакая же вещь не оставляет себя саму, а то, что умирает, оставляется жизнью. Следовательно, душа не может умереть.
11.
Итак, если следует все же чего–то опасаться, то лишь того, чтобы душа не умерла от убыли, т. е., чтобы она не утратила саму форму своего существования. Хотя мне кажется, что об этом предмете сказано достаточно и нельзя с достаточной точностью показать, как это могло бы случиться, однако следует прибавить, что для опасения подобного рода нет другой причины, кроме той, что в душе глупой мы должны признать некоторую убыль, а в душе мудрой большую наличность и полноту сущности. Но если, в чем никто не сомневается, душа бывает самой мудрой тогда, когда созерцает неизменную истину и пребывает в ней неподвижно, соединенная с нею божественной любовью, и если все то, что каким бы то ни было образом существует, получает бытие от той сущности, которая существует высшим и превосходнейшим образом, то душа, насколько существует, или получает бытие от нее, или сама через себя. Но если она существует сама через себя, то поскольку сама служит причиной своего существования и никогда себя не оставляет, она никогда не умирает, как мы и рассуждали выше. Если же она получает бытие от истины, то нужно внимательно исследовать, что может быть такое противное истине, что отняло бы у души ее бытие, как души, доставляемой ей истиной. Что же это такое? Не ложь ли это, так как она — истина? Но насколько душе может вредить ложь, это очевидно и у всех перед глазами. Ведь большего она не может сделать, как только обмануть. А обманывается только тот, кто живет. Следовательно, ложь не может убить душу. Если же то, что противно истине, не может отнять у души ее бытие, как души, которое дала ей истина (ибо до такой степени непобедима истина!), то что найдется другое, что отняло бы у души то, что она есть душа? Разумеется, ничто: ибо нет ничего, что было бы сильнее противоположного для уничтожения того, что производит противоположное ему.
12.
Если же мы станем искать нечто, противное истине не потому, что она есть истина, но потому, что она существует высшим и преимущественнейшим образом (хотя она настолько и существует, насколько есть истина; потому что истиною мы называем то, в силу чего истинно все, что в каком–либо виде существует, а существует оно настолько, насколько есть истинно), то и от этого я не уклонюсь, потому что это еще очевиднее будет свидетельствовать в мою пользу. Ибо никакая сущность, насколько она сущность, не имеет чего–либо противоположного себе; тем не менее, может иметь противоположное себе та первая сущность, насколько она сущность, которая называется истиной.
Всякая сущность есть сущность именно потому, что она существует. Существованию же противоположно только не существование. Поэтому, сущности противоположно ничто. Итак, вовсе нет вещи, которая могла бы быть противоположной той субстанции, которая существует преимущественным и первоначальным образом. Если и душа имеет от нее то самое, чем она есть (а она, если не имеет от себя, то и не может этого иметь ниоткуда, как только от той вещи, которая этим самым и превосходит душу), то нет никакой вещи, которая отняла бы это, потому что нет вещи противоположной той, от которой она это имеет; и, поэтому, она не перестанет существовать. Но мудрость, которую душа имеет вследствие своего обращения к тому, от чего получает свое бытие, она может потерять лишь из–за отвращения от него. Ибо обращению противоположно отвращение. То же, что она имеет от того, чему ничто не противоположно, то не может ни от чего потерять. Итак, она не может умереть.
13.
При этом может возникнуть еще вот какой вопрос: так как душа не уничтожается, то не изменяется ли она в некоторую худшую сущность? Ведь кому–нибудь может показаться, и не без основания, будто из нашего рассуждения следует, что душа не может дойти до ничтожества, но что обратиться в тело, пожалуй, может. Если же бывшее прежде душою сделается телом, оно отнюдь не перестанет вовсе существовать. Но этого не может случиться иначе, как если она сама того пожелает или будет принуждена к тому другим. Впрочем, сама ли душа того бы пожелала, или же была бы к этому принуждена, из этого еще не следует, что она могла бы сделаться телом. Вот если бы такое случилось, то из этого, конечно, следовало бы, что либо она этого желает, либо принуждена к тому. Но как вообще возможно подобное? Да она никогда этого и не захочет. Ибо все желания ее относительно тела сводятся к тому, чтобы владеть им, или оживлять его, или каким–то образом действовать, или в каком–либо отношении заботиться о нем. Но всего этого не может быть, если она не будет лучше тела. А если станет телом, то лучше тела, разумеется, не будет. Следовательно, быть телом она не пожелает. Впрочем, пускай об этом душа спросит себя сама. Этим путем она легко откроет, что не имеет никакого другого желания, кроме желания делать что–нибудь, или знать, или чувствовать, или только жить, насколько она располагает своей собственной властью.
Если же ее принуждают стать телом, то кто принуждает? Конечно, кто–нибудь более могущественный. Ведь само тело принуждать ее не может. Ибо никакое тело не могущественнее какой бы то ни было души. Душа же более могущественная принуждает к чему–либо только подчиненное ее власти. Но душа подчиняется власти другой души единственно посредством своих пожеланий. Итак, и более могущественная душа принуждает лишь настолько, насколько дозволяют собственные пожелания той, которую она принуждает. Но сказано, что душа не может иметь желания быть телом. Притом очевидно, что душа не достигнет исполнения своего желания, коль скоро потеряет всякое желание; а она, конечно, потеряет его, как только станет телом. Итак, она не может быть принуждена стать телом со стороны того, кто имеет право принуждать только через подчиненные его власти пожелания. Затем, всякая душа, имеющая в своей власти другую душу, естественно пожелает скорее иметь во власти ее, чем тело, и либо, по доброте своей, захочет ей помочь, либо же, если она зла, отдавать злые повеления. Поэтому она не захочет, чтобы та была телом.
Наконец, эта принуждающая душа или воплощена в нечто телесное, или же тела не имеет. Но если она не имеет тела, то ее нет и в этом чувственном мире. А раз это так, то она — в высшей степени благая душа, и не может желать другой такого гнусного изменения. Если же она — животное, то и та, которую она принуждает, или есть также животное, или нет. Если она не животное, то не может быть принуждена другой душой ни к чему. Ибо тот, кто стоит на высочайшей ступени, тот не имеет могущественнейшего себя. Если же она существует в теле, то к чему бы ни принуждалась той, которая также существует в теле, принуждается через тело. А кто усомниться в том, что такое изменение души никоим образом не может совершиться через тело? Совершилось бы, если бы тело было могущественнее ее; между тем все, к чему она принуждается телом, в существе дела принуждается не телом, а ее же собственными пожеланиями, о которых сказано достаточно. Все согласны, что лучше разумной души есть Бог. А Бог, несомненно, печется о душе, и поэтому, конечно же, не Ним может быть принуждаема душа обратиться в тело.
14.
Итак, если ни по собственной воле, ни по чужому принуждению душа не подвергнется этому, то что еще могло бы ее этому подвергнуть? Уж не потому ли, что нас часто невольно одолевает сон, нам следует бояться, чтобы каким–либо подобным затемнением душа наша не обратилась в тело? Но разве от того, что сон приводит в расслабление наши члены, душа наша делается в каком–либо отношении бессильнее. Она не чувствует только то, что подлежит чувствам, поскольку то, что производит сон, возникает из тела и действует в теле. Сон приводит в бесчувственное состояние и, некоторым образом, заслоняет телесные чувства. Душа же, однако, уступает этому изменению с удовольствием, потому что оное изменение, возобновляющее телесные силы после трудов, происходит по закону природы.
Впрочем, душа и во сне не утрачивает способности ни чувствовать, ни понимать. Ибо она и тогда имеет перед своими глазами образы чувственных предметов, причем зачастую их нельзя даже отличить от тех предметов, чьими образами они являются; и если душа при этом что–либо постигает, то оно одинаково истинно и для спящего, и для бодрствующего. Например, если кто–нибудь во сне увидит себя рассуждающим и будет в состязании утверждать что–либо на основании истинных положений, то положения эти и по пробуждении останутся такими же истинными, хотя и окажется ложным все остальное, например, место, где, как ему снилось, он вел свои рассуждения, лицо, с которым они велись, и тому подобное, что, впрочем, нередко проходит бесследно и забывается даже бодрствующими, и ни в каком отношении не напоминает вечного присутствия истинных основоположений. Это приводит нас к заключению, что такое телесное изменение, какое представляет собою сон, может отнимать у души пользование телом, но не ее собственную жизнь.
15.
Наконец, если с телом, занимающим известное место, душа связана не местом, то те высшие и вечные причины, которые пребывают неизменно и не содержатся в каком–либо определенном месте, действуют прежде на душу, чем на тело, и не только прежде, но и преимущественным образом. Действуют настолько прежде, насколько она к ним ближе, и настолько преимущественным образом, насколько она лучше тела. Близость же эта понимается не по месту, а по порядку природы. Подразумевается, что в силу этого порядка верховная сущность придает телу с помощью души тот вид, в котором оно существует, насколько существует. Итак, тело существует через душу, и в силу того самого, что одушевлено, общим ли образом, как мир, или частным, как всякое животное в мире. Отсюда прямо следует, что душа могла бы сделаться телом только через душу, а иначе — никак. Но так как этого не бывает, поскольку, пока душа пребывает в том, чему она служит душой, тело собственно и существует, то душа в тело измениться не может. Ибо если бы она не придавала телу той формы, которую получила от высочайшего Блага, тело существовало бы не через нее, и в этом случае или не существовало бы вовсе, или также получало бы свой вид ближайшим образом, было бы тем же, что и душа. В этом–то и заключается различие: душа потому и лучше, что получает все ближайшим образом. Но и тело получало бы также ближайшим образом, если бы получало не через душу. Ибо при отсутствии какого бы то ни было посредства, оно непременно получало бы столь же близким образом. Кроме оживляющей души нет ничего, что находилось бы между высочайшей жизнью, которая есть мудрость и неизменная истина, и тем, что оживляется, как последнее по порядку, т. е. телом. Поэтому если душа придает телу форму, чтобы оно было телом, то никоим образом она, придавая форму, отнимать ее не станет. А она отнимала бы, становясь телом. Итак, душа не делается телом ни сама через себя, потому что тело существует только при условии пребывания души и через душу, ни через другую душу, потому что тело существует только через душу, получая от нее форму, а душа обратилась бы в тело, если бы только обратилась, через отнятие формы.
16.
То же можно сказать и относительно души или жизни неразумной, т. е. что душа разумная и в нее не обращается. Ибо и неразумная душа подчинена разумной в силу своего низшего порядка, и, чтобы быть таковой, от нее получает свой вид. В силу естественного порядка, вид, принятый от высочайшей красоты, слабейшим передают сильнейшие. Передавая же, они ни в каком случае не отнимают. И слабейшие существуют постольку, поскольку им придается вид сильнейшими. Сильнейшие же, вместе с тем, и лучшие. Такова уж особенность этих природ, что их качественное преимущество связано не с большей массой, а, независимо от всякого пространственного объема, с лучшим видом или формой. В этом смысле душа лучше и могущественнее тела. Потому–то, если через нее, как сказано, и существует тело, то сама она никоим образом в тело обратиться не может. Ибо тело существует только потому, что получает через душу свой вид. Душа же, чтобы сделаться телом, должна не принимать, а терять вид, что невозможно, если только душа не заключена в определенном месте и не соединена с телом местным образом.
В последнем случае, пожалуй, большая масса была бы в состоянии обратить лучший вид в свой худший, как масса воздуха малый огонек. Но этого нет. Ибо всякая масса, занимающая место, получает целостность свою от всех частей, а не существует вся в каждой отдельной части. Одна часть ее находится в одном месте, другая — в другом. Душа же не только всей массе своего тела, но и каждой отдельной частичке его присуща в одно и то же время целиком. Она вся чувствует страдание части тела, и чувствует его, однако же, не во всем теле. Когда болит что–нибудь на ноге, это замечает глаз, говорит о том язык, протягивается к этому рука. Этого не было бы, если бы душа, насколько она присуща в этих частях, не чувствовала бы в ноге, а чувствовать, что там делается, она не могла бы, если бы отсутствовала. Ибо невероятно, чтобы это делалось через посредство какого–либо вестника, не чувствующего того, о чем извещает; потому что страдание не пробегает по непрерывному продолжению телесной массы, чтобы не дать ему укрыться от остальных частей души, находящихся в других местах, а душа вся целиком чувствует то, что происходит в частичке ноги, и чувствует только там, где оно происходит. Следовательно, она вся целиком присутствует одновременно в каждой из отдельных частей — потому что вся одновременно чувствует в каждой из них. И присутствует вся целиком не так, однако же, как, скажем, белизна бывает вполне присуща той или иной части тела. Ибо изменение в белизне, которое терпит тело в одной части, может не иметь никакого отношения к белизне его в другой. Это служит доказательством того, что, соответственно взаимному между собой расстоянию частей телесной массы, и сама она находится на известных от себя расстояниях. А что в душе ничего подобного нет — доказывается чувством, о котором уже было сказано.
О блаженной жизни
Глава I
Если бы, благосклонный и великий Феодор, в гавань блаженной жизни приводили наш корабль заданное разумом направление да наша добрая воля, то не уверен, что этой гавани достигло бы хоть сколько–нибудь значительное число людей. Впрочем, как видим, и теперь входят в нее весьма немногие. Ибо когда Бог, или природа, или же рок, или наша воля, или нечто еще иное, а, возможно, и все это разом (поскольку вопрос это достаточно темный, хотя, как я слышал, ты уже взялся за его разъяснение) бросает нас, как бы беспричинно и как пришлось, в этот мир, будто в некое бурное море, кто и каким образом смог бы осознать, куда ему нужно стремиться и какой стороной возвращаться, если бы не какая–либо невзгода, глупцам кажущаяся несчастьем, не прибила блуждающих, пусть против их воли и вопреки принятому ими направлению, к желаннейшей земле?
Итак люди, которых философия может принять в свою гавань, кажутся мне моряками как бы трех различных типов. Одни из них плывут из тех ближних мест, где застает их возраст, дарующий мудрость: один небольшой взмах и удар весел — и вот они уже укрыты в этом покойном месте, откуда они и остальным гражданам подают ясный знак, что кому делать, дабы те, надоумленные ими, стремились туда же. Другой тип, противоположный предыдущему, представляют собою прельстившиеся обманчивым видом открытого моря, отважившиеся плавать вдали от родины, часто забывая о ней. Если таким (право уж и не знаю, как это получается, но только происходит оно чрезвычайно таинственным образом) подует ветер от кормы, считающийся благоприятным, — они доходят до величайших бедствий, гордясь и радуясь, что им постоянно льстит обманчивое изобилие наслаждений и почестей. Чего, в самом деле, пожелать им в таких обстоятельствах, которые, поощряя, улавливают их, как не дурной погоды, а, если мало, то и жестокой бури и противного ветра, который бы привел их, пускай плачущих и вздыхающих, но к радостям верным и прочным? Впрочем, из этого рода многие, еще не очень далеко заплывшие, бывают приводимы назад некоторыми и не столь великими скорбями. Это те люди, которые, или вследствие печально–трагической судьбы своих богатств, или же из–за досадных неудач в мелких делах, как бы за неимением других занятий вчитавшись в книги людей ученых и мудрейших, пробуждаются некоторым образом в самой гавани, откуда уже не могут выманить их никакие обещания коварно улыбающегося моря. Третий между этими тип людей представляют собою те, которые на самом ли то пороге юности, или уже много и долго носимые ветром, усматривают позади себя некоторые знаки, вспоминают среди волн о своей милой отчизне, и ничем более не обманываясь, ни секунды не медля, спешат к ней на всех парусах. Часть из них, сбившись с прямого пути среди туманов, или пролагая его по заходящим звездам, или обольстившись иными соблазнами, откладывают время доброго плавания и блуждают далее. Нередко и они подвергаются опасности. Порой их тоже пригоняет к желаннейшей и мирной отчизне крушение скоропреходящих благ, как бы некая противная их усилиям буря.
Но все они, кто бы как ни был приведен к стране блаженной жизни, должны крайне страшиться и с особой осторожностью избегать одной опасной горы, возвышающейся у самого входа в гавань. гора эта так блестит, окутана таким ложным светом, что дошедшим, но еще не вошедшим, предлагает себя для обитания и обещает удовлетворение всех их желаний, как будто она и есть сама блаженная земля; иногда она даже может привлечь к себе людей из самой гавани, даря им наслажденье своей высотою, откуда им приятно с презрением смотреть на остальных.
Впрочем, последние нередко напоминают идущим, чтобы они остерегались скрытых под водою скал, или чтобы не считали делом легким взойти к ним; и самым благосклоннейшим образом наставляют, как войти в гавань, не подвергаясь опасности от соседства этой земли. Завидуя им в пустейшей славе, они показывают таким образом им место куда более надежное. Под этой горою, которой должны опасаться приближающиеся к философии и вошедшие в ее область, здравый смысл понимает не что иное, как горделивое пристрастие к пустейшей славе. До такой степени она не имеет внутри себя ничего плотного и твердого, что ходящих по ней гордецов поглощает в свою зыбкую почву и, погружая их во мрак, лишает светлейшего дома, которого они почти уже достигли.
Если это так, то вникни, мой Феодор, — ибо в тебе я вижу и всегда чту единственного и наиболее одаренного человека, способного удовлетворить мои пожелания, — вникни, говорю, к какому типу людей из означенных трех принадлежу я, в каком месте, на твой взгляд, нахожусь, и какого рода помощи я могу ожидать от тебя. Мне шел двадцатый год, когда в школе ритора я прочитал известную книгу Цицерона, называемую «гортензием», и воспламенился такой любовью к философии, что помышлял перейти к ней тогда же. Но, увы, не было недостатка в туманах, которые затрудняли мой путь; долго, признаюсь, руководствовался я и погружающимися в океан звездами, вводившими меня в заблуждение. Сперва удерживала меня от исследований некоторая детская робость, а когда я стал смелее, разогнал этот мрак и пришел к убеждению, что скорее следует верить учащим, чем повелевающим, — попал к таким людям, которым этот, воспринимаемый глазами свет казался достойным почитания наравне с высочайшим и божественным. я с этим не соглашался, думал, что они скрывают под этим покровом нечто великое, что откроют мне когда–нибудь после. Когда же, поняв что к чему, я ускользнул от них, мои рули, противоборствующие всем ветрам, долго среди волн держали в своих руках академики.
Затем пришел я в эти земли и здесь узнал полярную звезду, которой, наконец, смог себя вверить. Из речей нашего священника, а иногда и из твоих, я увидел, что не следует мыслить ничего телесного, когда мыслишь о Боге, равно и когда мыслишь о душе, так как этот предмет — ближайший к Богу. Но, признаюсь, привлекательность женщины и служебной карьеры удерживала меня от того, чтобы немедля погрузиться в лоно философии: изведав это, я полагал уже потом (что удается лишь немногим счастливцам) устремиться на всех парусах и веслах в мирную гавань. Прочитав же несколько книг Платона, жарким приверженцем которого ты являешься, и сопоставив с ними, насколько мог, авторитетное суждение тех, которые передали нам божественные тайны, я воспламенился до такой степени, что готов было обрубить все свои якоря, если бы не поколебало меня мнение некоторых людей. И тут на помощь мне, предавшемуся пустым упражнениям, подоспела буря, почему–то считающаяся несчастьем. Меня вдруг охватила такая сердечная боль, что, не будучи в состоянии переносить бремя той профессии, которая, быть может, унесла бы меня к сиренам, я бросил все и привел свой разбитый корабль в желанное затишье.
Итак, ты видишь, в какой философии, в какой гавани я пребываю. Но, хотя гавань эта широко раскрывается предо мною, и хотя ее пространство уже менее опасно, однако и она не исключает возможности заблуждения. Ибо я решительно не знаю, к какой части земли, единственно блаженной, приблизиться мне и пристать. В самом деле, что твердого выработал я, когда меня еще колеблет и приводит в недоумение вопрос о душе? Посему умоляю тебя во имя твоей добродетели, во имя человеколюбия, во имя союза и общения душ: протяни мне руку. А это значит, люби меня и верь, что, в свою очередь, и я люблю тебя и ты мне дорог. Если я вымолю это у тебя, то весьма легко и без особого усилия достигну самой блаженной жизни, обладателем которой считаю тебя. А дабы ты знал, чем я занимаюсь и как собираю к этой гавани своих друзей и отсюда полнее узнал мою душу, я решил адресовать тебе и посвятить твоему имени начало моих состязаний, которые, как мне кажется, вышло благоговейным и вполне достойным твоего имени. И это естественно, поскольку мы рассуждали о блаженной жизни.
Я не вижу ничего, что более следовало бы назвать даром Божиим. Меня не смущает твое красноречие, ибо не могу я бояться того, что люблю, хотя им и не обладаю; а высоты фортуны боюсь еще менее: как бы ни была она велика, все равно имеет второстепенное значение. Над кем же она господствует, тех самих делает вторыми. теперь прошу тебя выслушать то, что я намерен тебе передать. В ноябрьские иды был день моего рождения. После обеда, достаточно скромного, чтобы не обременить им ни одной из душевных способностей, я позвал всех, кто в этот день, как, впрочем, и всегда, разделили со мною трапезу, посидеть в банях. Были же со мною моя мать, заслуге которой, думаю, принадлежит все, чем я живу, брат мой Навигий и мои ученики Тригеций и Лиценций. Находились тут же и мои двоюродные братья, Ластидиан и Рустик (хотя они не терпят никого из грамматиков, но их здравый смысл я считал очень полезным в том деле, которое предпринимал), был, наконец, с нами и наименьший из всех годами, но чьи способности, если не обманывает меня любовь, обещают нечто великое, мой сын Адеодат.
Глава II
Когда все расселись и настроились слушать, я спросил:
— Согласны ли вы, что мы состоим из души и тела? Все согласились, но Навигий возразил, что он этого наверняка не знает.
— Совершенно ли ты ничего не знаешь, — спрашиваю я, — или к чему–то такому, чего ты не знаешь, следует причислить и это?
— Не думаю, чтобы я вообще ничего не знал.
— Можешь ли сказать нам что–нибудь из того, что знаешь?
— Могу, — отвечал Навигий.
Видя, однако, что он колеблется, я спросил:
— Знаешь ли, по крайней мере, что ты живешь?
— Знаю.
— Знаешь, следовательно, и то, что имеешь жизнь? Никто ведь не может жить иначе, как жизнью.
— Знаю, — говорит, — и это.
— А о том, что имеешь тело, знаешь?
— Разумеется.
— И так, ты знаешь уже и то, что состоишь из тела и жизни?
— Между прочим, знаю и это; но ограничивается ли все только телом и жизнью, или же существует еще что–нибудь, этого я не знаю.
— Итак, — говорю, — в теле и душе ты не сомневаешься, но не знаешь, нет ли чего еще, что служило бы к восполнению и усовершенствованию человека?
Навигий согласился.
— Что это за такое «еще», — говорю, — мы рассмотрим в другой раз; а теперь, поскольку все согласны, что человек не может быть ни без тела, ни без души, я спрашиваю: ради чего из них двоих мы нуждаемся в пище?
— Ради тела, — ответил Лиценций.
Остальные же засомневались и стали рассуждать о том, что пища скорее необходима не для тела, но для жизни, а жизнь, между тем, принадлежит только душе.
— Кажется ли вам, — сказал я тогда, — что пища имеет отношение к той части, которая, как мы это наблюдаем, от пищи возрастает и делается крепче?
С этим согласились все, за исключением Тригеция, который возразил:
— Отчего же я не продолжаю расти вследствие своей прожорливости?
— Все тела, — ответил я, — имеют свой, природою установленный размер, перерастать который они не могут; однако они делаются меньше в объеме, если им недостает пищи, как это легко заметить на примере животных. И никто не сомневается, что тела всех животных худеют, лишившись пищи.
— Худеть, — заметил Лиценций, — отнюдь не значит уменьшаться.
— Для того, чего мне хотелось, достаточно и сказанного. Ибо вопрос в том, принадлежит ли телу пища? а она принадлежит ему, потому что тело, когда его лишают пищи, доводится до худобы.
Все согласились, что это так.
— Не существует ли, — спросил я, — и для души своей пищи? Представляется ли вам пищей души знание?
— Именно так, — отвечала мать, — я полагаю, что душа питается не чем иным, как постижением вещей и знанием.
Когда Тригецию это мнение показалось сомнительным, мать сказала ему:
— Не сам ли ты ныне показал нам, откуда и где питается душа? Ибо после одного обеденного блюда ты сказал, что не заметил, какой мы пользовались посудой, потому что думал о чем–то другом, хотя от самого блюда не удерживал ни рук, ни зубов. Итак, там, где был в тот момент твой дух, оттуда и такого рода пищей, поверь мне, питается и твоя душа, питается умозрениями и размышлениями, если может через них познать что–нибудь.
— Не согласны ли вы, — сказал я, когда они шумно заспорили об этом предмете, — что души людей ученейших как бы в своем роде полнее и больше, чем души несведущих?
Все согласились.
— Значит, будет правильно сказать, что души тех людей, которые не обогащены никакой наукой, не насыщены никаким добрым познанием, — души тощие и как бы голодные?
— Полагаю, — возразил Тигеций, — что души и таких людей бывают полны, но только полны пороков и распутства.
— То, что ты упомянул, — сказал я, — представляет собою некоторого рода бесплодие и как бы голод духа. Ибо как тело, когда его лишают пищи, почти всегда подвергается всевозможным болезням, так же точно и души тех людей полны таких недугов, которые свидетельствуют об их голодании. На этом основании древние назвали матерью всех пороков распутство, потому что оно представляет собою нечто отрицательное, т. е. потому что оно — ничто. Противоположная этому пороку добродетель называется воздержанностью. таким образом, как эта последняя получила свое название от плода из–за определенной духовной производительности, так то названо распутством от бесплодности, т. е. от ничто: ибо ничто есть все то, что уничтожается, что разрушается, что исчезает и как бы постоянно погибает. оттого и называем мы подобных людей погибшими. Противоположное же этому есть нечто пребывающее, постоянное, остающееся всегда таким же: такова добродетель, значительная и самая прекрасная часть которой называется умеренностью или воздержанностью. Если же это представляется вам не настолько ясным, чтобы вы могли понять, то согласитесь со мною в том, по крайней мере, что как для тела, так и для души, — поскольку и души несведущих как бы полны, — существует пища двух родов: одна — здоровая и полезная, другая — нездоровая и зловредная. А если это так, то, полагаю, в день своего рождения я должен предложить самую лучшую трапезу не только для наших тел, но и для души, поскольку мы ведь согласились с тем, что человек состоит из тела и души. Но я предложу вам эту трапезу, если только вы голодны. Ибо если я стану стараться накормить вас, когда вы будете не хотеть и брезговать, то напрасно потрачу труды, а было бы желательно, чтобы вы требовали скорее этого рода пищи, чем пищи телесной. Это случится, если ваши души будут здоровы, потому что больные, как мы видим это и в недугах тела, отказываются от своей пищи и не принимают ее.
Присутствующие одобрили мою речь и сказали, что все, что бы я ни изготовил, они уже заранее принимают и благодарят.
— Желаем ли мы быть блаженными? — спросил я, снова вступая в беседу.
Едва произнес я эти слова, как все тут же в один голос отвечали, что это так.
— Считаете ли вы, — спрашиваю далее, — блаженным человека, который не имеет того, чего желает?
— Нет.
— Значит, блаженный всякий, кто имеет то, чего желает?
— Блажен тот, — отвечает мать, — кто желает и имеет доброе; если же хочет худого, то несчастен, хотя бы и имел.
— Ты, мать, — говорю я ей с радостной улыбкой, — решительно овладела самою крепостью философии. Только лишь за недостатком слов ты выразилась не так пространно, как туллий, с изречением которого согласны твои слова. В сочинении «гортензий», написанном им в похвалу и в защиту философии, он говорит следующее: «Вот все, — не философы, впрочем, а люди, готовые поспорить, — говорят, что блаженные суть те, которые живут так, как им хочется; но это неверно, поскольку хотеть того, что не прилично, само по себе — величайшее несчастье. Не получить желаемого не столько бедственно, сколько желать получить недолжное. Ибо порочность воли делает каждому более зла, нежели фортуна — добра».
— Но, — говорит Лиценций, — теперь тебе следует сказать нам, чего каждый должен желать и к чему следует ему стремиться, дабы быть блаженным.
— Если угодно, — заметил я ему, — пригласи меня в день своего рождения, — я охотно буду кушать все, что ты мне предложишь. На таких же условиях прошу сегодня кушать и у меня и не требовать того, что, быть может, еще не изготовлено.
Когда он начал сожалеть о своем скромном замечании, я сказал:
— Итак, мы согласны, что тот, кто не имеет желаемого, не может быть блаженным; а, с другой стороны, не всякий блажен, кто имеет то, чего желает. Не согласитесь ли вы и с тем, что тот несчастен, кто не блажен?
Сомневающихся не оказалось.
— Значит всякий, кто не имеет желаемого, несчастен?
Все согласились с тем, что это так.
— Что же, — продолжаю я, — человек должен приготовить себе, чтобы быть блаженным? Может статься, на этом нашем пиршестве и это блюдо будет подано, чтобы голод Лиценция не остался неудовлетворенным: ибо, на мой взгляд, для него я должен приготовить то, что он имел бы всегда, когда бы ни захотел. Итак, оно должно быть всегда пребывающим, независимым от фортуны и не подлежащим никаким случайностям, поскольку чего бы то ни было смертного и преходящего мы не можем иметь в то время, когда желаем и как скоро желаем.
С этим согласились все. Но Тригеций возразил:
— Есть много таких счастливцев, которые обладают в избытке этими тленными и случайностям подлежащими, но для настоящей жизни приятными вещами, так что у них нет недостатка ни в чем таком, чего они желают.
На это я сказал ему:
— Представляется ли тебе блаженным тот, кто испытывает страх?
— Разумеется, нет.
— Но в силах ли не бояться тот, кто может лишиться любимых им вещей?
— Не в силах.
— Однако же, эти случайные блага, о которых ты говоришь, могут быть утрачены. Следовательно, тот, кто их любит и обладает ими, не может быть блаженным.
Против этого спорить он не стал.
— Но, — добавила мать, — если бы он и был спокоен насчет того, что всего этого не утратит, и в таком случае он не мог бы быть довольным подобного рода вещами. Значит, он несчастен уже потому, что остается постоянно нуждающимся.
На это я сказал ей:
— Не представляется ли тебе блаженным человек, в избытке обладающий всеми этими вещами, если он ограничивает свои желания и, вполне этими вещами довольный, наслаждается ими умеренно и пристойно?
— В таком случае, — отвечала она, — он блажен не этими вещами, а умеренностью своего духа.
— Прекрасно! На этот вопрос иного ответа и не должно быть. итак, мы не сомневаемся нисколько, что тот, кто решился быть блаженным, должен приобрести для себя то, что всегда пребывает и что не может быть похищено никакой свирепой фортуной.
— С этим, — заметил Тригеций — мы еще раньше согласились.
— Не представляется ли вам, — спросил я, — Бог вечным и пребывающим всегда неизменным?
— Это, — отвечал Лиценций, — настолько очевидно, что не нуждается в обсуждении.
с этим благочестивым ответом согласились и прочие.
— Итак, — сказал я, — блажен тот, кто имеет Бога. Когда все с радостью и охотно приняли это положение, я продолжил:
— Мне думается, что теперь нам остается выяснить лишь одно: кто из людей имеет Бога; ибо такой человек будет поистине блаженным. А вы как об этом думаете?
На это Лиценций сказал, что Бога имеет тот, кто живет хорошо; а Тригеций — что тот имеет Бога, кто делает угодное Богу. С мнением последнего согласился и Ластидиан. отрок же наш, самый младший из всех, отвечал, что Бога имеет тот, кто не имеет нечистого духа. Мать одобрила все мнения, но особенно последнее. Навигий молчал, а когда я спросил его, как думает он, отвечал, что из всех суждений ему нравится последнее. Следует, подумал я, и у Рустика, который молчал, как мне казалось, скорее из застенчивости, нежели от затруднения ответить, спросить, какого он мнения относительно столь важного предмета; он согласился с Тригецием.
Тогда я сказал:
— Итак, мне известно мнение всех о предмете истинно великом, далее которого ни о чем не следует и спрашивать, да ничто и не может быть найдено, если, конечно, мы будем исследовать его так же спокойно и чистосердечно, как и начали. Но так как на сегодня этого было бы много, и так как есть своего рода неумеренность в пище и для душ, коль скоро они набрасываются на нее сверх меры и с жадностью (ибо в таком случае они худо переваривают ее, отчего для здоровья умов возникает не меньшая опасность, чем от голода), то давайте примемся за этот вопрос завтра, как бы впроголодь. Теперь прошу вас полакомиться лишь тем, что мне, вашему прислужнику, пришло на ум на скорую руку подать к столу и что, если не ошибаюсь, изготовлено и спечено как бы на школьном меду, вроде тех блюд, какие обыкновенно подаются последними.
Услышав это, все как бы потянулись к внесенному блюду и понуждали меня поскорее сказать, что это такое.
— А как вы думаете, — спросил я, — весь этот поднятый нами вопрос — не решен ли он уже академиками?
Лишь только услышано было имя, те трое, которым предмет этот был известен, быстро поднялись и как бы простерли руки, чтобы помочь, как это бывает на пиру, вносящему кушанья служителю, показывая, что они ни о чем не намерены слушать охотнее. Тогда я продолжил:
— Очевидно, что тот не блажен, кто не имеет того, чего желает, как это немного раньше нами и было доказано. Между тем, никто не ищет того, чего не хочет найти; ищут же они постоянно истины, следовательно, желают ее найти. Но они ее не находят; следовательно, не имеют того, чего желают и потому не блаженны. Но никто не бывает мудрым, кроме блаженного; следовательно, академик не мудр.
При этих словах мои собеседники, как бы сразу схватывая все, вскрикнули. Но Лиценций, останавливаясь на предмете с большим вниманием и осторожностью, побоялся дать свое согласие и присовокупил:
Схватил и я вместе с вами, потому и вскрикнул, пораженный этим заключением. Но из этого я ничего не пропущу в свой желудок, а сберегу свою часть для Алипия: пусть он попробует это блюдо вместе со мной или убедит меня, почему не следует его касаться.
— Сладкого, — сказал я, — следовало бы избегать скорее Навигию, при его поврежденной селезенке. — Напротив, — усмехнулся тот, — такие вещи излечат меня. Не знаю отчего, но это верченое и колючее, что ты предложил, имеет, как некто выразился об имет скоммеде, остро–сладкий вкус, и нисколько не пучит желудок. А потому все это, хотя немножко и щиплет небо, я могу есть с большим удовольствием. Ибо я не вижу, как могло бы быть опровергнуто твое заключение.
— Конечно же не может, — сказал Тригеций. — Потому я и радуюсь, что давно уже охладел к академикам. Не знаю под каким влиянием природы или, вернее сказать, Бога, не знаю даже, чем должны быть они опровергаемы, однако я буду их решительным противником.
— А я, — отозвался Лиценций, — пока их не оставлю.
— Выходит, — удивился Тригеций, — ты не согласен с нами?
— А вы, — спросил тот в свою очередь, — разве расходитесь в этом с Алипием?
— Не сомневаюсь, — сказал я на это, — что Алипий, если бы он находился здесь, согласился бы с моим умозаключением. Ибо он не мог бы держаться того нелепого мнения, что блаженным может считаться тот, кто не имеет такого духовного блага, которого желает самым пламенным образом, или, что они (академики) не желали найти истину, или, что мудр тот, кто не блажен: ибо то, чего ты побоялся отведать, приправлено этими тремя положениями, словно торт медом, мукою и орехом.
Пока мы так, шутя, как бы понуждали Лиценция скушать свою порцию, остальные, не принимавшие участия в нашей дружеской перебранке, но желавшие понять, о чем мы толкуем между собой, смотрели на нас весьма уныло. Мне они показались похожими на людей, которые, находясь на пиршестве среди весьма голодных и жадно принимающихся за еду товарищей, не спешат присоединиться к ним то ли вследствие своей солидности, то ли робея от застенчивости. А так как угощал я, то подобное положение дел меня не устраивало — неравенство за моим столом встревожило меня. я улыбнулся матери. она же, как бы с полнейшею готовностью приказывая достать из своей кладовой то, чего недоставало, сказала:
— Скажи же нам, что за люди эти академики и чего они хотят?
Когда я кратко и ясно изложил дело так, чтобы никто из гостей не остался в неведении, она сказала:
— Эти люди — припадочные (таким простонародным именем называются у нас люди, подверженные падучей болезни), — и с этими словами встала, чтобы уйти. Тогда и все мы начали расходиться, будучи довольны и радуясь тому, что наступил конец.
Глава III
На другой день, также после обеда, но несколько позже, чем накануне, усевшись на том же месте, мы возобновили наш диспут. Я сказал:
— Поздно пришли вы на пир, что случилось с вами, думаю, не потому, что кушанья еще не готовы, а вследствие вашей уверенности в их малости: нет, казалось вам, надобности спешить к тому, что можно быстро съесть. Ибо нельзя было думать, чтобы осталось много остатков там, где и в самый день пиршества встречено было столь немногое. оно, может быть, и хорошо. Но что для вас приготовлено, этого вместе с вами не знаю и я. Ибо есть другой, кто не перестает подавать всем всякого рода пищу; но перестаем по большей части есть мы сами, то вследствие нездоровья, то вследствие сытости, то по причине занятий делами, а что этот другой, пребывая в людях, делает их блаженными, относительно этого вчера, если не ошибаюсь, мы пришли между собой к благочестивому и твердому согласию. Поелику, когда разум доказал, что блажен тот, кто имеет Бога, и никто из вас не воспротивился этому мнению, то предложен был вопрос о том, кто, по вашему мнению, имеет Бога? На этот вопрос, если не ошибаюсь, было высказано три мнения. Одни полагали, что Бога имеет тот, кто делает угодное Богу; некоторые сказали, что тот имеет Бога, кто живет хорошо; наконец, по мнению остальных, Бог пребывает в тех, в ком нет духа, называемого нечистым. Но, может быть, под разными словами вы все имели в виду одно и тоже. Ибо если мы обратим внимание на два первые мнения, то всякий, кто живет хорошо, тем самым делает и угодное Богу; и всякий, кто делает угодное Богу, потому и живет хорошо: жить хорошо значит не что иное, как делать угодное Богу. Но, может быть, вам представляется это иначе?
Когда все согласились со мной, я предложил рассмотреть третье мнение особо, потому что в христианской религии название «нечистый дух», насколько я понимал, употребляется обыкновенно двояко. С одной стороны, это — дух, который привходит извне, овладевает душой и возмущает чувства, подвергая людей некоторому беснованию, и для изгнания которого приглашаются имеющие власть возлагать руки и делать заклинания, т. е. изгонять посредством религиозно–обрядовых заклятий. Но, с другой стороны, нечистым духом называется и всякая вообще нечистая душа, т. е. душа, оскверненная пороками и заблуждениями.
— Итак, — спросил я дитя, высказавшее это мнение, конечно, с более светлым и чистым духом, — кто, по твоему, не имеет нечистого духа: тот ли, кто не имеет демона, который делает, обыкновенно, людей бесноватыми, или же тот, кто очищает свою душу от всяких пороков и грехов?
— Мне кажется, — отвечал он, — что тот не имеет нечистого духа, кто живет целомудренно.
— Но, — спросил я, — кого называешь ты целомудренным: того ли, кто ни в чем не грешит, или же того, кто воздерживается только от непозволительного сожительства?
— Каким образом, — отвечал он, — может быть целомудренным тот, кто, воздерживаясь от непозволительного сожительства, не перестает осквернять себя прочими грехами? тот истинно целомудренен, кто предан Богу и на Него одного надеется.
Сделав распоряжение, чтобы эти слова отрока записаны были так, как они им были высказаны, я сказал:
— Такой непременно живет хорошо, а кто живет хорошо — необходимо таков; но, может быть, это тебе представляется иначе?
Он и все остальные согласились со мною.
— Стало быть в этом, — сказал я, — заключается одно из высказанных мнений. Задам вам еще несколько вопросов: желает ли Бог, чтобы человек искал Бога?
— Разумеется, — согласились все.
— Так разве можем мы сказать, что тот, кто ищет Бога, худо живет?
— Ни в каком случае.
— Тогда ответьте мне и на третий вопрос: может ли нечистый дух искать Бога?
Это отвергли все, за исключением несколько засомневавшегося Навигия, который, впрочем, потом согласился с мнением остальных.
— Итак, — сказал я, — если тот, кто ищет Бога, делает угодное Богу и живет хорошо, и не имеет духа нечистого, а кто ищет Бога, тот еще не имеет Бога, то не всякий, кто живет хорошо, делает угодное Богу, не имеет нечистого духа и должен непременно считаться имеющим Бога.
Когда все начали смеяться, что пойманы их же собственными уступками, мать, долго находившаяся в изумлении, попросила меня распутать и разъяснить ей сделанный мною посредством умозаключения вывод. Когда это мною было сделано, она сказала:
— Но никто не может достигнуть Бога, если Бога не ищет.
— Прекрасно, — отвечал я, — однако же тот, кто только ищет, еще не достиг Бога, хотя бы и жил хорошо. Значит, не всякий, кто живет хорошо, имеет Бога.
— Мне думается, — возразила она, — что Бога никто не имеет, но кто живет хорошо, к тому он милостив, а кто — худо, к тому неприязнен.
— В таком случае, — сказал я, — вчера мы напрасно согласились с тем, что тот блажен, кто имеет Бога. Ибо, хотя всякий человек имеет Бога, однако не всякий блажен.
— Бога милостивого, прибавь, — сказала она.
— Достаточно ли, — продолжил я, — согласны мы в том, по крайней мере, что блажен тот, к кому Бог милостив?
— И желал бы согласиться, — отвечал Навигий, — да боюсь, чтобы ты не вывел заключение, что блажен еще только ищущий, в особенности же тот академик, который вчера назван был хотя простонародным и не совсем латинским, но, как мне кажется, очень метким словом «припадочный». Ибо я не могу сказать, чтобы Бог был неприязнен к человеку, который Бога ищет, а раз так, то значит он будет к нему милостив, а тот, к кому Он милостив, тот и блажен. Следовательно, блаженным будет и тот, кто ищет. А всякий ищущий еще не имеет того, чего желает. Следовательно, блаженным будет и тот человек, который не имеет того, чего желает; а это всем нам показалось вчера нелепостью и мы подумали было, что мрак академиков рассеян. и потому Лиценций восторжествует над нами, а мне, как благоразумный врач, пропишет припарки и клистиры за те сладости, что я так безрассудно ел во вред своему здоровью.
Когда при этих словах даже мать улыбнулась, Тригеций сказал:
— Я не согласен с тем, чтобы Бог непременно относился с неприязнью к тому, к кому он не милостив; думаю, есть нечто среднее.
— Однако же, — отвечал я ему, — ты соглашаешься, что этот средний человек, к коему Бог ни милостив, ни неприязнен, имеет Бога?
Когда он медлил с ответом, мать сказала:
— Одно дело иметь Бога, другое — не быть без Бога.
— Что же лучше, — спросил я, — иметь Бога или не быть без Бога?
— Насколько я понимаю, — отвечала она, — мое мнение таково: кто живет хорошо, тот имеет Бога милостивого, а кто худо, тот имеет Бога, но неприязненного. А кто только ищет Бога и не нашел еще, тот не имеет его ни милостивого, ни неприязненного; но и он — не без Бога.
— Не таково ли, — спросил я всех, — и ваше мнение? Все согласились.
— Тогда скажите, не представляется ли вам, что Бог милостив к тому человеку, которого он благодетельствует?
— Разумеется.
— А не благодетельствует ли Бог того человека, который его ищет?
— Благодетельствует.
— Значит, — говорю, — кто ищет Бога, к тому Бог милостив, а всякий, к кому Бог милостив, блажен. Следовательно, блаженным будет и тот, кто ищет. А кто ищет, тот еще не имеет того, чего желает. Следовательно, блаженным будет и тот, кто не имеет того, чего желает.
— Мне, — возразила мать, — отнюдь не кажется блаженным тот, кто не имеет, чего желает.
— В таком случае, — заметил я, — не всякий тот блажен, к кому Бог милостив.
— Если, — сказала она, — этого требует разум, я не могу отрицать.
— Итак, — заключил я, — получается такое разделение: всякий, кто уже обрел Бога и к кому Бог милостив, тот потому и блажен; тот же, кто ищет Бога, к тому Бог милостив, но он еще не блажен; а тот, кто отдаляется от Бога пороками и грехами, тот не только не блажен, но и Бог к нему не милостив.
Когда все с этим согласились, я сказал:
— Все это хорошо, только я опасаюсь, как бы не поколебало вас то, в чем мы уже согласились раньше, а именно: что тот несчастен, кто не блажен. Из этого будет следовать, что и тот человек несчастен, который считает Бога милостивым к себе, потому что такового, пока он ищет Бога, мы еще не назвали блаженным. Разве что, подражая туллию, который называет господ, владеющих многими поместьями на земле, богачами, мы людей, обладающих всяческими добродетелями, станем звать бедняками! Но обратите внимание: в такой ли мере верно, что всякий несчастный нуждается, как верно то, что всякий нуждающийся несчастен? Ибо в таком случае будет истинным и то, что несчастье есть не что иное, как нужда — мнение, которое я, как вам могло показаться, одобрил, когда оно было высказано. Но сегодня рассуждать об этом мы не будем, а потому я прошу вас не побрезговать собраться к этому столу и завтра.
Когда все сказали, что принимают приглашение с полнейшей готовностью, мы встали.
Глава IV
На третий день нашего состязания утренние тучи, загонявшие нас в бани, развеялись, и в послеобеденное время наступила ясная и теплая погода. Мы решили спуститься на ближайший лужок, и когда нашли удобное место и расселись, продолжили прерванный накануне диспут.
— Почти на все, — сказал я, — на что я хотел своими вопросами добиться вашего согласия, я согласие получил. Поэтому ныне осталось совсем немногое, на что, как думаю, мне необходимо получить ваш ответ. Мать сказала, что несчастье есть не что иное, как нужда; и мы согласились, что все нуждающиеся суть несчастны. Но все ли несчастные нуждаются — это осталось одним из вопросов, разрешить который вчера мы не смогли. Между тем, если разум докажет, что это так, то можно считать, что мы нашли ответ на вопрос, кто блажен; ибо таковым будет тот, кто не нуждается. Потому что всякий, кто не несчастный — блажен. следовательно, блажен тот, кто не имеет нужды, если, конечно, будет доказано, что нужда и есть самое несчастье.
— А почему бы, — сказал Тригеций, — из той очевидной истины, что всякий нуждающийся несчастен, нельзя вывести заключения, что всякий не нуждающийся блажен? Ведь, помнится мне, мы согласились, что между несчастным и блаженным нет ничего среднего.
— А не находишь ли ты чего–нибудь среднего между живым и мертвым? Не всякий ли человек — или живой, или мертвый?
— Признаюсь, — отвечал он, — что и здесь нет ничего среднего. Но к чему этот вопрос?
— А к тому, — сказал я, — что ты, думаю, признаешь и то, что всякий, кто уже год, как похоронен, мертв.
Этого, разумеется, он не стал отрицать.
— Следует ли из этого, что всякий, кто не похоронен год тому назад или более — жив?
— Не следует.
— Значит, и из того, что всякий нуждающийся несчастен, отнюдь не следует, что всякий не нуждающийся блажен; хотя между несчастным и блаженным, как между живым и мертвым, не может быть найдено ничего среднего.
Некоторые из них поняли это не сразу, но лишь после того, как в выражениях, по возможности ясных и простых, я привел дополнительные разъяснения и примеры. Затем я сказал:
— Итак, никто не сомневается, что всякий, кто нуждается, несчастен. То, что есть нечто необходимое для тела даже самого мудрого мудреца, это не может вызвать у вас возражения, ибо в этом нуждается не сам дух, в котором полагается блаженная жизнь. Он совершенен, а совершенный не нуждается ни в чем; но если есть то, что является необходимым для тела, он пользуется им, если нет, недостаток в том не сокрушает его. Ибо всякий мудрый — силен, а всякий сильный не боится ничего. Поэтому мудрый не боится ни телесной смерти, ни болезней, для лечения или избежания которых необходимо то, в чем может у него оказаться недостаток. Но он, впрочем, не перестает пользоваться этим надлежащим образом, если оно у него есть. Ибо весьма верно известное изречение Теренция: «глупо допускать то, чего можешь избежать». Поэтому, насколько возможно и прилично, он будет избегать смерти и болезни, а если бы не избежал, то был бы несчастен не потому, что это с ним случилось, но потому, что не хотел избежать их, когда избежать мог, что, безусловно, глупо. Итак, не избегая этого, он будет несчастным не вследствие перенесения подобных напастей, а вследствие глупости. если же он не в состоянии избежать их, хотя и старается прилежно и приличным образом, то, обрушиваясь на него, они не делают его несчастным. ибо не менее истинно и другое изречение того же комедиографа: «Так как то, чего желаешь, дело невозможное, то желай того, что возможно». Каким образом будет несчастным тот, с которым не случается ничего помимо его воли? Ведь он не может желать того, что, на его взгляд, не может осуществиться. Он желает несомненного, т. е., когда делает что–нибудь, делает не иначе, как по некоторому предписанию добродетели и божественному закону мудрости, каковых он не может быть лишен никоим образом. А теперь обратите внимание на то, всякий ли несчастный нуждается. Согласиться с этим мнением мешает то обстоятельство, что многие обставлены великим изобилием случайных вещей, которые делают для них все легким и доступным: по их мановению является все, чего только потребует прихоть. Но представим себе кого–нибудь такого, каким, по словам туллия, был орат. Кто скажет, что орат находился в нужде — он–то, человек богатый и изнеженный, у которого не было недостатка ни в удовольствии, ни в добром и неиспорченном здоровье? Было у него, сколько душе угодно, и доходнейших поместий, и приятнейших друзей, и всем этим пользовался он вполне сообразно с телесным здоровьем, короче говоря — всякое намерение и всякое желание его сопровождались счастливым успехом. Разве что кто–нибудь из вас скажет, что он хотел бы иметь больше, чем имел. Этого мы не знаем. Но для нас в данном случае достаточно предположить, что он не желал более того, что имел. Представляется ли вам, что он нуждался?
— Я могу согласиться, — отвечал Лиценций, — что он ничего не желал, хотя и не знаю, как это допустить в человеке недалеком, однако уверен, что будучи, как говорится, человеком здравого смысла, он боялся, как бы не лишиться ему всего этого в одно несчастное мгновенье. Ибо и ему должно было быть очевидно, что все такое, как бы оно ни было велико, зависит от случая.
— Ты, Лиценций, — сказал я смеясь, — видишь препятствие для этого человека к блаженной жизни в его здравом смысле. Поскольку, чем проницательнее он был, тем лучше видел, что всего этого может лишиться; этот страх сокрушал его, и он достаточно оправдывал народную поговорку, что лукавый человек искренен в отношении к своей беде.
Когда при этом все заулыбались, я добавил:
— Однако, мы должны вникнуть в это повнимательней, потому что, хотя он и боялся, но не нуждался, а вопрос именно об этом. Ибо нуждаться значит не иметь, а не бояться утратить то, что имеешь. Между тем, он был несчастен потому, что боялся, хотя нуждающимся не был. Следовательно, не всякий, кто несчастен, нуждается.
Это, вместе с другими, одобрила и та, мнение которой я защищал, но, несколько колеблясь, сказала:
— Впрочем, я не знаю и еще не вполне понимаю, каким образом возможно отделять от нужды несчастье и наоборот, нужду от несчастья. ибо и он, бывший человеком богатым и всем обильно снабженным, и ничего, как вы говорите, большего не желавший, тем не менее, боясь лишиться всего этого, нуждался в мудрости. Разве, назвав его нуждающимся, если бы он имел нужду в серебре и деньгах, мы не назовем его таким, когда он явно имел нужду в мудрости?
При этом все воскликнули от удивления, а я был несказанно доволен и рад, что именно ею высказано было наилучшее, что я готовился предложить из книг философов, как нечто великое и последнее.
— Разве вы не видите, — сказал я, — что многие и разнообразные доктрины — это одно, а дух, преданный Богу — совсем иное? ибо откуда произошло то, чему мы удивляемся, если не от Бога?
— Решительно, — радостно поддержал меня Лиценций, — ничего более истинного и божественного, чем это, не могло быть сказано! ибо нет большего и бедственнейшего недостатка, чем недостаток мудрости; и тот, кто нуждается в мудрости, можно сказать, лишен всего.
— Итак, — продолжил я, — скудость души есть не что иное, как глупость. ибо она противоположна мудрости и противоположна так, как смерть — жизни, как блаженная жизнь — жизни несчастной, т. е. без чего–либо среднего. Как всякий не блаженный человек — несчастен, а всякий не мертвый — жив, так, очевидно, и всякий не глупый — человек мудрый. Отсюда уже можно видеть и то, что Сергий орат был несчастен не потому, что боялся, как бы не лишиться известных даров фортуны, а потому, что был глуп. Отсюда следует: он был бы еще несчастнее, если бы нисколько не боялся за эти столь случайные и колеблющиеся вещи, которые он считал благами. В таком случае он был бы более беспечным не вследствие душевного мужества, а вследствие умственной летаргии, несчастливцем, погруженным в глубочайшую глупость. Но если всякий, лишенный мудрости, терпит великую скудость, а всякий, обладающий мудростью, не нуждается ни в чем, то само собою следует, что глупость есть скудость. И как всякий глупец есть человек несчастный, так и всякий несчастный — глупец. Итак неоспоримо, что как всякая скудость — несчастье, так и всякое несчастье — скудость. Когда Тригеций сказал, что он не совсем понимает заключение, я спросил его:
— В чем согласны мы в отношении этого довода?
— В том, — отвечал он, — что тот нуждается, кто не имеет мудрости.
— Что значит нуждаться?
— Не иметь мудрости.
— Что значит, — спросил я, — не иметь мудрости? Не значит ли это иметь глупость?
— Да, — отвечал он.
— Следовательно, иметь скудость — не что иное, как иметь глупость. Впрочем, я не знаю, как можно сказать: «он имеет скудость» или «он имеет глупость». Это что–то вроде того, как если бы о каком–нибудь лишенном свете месте мы бы сказали, что оно имеет темноту, что означает не что иное, как то, что оно не имеет света. Ибо быть темным значит не то, что тьма как бы приходила или уходила, а значит быть лишенным света подобно тому, как быть лишенным одежды значит то же, что быть нагим. Ибо с приближением одежды нагота не бежит, как какой–нибудь движущийся предмет. Таким образом, скудость есть название неимения, не обладания. Поэтому, чтобы выразить, насколько это возможно, свою мысль, говорится: «он имеет скудость», т. е. как бы: «он имеет неимение». Итак, если доказано, что глупость представляет собою самую подлинную и несомненную скудость, то смотри, не решена ли уже поставленная нами задача. Между нами оставалось сомнение насчет того, скудость ли мы имеем в виду, когда говорим о несчастье. Между тем, нами приведено основание, по которому глупость правильно называется скудостью. Итак, поскольку всякий глупый есть человек несчастный, а всякий несчастный есть человек глупый, то необходимо признать, что не только веяли нуждающий несчастен, но и что всякий несчастный есть человек нуждающийся. Но если из того, что всякий глупый — несчастен, а всякий несчастный — глуп, выводится заключение, что глупость есть несчастье, то почему бы и из того, что всякий несчастный нуждается, не вывести нам заключение, что несчастье есть не что иное, как скудость?
Когда все согласились с этим, я сказал:
— Теперь нам следует рассмотреть, кто не терпит скудости, ибо тот будет мудрым и блаженным. Скудость же есть глупость, и именем скудости обыкновенно обозначается некоторого рода бесплодие и недостаток. Вникните, пожалуйста, поглубже в то, с какой тщательностью древние люди составляли все или, как это очевидно, некоторые слова, в особенности для таких предметов, знание коих наиболее необходимо. Вы согласились, что всякий глупый человек нуждается, а всякий, кто нуждается, глуп; думаю, что вы согласны и с тем, что глупый дух есть дух порочный и что все пороки духа заключаются в одном названии — «глупость». В первый день нашего состязания мы сказали, что распутство названо так потому, что оно представляет собою нечто отрицательное и что противоположная ему воздержанность получила свое имя от плода. В этих двух противоположностях, т. е. в воздержанности и распутстве, выступают особенно явно бытие и не–бытие. Что же теперь сочтем мы противоположным той скудости, о которой идет речь у нас?
Когда остальные несколько замешкались с ответом, Тригеций сказал:
— Я назвал бы богатство; но вижу, что ему противоположна бедность.
— Есть некоторая близость, — заметил я, — ибо бедность и скудость обыкновенно принимаются за одно и то же. Однако, следует найти другое слово, чтобы лучшая сторона не оставалась с одним именем — «богатство», тогда как сторона, представленная бедностью и скудностью, обиловала определяющими словами. Ибо ничего не может быть нелепее, чем скудость слова на той именно стороне, которая противоположна скудости.
— Если слово «полнота» применимо, — сказал Лиценций — то оно кажется мне прямо противоположным скудости.
— Может быть после, — сказал я, — мы потолкуем о слове обстоятельнее. Но при изыскании истины не об этом должно стараться. Хотя Саллюстий, весьма разборчивый в словах, скудости противополагает достаточность, однако я противополагаю ей полноту. Но в настоящем случае мы будем страшиться грамматиков; иначе пришлось бы бояться за небрежное употребление слов наказания от тех, которые оставили нам для употребления свои имущества.
Когда все засмеялись при этих словах, я добавил:
— Так как я положил себе не пренебрегать, когда вы бываете углублены в Бога, вашими умами, как некоторого рода оракулами, то приглашаю вас обратить внимание на то, что означает это наименование — «полнота», ибо думаю, ничего нет более сообразного с истиной. Итак, полнота и скудость противоположны друг другу; и здесь, подобно тому, как в распутстве и воздержанности, являются те же представления о бытии и не–бытии. И если скудость есть сама глупость, то полнота будет мудростью. Не без основания многие и воздержанность называли матерью всех добродетелей. Согласно с ними и туллий в одной народной речи говорит: «Пусть всякий понимает, как хочет; по моему мнению, воздержность, т. е. умеренность и равновесие, есть величайшая добродетель». И это уже вполне учено. Ибо он при этом имел в виду плод, т. е. то, что мы называем существующим, в противоположность не существующему. Но по причине простонародного образа выражения, на котором воздержанность называется бережливостью, он свою мысль пояснил добавлением слов умеренность и равновесие. Эти два термина мы должны рассмотреть повнимательней.
Умеренность так названа от меры равновесия — от веса. А где мера и вес, там не бывает ничего ни слишком большого, ни слишком малого. Итак полнота, которую мы противопоставили скудости, гораздо лучший термин, чем если бы мы употребили слово преизбыток. Потому что под преизбытком понимается излишество и как бы разлитие чего–нибудь чересчур переполненного. Когда этого бывает больше, чем нужно, тогда и желательна мера: и слишком большое нуждается в мере. Поэтому крайний избыток не чужд скудости: и то, что больше, и то, что меньше, одинаково чужды меры. Если рассмотрим выражение «обеспеченное состояние», то и в нем найдем понятие меры. Ибо обеспеченное состояние называется от обеспечения. а каким образом может обеспечивать то, что чрезмерно, когда оно часто доставляет больше забот, нежели малое? итак, все, что мало, равно и все, что чрезмерно, поскольку нуждается в мере, впадает в скудость. Мера же духа — мудрость. Поелику же никто из вас не отрицает, что мудрость противоположна глупости, глупость же есть скудость, а скудости противоположна полнота, то мудрость и будет полнотою. В полноте же мера, следовательно, мера духа заключается в мудрости. Отсюда–то это знаменитое и не зря столь превозносимое правило жизни: «Ничего сверх меры».
В самом начале нынешнего состязания мы сказали, что, если найдем, что несчастье есть не что иное, как скудость, то признаем, что блажен тот, кто не терпит скудости. Это теперь найдено; следовательно, быть блаженным значит не что иное, как не терпеть скудости, т. е. быть мудрым. Если же вы спросите, что такое мудрость (ибо и она подлежит раскрытию и исследованию со стороны разума, насколько это возможно в настоящее время), то она — мера духа, т. е. то, чем дух держит себя в равновесии, чтобы не слишком расширяться и не сокращаться ниже полноты. А расширяется он в роскоши, в господствовании, в гордости и в прочем подобном, чем души людей неумеренных и несчастных думают снискать себе радости и могущества. Напротив, сокращается он в нечестности, страхе, печали, жадности и ином подобном, в чем и несчастные полагают людское несчастье. Но когда он созерцает обретенную истину, когда, пользуясь выражением сего отрока, держится ее, и, не волнуемый никакою тщетой, перестает обращаться к лживости статуй, груз которых ниспровергается силою Божией, тогда он не боится неумеренности, никакой скудости, никакого несчастья. Итак, всякий кто имеет свою меру, т. е. мудрость, блажен.
Какая же мудрость должна быть названа мудростью, если не мудрость Божья? По свидетельству же божественному мы знаем, что сын Божий есть не что иное, как Премудрость Божья (1 Кор. 1, 24), а сей сын Божий есть воистину Бог. Поэтому всякий, имеющий Бога, блажен, —положение, с которым мы согласились уже прежде, когда приступили к этому нашему пиршеству. Но что такое, по мнению вашему, мудрость, если не истина? ибо и это сказано: «аз есмь истина» (Ин. 14. 6). Истина же, чтобы быть истиною, получает бытие от некоей высочайшей меры, от которой она происходит и к которой, совершенная, возвращается. Для самой же высочайшей меры не полагается уже никакой другой меры; ибо если высочайшая мера измеряется высочайшею мерою, то измеряется сама собою. Но необходимо, чтобы высочайшая мера была и мерою истинной, чтобы, как истина рождается от меры, так и мера познавалась истиной. Кто таков сын Божий? сказано: истина. Кто он, как не высшая мера? Итак, кто приходит к высшей мере через истину, тот блажен, а это значит — иметь Бога в душе, т. е. услаждаться Богом. Все же остальное, хотя и от Бога, но без Бога.
Наконец, из самого источника истины исходит некое увещание, побуждающее нас памятовать о Боге, искать Его и страстно, без всякой брезгливости, жаждать его. Это озарение нашим внутренним очам исходит от оного таинственного солнца. Все истинное, что мы говорим, от Него, даже в том случае, когда мы еще боимся смело пользоваться и смотреть на все своими или нездоровыми, или только что открывшимися глазами. И очевидно, что оно есть не что иное, как Бог, совершенство которого не умаляется никаким перерождением. Вполне и все в Нем совершенно, и в то же время это — всемогущий Бог. Но пока мы только ищем, но из самого источника, из самой — пользуясь известным выражением — полноты еще не насыщены, мы должны признать, что меры своей еще не достигли; и потому, хотя и пользуемся Божьею помощью, еще не мудры и не блаженны. Итак, полная душевная сытость, настоящая блаженная жизнь состоит в том, чтобы благочестиво и совершенно знать, кто ведет тебя к истине, какою истиною питаешься, через что соединяешься с высочайшей мерой. Эти три, по устранению тщеты разнообразного суеверия, являют проницательным единого Бога и единую сущность.
При этом мать, припомнив слова, глубоко врезавшиеся в ее память и как бы пробуждаясь в своей вере, весело проговорила известный стих нашего первосвященника Амвросия: «Призри, Троице, на молящихся!» и прибавила:
— Без всякого сомнения, блаженная жизнь — жизнь совершенная, и стремясь к ней, мы должны наперед знать, что можем к ней прийти только твердой верой, живой надеждой, пламенной любовью.
— Итак, — сказал я, — соблюдение меры требует от нас прервать на несколько дней наше пиршество. Поэтому я возношу, по мере сил моих, благодарение высочайшему и истинному Богу Отцу, Господу и Освободителю душ. А затем — благодарю и вас, которые, единодушно приняв приглашение, и меня самого осыпали многими дарами. Ибо вы так много привнесли в нашу речь, что я не могу не признаться, что несказанно рад моим гостям.
Когда при этом все радовались и хвалили Бога, Тригеций сказал:
— Как бы мне хотелось вкушать такое ежедневно!
— Во всем, — ответил я, — должно сохранять и любить меру, а особенно, если вы стремитесь всей душою к Богу.
После этих слов, так как состязание было окончено, мы разошлись.
О даре пребывания (вторая книга к Просперу и Иларию)
Глава 1. В этой книге речь пойдет о пребывании в добре вплоть до конца жизни
1. Теперь нам следует более тщательно побеседовать о пребывании [в добре]; причем в первой книге, когда речь шла о начале веры, мы сказали уже нечто и по этому вопросу. Итак, мы утверждали, что то пребывание, благодаря которому [люди] пребывают во Христе вплоть до конца, — это дар Божий. Я говорю здесь о том конце, которым завершается наша жизнь, поскольку лишь пока мы находимся в ней, мы должны опасаться, как бы не пасть. Итак, получил ли кто–либо этот дар или нет — это неизвестно, пока длится эта его жизнь. Ведь если он падет прежде, чем умрет, то можно сказать, что он не пребыл, и это будет вполне истинно. А разве можно говорить, что получил или имел пребывание тот, кто не пребыл? Ведь если бы кто–то имел воздержание и [затем] отступил от него, сделавшись невоздержанным, точно так же если имел бы он праведность, или терпение, или саму веру, [а затем оставил все это], то правильно будет говорить, что он имел, а [теперь] не имеет; ведь он был воздержанным, был праведным, был терпеливым, был верным, пока был таким, но поскольку перестал быть таким, ныне уже не есть то, чем был. Итак, разве был пребывающим тот, кто не пребыл [в добре], если всякий самим своим пребыванием доказывает, что он пребывающий, а этот [человек] не сделал этого? Но пусть никто не противится и не говорит: «Если некто, став верующим, прожил, к примеру, десять лет и посередине этого срока отпал от веры, разве не пребыл он тем не менее [в вере] пять лет?» Я не стану спорить о словах, если кто сочтет, что и это следует называть пребыванием как бы на определенный срок, но что касается того пребывания, о котором мы ныне ведем речь, благодаря которому [люди] пребывают во Христе вплоть до конца, — не следует говорить, что имел это пребывание тот, кто не пребыл до конца. Скорее уж имел его верующий в течение всего лишь одного года или даже меньшего срока, какой можно помыслить, если жил он верно все [это малое] время до своей смерти, чем тот, кто, веруя долгие годы, за несколько минут до смерти отступил от твердости в вере.
Глава 2. Пребывание — это дар Божий. Свидетельство апостола Петра
2. Итак, установив это, посмотрим, действительно ли дар Божий — то пребывание, о котором сказано: Кто пребудет вплоть до конца — тот будет спасен (Мф. 10:22). Но если это не так, то каким образом будут верными слова апостола: Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1:29)? Из этих двух дел одно относится к началу, другое к концу, но и то и другое — дар Божий, ведь написано, что и то и другое дано, как мы уже выше говорили об этом («О предопределении святых», 2,4). Ибо какое начало более верно для христианина, чем уверовать во Христа? Какой конец лучше, чем пострадать за Христа? Однако в отношении того, чтобы уверовать во Христа, у некоторых обнаружилось возражение, так что [им желательно] называть даром Божиим не начало, а умножение веры; на это воззрение мы с помощью Божией достаточно и даже более чем достаточно ответили. Но может ли кто сказать, почему пребывание вплоть до конца не даруется во Христе тому, кому даруется страдать за Христа, или — чтобы сказать мне более вразумительно, — кому даруется умереть за Христа? Ведь апостол Петр, показывая, что это [страдание] — дар Божий, говорит так: Лучше поступая хорошо, если изволит воля Божия, пострадать, чем поступая плохо (Ср.: 1 Пет. 3:17). Когда говорит он: Если изволит воля Божия, то показывает, что по Божественному изволению даруется (хотя и не всем вообще святым) возможность пострадать за Христа. Ведь эти слова не означают, что те, кого воля Божия не изволила привести к претерпеванию страданий и их славе, не достигнут Царствия Божия, если пребудут во Христе вплоть до конца. Но кто скажет, что это пребывание не дано тем, кто умирает во Христе от телесной болезни или по какой–либо иной причине, если оно даруется — и притом с куда большей трудностью — тем, от кого требуется и самая смерть за Христа? Ведь пребывание намного труднее, если его являет тот, кого преследуют, чтобы он не пребыл, и потому, чтобы пребыть, он терпит страдания вплоть до самой смерти. Итак, одно пребывание труднее, другое проще, но Тот, для Кого нет ничего трудного, с легкостью может даровать и то, и другое. Ведь именно это [пребывание] обещал Бог, говоря: Страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня (Иер. 32:40). Что значат эти слова, если не это: «Таким великим будет страх Мой, который вложу Я в сердца их, что они прилепятся ко Мне и будут пребывать [во Мне]»?
Богу молятся о пребывании, поскольку это — Его дар
3. Да и зачем нужно было бы испрашивать это пребывание у Бога, если бы оно не давалось от Бога? Неужто это прошение, в котором испрашивается у Бога то, что якобы не Он дарует, но что без Его дара заключено во власти человека, так же смешно, как смешно упоминавшееся ранее благодарение, если мы благодарим Бога за то, что Он не давал и чего не делал? Но что сказал я там (в «О предопределении святых», 19.39), то скажу и здесь: Не обманывайтесь, — говорит апостол, — нельзя посмеяться над Богом (Гал. 6:7). О человек, Бог свидетель не только слов твоих, но даже и помышлений; и если ты истинно и верно просишь нечто у столь богатого, веруй, что ты получишь то, что просишь, от Того, у Кого просишь. Не чти Его [одними лишь] своими губами и не возносись перед Ним в сердце своем, полагая, что от тебя самого у тебя то, что ты притворно испрашиваешь [в молитве] у Него. И разве не испрашивается у Него это самое пребывание? Тот, кто говорит подобное, уже не моими рассуждениями должен быть обличен, но обвинен [самими] молитвами святых. Ведь неужели есть среди них кто–либо, не просящий себе у Бога [дара] пребыть в Нем, если, как верно будет полагать, когда возносят святые Богу ту молитву, которая именуется Господней (ведь сам Господь научил ей), они испрашивают себе в ней как раз пребывание [в Господе]?
Объяснение молитвы Господней у святого Киприана — свидетельство о пребывании. Первое прошение молитвы: Да святится имя Твое
4. Прочтите как можно внимательнее объяснение этой молитвы в книге блаженного мученика Киприана, которую написал он об этом предмете и которая озаглавлена: О молитве Господней, и посмотрите, какое противоядие приготовлено в ней за много лет против будущей отравы пелагиан. Ибо, как вы сами знаете, есть три [положения], которые сильнее всего защищает от них кафолическая Церковь: из них первое, что благодать Божия даруется не по нашим заслугам, поскольку все в совокупности заслуги праведных суть дары Божий и предоставляются Божией благодатью; второе, что никто, сколь ни был бы он праведен, не живет в этом тленном теле без каких–либо грехов; третье, что [всякий] человек рождается подверженным греху первого человека и связанным узами осуждения, если только вина, навлекаемая рождением, не устраняется возрождением. Из этих трех положений лишь то, которое я привел последним, не разбирается в названной выше книге славного мученика, а о двух других с такой очевидностью тут идет речь, что упомянутые еретики, новые недруги благодати Христовой, оказываются побежденными задолго до того, как родились. Итак, о том, что пребывание также есть дар Божий, вместе со [всеми] заслугами святых, которые суть не что иное, как дары Божий, говорится здесь следующим образом. «Мы, — пишет [мученик], — говорим: Да святится имя Твое не потому, что желаем, чтобы Бог освятился нашими молитвами, но поскольку просим у Него, чтобы Его имя святилось в нас. И правда, от кого освящаться Богу, Который Сам освящает [все]? Но поскольку Сам Он сказал: Будьте святы, ибо Я свят (Лев. 19:2)?, то мы молимся и просим, чтобы, освященные в крещении, мы пребыли в том, в чем начали быть» (Свт. Киприан Карфагенский). И немного ниже, все еще рассуждая об этом предмете и уча, что пребывание нам надлежит просить у Господа (а учить так было бы несправедливо и неверно, если бы не было это пребывание также даром Божиим), он говорит: «Мы молимся, чтобы это освящение постоянно было в нас, и поскольку Господь и Судия наш предостерегает исцеленного и оживотворенного Им, чтобы тот не отступал от Него и не случилось с ним чего худшего (Ср.: Ин 5:14), мы постоянно повторяем в молитвах это прошение, день и ночь прося о том, чтобы дарованное нам Божией благодатью освящение и оживотворение сохранилось в нас благодаря Его защите». Итак, этот учитель полагает, что, когда мы, будучи уже освящены, говорим: Да святится имя Твое (Мф. 6:9), мы просим у Бога пребывания в этом освящении, то есть чтобы нам пребыть в освящении. Ведь что означает просить о том, что мы уже получили? Разве не значит это просить о даровании нам также и того, чтобы мы не перестали иметь [это полученное]? Подобным образом святой, когда просит Бога, чтобы ему быть святым, просит о том, чтобы он продолжал оставаться святым; также и чистый, когда просит о том, чтобы быть чистым; воздержанный, чтобы быть воздержанным; праведный, чтобы быть праведным; благочестивый, чтобы быть благочестивым; и все прочее, что мы, защищая от пелагиан, признаем дарами Божиими. Итак, все они, несомненно, просят того, чтобы пребыть в тех благах, которые, как им известно, они получили. И если они получают это, то, разумеется, получают и само пребывание — великий дар Божий, благодаря которому сохраняются все прочие Его дары.
Второе прошение молитвы Господней: Да приидет Царствие Твое
5. Что же? Когда мы говорим: Да приидет Царствие Твое (Мф. 6:10), разве мы просим не того, чтобы пришло оно и для нас, поскольку мы не сомневаемся, что оно приидет для всех святых? Потому и здесь те, кто уже суть святые, разве не о том молятся, чтобы пребыть им в той святости, которая дарована им? Ведь иначе не приидет для них Царствие Божие, которое воистину приидет не для кого другого, как только для тех, кто пребудут вплоть до конца.
Глава 3. Третье прошение молитвы Господней: Да будет воля Твоя
6. Третье прошение звучит: Да будет воля Твоя на небе и на земле (Мф. 6:10), или, как читается это место в большинстве рукописей и более часто произносится молящимися: [Да будет воля Твоя] и на земле, как на небе, что по большей части понимают так: «Да станем и мы, как святые ангелы, творить волю Твою». А учителю и мученику угодно, чтобы под небом и землей мы понимали дух и плоть, таким образом молясь о том, чтобы нам исполнять волю Божию и первым и второй в их взаимном согласи (Киприан Карфагенский). Видит он в этих словах и другой смысл, приличествующий святости веры, о котором мы уже говорили выше («О предопределении святых», 16), [а именно] что их следует понимать как молитву верующих за неверующих, которые пока еще суть «земля», ибо носят вследствие своего первого рождения лишь [образ] земного человека, в то время как сами верующие, облекшиеся в небесного человека (1 Кор. 15:47–49), заслуженно называются именем неба (Киприан Карфагенский). Здесь он со всей ясностью показывает, что и начало веры — дар Божий, поскольку Святая Церковь молится не только за верующих, чтобы в них возросла или пребыла вера, но молится также и за неверующих, чтобы они начали иметь ту веру, которой совершенно не имели прежде и, более того, против которой боролись враждебным сердцем. Но сейчас мы рассуждаем не о начале веры, о котором многое уже сказали в предшествующей книге, но о пребывании, которое необходимо иметь до самого конца; его, несомненно, просят также и святые, исполняющие волю Божию, просят, говоря в молитве: Да будет воля Твоя. Ведь если эта воля уже совершилась в них, зачем они все еще просят, чтобы она совершалась? Не того ли они просят, чтобы пребыть им в том, в чем начали быть? Хотя здесь могут сказать, что святые не просят о том, чтобы воля Божия совершалась на небе, но просят, чтобы она совершалась и на земле, как на небе: то есть чтобы земля подражала небу, а значит, человек — ангелам, или неверующие — верующим; поэтому святые просят в этих словах, чтобы совершалось то, чего еще нет, а не того, чтобы пребыло то, что есть. Ведь какой бы святостью ни отличались люди, они еще не равны ангелам Божиим, а значит, воля Божия еще не совершилась в них так, как на небе. Но хотя это и так, в отношении того, что мы желаем, чтобы люди из неверующих сделались верующими, мы, по–видимому, желаем не пребывания, а начала веры; однако в отношении того, что мы желаем, чтобы люди в исполнении воли Божией стали равны ангелам Божиим, когда желают этого святые, они явно молятся о пребывании, поскольку никто не достигнет того высшего блаженства, которое [уготовано] в Царствии [Божием], если не пребудет до конца в той святости, которую стяжал на земле.
Глава 4. Четвертое прошение молитвы Господней: Хлеб наш насущный дай нам на сей день
7. Четвертое прошение звучит: Хлеб наш насущный дай нам на сей день (Мф. 6:11). Здесь блаженный Киприан показывает, каким образом и эти слова могут пониматься в качестве прошения о пребывании. Ибо он говорит среди прочего: «И мы просим так: Хлеб наш насущный дай нам на сей день, для того, чтобы мы, пребывающие во Христе и ежедневно принимающие Евхаристию в качестве спасительной пищи, если вдруг случится какое тяжкое прегрешение, не оказались бы отделенными от тела Христова, будучи удерживаемы от небесного хлеба, поскольку находимся под запрещением и не участвуем в общении» (Киприан Карфагенский). Эти слова святого человека Божия показывают, что святые, несомненно, просят у Бога пребывания, когда говорят: Хлеб наш дай нам на сей день, с тем намерением, чтобы не быть отлученными от тела Христова, но остаться в той святости, благодаря которой они не допускают никакого прегрешения, способного заслуженно отделить их от нее.
Глава 5. Пятое прошение: Прости нам долги наши
8. В пятом прошении молитвы мы говорим: Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим (Мф. 6:12). Кажется, что в одном этом прошении мы не просим о пребывании. Ведь те грехи, об оставлении которых мы молимся здесь, — это грехи прошлые, тогда как пребывание, которое делает нас спасенными в вечности, хотя и необходимо во время этой жизни, но не в прошедшее [время], а в то, которое еще остается до ее конца. Однако не напрасно будет ненадолго обратить внимание на то, каким образом и в [объяснении] этого прошения язык Киприана, как некое непобедимое орудие истины, еще тогда поразил еретиков, появившихся спустя довольно длительное время после него. Ведь пелагиане среди прочего отваживаются говорить, что праведный человек в этой жизни вовсе не имеет никакого греха, и из подобных людей составляется уже в нынешнее время Церковь, не имеющая пятна, или порока, или чего–либо подобного (Еф. 5:27), и одна лишь эта Церковь есть невеста Христова; как будто не невеста Его та, которая по всей земле говорит то, чему научилась от Него: Прости нам долги наши. Но посмотрите, как уничтожает их славнейший Киприан. Объясняя это место молитвы Господней, он среди прочего говорит: «И сколь неизбежно, сколь предусмотрительно и спасительно убеждаемся мы в том, что мы — грешники, поскольку [Господь] побуждает нас молиться за свои грехи, дабы, прося оставление [прегрешений] у Бога, душа вспомнила [о голосе] своей совести. Для того чтобы никто не воображал о себе, что он невинен, и не погиб вскоре из–за превозношения, [эта молитва] наставляет и учит [человека], что он грешит ежедневно, поскольку ежедневно повелевается ему молиться о своих грехах. И Иоанн в своем Послании говорит, утверждая это: Если мы говорим, что не имеем греха, — то обманываем самих себя, и истины нет в нас (1 Ин. 1:8), и прочее» (Киприан Карфагенский), что было бы долго приводить здесь.
Шестое прошение: Не введи нас в искушение
9. Наконец, когда святые говорят: И не введи нас в искушение, но избавь нас от зла (Мф. 6:13), о чем они молятся, как не о том, чтобы им пребыть в святости? Ибо поистине, если будет дарован им этот дар Божий, чтобы не впасть в искушение, — а что это дар Божий, вполне ясно и очевидно из того, что он испрашивается у Бога, — итак, если дарован будет им этот дар Божий, всякий из святых сможет вплоть до конца сохранить свое пребывание в святости. Ведь никто не перестанет пребывать в христианском призвании, если не впадет сперва в искушение. Поэтому если ему будет даровано то, о чем он молится, т. е. чтобы не впасть в искушение, то он, несомненно, устоит в освящении, которое получил по дару Божию.
Глава 6. Пребывание может быть получено по молитве, но не может быть утеряно
10. «Но эти братья не желают, — как вы пишете, — дабы проповедовали об этом пребывании, что оно не может быть ни молитвенно заслужено, ни по упрямству потеряно» (Иларий Марсельский. Ер. 226.3). Не слишком внимательно замечают они, какое у них основание говорить так. Ведь мы ведем речь о том пребывании, благодаря которому пребывают [в добре] вплоть до конца; если оно дано, то это — пребывание вплоть до конца, а если нет пребывания вплоть до конца, — значит, оно и не дано, о чем мы уже достаточно сказали выше. Итак, пусть люди не говорят, что кому–то дано пребывание до конца, кроме как в том случае, если настал этот самый конец, и обнаружилось, что тот, кому оно было дано, пребыл вплоть до конца. Ведь мы называем чистым того, о ком знаем, что он чист, вне зависимости от того, пребудет он или нет в этой чистоте; и если кто имеет какой–либо другой из Божественных даров, которым он может обладать или лишиться его, мы говорим, что он имеет его, пока он [и вправду] имеет, и если он лишится его, то говорим, что он его имел; но поскольку никто не может иметь пребывания вплоть до конца, кроме того, кто [действительно] пребудет до конца, то многие могут иметь его, однако никто не может потерять. Ведь никому не следует опасаться, как бы в человеке, когда пребудет он вплоть до конца, не возникло некой злой воли, так что [в результате этого] он не пребудет вплоть до конца. Потому этот дар Божий может быть молитвенно заслужен, но когда уже он дан, не может быть потерян по упрямству. Ибо когда кто–либо пребудет вплоть до конца, он не может уже потерять ни этот дар, ни другие, которые прежде конца еще мог потерять. Ведь как может он потерять то, благодаря чему не теряются те дары, которые прежде он мог потерять?
Плод молитвы о пребывании
11. Однако чтобы вдруг не сказали, что хотя пребывание вплоть до конца не [может быть] потеряно, если будет дано, то есть в том случае, если кто–либо пребудет вплоть до конца; однако тогда оно неким образом теряется, когда человек действует по упрямству, так что не может достичь его (в этом смысле мы говорим, что человек, не пребывший вплоть до конца, потерял вечную жизнь или Царство Божие, — не потому, что он уже имел и получил это, но поскольку получил бы и имел бы, если бы пребыл), то [лучше] устраним противоречие в словах и не станем говорить, что можно потерять также не что, чего не имеют, но на обладание чем надеются. Пусть скажет мне, кто решится, неужто не может дать Бог то, что повелел просить у Него? Кто мыслит так, не скажу я — не разумеет, но скорее — безумствует. А Бог повелел, чтобы, молясь Ему, Его святые говорили: Не введи нас в искушение (Мф. 6:13). Итак, всякий, кого Бог слышит испрашивающим это, не вводится в искушение упрямством, из–за которого он мог бы заслуженно лишиться пребывания в святости.
3ачем повелел нам Бог просить не быть введенными в искушение
12. Ведь по своей воле всякий оставляет Бога, так что заслуженно оставляется Богом. Кто станет это отрицать? Но для того мы и просим: Не введи нас в искушение, чтобы этого не произошло. И если Бог внемлет нам, не происходит этого, поскольку Он не дает этому произойти. Ибо не происходит ничего, кроме того, что или Сам Он совершает, или Сам позволяет этому произойти. Итак, Он может и преклонять воления людей от зла к добру, и обращать склонившихся к падению, и направлять [их] в угодную Ему сторону. Не напрасно говорится Ему: Боже, Ты обращая оживишь нас (Пс. 84:7); не напрасно говорится: Не дай подвигнуться ноге моей (Пс. 65:9); не напрасно говорится: Не предай меня, Господи, грешнику от желания моего (Пс. 139:9); наконец, чтобы не вспоминать многого, хотя вам может встретиться и еще большее [число подобных мест], не напрасно говорится: Не введи нас в искушение (Мф. 6:13). Ибо тот, кто не вводится в искушение, разумеется, не вводится в искушение своей злой воли, и кто не вводится в искушение своей злой воли, тот не вводится вообще ни в какое искушение. Ведь, как написано: Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; Бог же не искушает никого (Иак. 1,14.13), а именно [не искушает] вредоносным искушением. Ибо есть также искушение полезное, которое не обманывает и не угнетает нас, но испытывает. В соответствии с этим и сказано: Испытай меня, Господи, и искуси меня (Пс. 25,2). Итак, тем вредоносным искушением, которое обозначает апостол, говоря: Чтобы как–либо не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш (1 Фес. 3:5), Бог, как я уже сказал, никого не искушает, то есть никого не вводит и не ввергает в это искушение. Ибо быть искушаемым, и притом не быть введенным в искушение, — это не зло, а, напротив, добро; ведь это означает быть испытываемым. Итак, когда мы говорим Богу: Не введи нас в искушение, то что иное мы говорим, как не это: «Не позволь, чтобы мы были введены [в искушение]». Поэтому некоторые молятся так (это мы читаем в многочисленных рукописях, да и блаженный Киприан так приводит это место): Не дозволь нам быть введенными в искушение. Но в греческом Евангелии мы повсюду найдем лишь это: Не введи нас в искушение. Итак, с большей безопасностью будем мы жить, если предоставим все Богу и не станем полагаться [лишь] отчасти на Него, а отчасти — на себя. Это знал досточтимый мученик, ведь он, объясняя это же место молитвы, после всего прочего говорит: «И когда мы молимся, чтобы не впасть нам в искушение, то во время подобной молитвы мы приводим себе на память нашу немощь и бессилие, чтобы не стал кто нагло превозноситься, чтобы не стал кто гордо и дерзко приписывать нечто себе, чтобы не стал кто искать себе славы в исповедании или страдании, поскольку Сам Господь, уча смирению, сказал: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение; ибо дух бодр, а плоть немощна (Мф. 26:41), но чтобы, если будет предшествовать смиренное и покорное исповедание, и Бог подаст все то, что испрашивается в молитве и со страхом Божиим, [все это] было отнесено к Его милости» (Киприан Карфагенский).
Глава 7. Одной лишь молитвы Господней достаточно для защиты благодати
13. Итак, даже если бы и не было никаких других свидетельств, одной этой молитвы Господней хватило бы нам в отношении благодати, которую мы защищаем, поскольку ничего у нас не остается, чем мы могли бы хвалиться, как своим. Поэтому и то, чтобы мы не отступали от Бога, как показывает эта молитва, дается лишь от Бога, поскольку должно испрашиваться у Бога. Ведь тот, кто не впадает в искушение, не отступает от Бога. Это совершенно не в силах свободного решения, таких, какие они суть сейчас, но было в силах человека, прежде чем он пал. Однако же на что способна была эта свобода воли в превосходстве ее первоначального состояния, проявилось в ангелах, которые, когда пал диавол со своими [слугами], устояли в истине и удостоились достичь вечной уверенности в том, что они не падут, и мы ныне достоверно знаем об их пребывании в ней. А после падения человека Бог изволил, чтобы только лишь от Его благодати зависело, приступит ли человек к Нему, и только лишь от Его благодати зависело, чтобы человек не отступал от Него.
По благодати Божией мы приступаем к Богу, по благодати не отступаем от Него
14. Эту благодать [Бог] положил в Том, в Ком мы сделались наследниками, быв предопределены по намерению Того, Кто совершает все (Еф. 1:11). Итак, как совершает Он, чтобы мы приступили [к Нему], так совершает и чтобы не отступили [от Него]. Потому и говорится Ему через пророка: Да будет рука Твоя над Мужем десницы Твоей и над Сыном Человеческим, Которого Ты укрепил Себе, и мы не отступим от Тебя (Пс. 79:18–19). Понятно, что это не первый Адам, в котором мы отступили от Него, но Адам последний, над Которым простирается рука Его, чтобы мы не отступали от Него. Ведь это — весь Христос со своими членами, ради Церкви, которая есть Его тело и Его полнота (Ср.: Еф. 1:23). Поэтому когда простирается на Него рука Божия, чтобы мы не отступали от Бога, то, разумеется, на нас простирается дело Божие (ибо это и есть рука Божия), и в результате этого дела Божия мы во Христе остаемся с Богом, а не отступаем от Бога, как Адам. Ведь мы во Христе сделались наследниками, быв предопределены по намерению Того, Кто совершает все. Итак, рука Божия, а не наша [делает так], что мы не отступаем от Бога. Того, говорю я, рука, Кто сказал: Страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня (Иер. 32:40).
3ачем Бог повелел молиться о том, что может даровать и без молитвы
15. Поэтому и пожелал Он, чтобы мы просили у Него не быть введенными в искушение, ведь если не будем мы введены [в искушение], никоим образом не отступим от Него. Он мог бы даровать это нам и без наших молитв, но пожелал, чтобы своими молитвами мы напоминали самим себе, от Кого получаем мы эти благодеяния. Ведь от Кого мы получаем их, если не от Того, у Кого справедливым будет и испрашивать их? Пусть Церковь в этом вопросе вовсе не надеется на затруднительные рассуждения, пусть она посмотрит на свои ежедневные молитвы: она молится, чтобы неверующие уверовали, — значит, Бог обращает к вере. Она молится, чтобы верующие пребывали, — значит, Бог дает пребывание вплоть до конца. Бог предузнал, что Он сделает это; а это и есть предопределение святых, которых Он избрал во Христе прежде создания мира, чтобы они были святы и непорочны перед Ним в любви; предопределив усыновить их Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал их в Возлюбленном Сыне Своем, в Котором они имеют искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал им во всякой премудрости и разумении; чтобы открыть им тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, в Котором и мы сделались наследниками, будучи предопределены по намерению Того, Кто совершает все (Еф. 1:4–11). Какой человек с рассудительной и бодрствующей верой допустит, чтобы звучали некие человеческие голоса против этой столь ясной трубы истины?
Глава 8. Почему благодать подается безвозмездно и даром
16. Но кто–нибудь скажет: «Почему благодать Божия дается не по заслугам людей?» Отвечу: «Потому что Бог милосерд». Скажет он: «Тогда почему не всем [дается она]?» И тут отвечу: «Потому что Бог [справедливый] Судия». А потому и благодать подается Им даром, и показывается на примере Его справедливого суда в отношении других, что [именно] предоставляет благодать тем, кому она дается. Итак, не будем неблагодарными, [когда видим], что милосердный Бог по благоволению воли Своей, в похвалу благодати Своей (Еф. 1:5–6) столь многих избавляет от погибели, до такой степени заслуженной, что даже если бы Он никого не избавлял от нее, Он не был бы несправедлив. Ибо по вине одного все повинны идти в осуждение, не несправедливое, но справедливое. Поэтому если кто избавляется — пусть возлюбит благодать, а если кто не избавляется — пусть познает свой долг. И если люди уразумеют в отпускаемом долге благость, а в взыскиваемом — справедливость, то обнаружится, что нет никакой неправды у Бога.
Благодать подается даром также и в случае младенцев
17. «Но почему же, — продолжит он, — в одном и том же случае не только в отношении младенцев, но и в отношении близнецов столь различно решение?» Разве не похож этот вопрос на другой: почему в различных случаях решение одинаково? Итак, вспомним снова тех работников в винограднике, которые работали целый день, и тех, которые работали лишь один час: разве не различен в этих случаях затраченный труд, и, однако, разве не одинаково решение при распределении награды? Ведь и здесь что иное могут услышать от хозяина ропщущие, кроме этого: «Так я хочу?» Ибо его щедрость по отношению к одним проявилась так, что по отношению к другим не было никакой несправедливости. И хотя в этом случае и те, и другие получили благо, однако что касается справедливости и благодати, то и здесь о том виновном, который избавляется [от наказания], по справедливости может быть сказано тому виновному, который осуждается: Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому то, что не должен. Разве нельзя мне делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр? (Мф. 20:14–15) И если он скажет здесь: «Почему и мне [не дается этою]?» — то заслуженно услышит: А ты кто, человек, что возражаешь Богу? (Рим. 9:20) Поистине, ты видишь Его благосклоннейшим дарителем в отношении одного из вас и справедливейшим исполнителем приговора по отношению к тебе при том, что Он ни к кому не несправедлив. Ведь поскольку Он был бы справедлив, даже если наказал бы обоих, то избавляемый имеет за что благодарить, а осуждаемому не на что сетовать.
Невозможно ответить на вопрос: «Почему так?»
18. «Но если уж, — скажет, — надлежало, чтобы [Бог], осуждая не всех, показал, чего заслуживают все, и таким образом явил щедрость Своей благодати сосудам милосердия, то почему при одинаковых обстоятельствах Он наказал меня, а не его, почему избавил его, а не меня?» Этого не скажу, и если спросишь почему, то признаюсь, что не нахожу, что сказать. Если и тут спросишь ты: «Почему?» — то отвечу: «Поскольку в этом деле как справедлив гнев Его, как велико милосердие его, так неисследимы и суды Его».
Почему не всем верующим Бог дает дар пребывания в добре
19. Но пусть он продолжит дальше и скажет: «Почему Он не дал пребыть вплоть до конца некоторым, чтущим Его с доброй верой?» Почему, ты думаешь, как не потому, что не лжет говорящий: Они вышли от нас, но не были от нас, ибо если бы они были от нас, то остались бы с нами! (1 Ин. 2:19) Что же, неужели поэтому существуют две [разные] природы людей? Ни в коем случае. Если было бы две природы, не было бы никакой благодати, ведь никому не давалось бы избавление по благодати, если бы воздавалось должное природе. Итак, людям кажется, что все, являющиеся добрыми верующими, должны были бы получить пребывание вплоть до конца. Бог же рассудил, что будет лучше смешать некоторых не имеющих пребывания с точным числом Своих святых, чтобы те, кому в этой полной искушения жизни не полезна безопасность, не чувствовали себя в безопасности. Ибо многих от пагубного возношения удерживает сказанное апостолом: Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть (1 Кор. 10:12). Тот, кто падает, падает по своей воле, а тот, кто стоит, — стоит по воле Божией. Ибо силен Бог поставить его (Рим. 14:4); — итак, не сам он, но Бог. Однако хорошо будет не высоко мнить [о себе], но иметь страх (Ср.: Рим. 11:20). Ясно, что в своем помышлении всякий или падает, или стоит. И, как говорит апостол (я уже приводил это в предшествующей книге): Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога (2 Кор 3:5). Следуя ему, блаженный Амвросий дерзновенно говорит: «Ибо не в нашей власти наше сердце и наши помышления» (Амвросий Медиоланский). Всякий, кто смиренен и воистину благочестив, согласится, что это вполне верно.
Рассуждение святого Амвросия о власти Бога над человеческими помышлениями
20. Когда Амвросий это сказал, он вел рассуждение в той книге, которую написал «О бегстве от мира», уча в ней, что от этого мира надлежит убегать не телом, но сердцем, а это, как он наставляет, может произойти лишь с помощью Божией. Ведь он говорит так: «Часто заходит у нас речь о бегстве от этого мира; о, если бы сколь легка эта речь, столь же настойчивым и упорным было бы стремление [к этому]! Но, что еще хуже, часто вкрадывается соблазн земных вожделений, и ослепление суетой охватывает ум; так что, чего ты стремишься избежать, о том ты думаешь и тем занимаешь душу. Трудно человеку предохраниться от этого, и невозможно от этого избавиться. Ведь и пророк свидетельствует, что эта вещь есть скорее предмет молитвы, чем действия, говоря так: Приклони сердце мое к заветам Твоим, а не к корысти (Пс. 118:36). Ибо не в нашей власти наше сердце и наши помышления, которые, внезапно помрачаясь, приводят в смущение ум и душу и влекут их не туда, куда ты намеревался; призывают к мирскому, внушают земное, навязывают доставляющее наслаждение, вплетают нечто соблазнительное, и в то время как готовимся возвышать ум, мы по большей части низвергаемся в земное, запутавшись в пустых помыслах» (Амвросий Медиоланский). Итак, не в человеческой, а в Божией власти, чтобы люди имели власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12). Ведь эту власть они получают от Того, Кто дает человеческому сердцу благочестивые помышления, благодаря которым оно имеет веру, действующую любовью (Ср.: Гал. 5:6). И в отношении приобретения и удержания этого блага, а также в отношении постоянного возрастания в нем вплоть до конца мы сами не способны помыслить что–то как бы от себя, но способность наша от Бога (2 Кор. 3:5), во власти Которого наше сердце и наши помышления.
Глава 9. Неисследимость Божиих судов
21. Итак, неисследимы суды Божии [в отношении того], почему из двух младенцев, одинаково подверженных первородному греху, один приемлется, а другой оставляется; почему из двух уже более взрослых возрастом нечестивых один призывается так, что следует за Призывающим, а другой или вовсе не призывается, или призывается не так, [чтобы последовать]. Точно так же неисследимы суды Божий [в отношении того], почему из двух благочестивых одному дается пребывание до конца, а другому — не дается. Но для верующих должно быть вполне достоверно, что первый был из числа предопределенных, а второй — не был. Ведь, как говорит один из предопределенных, который впитал эту тайну от груди Господней, если бы они были от нас, то остались бы с нами (1 Ин. 2:19). Что это значит, спрошу я: Они не были от нас, ибо если бы они были от нас, то остались бы с нами! Разве [в приведенном выше примере] не оба [человека] были созданы Богом, разве не оба рождены от Адама, не оба сделаны из земли и не Тем ли, Кто сказал: Всякое дыхание Я сотворил! (Ис. 57:16) Разве не одной и той же природы получили они души? Далее, разве не оба они одинаково были призваны и последовали за призывающим, разве не оба оправдались от нечестия и были обновлены омовением возрождения? Но если услышал бы это тот, кто несомненно знал, что говорил, он мог бы ответить и сказать: «Воистину это так, и в соответствии со всем этим они были от нас; но в соответствии с неким другим различением они не были от нас; ибо если бы они были от нас, то остались бы с нами». Что же это такое за различение? Очевидны Книги Божий — не станем отвращать взгляда; взывает Божественное Писание — приложим слух. Они не были от нас, поскольку не были призваны согласно намерению [Божию], не были избраны во Христе прежде сложения мира, не были наследниками в Нем, не были предопределены по намерению Того, Кто совершает все (Рим. 8:28; Еф. 1:4, 11). Ибо если бы это все было у них, то они были бы от нас и, несомненно, остались бы с нами.
Нелепость предположения, что Бог наказывает мертвых за грехи, которые они совершили бы, если бы продолжали жить
22. Ведь для того, чтобы не говорить мне о том, сколь [несомненно] возможно Богу обращать к Своей вере отвращенные и противящиеся воления людей и так действовать в их сердцах, чтобы они не пали ни от чего, противоборствующего им, и не отступили от Него, будучи одолены каким–либо искушением, хотя Он может сделать и то, о чем говорит апостол, а именно не дозволить им быть искушенными сверх их сил (Ср.: 1 Кор. 10:13); итак, чтобы не говорить мне об этом, вот, Бог уж точно мог, заранее зная, что они падут, забрать их из этой жизни раньше, чем это произошло. Неужели нам все еще нужно возвращаться к рассуждению о том, сколь нелепо говорить, будто умершие люди судятся также и за те грехи, которые, как предузнал Бог, они совершили бы, если бы продолжали жить дальше? Это положение столь далеко отстоит от христианских, да и вообще человеческих мнений, что стыдно даже и опровергать подобное. Ведь почему тогда не говорят, что и само Евангелие напрасно проповедовалось, да и сейчас еще проповедуется с таким трудом и страданиями святых, поскольку [Бог] может судить людей, даже если они и не слышали Евангелия, в соответствии с тем сопротивлением или послушанием, которое, как Он предузнал, они бы имели, если бы услышали [Евангелие]? Тогда не были бы осуждены Тир и Сидон, хотя бы и более мягко, чем те города, в которых, неверующих, Господом Иисусом Христом были сотворены удивительные знамения: ведь если бы это было сделано в этих [двух городах], то они бы покаялись во вретище и пепле (Ср.: Мф. 11:21), как провозглашают речения Истины; и в этих Своих словах Господь Иисус являет нам еще глубже таинство предопределения.
Разбор примера Тира и Сидона
23. Ведь если спросят у нас, почему столь великие чудеса были сотворены среди тех, кто не уверовали, видя их, и не были сотворены среди тех, кто уверовали бы, если бы увидели, то что нам ответить? Разве что сказать нам то, что я написал в той книге, где отвечал на шесть вопросов язычников, не предвидя, однако, при этом других [возможных] обстоятельств, которые могут разыскать усердные? (Блаж. Августин. Ер. 102.2.8 и далее) Ведь там, как вам известно, когда было спрошено, почему Христос пришел спустя столь долгое время [после падения человека], я сказал: «Что касается того времени и тех мест, когда и где Евангелие Его не было проповедано, то Он предузнал, что тогда и там все люди будут по отношению к этой проповеди такими же, какими были многие во время Его телесного присутствия [на земле], а именно те, кто не захотели поверить в Него, даже когда Им воскрешались мертвые». Также немного ниже в той же книге и в ответ на тот же вопрос я сказал: «Что удивительного, если Христос, узнав за прошедшие века, сколь полна вся вселенная неверующими, за служенно не пожелал проповедовать тем, о ком заранее знал, что они не поверят ни Его словам, ни Его чудесам?» (Блаж. Августин. Ер. 102.2.14) Ясно, что этого мы не можем сказать о Тире и Сидоне, и на их примере мы понимаем, что эти Божественные суды относятся к тем тайным случаям предопределения, которых, как я сказал, я не предвидел, когда отвечал то, что приведено выше. Ведь нам легко обвинить в неверии, происходящем от свободной воли, тех иудеев, которые не захотели уверовать несмотря на то, что у них сотворены были столь великие чудеса. В этом обвиняет их и Господь, восклицая и говоря: Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне сотворены были чудеса, сотворенные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись (Мф. 11:21). Но разве можем мы сказать, что жители Тира и Сидона также не захотели уверовать, хотя среди них были сотворены такие же чудеса, [как в Хоразине и Вифсаиде], или [сказать], что они не уверовали бы, если бы эти чудеса были сотворены? Ведь Сам Господь свидетельствует о них, что если бы [действительно] среди них сотворены были эти знамения Божественных чудес, они бы покаялись с великим смирением. И тем не менее они будут наказаны в день суда, хотя и меньшим наказанием, чем те города, которые, несмотря на сотворенные в них чудеса, не захотели уверовать. Ведь далее Господь сказал: Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам (Мф. 11:22). Итак, одни города будут наказаны с большей суровостью, а другие — с меньшей, но все будут наказаны. И если бы мертвые судились по тем делам, которые они сделали бы, если бы остались живы, то, разумеется, не следовало бы наказывать эти города, поскольку они уверовали бы, если бы Евангелие было проповедано им с такими чудесами; но они наказываются, а значит, ложно утверждение, что мертвые судятся в соответствии с тем, что они сделали бы, если бы их при жизни достигла [проповедь] Евангелия. И если это ложно, то нет никакого основания говорить о младенцах, которые погибают, умирая без крещения, будто это происходит из–за предведения Богом того, что если бы они продолжили жить и им было проповедано Евангелие, они выслушали бы его и не уверовали. Итак, остается [признать], что они удерживаются связанными первородным грехом и из–за него одного идут в осуждение; и потому мы видим, как при одинаковых условиях [рождения] некоторым [младенцам] только лишь подаваемой даром благодатью Божией даруется возрождение; тогда как по Его сокрытому, однако справедливому суду, — поскольку нет никакой неправды у Бога (Ср.: Рим. 9:14), — другие, кому предстоит погибнуть даже и после крещения по причине своей дурной жизни, удерживаются в этой жизни, пока не погибнут; хотя они не погибли бы, если бы им пришла на помощь телесная смерть, предварив их падение. Однако никакой умерший не судится по тем добрым или злым [делам], которые он сделал бы, если бы не умер, иначе жители Тира и Сидона не наказание понесли бы за то, что сделали, но скорее в соответствии с тем, что сделали бы, если бы среди них сотворены были евангельские чудеса, унаследовали спасение благодаря великому покаянию и вере во Христа.
Глава 10. Другое мнение о наказании Тира и Сидона
24. Один известный церковный толкователь объяснил это место Евангелия в том смысле, что, как он говорит, Господь знал заранее, что Тир и Сидон впоследствии отступили бы от веры, хотя и уверовали бы, если бы сотворены были в них чудеса, поэтому скорее по Своему милосердию Господь не сотворил там этих чудес, ведь они подлежали бы более тяжкому наказанию, если бы оставили веру, которой держались, чем если бы вообще никогда не держались ее. Выслушав это мнение ученого и весьма проницательного человека, какие заслуги нужно еще разыскивать и что еще требуется мне говорить, если и оно поддерживает нас в том, о чем мы говорим? Ведь если по Своему милосердию Господь не сотворил в этих городах чудес, благодаря которым они могли бы стать верующими, [и из–за того не сотворил], чтобы позже они не подверглись более тяжкому наказанию, став неверующими (а Он знал, что им предстоит стать такими), — то все это ясно и достаточно показывает, что никто из умерших не судится за те грехи, о совершении которых [Господь] заранее знает, и притом способствует некоторым образом тому, чтобы они не были совершены. Потому, если это мнение верно, мы можем сказать, что Христос помог жителями Тира и Сидона, поскольку Он предпочел, чтобы они вообще не имели доступа к вере, а не осквернились гораздо сильнее отступлением от веры, ведь Он заранее знал, что если они приступят к вере, то в будущем отступят от нее. Хотя если скажут: «Почему не было сделано скорее так, чтобы они уверовали, и даровано было им отойти из этой жизни, прежде чем они оставят веру?» — то я не знаю, что здесь можно ответить. Ведь кто говорит, что тем, кому предстояло оставить веру, было предоставлено благодеяние, чтобы они не начинали иметь то, что по своему более тяжкому нечестию оставили бы, тот достаточно показывает, что человек не судится из–за того, что Бог предвидит его будущие злые дела, поскольку Он совершает некое благодеяние ему, чтобы он не сотворил этого [зла]. Итак, было явлено попечение [Божие] и тому, кто был восхищен, чтобы злоба не изменила разума его (Прем. 4:11). Но почему точно так же не было явлено попечение [Божие] жителям Тира и Сидона, так что они уверовали бы и были бы восхищены, чтобы злоба не изменила разума их, — быть может, ответит тот, кому угодно разрешать данный вопрос подобным образом, я же полагаю, что сказанного достаточно для того, о чем веду я речь, ведь и в соответствии с этим мнением ясно видно, что люди не судятся за то, что они не совершили, даже если Бог заранее знает, что они могли бы это совершить. Хотя, как я сказал, это мнение, в соответствии с которым считают, что умирающие или мертвые наказываются за грехи, которые они, как заранее знает Бог, совершили бы, если бы продолжали жить, — стыдно даже и опровергать, чтобы не показалось, будто и мы придаем некое значение этому, раз уж и предпочли обуздать это рассуждением, а не обойти молчанием.
Глава 11. Бог милует, кого Сам хочет, без всяких предшествующих заслуг, а наказывает только по заслугам
25. Потому, как говорит апостол: [Это зависит] не от желающего и не от старающегося, но от Бога милующего (Рим. 9:16), Который помогает также и тем младенцам, которым хочет, даже если они не желают и не стараются; [помогает тем], кого избрал во Христе прежде сотворения мира, намереваясь дать им благодать даром, то есть без всяких предшествующих заслуг их веры или дел; однако не помогает тем взрослым, которым не желает помочь, предвидя в отношении их, что они не поверили бы Его чудесам, если бы чудеса эти были сотворены перед ними, то есть [не помогает] тем, о ком судил нечто иное в Своем предопределении, хотя сокровенном, но вместе с тем и справедливом. Ибо нет никакой неправды у Бога, но непостижимы суды Его и неисследимы пути Его (Рим. 11:33), и все пути Господни — милосердие и истина (Пс. 24:10). Итак, неисследимо милосердие, по которому Он милует, кого хочет, без всяких его предшествующих заслуг; и неисследима истина, по которой Он ожесточает, кого хочет (Ср.: Рим. 9:18), хотя и по его предшествующим заслугам, но [заслуги эти] по большей части одинаковы с заслугами того, кого Он милует. Так в случае двух близнецов, из которых один принимается, а другой оставляется, неодинаков исход, но сходны заслуги; причем один из них так избавляется по великой благости Божией, что другой осуждается без всякой неправды с Его стороны. Ведь разве есть неправда у Бога? Ни в коем случае: но неисследимы пути Его. Итак, будем без всякого сомнения верить в Его милосердие по отношению к тем, кто освобождаются, и в его истину по отношению к тем, кто наказываются; и не станем пытаться постичь непостижимое и исследовать неисследимое. Ведь Он совершил Свою хвалу из уст младенцев и грудных детей (Ср.: Пс. 8:3), чтобы мы то, что видим у тех, избавлению которых не предшествовали никакие их добрые заслуги, и у тех, осуждению которых предшествовали лишь общие для обоих условия рождения, без всякого колебания признали совершающимся и в отношении более старших, то есть не считали бы, что благодать дается кому–то по его заслугам или что кто–то наказывается не по своим заслугам независимо от того, одинаковые или разные степени зла у тех, кто избавляется или наказывается, чтобы кто думает, что он стоит, остерегался, как бы не пасть (Ср.: 1 Кор. 10:12), и хвалящийся хвалился не самим собой, но Господом (Ср.: 1 Кор. 1:31).
Места из книги «О свободном решении», приводимые в качестве возражения
26. И почему, как вы пишете, [возражающие нам] «не дозволяют приводить случай младенцев как пример для взрослых» (Иларий Марселъский. Ер. 226.8), если они сами, возражая пелагианам, не сомневаются, что существует первородный грех, который одним человеком вошел в мир, и из–за одного [человека] все идут в осуждение? (Ср.: Рим. 5:12–16) Это [наравне с пелагианами] не принимают также и манихеи, которые не только не признают никакого авторитета всех Писаний Ветхого Завета, но даже и те Писания, которые относятся к Новому Завету, принимают таким образом, что по какому–то своему произволу, а точнее — святотатству, что хотят — принимают, а что не хотят — отвергают. Против них я вел рассуждение в книгах «О свободном решении», из которых [наши нынешние противники] предполагают представить нам возражения (Ср.: блаж. Августин. De lib. Arb., 111.23.66–70). Однако [там] я не захотел решать со всей обстоятельностью возникавшие [по ходу рассуждения] сложнейшие вопросы, чтобы не оказался чрезмерно длинным этот труд, где не помогал мне в борьбе со столь превратными [еретиками] авторитет Божественных свидетельств [из Писания]. И я мог, — как и сделал, — независимо от того, что было верным из тех положений, которые я не рассматривал ясно, со всей достоверностью заключить, что за все надлежит воздавать хвалу Богу и нет никакой необходимости, как хотелось бы им [т. е. манихеям], считать, будто существуют две совечные смешанные [между собой] сущности добра и зла.
Разбор книги «О свободном решении» в «Пересмотрах»
27. Наконец, в первой книге «Пересмотров» (вы еще не читали это мое сочинение), когда я подошел к пересмотру этих книг, то есть книг «О свободном решении», я сказал следующее: «В этих книгах многое разбирается таким образом, что когда возникали некоторые вопросы, которых или я не мог разрешить, или они требовали [слишком] долгого обсуждения, чтобы тут же их разбирать, я особым способом устроил их рассмотрение, дабы наше рассуждение в обоих или во всех [возможных] случаях [решения] тех вопросов, в отношении которых не было ясно, что в большей степени соответствует истине, пришло все же к такому заключению, в силу которого, независимо от того, какое из решений истинно, [наши противники] поверили бы и получили доказательство того, что надлежит [за все] хвалить Бога. Ведь это рассуждение было предпринято из–за тех, кто отрицают, что начало зла идет от свободного решения воли, и, раз это так, утверждают, что Бог как создатель всякой природы должен быть признан виновным в этом. Подобным способом они желают, в соответствии с заблуждением своего нечестия (ведь они манихеи), ввести некую неизменную и совечную Богу природу зла» (Блаж. Августин. Retr., 1.9.2). И здесь же, немного ниже, я говорю: «Наконец, [там] сказано, от какого несчастья, вполне справедливо наложенного на грешащих, избавляет Божия благодать; ведь человек добровольно, то есть по [своему] свободному решению, может пасть, но не встать. К этому несчастью справедливого осуждения относятся неведение и нужда, которую претерпевает всякий человек с самого своего рождения; и никто не освобождается от этого зла, кроме тех, кого освобождает Божия благодать. А пелагиане не желают производить это несчастье от справедливого осуждения, отвергая первородный грех. Хотя, даже если бы неведение и нужда были врожденными природными свойствами человека, все равно надлежало бы не обвинять, но хвалить Бога, как мы рассмотрели это в той же третьей книге [трактата «О свободном решении»]. Это рассмотрение велось против манихеев, которые не принимают Священного Писания Ветхого Завета, где повествуется о первородном грехе, и если что–либо оттуда читается в Апостольских Посланиях, они с гнусным бесстыдством объявляют это вставленным исказителями Писания, как будто бы это не было сказано самими апостолами. А против пелагиан следует защищать все то, что передает нам и одно, и другое Писание [т. е. Ветхий и Новый Завет], поскольку они открыто заявляют, что принимают его» (Блаж. Августин. Retr., 1.9.6). Это сказал я в первой книге «Пересмотров», когда разбирал книги «О свободном решении». Разумеется, не только это сказано мною там об этих книгах, но и многое другое, что я посчитал долгим и ненужным вставлять [сейчас] в это сочинение к вам; я полагаю, и вы решите так же, когда прочтете всю ту книгу целиком. Итак, хотя в третьей книге [трактата] «О свободном решении» я рассуждал о младенцах так, что даже если бы и было истинно утверждаемое пелагианами (то есть что неведение и нужда, без которых не рождается ни один человек, суть изначальные [свойства] природы, а не наказание), все равно манихеи, желающие, чтобы было две совечных природы, а именно добра и зла, были бы побеждены. [Но пусть даже я так рассуждал], разве должна на этом основании быть оставлена или подвергнута сомнению вера, которую защищает кафолическая Церковь против этих самых пелагиан, утверждая, что существует первородный грех, вина в котором навлекается рождением и должна быть отпущена возрождением? И если [возражающие нам] вместе с нами признают это, поскольку мы совместно с ними в этом случае уничтожаем заблуждение пелагиан, то почему же они считают сомнительным, что Бог также и тех младенцев, которым дает Свою благодать в таинстве крещения, избавляет от власти тьмы и переносит в царство возлюбленного Сына Своего? (Ср.: Кол. 1:13) Почему не хотят они воспеть Господу милосердие и правосудие (Ср.: Пс. 100:1) на том основании, что одним Он дает эту благодать, а другим не дает? А по какой причине одним дается, а другим нет: Кто познал ум Господень? (Рим 11:34) Кто способен постичь непостижимое? Кто может исследовать неисследимое?
Глава 12. Бог милостив к избранным, справедлив ко всем остальным
28. Итак, необходимо заключить, что благодать Божия дается не по заслугам получающих ее, но по благоволению Его воли, в похвалу и славу самой этой Его благодати (Ср.: Еф. 1:5–6), чтобы хвалящийся хвалился ни в коем случае не самим собой, но Господом (1 Кор. 1:31), подающим [благодать тем] людям, которым желает, поскольку Он милосерд (ведь даже если бы Он и не дал ее, Он все равно был бы справедлив), и не подающим ее тем, кому не хочет, чтобы явить богатство славы Своей над сосудами милосердия (Рим. 9:23). Ибо давая некоторым то, что они не заслужили, давая совершенно даром, Он пожелал подобным образом явить истинность Своей благодати; а давая не всем, Он показал, чего заслуживают все. Он благ в благодеянии по отношению к некоторым, Он справедлив по отношению к остальным; Он благ ко всем, поскольку когда воздается должное — это благо, Он справедлив ко всем, поскольку когда незаслуженное дается без ущерба для кого–либо — это справедливо.
Не зависит ли дарование благодати от судьбы? Есть ли у младенцев грех?
29. А благодать Божия, [подаваемая] без заслуг, то есть истинная благодать, сохраняется даже и в том случае, если, как думают пелагиане, крещеные младенцы не избавляются от власти тьмы, — поскольку, как [опять же] считают пелагиане, не удерживаются в подчинении ни у какого греха, — но лишь переносятся в Царство Господне. Ведь даже и в этом случае без всяких добрых заслуг дается Царство тем из них, кому дается, и без всяких злых заслуг не дается тем, кому не дается. Это [возражение] мы обычно приводим против тех же пелагиан, когда они обвиняют нас, что мы относим Божию благодать к судьбе, говоря, что она дается не по нашим заслугам. Ведь скорее они сами в случае младенцев относят Божию благодать к судьбе, говоря, что там, где нет заслуги, есть судьба. Ибо никаких заслуг, даже согласно [учению] самих пелагиан, они не могут обнаружить у младенцев, [чтобы это было причиной], почему одни из этих младенцев посылаются в Царство [Божие], а другие отчуждаются от Царства. И вот сейчас, доказывая, что благодать Божия дается не по нашим заслугам, я позаботился защитить это [положение] в соответствии с обоими представлениями, — то есть в соответствии с нашим представлением, исходя из которого мы говорим о подверженности младенцев первородному греху, и в соответствии с представлениями пелагиан, которые отрицают существование первородного греха, — однако не следует на основании этого [думать], что я сомневаюсь в существовании у младенцев греха, который им отпускает Тот, Кто спасает народ Свой от грехов их (Ср.: Мф. 1:21). Точно так же и в третьей книге сочинения «О свободном решении» я противостоял манихеям в соответствии с двумя [возможными] представлениями, [не утверждая с определенностью], суть ли неведение и нужда, без которых не рождается ни один человек, наказания, или же они просто врожденные свойства природы; однако сам я придерживаюсь одного из этих представлений, вполне очевидно там мною выраженного: что это не природа сотворенного человека, но наказание для человека осужденного (Блаж. Августин. De lib. Arb., 111.20.23).
Вновь о младенцах. Важность их примера
30. Итак, напрасно предлагают мне в качестве возражения эту мою книгу из моего давнего прошлого, чтобы я не рассматривал так, как надлежит рассматривать, случай младенцев и не доказывал отсюда с помощью света ясной истины, что благодать Божия дается не по заслугам людей. Ведь даже если я, начавший эти книги «О свободном решении» мирянином и закончивший их пресвитером, тогда еще сомневался относительно осуждения невозрожденных младенцев и избавления возрожденных, то, как мне кажется, не должно быть никого столь несправедливого и завистливого, чтобы он запретил мне продвигаться вперед и решил, что мне следует [всегда] оставаться в этом недоумении. И если кто будет способен верно это понять, [он признает], что вовсе не следует полагать, будто я сомневался относительно этого вопроса: полагать на том лишь основании, что, как мне показалось, те, против кого было направлено мое намерение, могли быть поражены таким образом, что, независимо от того, есть ли у младенцев наказание за первородный грех (а так учит Истина), или нет его (как думают некоторые заблуждающиеся), все равно никоим образом не нужно верить в смешение двух природ, доброй и злой, которое вводит заблуждение манихеев. Но недопустимо, чтобы мы оставили этот случай младенцев, просто сказав, что нам неизвестно, переходят ли возрожденные во Христе умершие младенцы в вечное спасение, а невозрожденные — во вторую смерть; ведь то, что написано [у апостола]: Одним человеком грех вошел в мир, а грехом — смерть; и таким образом смерть перешла во всех людей (Рим. 5:12), невозможно верно понять как–нибудь по–другому. И от вечной смерти, которая вполне справедливо налагается за грех, никто не освободит никого из младенцев или взрослых, кроме Того, Кто умер ради отпущения наших грехов, — и родовых, и личных, — умер без всякого собственного родового или личного греха. Но почему одни [младенцы], а не другие? Вновь и вновь скажем и не устыдимся: А ты кто, человек, что возражаешь Богу? (Рим. 9:20) Непостижимы суды Его и неисследимы пути Его (Рим. 11:33). Добавим также и это: Не ищи того, что выше тебя и не испытывай того, что сильнее тебя (Сир. 3:22).
Сам Бог допускает или не допускает младенцев к крещению
31. Вы и сами видите, возлюбленные, сколь нелепо и чуждо здравой вере и неповрежденной истине было бы, если бы мы сказали, что умершие младенцы судятся в соответствии с тем, что, как было предузнано, они совершили бы, если бы продолжали жить. А ведь к подобному положению (которого устрашится всякое человеческое сознание, хоть немного опирающееся на разум, а особенно христианское) вынуждены прийти те, кто желают избежать пелагианского заблуждения таким образом, что все–таки считают необходимым верить, будто благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего, которая одна лишь помогает нам после падения первого человека, в котором пали и мы все, дается по нашим заслугам, и, более того, полагают, что это следует выяснять в споре. Это [положение] под страхом собственного осуждения осудил сам Пелагий перед судом восточных епископов. А если не говорить этого, то есть не говорить о тех добрых или злых делах умерших, которые они сделали бы, если бы продолжали жить, признав, что таких дел нет и вовсе не существует их в Божественном предведении; итак, если не говорить того, говорить что, как вы видите, свойственно только глубокому заблуждению, то что же останется нам, как не признать, удалив тьму состязания, что благодать Божия дается не по нашим заслугам? Это мнение защищает против пелагианской ереси кафолическая Церковь, и лучше всего, в ясном свете истины, видим мы это на примере младенцев. Ведь не судьбою принуждается Бог одним младенцам помочь, а другим — не помогать, хотя и те, и другие находятся в одинаковом положении. Не станем же мы считать, что обстоятельства жизни младенцев, при которых разумные души подлежат или осуждению или избавлению, устраиваются не Божественным Промыслом, но нечаянными случайностями, если и малая птица не упадет на землю без воли Отца нашего Небесного (Ср.: Мф. 10:29)? Или же то, что младенцы умирают без крещения, следует таким образом приписать небрежности родителей, что небесные суды тут будут ни при чем? Как будто бы те, кто подобным образом умирают во зле, сами по собственной воле избрали себе небрежных родителей, от которых родились! А что сказать мне о том, что иногда младенец умирает еще до того, как может прийти к нему помощь благодаря служению совершающего крещение? Ведь часто бывает, что и родители спешат, и служители готовы преподать младенцу крещение, но не дается оно, поскольку не желает Бог, Который не дает этому младенцу задержаться в этой жизни [достаточно времени], чтобы преподано было [таинство]. А что значит, когда иной раз малые дети неверующих могут получить помощь крещения, чтобы не идти в погибель, а дети верующих — не могут? Здесь ясно показывается, что нет лицеприятия у Бога (Ср.: Рим. 2:11; Кол. 3:25), иначе бы Он скорее избавлял детей Своих почитателей, чем детей Своих врагов.
Глава 13. Никакой разумный человек не станет считать, что благодать дается по нашим заслугам
32. Однако, поскольку сейчас мы рассуждаем о даре пребывания, то как нам понять, почему [Бог] приходит на помощь некрещеному, которому предстоит умереть, чтобы не умер он без крещения, и не приходит на помощь крещеному, которому предстоит пасть, чтобы тот умер прежде [чем падет]? Неужели мы все еще станем слушать ту нелепость, на основании которой говорят, что нет никому никакой пользы умереть, прежде чем он падет, поскольку он судится по тем действиям, которые, как предузнал Бог, он совершил бы, если бы продолжил жить? У кого хватит терпения слушать эту превратность, столь сильно противную здравой вере? Кто вынесет это? И однако именно это вынуждены говорить те, кто не признает, что благодать Божия дается нам не по нашим заслугам. А те, кто не хотят говорить, что кто–либо из мертвых судится на основании тех [дел], которые, как предузнал Бог, он совершил бы, если бы продолжал жить, не хотят, поскольку видят, с какой очевидной ложью и сколь нелепо это говорится, — у таких не остается никакой причины говорить то, что Церковь осудила у пелагиан и что заставила осудить даже самого Пелагия, [а именно] что благодать Божия дается по нашим заслугам. Ведь они видят, что одни младенцы, не будучи возрождены, забираются из этой жизни для вечной смерти, а другие, будучи возрождены, — для вечной жизни. Видят также, как из этих возрожденных одни уходят отсюда, пребыв до конца, а другие удерживаются здесь, пока не падут, хотя они вовсе не пали бы, если бы отошли отсюда прежде, чем пали; и наоборот, некоторые падшие не отходят из этой жизни, пока не встанут вновь, хотя они, несомненно, погибли бы, если бы отошли прежде, чем встать вновь.
Бог исключительно по Своей воле дарует благодать призывания и пребывания
33. Из всего этого вполне ясно обнаруживается, что благодать Божия, — как относящаяся к началу [веры], так и к пребыванию [в вере] вплоть до конца, — дается не по нашим заслугам, но даруется по воле Божией, — воле в высшей степени сокровенной, но в то же время вполне справедливой, мудрой и благой, поскольку кого Он предопределил, тех и призвал (Рим. 8:30) тем призванием, о котором сказано: Без раскаяния дары и призвание Божие (Рим. 11:29). И люди не должны ни о каком человеке точно и с уверенностью утверждать, что он принадлежит к этому призванию, пока не отойдет он из этого века. А во время нынешней человеческой жизни, которая есть искушение на земле (Иов. 7:1), кто думает, что он стоит, пусть бережется, чтобы не упасть (1 Кор. 10:12). Ведь, как мы уже сказали выше, те, кто не пребудут [до конца в добре], смешиваются предвидящей все Божией волей с теми, кто пребудут, для того, чтобы мы научились не высокомудрствовать, но последовать смиренным (Рим. 12:16), и совершали свое спасение со страхом и трепетом, потому что Бог производит в нас и желание, и действие по доброй воле (Флп. 2:12–13). Итак, мы желаем, но Бог производит в нас это желание; мы действуем, но Бог производит в нас это действие по доброй воле. Так полезно нам и веровать, и говорить; это благочестиво и истинно, чтобы исповедание наше было смиренно и кротко и все воздавалось Богу. Мысля мы веруем, мысля говорим, мысля делаем то, что делаем, но что касается благочестивой жизни и истинного богопочитания, мы не способны помыслить ничего от себя, как бы от себя самих, но способность наша от Бога (2 Кор. 3:5). «Ведь не в нашей власти наше сердце и наши помышления» (Амвросий Медиоланский), поэтому, сказав это, тот же святой Амвросий говорит и следующее: «Кто так же блажен, как тот, кто всегда возвышается [к Богу] в своем сердце? Но кто может совершить это без Божественной помощи? Разумеется, это невозможно. Ибо выше то же Писание говорит: Блажен муж, помощь которого от Тебя, Господи; восхождение в сердце его (Пс. 83:6)» (Амвросий Медиоланский). И ясно, что Амвросий говорит так не просто потому, что прочел это в Священных Книгах, но, как следует без всякого сомнения думать и о названном муже, поскольку так же чувствовал это в сердце своем. Поэтому и когда в Таинствах верных (Во время Евхаристии) говорится, чтобы мы имели сердце горе ко Господу, — это дар Божий, и тех, кому это говорится, священник после этого возгласа побуждает воздать благодарение за этот дар Самому Господу Богу нашему, а они отвечают, что это достойно и праведно. Ведь если не в нашей власти сердце наше, но оно подвигается Божественной помощью, чтобы возвыситься и мыслить о вышнем, где Христос сидит одесную Бога, а не о земном (Кол. 3:1,2), то кому надлежит воздать благодарение за столь великое дело, как не совершающему это Господу Богу нашему, Который избрал нас, освободив великим Своим благодеянием из глубины этого мира, и предопределил прежде сложения мира?
Глава 14. Учение о предопределении не противоречит пользе проповеди
34. Но говорят, что утверждение предопределения противно пользе проповеди. Что же, разве было оно помехой проповедующему апостолу? Разве этот учитель язычников (Ср.: 1 Тим. 2:7) в вере и истине не преподавал многократно предопределения? Или разве он перестал [из–за этого] проповедовать слово Божие? Разве он, поскольку сказал: Бог производит в вас и желание и действие, по доброй воле (Флп. 2:13), не убеждал сам же, чтобы мы и желали угодного Богу, и делали это? Или, поскольку сказал: Начавший среди вас доброе дело будет совершать его вплоть до дня Иисуса Христа (Флп. 1:6), не убеждал, чтобы люди начинали и пребывали вплоть до конца? Разве не заповедал Сам Господь людям, чтобы они веровали, и разве не сказал: Веруйте в Бога и в Меня веруйте (Ин 14:1); но ведь не следует на этом основании считать ложным другое Его изречение, не нужно полагать пустым Его утверждение, в котором Он говорит: Никто не придет ко Мне, — то есть никто не уверует в Меня, — если это не будет дано ему от Отца Моего (Ин. 6:65). И опять же, хотя это утверждение верно, нет нужды думать, что пуста приведенная выше заповедь. Итак, почему мы должны считать утверждение предопределения неполезным для проповеди, предписания, побуждения, упрека, которые в изобилии встречаются в Божественном Писании, если это предопределение преподает все то же Божественное Писание?
Предопределение — это предведение и предуготовление благодеяний Божиих
35. Неужели кто–то отважится сказать, что Бог не предузнал, кому Он даст уверовать или кого Он даст Сыну Своему, чтобы никто из них не погиб? (Ср.: Ин 18:9) И если Он предузнал это, то ясно, что предузнал Он благодеяния, которыми счел достойным избавить нас. Именно это и есть предопределение святых, и ничто иное — то есть предведение и предуготовление благодеяний Божиих, которыми со всей достоверностью избавляются все те, кто избавляются. А где остаются прочие, как не в массе погибели, по справедливому Божественному суду? Там оставлены жители Тира и Сидона, которые могли бы уверовать, если бы увидели дивные знамения Христовы. Но поскольку им не было дано уверовать, им было отказано и в том, на основании чего [могли бы они] уверовать. Из этого становится ясно, что некоторые в числе своих врожденных способностей естественным образом имеют Божественный дар разумения, которым они подвигаются к вере, если слышат слова или наблюдают знамения, соответствующие своему уму; и однако если они по высшему суду Божию не отделены предопределением благодати от массы погибели, то не встречаются им эти самые Божественные слова или действия, благодаря которым они могли бы уверовать, если бы все–таки услышали или увидели их. В этой же массе погибели оставлены и иудеи, которые не смогли уверовать, когда перед их глазами были совершены столь многие и явные чудеса. Ведь Евангелие не умалчивает о том, почему не смогли они уверовать, говоря: Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не уверовали в Него, да сбудется слово Исайи пророка, сказавшего: «Господи! Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» Потому не смогли они уверовать, что, как сказал тот же Исайя: «Ослепил глаза их и окаменил сердце их; да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ин. 12:37–40). Итак, не были подобным образом ослеплены глаза и окаменено сердце жителей Тира и Сидона; ведь они уверовали бы, если бы увидели те знамения, которые видели первые. Но и вторым никакой пользы не принесло то, что они могли бы уверовать, поскольку не были они предопределны Тем, Чьи суды непостижимы и пути неисследимы; и первым не помешало бы то, что они не могли уверовать, если бы они были предопределены таким образом, что Бог просветил бы их, слепых, и пожелал извлечь каменное сердце из окаменевших. Конечно, сказанное Господом о жителях Тира и Сидона можно понимать и как–то иначе; однако всякий, кто слушает плотскими ушами Божественные речения и при этом имеет не глухие уши сердца, без всякого сомнения исповедует, что никто не придет ко Христу, если не будет ему дано, а дается это тем, кто избраны в Нем прежде сложения мира. Однако это предопределение, которое вполне ясно выражено в евангельских словах, не помешало Господу говорить и о начале [веры], как я выше упоминал: Веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14:1), и о пребывании в [ней]: Должно всегда молиться и не унывать (Лк. 18:1). Ведь те, кому дано, слышат это и исполняют, а те, кому не дано, не исполняют, независимо от того, слышат или нет. Ибо вам, — говорит [Господь], — дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано (Мф 13:11). Из этого первое относится к милосердию, а второе — к правосудию Того, Кому душа наша говорит: Милосердие и правосудие буду петь Тебе, Господи (Пс. 100:1).
Проповедь Евангелия и проповедь предопределения — части одной проповеди и потому не противоречат друг другу
36. Итак, не следует [думать], что проповедь предопределения препятствует проповеди пребывающей и преуспевающей веры, чтобы те, кому дано повиноваться, услышали то, что надлежит им услышать, ведь как услышать без проповедующего? (Рим. 10:14). И наоборот, [нет нужды полагать], что проповедь движущейся к совершенству и вплоть до конца остающейся веры препятствует проповеди предопределения, чтобы тот, кто живет покорно и верно, не стал превозноситься самим этим послушанием как своим собственным, а не полученным благом, но хвалящийся пусть хвалится Господом (1 Кор. 1:31). Ибо «ничем не следует хвалиться, поскольку нет ничего нашего» (Киприан Карфагенский). Видел это богатый верой Киприан и со всей решимостью выразил, твердо возвестив этими словами вернейшее предопределение. Ведь если «ничем не следует хвалиться, поскольку нет ничего нашего», то понятно, что не следует хвалиться также и пребывающим послушанием и не следует называть его нашим в том смысле, как будто оно не дано нам свыше. Итак, это [послушание] также есть дар Божий; и всякий христианин исповедует, что Бог предузнал его дарование Своим избранным в том призвании, о котором сказано: Без раскаяния дары и призвание Божие (Рим. 11:29). Вот это и есть то предопределение, которое мы верно и смиренно проповедуем. Однако этот учитель и делатель [Киприан], который и в Христа уверовал, и жил в святом послушании вплоть до страдания за Христа со всем пребыванием, не перестал проповедовать Евангелие, побуждать к вере, чистым нравам и самому этому пребыванию до конца по той причине, что сказал: «Ничем не следует хвалиться, поскольку нет ничего нашего». В этих словах он без всякой двусмысленности провозгласил истинную Божию благодать, то есть ту благодать, которая дается не по нашим заслугам; и поскольку Бог предузнал, что Он даст ее, этими словами Киприана, без всякого сомнения, проповедуется предопределение. Если это не помешало Киприану [вместе с тем] проповедовать и послушание, то, разумеется, никоим образом и нам не должно помешать.
«Уши слышащие» обозначают подаваемый Богом дар послушания
37. Поэтому, хотя мы и говорим, что послушание — это дар Божий, мы все же побуждаем людей к нему. Но тем, кто послушно слушают побуждение истины, дан этот дар Божий, то есть послушно слушать, а тем, кто слушают не так, он не дан. Ведь не кто–то, а Сам Христос говорит: Никто не придет ко Мне, если это не будет дано ему от Отца Моего (Ин. 6:65), и: Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано (Мф. 13:11). И о воздержании: Не все вмещают слово это, но кому дано (Мф. 19:11). И апостол, когда понуждал супругов к супружеской чистоте, сказал: Я желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свой дар от Бога, один так, другой иначе (1 Кор. 7:7). Здесь он ясно показывает, что не только воздержание — дар Божий, но и чистота супругов. И хотя все это так, мы все же подвигаемся к этому, насколько каждому дана способность быть подвигнутым, поскольку и это — дар Того, в Чьей руке и мы, и слова наши (Прем. 7:16). Поэтому апостол говорит: Я, по данной мне [от Бога] благодати, как мудрый строитель, положил основание (1 Кор. 3:10). И в другом месте он же говорит: Насколько каждому дач Господь: я насадил, Аполлос поливай, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий и поливающий есть ничто, но [все] Бог взращивающий (1 Кор. 3:5–7). Потому, как верно побуждает и проповедует [лишь] тот, кто получил этот дар, так и проповедующего и побуждающего слушает верно и действительно покорно [лишь] тот, кто получил этот дар. Вот почему Господь, когда говорил с теми, у кого были открыты плотские уши, тем не менее говорил: Кто имеет уши слышать, да слышит (Лк. 8,8). Он, несомненно, знал, что не у всех [есть подобные сердечные уши]. А от Кого они у всякого, у кого они есть, Сам Господь показывает, когда говорит: Дам им сердце, чтобы они уразумели Меня, и уши слышащие (Вар. 2:31). Итак, уши для слышания — это есть дар послушания, [даруемый], чтобы тот, кто имеет его, пришел к Тому, к Кому не приходит никто, если не будет это дано ему от Его Отца. Поэтому мы побуждаем и проповедуем, но [лишь] те, у кого есть уши слышать, послушно слушают нас; с теми же, у кого нет таких ушей, происходит, как написано: так что слыша не слышат (Мф. 13:13), то есть слыша телесным чувством, не слышат сердечным согласием. А почему первые имеют уши слышать, а вторые — не имеют, то есть почему первым даровано от Отца прийти к Сыну, а вторым не даровано, — кто познал ум Господень или кто был советчиком Ему? (Рим. 11:34) и: Кто ты, человек, что возражаешь Богу? (Рим. 9:20). Разве следует отвергать открытое из–за того, что невозможно постичь сокровенное? Разве, говорю я, скажем мы, что воспринимаемое нами таковым — не таково, поскольку не можем мы узнать, почему оно таково?
Глава 15. Одни и те же аргументы могут быть выдвинуты против проповеди предведения и предопределения. Их неубедительность
38. Но они (оппоненты Августина) говорят, как вы пишете, что невозможно будет никого пробудить жалом упрека, если в церковном собрании и при многих слушающих будет говориться такое: «Исходящее из предопределения решение воли Божией таково, что одни из вас, получив волю к послушанию, пришли от неверия к вере или же, получив пребывание, остаются в вере, а другие, находящиеся в услаждении грехами, потому не восстали еще, что еще не воздвигла вас помощь милующей благодати. Однако если есть некоторые из вас, еще не призванные, кого Бог Своей благодатью предопределил к избранию, то вы получите эту самую благодать, при помощи которой пожелаете стать избранными и будете таковыми; и если ныне вы покоряетесь, но предопределены к отвержению, то у вас будут отняты силы покоряться, так что вы перестанете покоряться [Богу]». Но когда говорится подобное, это вовсе не должно удерживать нас от исповедания истинной Божией благодати (то есть той благодати, которая дается не по нашим заслугам) и согласного с ней предопределения святых, так же как не удерживает нас от исповедания предведения Божия то, что кто–то, рассуждая о нем, может сказать народу: «Неважно, живете вы ныне верно или не верно, вы все равно позже будете такими, какими, как Бог предузнал, вы должны стать: добрыми, если [Он предузнал вас] добрыми, или злыми, если [предузнал вас] злыми». Ведь разве следует считать ложным сказанное здесь о предведении Божием на том основании, что, услышав это, некоторые обращаются к бездействию и лености и, склоняясь от труда к похоти, следуют своим вожделениям? И если предузнал Бог, что они должны стать добрыми, разве не будут они добрыми, в какой бы ныне злобности ни находились? А если предузнал Он, что они должны быть злыми, разве не будут они злыми, в какой бы ныне благости ни казались пребывающими? Был один человек в нашем монастыре (Неясно, о каком именно монастыре идет речь — Прим. ред.), который, когда братия упрекали его, почему он делает то, чего делать не следует, и не делает того, что делать нужно, отвечал: «Какой бы я ныне ни был, все равно стану таким, каким я должен стать по предведению Божию». Он на самом деле говорил истину, но это вовсе не способствовало его благу, а напротив, способствовало злу, вплоть до того, что, оставив монастырское сообщество, он сделался псом, вернувшимся на свою блевотину (Ср.: 2 Пет. 2:22); и однако все еще неизвестно, каким он станет. Итак, разве из–за подобных душ следует отрицать или замалчивать то, что верно говорится о предведении Божием, и в особенности тогда, когда люди могут впасть в некие иные заблуждения, если этого не будет сказано?
Глава 16. О тех, кто не молятся, надеясь на всеведение Божие. Молитва и побуждение к добру
39. Есть также и те, кто не молятся или холодно молятся, поскольку знают слова Господа о том, что Бог ведает о необходимом нам прежде, чем мы попросим у Него (Мф. 6:8). Разве следует думать, что из–за подобных людей истина этого изречения должна быть отвергнута или [оно] удалено из Евангелия? Далее, поскольку очевидно, что Бог одно дает даже и не молящимся, как например, начало веры, а другое уготовал только лишь молящимся, как например, пребывание до конца, то ясно, что полагающий, будто он имеет это от самого себя, вовсе не молится о том, чтобы это иметь. Итак, должно остерегаться, чтобы, пока мы боимся, что может охладеть побуждение, [вместо этого] не угасла молитва и не воспылало превозношение.
Иногда нужно говорить правду, иногда есть смысл ее скрыть
40. Поэтому пусть говорят истину, и особенно там, где некое вопрошание понуждает ее сказать; и те, кто способны, воспримут ее. Иначе может выйти так, что пока она будет замалчиваться из–за тех, кто не способны ее воспринять, те, кто способны воспринять истину, которой ограждаются от лжи, не только лишатся этой истины, но и будут уловлены ложью. Ведь просто и даже полезно бывает умолчать иногда о чем–то истинном ради неспособных вместить это. Не о том ли эти слова Господа: Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить (Ин. 16:12), и это изречение у апостола: Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими; как младенцев во Христе я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще не можете [принять ее/ (1 Кор. 3:1–2)? Хотя может существовать некий способ высказывания, когда то, что говорится, и детям служит молоком, и взрослым твердой пищей. Так, какой христианин может умолчать о словах: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1:1)! Но кто [до конца] вместит их? И что более великое можно найти в здравом учении? Однако это не ограждается молчанием ни от младенцев, ни от взрослых, и взрослые не скрывают этого от младенцев. Но одно дело — [законное] основание умолчать об истинном, а другое — необходимость сказать об истинном. Долго будет разыскивать и перечислять все случаи, когда следует умолчать об истинном; однако же есть среди них и тот, [когда мы заботимся], чтобы, желая сделать более сведущими тех, кто это понимают, не сделать худшими тех, кто этого не понимают. И если бы мы умолчали о чем–то подобном, то хотя одни не стали бы более сведущими, другие также не стали бы худшими. Но когда нечто истинное таково, что если мы скажем об этом, станет хуже тот, кто не может этого вместить, а если мы об этом умолчим, станет хуже тот, кто может вместить, то что же нам следует делать? Разве не будет лучше сказать истинное, чтобы вместил тот, кто может вместить, чем умолчать об истинном, так что не только оба этого не вместят, но и более разумный как раз таки станет хуже? И если он услышит это и вместит, то многие другие научатся благодаря ему. Ведь чем более способен он к обучению, тем более пригоден к тому, чтобы научить других. Наступает неприятель благодати и всеми способами вынуждает признать, что она дается по нашим заслугам, так что благодать уже не благодать (Ср.: Рим. 11:6), — так неужели мы не захотим сказать то, что можем сказать, призвав в свидетели Писание? Ведь выходит, что мы боимся, как бы от наших речей не соблазнился тот, кто не может вместить истину, и не боимся, что из–за нашего молчания будет уловлен ложью тот, кто может вместить истину!
Предопределение необходимо проповедовать для того, чтобы мы не забывали, что благодать — дар Божий
41. Итак, или нужно проповедовать предопределение так, как вполне очевидно говорит о нем Священное Писание, [а именно] что в отношении предопределенных имеют место дары и призвание Божие без раскаяния, или необходимо признать, что благодать Божия дается по нашим заслугам, как мыслят пелагиане, хотя это мнение, которое мы часто уже приводили, осудили уста самого Пелагия, как читаем мы об этом в книге Деяний [собора] восточных епископов. Но те, ради кого мы пишем это, весьма далеки от еретической превратности пелагиан, и потому, даже если они еще не желают признать предопределенными тех, кто по благодати Божией становятся покорными и остаются [до конца верными], пусть признают хотя бы, что эта благодать предшествует воле тех, кому она дается. [Если думать иначе], то благодать будет считаться подаваемой не даром, как говорит истина, но скорее в зависимости от предшествующих заслуг воли, как возражает против истины пелагианское заблуждение. Поэтому благодать предшествует также вере; иначе, если вера предшествует ей, то, несомненно, предшествует и воля, поскольку не может быть веры без воли. А если благодать предшествует вере, поскольку предшествует воле, то, разумеется, она предшествует и всякому послушанию, предшествует также и любви, в которой одной истинно и охотно люди повинуются Богу. Все это производит благодать в том, кому она дается и у кого всему этому предшествует.
Глава 17.
Среди этих благ остается и пребывание вплоть до конца, которое напрасно каждый день испрашивалось бы у Господа, если бы не производил его Господь Своей благодатью в том, чьим молитвам внял. Вы видите теперь, сколь чуждо истине отрицать, что пребывание [в добре] вплоть до конца этой жизни есть дар Божий, ведь Сам Бог полагает конец этой жизни, когда Он захочет, и если Он полагает этот конец до неминуемого падения, то тем самым Он дает человеку пребыть [в добре] вплоть до конца. Но куда удивительнее и очевиднее для верующих изобилие благости Божией, [проявляющейся в том], что эта благодать подается даже младенцам, возрасту которых не свойственно проявлять послушание, чтобы она была дана. Итак, кому бы ни дал Бог эти дары, несомненно, что Он предузнал это дарование и предуготовил в Своем предведении. Потому кого Он предопределш, тех и призвал (Рим. 8:30), тем призванием, — не стыжусь я часто упоминать о нем, — о котором сказано: Без раскаяния дары и призвание Божие (Рим. 11:29). Ведь 'предопределить' вообще значит не что иное, как распределить Свои будущие дела в Своем предведении, которое не может обмануться или измениться. И как тот, о ком предузнал Бог, что он будет чистым, хотя сам и не уверен в этом, однако действует, чтобы быть чистым, так и тот, кого Бог предопределил быть чистым, хотя сам и не уверен в этом, не перестает действовать, чтобы стать чистым, поскольку услышал, что по дару Божию он станет тем, чем станет; но напротив, он радуется в своей любви и не превозносится, как будто бы он не получил этого. Итак, проповедь предопределения не только не отвлекает его от его делания, но и способствует тому, чтобы хвалясь он хвалился в Господе (Ср.: 1 Кор. 1:31).
Все дары Божии предопределены к раздаянию. Это не может препятствовать побуждению к добру
42. То, что сказал я о чистоте, может быть со всей истиной сказано и о вере, и о благочестии, и о любви, и о пребывании [в добре], и, чтобы не перечислять мне дальше, это может быть сказано о всяком деле послушания, которым изъявляется покорность Богу. Но те, кто лишь начало веры и пребывание [в ней] вплоть до конца заключают в нашей власти таким образом, что не считают это дарами Божиими и [не верят в то], что Бог воздействует на наши мысли и воления, дабы могли мы иметь и хранить это, однако при этом признают, что все прочее дает Он, поскольку испрашивается это у Него верой верующего, почему не боятся они, что утверждение предопределения повредит побуждению ко всему этому и проповеди всего этого прочего? Неужели они скажут, что и это не предопределено? Тогда это не даруется от Бога, и Он не знает, что даст это. А если это даруется, и Он заранее знает, что Он это даст, значит, Он предопределил это. Поэтому, как побуждают они к чистоте, к любви, к благочестию и ко всему прочему, что исповедуют дарами Божиими, — будучи не в силах отрицать, что эти дары предузнаны, а значит, и предопределены Им, и не говорят, что их побуждениям препятствует проповедь предопределения Божия, то есть проповедь предведения Божия об этих будущих дарах Его, так пусть убедятся и в том, что не препятствует их призывам ни к вере, ни к пребыванию, если назовут они и это (как и есть воистину) дарами Божиими и [признают] их предузнанными, то есть предопределенными к раздаянию. Эта проповедь предопределения скорее может стать препятствием и преградой как раз для того опаснейшего заблуждения, которое говорит, что благодать Божия дается по нашим заслугам, дабы хвалящийся хвалился не Господом, но самим собой.
Все согласны, что мудрость и воздержание — дары Божии. Невозможно отрицать, что Бог предвидит и предопределяет, кому Он даст эти дары
43. Пусть те, кому от природы дано устремляться вперед, потерпят мою задержку, пока мы более доступно объясним это для понимающих медленно. Апостол Иаков говорит: Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему (Иак. 1:5). И в «Притчах Соломоновых» написано: Ибо Бог дает мудрость (Притч. 2:6). Также о воздержании мы читаем в книге «Премудрости Соломоновой», к авторитету которой прибегали великие и ученые мужи, задолго до нас разбиравшие Божественные слова; итак, вот что читаем мы: Когда я познал, что никто не может быть воздержан, если не даст Господь, — и уже это было [свойством] мудрости — знать, Чей это дар (Прем. 8:21). Итак, это суть дары Божий, то есть чтобы мне умолчать об иных — мудрость и воздержание. Да успокоятся эти люди, ведь они не пелагиане, чтобы бороться по грубой и еретической превратности против этой очевидной истины. «Но, — говорят они, — вера, начало которой полагаем мы [сами], испрашивает, чтобы это дано было нам от Бога»; то есть они настаивают, что и начать иметь эту веру, и остаться в ней вплоть до конца — это наше дело, как будто бы мы не получаем этого от Господа. Здесь, несомненно, возникает противоречие со словами апостола: Ведь что ты имеешь, чего не получил? (1 Кор. 4:7) Противоречит это и словам священномученика Киприана: «Ничем не следует хвалиться, поскольку нет ничего нашего» (Киприан Карфагенский). И хотя мы сказали все это и многое другое, что неуместно уже повторять, и доказали, что начало веры и пребывание в ней до конца — это дары Божий, и что Бог не может не знать каких–то Своих будущих даров — и того, какими они должны быть, и того, кому они должны быть даны, — и потому Им предопределены те, кого Он избавляет и увенчивает, однако они считают необходимым возразить: «Утверждение предопределения противно пользе проповеди, поскольку, услышав это, никто не может уже пробуждаться жалом упрека». Рассуждая так, «они не желают, чтобы людям проповедовали, что прийти к вере и остаться в вере — это дары Божий, дабы не оказалось привнесено этим скорее отчаяние, чем воодушевление, когда те, кто слышат подобное, станут размышлять о том, что человеческому неведению достоверно не известно, кому Бог уделит, а кому не уделит эти дары». Тогда зачем сами они вместе с нами проповедуют, что воздержание и мудрость — дары Божий? Ведь если когда проповедуем мы, что это дары Божий, это не мешает тому побуждению, в котором мы призываем людей быть мудрыми и воздержанными, то по какой причине, как они полагают, мешает побуждению, которым мы подвигаем людей прийти к вере и оставаться в ней до конца, если и это названо будет дарами Божиими, что подтверждается также свидетельствами Его Писания?
Побуждение к тому, что мы считаем дарами Божиими, не препятствует называть это дарами
44. Вот, чтобы умолчать нам о воздержании и говорить здесь об одной лишь мудрости, разве не говорит упоминавшийся уже выше апостол Иаков: Мудрость, сходящая свыше, во–первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3:17). Разве не видите вы, преисполненная сколь многими и великими благами исходит мудрость от Отца светов? Ведь как говорит тот же апостол: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов (Иак. 1:17). Итак, не говоря о прочем, почему мы упрекаем нечистых и упрямых, которым проповедуем, что чистая и мирная мудрость — дар Божий, и не боимся, как бы, смутившись из–за неопределенности Божественной воли, они не нашли в этой проповеди повод скорее для отчаяния, чем для воодушевления, и обратили бы жало упрека не против самих себя, а скорее против нас, поскольку мы упрекаем их как не имеющих того, что, как сами мы говорим, не по человеческой воле приобретается, но даруется Божественной щедростью? Наконец, почему самому апостолу Иакову проповедь этой благодати не воспрепятствовала упрекать нечестивых и говорить: Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская; ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все дурное (Иак. 3:14–16). Итак, подобно тому, как следует упрекать нечестивых, — упрекать и свидетельствами Божественных речений, и самими делами нашими, которые у нас общие [с возражающими нам], — и не мешает этому упреку то, что мирную мудрость, которой исправляются и исцеляются сварливые, мы проповедуем и считаем даром Божиим, так точно следует упрекать и неверующих или не остающихся в вере, не думая, что этому упреку мешает проповедь благодати Божией, которая наставляет, что сама эта вера и пребывание в ней суть дары Божий. Поскольку, даже если по вере испрашивается мудрость, — ведь сам апостол Иаков, сказав: Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему, — тотчас добавляет: Но да просит с верою, нимало не сомневаясь (Иак. 1:5–6), — однако не следует на том основании, что вера дается, прежде чем будет испрошена тем, кому дается, говорить, что она не дар Божий, но [происходит] от нас самих, поскольку дана нам без наших просьб. Ведь апостол вполне ясно говорит: Мир братиям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа (Еф. 6:23). Итак, от Кого мир и любовь, от Того и вера, почему и просим мы у Него не только умножить ее в уже имеющих, но и даровать еще не имеющим.
Проповедь предопределения не препятствует призыву стяжать дары Божии
45. Ведь не побуждают же те, ради кого мы это говорим, те, кто восклицают, будто проповедь предопределения и благодати препятствует побуждению, лишь к тем дарам, которые, по их мнению, не от Бога даруются, а суть от нас самих, как начало веры и пребывание в ней вплоть до конца; они должны были бы поступать так, убеждая только лишь неверующих уверовать, а верующих — продолжать верить. А что касается того, что они вместе с нами признают дарами Божиими, чтобы вместе с нами посрамить пелагианское заблуждение, то есть чистоту, воздержание, терпение и все прочее, благодаря чему проводится праведная жизнь, все, что с верой испрашивается у Господа, — то они должны были бы лишь показывать, что об этом следует молиться, и молиться об этом для себя или для других, но никоим образом не побуждать никого, чтобы он приобрел или удержал это. Поскольку же они и к этому побуждают по мере своих сил и соглашаются, что людей нужно побуждать к этому, то тем самым они ясно показывают, что подобная проповедь не препятствует побуждениям к вере или к пребыванию до конца, поскольку мы проповедуем, что и это есть дары Божий, уделяемые человеку Им, а не самим человеком.
По своей порочности человек оставляет веру, однако пребывание в ней — дар Божий
46. [Они говорят] еще: «По своему пороку всякий оставляет веру, когда уступает и поддается искушению, из–за чего и получается, что оставляет он веру». Кто будет это отрицать? Но вовсе не следует из–за этого говорить, что пребывание в вере — это не дар Божий. Ибо это [пребывание] каждый день испрашивает тот, кто говорит: Не введи нас в искушение (Мф. 6:13), и если будет услышан, получит это. Поэтому, ежедневно прося о пребывании [в вере], он, разумеется, полагает надежду своего пребывания не в самом себе, но в Боге. Однако я не хочу нагромождать свои слова, а лучше оставлю их размышлению, чтобы сами они посмотрели, так ли хорошо то, в чем они убедили себя, то есть что «от проповеди предопределения у слушающих скорее может возникнуть отчаяние, чем воодушевление». Ведь это значит говорить, что человек тогда отчаивается в своем спасении, когда научается возлагать свою надежду не на себя самого, а на Бога, в то время как пророк восклицает: Проклят всякий, надеющийся на человека (Иер. 17:5).
Предопределение иногда обозначается именем предведения
47. Итак, эти дары Божий, которые подаются избранным и призванным по намерению Божию, — а среди этих даров находятся и начало веры, и пребывание в вере вплоть до конца этой жизни, как доказали мы это, приведя множество авторитетных свидетельств и доводов разума, — эти, говорю я, дары Божий, если нет того предопределения, которое мы защищаем, не предузнаются Богом; однако они предузнаются, так что это и есть то предопределение, которое мы защищаем.
Глава 18.
Поэтому иногда и само предопределение (praedestinatio) также обозначается именем предведения (praescientiae), как говорит апостол: Не отверг Бог народа Своего, который Он предузнал (Рим. 11:2). Когда говорится здесь предузнал, это невозможно понять верно, если не [понимать] как «предопределил», что показывает и контекст этого чтения. Ведь там шла речь об остатках иудеев, которые спасаются при гибели остальных. Ибо выше [апостол] говорит, что пророк сказал Израилю: Целый день я простирал руки Мои к народу неверному и упорному (Рим. 10:21), и, как бы отвечая, где бывшие обетования Бога Израилю, [апостол] тут же добавляет: Итак, скажу: «Неужели Бог отверг народ свой?» Да не будет. Ибо и я Израильтянин, от семени Абрамова, из колена Вениаминова (Рим. 11:1), то есть как бы говорит: «Ибо и я из этого же народа». А затем добавляет то, о чем идет у нас сейчас речь: Не отверг Бог народа Своего, который Он предузнал. И чтобы показать, что остаток был оставлен по Божией благодати, а не по заслугам их дел, далее продолжает: Или вы не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля? (Рим. 11:2) и т. д. И далее [апостол] продолжает: Но что говорит ему Божественный ответ? Я оставил себе семь тысяч мужей, которые не преклонили колена перед Ваалом (Рим. 11:4). Ведь не говорит Он: «Остались для Меня», но: Я оставил Себе. И продолжает [апостол]: Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать уже не благодать (Рим. 11:5–6). И далее он соединяет это с тем, что я привел раньше, вопросом: Что же? И, отвечая на него, говорит: Израиль, чего искал, того не получил; избранные получили, а прочие ожесточились (Рим. 11:7). Итак, угодно [апостолу], чтобы под этими избранными и оставленными, которые стали такими благодаря избранию благодати, мы понимали народ, который Бог не отверг, поскольку предузнал. Это — то избрание, которым Он избрал во Христе тех, кого Сам пожелал, прежде сложения мира, чтобы они были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив [тем самым] их к усыновлению (Ср.: Еф. 1:4–5). Итак, никто из понимающих это не позволит себе отрицать или сомневаться, что апостол хочет указать на предопределение, когда говорит: Не отверг Бог народа Своего, который Он предузнал. Ибо Он предузнал остаток, который Сам намеревался создать по избранию Своей благодати. А это и значит — предопределил, ведь несомненно предузнал, если предопределил, причем предопределить — значит предузнать то, что Сам намеревался сделать.
Глава 19. Предведение у толкователей Писания. Пример свв. Киприана и Амвросия
48. А потому что мешает нам, когда мы читаем о пред–ведении Божием у некоторых толкователей слова Божия, и речь при этом идет о призвании избранных, понимать тут все то же предопределение? Ведь весьма вероятно, что и они захотели бы воспользоваться этим словом в этом вопросе, поскольку оно легко понимается и не противоречит, а, наоборот, согласуется с той истиной, которую проповедуют о предопределении благодати. Знаю я, что никто не смог бы иначе как заблуждаясь спорить против того предопределения, которое мы защищаем в соответствии со Священным Писанием. И я полагаю, что тем, кто ищут изречений толкователей по этому вопросу, должно быть достаточно святых и повсюду прославляемых похвалами за их веру и жизнь христианских мужей, Киприана и Амвросия, вполне ясные свидетельства которых мы предложили; этого должно быть достаточно для всего: и чтобы они целиком верили и в полноте проповедовали ту подаваемую даром благодать Божию, как следует верить в нее и проповедовать ее, и чтобы не считали они противным этой проповеди то проповедание, которым мы побуждаем ленивых и упрекаем злых. Ведь и эти мужи, хотя так проповедовали Божию благодать, что один из них сказал: «Ничем не следует хвалиться, поскольку нет ничего нашего» (Свт. Киприан Карфагенский), а другой: «Не в нашей власти наше сердце и наши помышления» (Свт. Амвросий Медиоланский), однако не перестали побуждать и упрекать, чтобы люди исполняли Божественные заповеди. Они не боялись, что им могут сказать: «Зачем вы побуждаете нас и к чему упрекаете, если не можем мы сами иметь никакого блага и не в нашей власти наше сердце?» Вовсе не могли бояться эти святые мужи, как бы не сказали им подобного; не боялись, поскольку понимали, что очень немногим дано принять учение о спасении от Самого Бога или ангелов небесных, без всякой человеческой проповеди, а многим дано уверовать в Бога через людей. Но каким бы способом ни возвещалось человеку слово Божие, нет никакого сомнения, что слушать его так, чтобы покориться ему — это дар Божий.
Святые Киприан, Амвросий и Григорий Богослов свидетельствуют о благодати и дарах Божиих
49. Поэтому названные выше превосходные толкователи Божественных речений и истинную благодать Божию (то есть ту, которой не предшествуют никакие человеческие заслуги) проповедовали так, как нужно ее проповедовать, и побуждали постоянно к исполнению Божественных заповедей, чтобы те, кто имеют дар послушания, узнали, каким повелениям следует покоряться. Ведь если благодати предшествуют некоторые наши заслуги, то понятно, что это заслуги или какого–то дела, или слова, или мысли, куда относится и сама добрая воля. Но вкратце охватил роды всех вообще заслуг тот, кто говорит: «Ничем не следует хвалиться, поскольку нет ничего нашего» (Свт. Киприан Карфагенский). А тот, кто говорит: «Не в нашей власти наше сердце и наши мысли» (Свт. Амвросий Медиоланский), вовсе не упускает из–за этого сами слова и дела, ведь нет никакого слова или дела человека, которое не происходило бы из сердца и из мысли. И что больше мог изложить об этом вопросе славнейший мученик и светлейший учитель Киприан, чем те [слова его], где он убеждал, что мы должны молиться в молитве Господней даже за врагов христианской веры, где он ясно изложил, что думает о начале веры, которое также есть дар Божий, и где показал, что Церковь Христова ежедневно молится о пребывании [в вере] вплоть до конца, поскольку только лишь Бог может дать его тем, кто пребывают. Также и блаженный Амвросий, объясняя слова евангелиста Луки: Изволилось и мне (Лк 1:3), говорит: «Возможно, не одному лишь ему изволилось то, о чем он говорит, что это изволилось ему. Ведь не одной лишь человеческой волей это изволилось, но также стало угодно Христу, говорившему в нем (Ср.: 2 Кор. 13:3), Который делает так, чтобы доброе само по себе могло также и нам показаться добрым; ведь кого Он милует, [того] и призывает. И потому тот, кто следует за Христом, если его спросят, почему он пожелал быть христианином, может ответить: Изволилось и мне. Когда говорит он так, вовсе не отрицает, что изволилось Богу, ибо от Бога предуготовляется человеческая воля (Ср.: Притч 8:35). Ибо чтобы Бог почитался святым [человеком] — это дело Божией благодати» (Свт. Амвросий Медиоланский). Также в этом же сочинении, то есть в «Толковании» того же Евангелия, когда доходит он до того места, где [повествуется, как] самаряне не захотели принять Господа, идущего в Иерусалим, говорит: «Научись и тому, что Он не захотел быть принятым не жившими в душевной чистоте. Ведь если бы Он захотел, то и непокорных сделал бы покорными. А почему они не приняли Его, о том упомянул сам Евангелист, говоря: Потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим (Лк 9:53). А ученики желали быть приняты в Самарии. Но Бог призывает тех, кого удостаивает этого и кого желает, того и делает верующим» (Свт. Амвросий Медиоланский). Чего более очевидного, чего более ясного искать нам от толкователей слова Божия, если и от них с приятностью слышим мы то, что ясно в самом Писании? Но добавим к этим двум, которых должно быть вполне достаточно, также и третьего — святого Григория, который свидетельствует, что и уверовать в Бога, и исповедать то, во что уверовал, — это дар Божий, говоря так: «Прошу вас, исповедуйте Троицу единой по Божеству, а если желаете говорить иначе, то говорите, что Она едина по природе; и молитесь Богу, чтобы дан был вам голос от Духа Святого», то есть молитесь, чтобы Бог позволил вам получить голос, благодаря которому вы сможете исповедать то, во что уверовали. «А я уверен, что Он даст; Кто даровал первое. Тот даст и второе» (Свт. Григорий Богослов), т. е. Кто даровал уверовать, Тот даст и исповедать.
Проповедь даров Божиих не мешает послушанию
50. Эти столь известные и столь великие учителя, говоря, что нет ничего, чем мы могли бы хвалиться как нашим, как будто не дал нам этого Бог, [утверждая], что само сердце наше и мысли наши — не в нашей власти, воздавая все Богу и исповедуя, что от Него мы получаем [дар], чтобы обратиться к Нему и оставаться с Ним, чтобы и нам казалось добрым то, что таково само по себе, чтобы мы желали этого, чтобы почитали мы Бога и принимали Христа, чтобы из непокорных делались покорными и верующими, чтобы верили в Саму Троицу и словом исповедовали то, во что веруем, — итак, все это они относят к благодати Божией, признают дарами Божиими, свидетельствуют, что это у нас от Него, а не от нас самих. И разве кто скажет про них, что они исповедовали эту Божию благодать и при этом дерзали отвергать Его предведение, которое признают не только ученые, но даже и неученые? Далее, если они познали, что Бог дает это, и были уверены, что Он заранее знает об этом Своем даянии и не может не знать тех, кому намеревается дать, то они, несомненно, познали и то предопределение, которое, возвещенное апостолами, мы защищаем со многим трудом и усердием против новых (т. е. пелагиан). Однако когда они проповедовали послушание и, как кто мог, пламенно побуждали к нему, никоим образом не могли справедливо сказать им: «Если вы не хотите, чтобы в нашем сердце охладело то послушание, к которому вы призываете нас, то не проповедуйте нам ту Божию благодать, которую, как утверждаете вы, дает Бог, чтобы мы сделали то, к чему вы призываете нас».
Глава 20. Необходимо проповедовать предопределение
51. Итак, если и апостолы, и сменившие их и подражавшие им учителя Церкви делали и то, и другое, то есть и истинно проповедовали Божию благодать, которая дается не по нашим заслугам, и внушали благочестивое послушание спасительным заповедям, то почему эти [заблуждающиеся] люди, плененные непобедимой ненавистью к истине, считают себя вправе говорить нам: «Даже если и истинно то, что говорится о предопределении благодеяний Божиих, все же не следует проповедовать это народу»? (Ср.: Иларий Марсельский. Ер. 226.2; Проспер Аквитанский. Ер. 225.3) Напротив, нужно проповедовать это, чтобы тот, кто имеет уши слышать, услышал (Лк. 8:8). А кто имеет их, если не получил от Того, Кто говорит: Я дам им сердце, чтобы познать меня и уши слышащие (Вар 2:31)? Понятно, что не получивший их отвергнет [проповедь], но тот, кто примет ее, тот усвоит и впитает, впитает и будет жить. Ведь как нужно проповедовать благочестие, чтобы Бог правильно почитался тем, кто имеет уши слышать; как нужно проповедовать чистоту, чтобы у того, кто имеет уши слышать, не совершалось ничего недозволенного детородными органами; как нужно проповедовать любовь, чтобы тот, кто имеет уши слышать, любил Бога и ближнего; так же точно нужно проповедовать и это предопределение благодеяний Божиих, чтобы тот, кто имеет уши слышать, хвалился не самим собой, но Господом.
Сам Августин говорил о предопределении еще до пелагианской ереси
52. Они говорят: «Не было нужды смущать многие сердца менее разумных неясностью подобного рода рассуждения, поскольку с неменьшей пользой без этого утверждения предопределения в течение многих лет защищалась кафолическая вера как против других еретиков, так и особенно против пелагиан, защищалась во множестве предшествующих книг — и наших, и других церковных писателей» (Иларий Марсельский. Ер. 226.8). И удивляюсь я, что так они говорят, не обращая внимания на эти самые наши книги (чтобы умолчать мне здесь о других писателях), написанные и изданные еще до того, как начали появляться пелагиане, так что не видят, в сколь многочисленных их местах мы искореняем, не зная еще этого, будущую пелагианскую ересь и проповедуем благодать, которой избавил нас Бог от наших злых заблуждений и нравов. Он сделал это без каких–либо наших предшествующих заслуг, но лишь по щедрости Своего милосердия. Это с большей полнотой я начал понимать в том рассуждении, которое написал к блаженной памяти Симплициану, епископу Медиоланской церкви, в самом начале моего епископства, когда я познал и заявил, что и начало веры — также дар Божий.
Свидетельство из «Исповеди»
53. И разве можно вспомнить более распространенное и одобренное из моих сочинений, чем книги моей «Исповеди»? Хотя издал я их до возникновения пелагианской ереси, но в них со всей уверенностью сказал я Богу нашему и многократно повторил: «Дай то, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь». Эти мои слова Пелагий не мог вытерпеть в Риме, когда в его присутствии они были упомянуты неким братом моим и сотрудником в епископстве, и, возражая с большим возбуждением, чуть ли не поссорился с тем, кто их упомянул. Но что более всего и прежде всего повелевает Бог? Разве не то, чтобы мы веровали в Него? Потому и это дает Он Сам, если верно говорится Ему: «Дай, что повелеваешь». И разве вы не помните, что в тех же книгах, когда говорю я о своем обращении и о том, как Бог обратил меня к той вере, которую я разрушал презренной и неистовой болтовней, я так повествую об этом, что показываю, как я уступил верным и ежедневным слезам моей матери, чтобы я не погиб? Там я несомненно проповедую, что Бог Своей благодатью обращает к вере воления людей, причем не только отвращающиеся от правой веры, но даже и противящиеся правой вере. А как молил я Бога о совершенствовании и пребывании, вы знаете, да и можете проверить, когда захотите. Итак, в отношении всех даров Божиих, которые я просил или хвалил в этом труде своем, кто дерзнет, не скажу — отрицать, но — даже подвергать сомнению, что Бог заранее знал об их даровании от Него, и разве мог Он не знать, кому намеревается дать их? Это и есть очевидное и достоверное предопределение святых, которое позднее, когда спорили мы уже против пелагиан, нужда заставила нас определить тщательнее и подробнее. Ведь мы научились, что всякая отдельная ересь вносит в Церковь соответствующие собственные вопросы, и в борьбе с ней точнее определяется [учение] Божественного Писания, — точнее, чем если бы не вынуждала к этому такая необходимость. А что могло заставить собрать вместе в этом нашем труде с такой полнотой и ясностью места Писания, в которых утверждается предопределение, если не мнение пелагиан, будто благодать Божия дается по нашим заслугам? Ведь это значит не что иное, как вообще отвергать благодать!
Глава 21. Начало и конец веры — от Бога
54. Итак, чтобы уничтожено было это мнение, неблагодарное Богу и враждебное тем безвозмездным Божиим благодеяниям, которыми мы освобождаемся, мы утверждаем, что и начало веры, и пребывание в ней вплоть до конца — все это дары Божий, — по Писанию, откуда мы уже многое привели. Ведь если мы скажем, что начало веры — от нас, и благодаря этому мы удостаиваемся получить прочие дары Божий, то пелагиане заключат, что благодать Божия дается по нашим заслугам. Подобного так страшится кафолическая вера, что сам Пелагий, боясь быть осужден, осудил это. Точно так же, если мы скажем, что пребывание наше от нас, а не от Господа, то они ответят, что и начало веры так же, как конец, мы имеем от самих себя, рассуждая в том смысле, что куда скорее имеем мы от себя начало этого, если имеем от себя пребывание вплоть до конца, поскольку завершить — больше, чем начать, и таким образом опять же заключат, что благодать Божия дается по нашим заслугам. А если и то, и другое — дары Божий, и Бог заранее знал (кто сможет это отрицать?), что Он даст эти дары, то надлежит проповедовать предопределение, чтобы истинная благодать Божия, то есть та, которая дается не по нашим заслугам, могла быть защищена неодолимым укреплением.
Свидетельства предшествующих сочинений и писем Августина
55. Ведь в книге, озаглавленной «Об упреке и благодати», которой не достаточно было всем нашим почитателям, мне думается, я с такой выразительностью и ясностью заявил, что пребыть до конца — это также дар Божий, с какой не писал никогда или почти никогда прежде, если память меня не обманывает. Но сказал я это там так, поскольку и до меня говорили об этом. Ведь блаженный Киприан, как мы показали уже, объясняя наши прошения в молитве Господней, говорит, что уже в первом прошении мы просим пребывания. Он утверждает, что, говоря: Да святится имя Твое (Мф. 6:9), мы, будучи уже освящены в крещении, молимся, чтобы пребыли мы в том, в чем начали быть. Итак, пусть посмотрят те, кому не должен я быть неблагодарен за их любовь ко мне, те, кто, как вы пишете, с одобрением принимают все мои мысли, за исключением того, о чем у нас вопрос, пусть посмотрят, говорю я, осталось ли в последних частях первой книги из тех двух, которые я написал в начале своего епископства, еще до того, как появилась пелагианская ересь, к Медиоланскому епископу Симплициану, хоть что–то, что может заставить усомниться, что благодать Божия дается не по нашим заслугам. Разве не достаточно раскрыл я там, что даже начало веры — уже дар Божий, и разве из написанного там не следует, пусть даже это и не высказано, что и пребывание вплоть до конца подается лишь от Того, Кто предопределил нас к Своему Царству и славе? Наконец, то письмо, которое уже против пелагиан я написал святому Павлину, епископу Ноланскому, письмо, против которого они начали возражать, разве не много лет назад выпустил я его? Пусть рассмотрят также и то письмо, которое отправил я Сиксту, пресвитеру Римской Церкви, когда боролись мы в жесточайшем сражении с пелагианами, и обнаружат, что оно такое же, как и это к Павлину. И пусть из этого увидят, что уже много лет назад мы говорили и писали против пелагинской ереси то, что, как это ни удивительно, теперь оказалось им неугодно. Впрочем, я не хочу, чтобы кто–либо так ценил мои мысли, что стал бы следовать мне в чем–то кроме того, в отношении чего убедился, что я не ошибаюсь в этом. Ведь я для того и пишу сейчас книги, в которых предпринял пересмотр всех своих сочинений, чтобы показать, что я и сам не следую во всем самому себе, но, как я полагаю, пишу, продвигаясь вперед и совершенствуясь по милости Божией, а не начав сразу с совершенства. Было бы скорее самоуверенно, чем истинно, если бы сказал я, что теперь, в этом возрасте, достиг совершенства и могу писать вовсе без всякой ошибки. Но разница здесь в том, насколько и в каких вопросах ошибается человек, насколько быстро он свои ошибки исправляет или с каким упрямством пытается защитить свое заблуждение. Ведь добрую надежду подает человек, если последний день этой жизни застанет его преуспевшим так, что может быть добавлено ему недостававшее при его преуспеянии, и он будет сочтен нуждающимся в улучшении, а не в наказании.
Бог дарует как средства спасения, так и само спасение, поэтому неразумно сомневаться в предопределении
56. Поэтому если я не хочу явиться неблагодарным тем людям, которые полюбили меня, поскольку еще до того, как они меня полюбили, они получили некую пользу от моего труда, то разве буду я неблагодарен Богу, Которого мы не возлюбили бы, если бы Он прежде не возлюбил нас и не соделал Своими почитателями, поскольку любовь — от Него (Ср.: 1 Ин. 4:7), как сказали те, кого сделал Он не только Своими великими почитателями, но и великими проповедниками? А что может быть неблагодарнее, чем отвергать саму благодать Божию, говоря, что она дается по нашим заслугам? Этому ужасается кафолическая вера в пелагианах, это вменяет в главную вину самому Пелагию, это сам Пелагий осудил, но не по любви к истине Божией, а под страхом личного своего осуждения. А всякий, кто, православно веруя, страшится сказать, что благодать Божия дается по нашим заслугам, пусть и саму веру не устраняет из [действия] Божией благодати, благодаря которой он унаследовал милосердие, дабы стать верным (Ср.: 1 Кор. 7:25); пусть также относит к благодати Божией и пребывание вплоть до конца, благодаря которому приобрел он испрашиваемое ежедневно милосердие — не быть введенным в искушение. А между началом веры и совершенством пребывания посередине находятся те [добродетели], благодаря которым мы живем праведно, в отношении которых и [возражающие нам теперь] согласны, что все это дается нам от Бога по молитве веры. И Бог предузнал, что все это — то есть начало веры и прочие дары Свои вплоть до конца — уделит Он от Своих щедрот призванным Своим. Потому только чрезмерной притязательности свойственно возражать против предопределения или сомневаться в предопределении.
Глава 22. Как следует проповедовать предопределение, чтобы это не привело к соблазну
57. Однако не так, [как предлагают они], нужно проповедовать это предопределение народу, чтобы оно самой этой проповедью не оказалось неким образом посрамлено перед несведущей и медленно понимающей толпой; так точно окажется посрамленным и предведение Божие (которое уж точно [наши противники] не могут отрицать), если людям будут говорить: «Подвизаетесь вы или спите, все равно будете вы тем, чем предузнал вас Тот, Кто не может ошибиться». Ведь только коварный или несведущий врач может даже полезное лекарство употребить так, что оно или не принесет пользы, или нанесет вред. Но нужно говорить: Так подвизайтесь, чтобы получить (1 Кор. 9:24), и таким образом в самом подвиге вашем вы сможете познать, что вы предузнаны, чтобы подвизаться законно (Ср.: 2 Тим. 2:5). Можно и неким другим образом проповедовать предведение Божие, чтобы только прогнать человеческую леность.
Учение о предопределении нужно излагать с учетом того, кто его слушает
58. Потому, хотя исходящее из предопределения решение воли Божией выглядит таким образом, что одни, получив волю к послушанию, обращаются к вере из неверия или пребывают в вере; а прочие, те, кто остаются в наслаждении подлежащими осуждению грехами, если и они предопределены, то потому не встали еще, что не воздвигла их еще помощь милующей благодати, ведь если еще не призваны те из них, кого Бог Своей благодатью предопределил к избранию, они получат эту самую благодать, при помощи которой пожелают стать избранными и будут таковыми; если же некие другие повинуются, но не предопределены к Его Царству и славе, то послушание их временно, и они не пребудут вплоть до конца в этом послушании, — итак, хотя все это истинно, однако не следует говорить этого подобным образом многим слушателям. Не следует, чтобы проповедь обращалась к ним самим и им говорились те слова [возражающих нам], которые вы привели в письмах ваших и которые я уже упоминал выше: «Исходящее из предопределения решение воли Божией таково, что одни из вас, получив волю к послушанию, от неверия пришли к вере». Зачем же говорить: «одни из вас»? Ведь если мы говорим Церкви Божией, если говорим верующим, то зачем говорим, что одни из них пришли к вере, выказывая тем самым несправедливость в отношении прочих, когда гораздо удобнее было бы сказать: «Исходящее из предопределения решение воли Божией таково, что вы, получив волю к повиновению, от неверия пришли к вере, а если получите пребывание, то и останетесь в вере»?
Необходимо избегать оскорбления слушающего народа
59. А то, что идет дальше, вовсе не следует говорить, а именно: «Прочие [из вас], те, кто остаются в услаждении грехами, потому не восстали еще, что еще не воздвигла вас помощь милующей благодати». Можно и нужно здесь сказать так — что будет гораздо лучше и уместнее: «Если вы все еще остаетесь в услаждении подлежащими осуждению грехами, воспримите спасительное учение, однако, когда сделаете это, не превозноситесь этим, как якобы своими делами, и не хвалитесь, как будто вы не получили этого, ибо Бог производит в вас желание и действие по доброй воле (Флп. 2:13), и от Господа направляются стопы ваши (Ср.: Пс. 36:23), чтобы захотели вы путей Его. А из самого вашего доброго и верного подвига уразумейте, что вы принадлежите к предопределению Божественной благодати».
Как говорить о не призванных Богом и непокорных
60. Также то, что следует дальше, где говорится: «Однако если есть некоторые из вас, еще не призванные, кого Бог Своей благодатью предопределил к избранию, то вы получите эту самую благодать, при помощи которой пожелаете стать избранными и будете таковыми», — то говорится это грубее, чем может быть сказано, если мы говорим не вообще с какими–то людьми, но обращаемся к принадлежащим Христовой Церкви. Почему бы лучше не сказать так: «И если есть те, кто еще не призваны, то помолимся о них, чтобы они были призваны. Ведь возможно, они так предопределены, что по нашим молитвам будут помилованы и получат ту благодать, при помощи которой захотят стать избранными и будут таковыми. Ибо Бог, Который исполнил все, что предопределил, повелел нам молиться даже за врагов веры для того, чтобы мы поняли из этого, что Он Сам дает уверовать неверующим и делает желающих из нежелающих».
61. А в отношении того, что присоединяется к этим словам дальше, я вообще удивлюсь, если в народе христианском кто–либо немощный сможет неким образом выслушать спокойно, когда будут говорить: «И если ныне вы покоряетесь, но предопределены к отвержению, то у вас будут отняты силы покоряться, так что вы перестанете покоряться [Богу]». Ведь говорить подобное — не что иное, как злословить и пророчить некое зло. Но если хочется или нужно сказать нечто и о тех, кто не пребудут [в добре], то почему не сказать лучше хотя бы так, как было это сказано мною чуть выше? И прежде всего, пусть говориться это не о самих тех, кто слушают среди народа, но к ним о других; то есть пусть не говорят: «И если ныне вы покоряетесь, но предопределены к отвержению», но скажут: «Если ныне они покоряются», и все прочее так же, употребляя глагол не во втором, а в третьем лице. Ведь речь идет не о желаемой вещи, а об омерзительной, и весьма грубо и неприятно будет как бы бросать в лицо слушателей брань, если обращающийся к ним скажет: «И если ныне вы покоряетесь, но предопределены к отвержению, то у вас будут отняты силы покоряться, так что вы и перестанете покоряться». Ведь какой ущерб потерпит это изречение, если будет сказано так: «Если некоторые ныне покоряются, но не предопределены к Его Царству и славе, то они переменчивы и не пребудут вплоть до конца в этом послушании»? Разве не будет то же самое сказано и вернее и пристойнее, если мы не станем как бы желать им этого великого зла, но отнесем это, ненавистное им, к другим, чтобы они, надеясь на лучшее и молясь об этом, не сочли этого [дурного] относящимся к себе? А тем способом, каким находят необходимым говорить это [возражающие нам], может быть изложено, почти теми же словами, также и высказывание о предведении Божием, которое они никак не могут отвергать, так что можно будет сказать так: «И если ныне вы покоряетесь, но [Бог] предузнал, что вы подлежите отвержению, то перестанете покоряться». Разве это не истинно в высшей степени? Конечно, так, — но [говорить это] совершенно несправедливо, неподходяще и неуместно; не ложная это речь, но не спасительно прилагается она здесь для исцеления человеческой немощи.
Следует побуждать к молитве и надежде на Бога
62. И мне думается, что если станет кто–либо говорить перед народом тем способом, которым, как мы сказали, следует пользоваться при проповеди предопределения, то этого одного будет недостаточно, а нужно ему прибавить следующее ниже или подобное этому и сказать: «Потому вы должны ожидать это самое пребывание в послушании от Отца светов, от Которого нисходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный (Иак. 1:17); вы должны просить это [у Него] в ежедневных молитвах и, поступая так, познавать, что вы не чужды предопределению Его народа, поскольку Он Сам дарует вам поступать так. И ни в коем случаем не должны вы отчаиваться в себе из–за того, что вам повелевают возлагать свою надежду на Него, а не на себя. Ибо проклят [всякий], кто надеется на человека (Иер. 17:5) и: Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека (Пс. 117:8), поскольку блаженны все, надеющиеся на Него (Пс. 2:12). Придерживаясь этой надежды, служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом (Пс. 2:11), поскольку никто не может быть уверен в отношении вечной жизни, которую прежде вечных времен обещал сынам обетования не лгущий Бог, прежде чем завершена будет эта жизнь этого человека, являющаяся искушением на земле (Ср.: Иов. 7:1). Но пусть даст нам пребыть в Нем вплоть до конца этой жизни Тот, Кому мы ежедневно говорим: Не введи нас в искушение (Мф. 6:13)». Если так или похожими словами мы станем говорить немногим христианам или всему множеству Церкви, то по какой причине нам здесь бояться проповедовать предопределение святых или истинную Божию благодать, то есть ту благодать, которая дается не по нашим заслугам, — ту, которую проповедует Святое Писание? Неужто нужно бояться того, как бы не отчаялся человек в себе самом, когда будет ему показано, что надлежит возлагать надежду на Бога? Неужто следует думать, что он не отчается, если, вполне горделивый и несчастный, возложит ее на самого себя?
Глава 23. Вся Церковь свидетельствует о предопределении в своих молитвах
63. И хотелось бы мне, чтобы медлительные сердцем (Ср.: Лк. 24:25) и немощные, — те, кто не могут или пока что не могут понять Писание и его толкование, так слушали или не слушали наши рассуждения по этому вопросу, что побольше бы вглядывались в свои молитвы, которые всегда имела Церковь и всегда будет иметь, пока не закончится этот век. Ведь о том, что ныне вынуждены мы не только напоминать, но вдобавок защищать и охранять против новых еретиков, Церковь никогда не умалчивала в своих молитвах, даже если когда–то и не выставляла этого на обозрение в проповедях, поскольку не побуждало к этому никакое упорство противника. Ибо когда не молились в Церкви о неверующих и врагах ее, чтобы они уверовали? Когда кто–либо из верующих имел неверующего друга, близкого, супругу и не просил для него у Господа ума, [готового] с покорностью прибегнуть к христианской вере? Разве когда–либо не молился кто о себе, чтобы пребыть ему в Господе? И кто, слыша, как священник, призывая Господа на верующих, говорит: «Дай им, Господи, чтобы пребыли в Тебе вплоть до конца», отважился, не говорю — голосом, но хотя бы мыслью возразить этому? Разве скорее не ответит [всякий верный] во время такого благословения верующим сердцем и исповедующими устами: Аминь! Ведь не о чем–то другом молятся верующие в самой молитве Господней, говоря прежде всего это: Не введи нас в искушение, а именно о том, чтобы пребыть им в святом послушании. Потому как в этих молитвах, так и в той вере родилась, возросла и возрастает Церковь, в той вере, которая [убеждает] верить, что благодать Божия дается не по заслугам получающих ее. Ведь не молилась бы Церковь, чтобы дана была неверующим вера, если бы она не веровала, что Бог обращает к себе отвращенные и противящиеся воления людей; не молилась бы Церковь, чтобы пребыть ей в вере Христовой, не обманываясь и не побеждаясь искушениями мира, если бы она не веровала, что Господь имеет в Своей власти наше сердце таким образом, что то добро, которым мы владеем по одной лишь собственной воле, мы не приобрели бы и не удержали, если бы Он не производил в нас это самое воление. Если Церковь испрашивает это у Бога, но считает, что это приобретается ею самой по себе, то молитвы ее не истинные, а лишь поверхностные; но да не будет такого. Ибо кто станет подлинно воздыхать, желая получить то, что испрашивает в молитве от Господа, если он будет полагать, будто приобретает он это от самого себя, а не от Него?
Молитва — также дар Божий. Дух Божий молится в нас
64. И в особенности [так обстоит дело], поскольку, по слову апостола: Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией (Рим. 8:26–27). Что значит: Сам Дух ходатайствует, как не это: «Побуждает ходатайствовать»; воздыханиями неизреченными, но истинными, поскольку Сам Дух есть Истина? Ведь это Тот Дух, о Котором [апостол] в другом месте говорит: Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, взывающего: «Авва, Отче!» (Гал. 4:6). И что здесь значит: «взывающего», как не: «понуждающего взывать», по тому же способу высказывания, по какому мы говорим о веселом дне, поскольку он делает веселыми? Это объясняет апостол в другом месте, где говорит: Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, в Котором мы взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15) Там сказал: «взывающего», а здесь говорит: «в Котором мы взываем», — показывая тем самым, в каком смысле сказал о «взывающем», то есть, как я уже объяснил, сказал о Том, Который побуждает взывать. Из этого должны люди уразуметь, что когда мы чистым сердцем взываем духовно к Богу — это тоже есть дар Божий. Итак, те, кто полагают, что просить, искать, стучать» (Ср.: Мф. 7:7–8) — это зависит от нас, а не дается нам, пусть убедятся, сколь сильно они ошибаются. Ибо они говорят, что благодати предшествует наша заслуга, так что благодать следует за ней, когда мы получаем прося, и находим ища, и отверзают нам стучащим; но не желают они уразуметь, что к Божественному дару принадлежит и то, чтобы мы молились, то есть просили, искали и стучали. Ибо мы приняли Духа усыновления, в Котором мы взываем: «Авва, Отче!» Это видел и блаженный Амвросий, ведь он говорит так: «И молиться Богу — [дело] духовной благодати, как написано: Никто не скажет: Господь Иисус, как только Духом Святым» (Ср.: 1 Кор. 12:3).
Молитвы Церкви утверждают истину предопределения
65. Итак, то, что просит Церковь у Господа, что всегда просила она, с самого начала своего существования, — это Бог предузнал как подлежащее дарованию Своим избранным, и таким образом предузнал, что уже даровал им это в самом предопределении. Это недвусмысленно показывает апостол, говоря в Послании к Тимофею: Страдай с благовестием силою Бога, спасшего нас и призвавшего призванием святым Своим, не по делам нашим, но по Своему намерению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вечных времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа (2 Тим. 1:8–10). Потому тот пусть говорит, что Церковь когда–то не содержала в своей вере истину этого предопределения и благодати, которую ныне заботливо и с усердием защищает против новых еретиков, тот, повторяю, пусть говорит так, кто отважится сказать, что она когда–то не молилась или молилась неистинно о том, чтобы уверовали неверующие и пребыли [в вере] верующие. А если всегда молилась она об этих благах, то, разумеется, и всегда веровала, что это — дары Божий, и никогда не свойственно было ей сомневаться, что они предузнаны Им. И потому всегда содержала Церковь Христова веру в это предопределение, которую ныне с новой заботой защищает она против новых еретиков.
Глава 24. Несомненность предопределения Божия. Призыв к молитве о приобретении даров Божиих
66. Но что еще говорить? Полагаю, достаточно показал я, и даже более чем достаточно, что и начать веровать в Господа, и вплоть до конца пребыть в Господе — это дары Божий. А что касается прочих благ, относящихся к благочестивой жизни, которой правильно почитается Бог, — то даже и сами те, ради кого ведем мы это рассмотрение, соглашаются, что это — дары Божий. И не могут отрицать они, что Бог предузнал все Свои дары, а также тех, кому вознамерился уделить их. Поэтому, как нужно проповедовать все прочее, чтобы с покорностью выслушивался проповедующий это, так точно надлежит проповедовать и предопределение, чтобы тот, кто выслушает это с покорностью, хвалился не человеком, а значит, и не самим собой, но Господом. Ведь и это — заповедь Божия, так что с покорностью слушать эту заповедь: Хвалящийся, хвались Господом (1 Кор 1:31), — так же как и все прочие заповеди, — это тоже дар Божий. И если кто не имеет этого дара, то, не побоюсь сказать, — какие бы еще дары не имел он, тщетно имеет их. Мы желаем, чтобы имели этот дар пелагиане и чтобы более обильно имели его [возражающие нам] из наших. Потому не будем ревностными в спорах и холодными в молитвах. Станем молиться, возлюбленные, станем молиться, чтобы Бог благодати дал даже врагам нашим, а тем более братьям и почитателям нашим, познать и исповедать, что после великого и невыразимого падения, когда в одном [человеке (т. е. в Адаме)] пали мы все, никто не избавляется иначе как Божией благодатью, и что благодать эта не воздается получающим ее по заслугам, как нечто должное, но, будучи истинной благодатью, подается даром, без всяких предшествующих заслуг.
Высший пример предопределения — Сам Иисус
67. И нет более очевидного примера предопределения, чем Сам Иисус. Я рассуждал уже об этом в первой книге и решил еще раз напомнить об этом в конце этой, — нет, говорю я, более очевидного примера предопределения, чем Сам [наш] Посредник. Кто из верных желает хорошо понять это самое предопределение, пусть рассмотрит Его, — в Нем он найдет также и самого себя. А говоря «верный», я разумею того, кто верует и исповедует, что в Нем истинная человеческая природа, то есть наша природа, хотя и неповторимым образом воспринятая Богом Словом, была возвышена в единственного Сына Божия, так что Тот, Кто воспринял, и то, что Он воспринял, стали одним Лицом в Троице. Ведь после восприятия человека Она не стала четверицей, но осталась Троицей, в то время как само это восприятие невыразимо создало истину единого Лица Бога и человека. Ведь не просто Богом называем мы Христа, как еретики–манихеи; и не просто человеком, как еретики–фотиниане; и не так человеком, что он будто бы не имел чего–то относящегося к подлинной человеческой природе, то есть или души, или в самой душе разумного духа (mentem rationalem), или же имел плоть не взятую от женщины, но созданную из Слова, обратившегося и изменившегося в плоть, — все эти три мнения ложны и суетны, и на основе их образовалось три различных и несогласных течения у еретиков–аполлинаристов. А мы говорим, что Христос есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца без всякого начала во времени, и что Он же есть истинный человек, рожденный от человеческой Матери в определенную полноту времени. И Его человечество, по которому Он меньше Отца, ничем не уменьшило Его Божества, по которому Он равен Отцу. Причем и то, и другое есть один Христос, Который по Божеству вполне истинно сказал: Я и Отец одно (Ин. 10:30), а по человечеству не менее истинно сказал: Отец Мой больший Меня (Ин. 14:28). Итак, Тот, Кто сотворил от семени Давидова этого праведного Человека, никогда не бывшего неправедным; сотворил без всякой заслуги Его предшествующей воли, Он же и из неправедных делает праведных без всякой заслуги их предшествующей воли, чтобы Он был Главой, а они — Его членами (Ср.: Еф. 4:15–16). Кто сотворил этого Человека без всяких Его предшествующих заслуг не имеющим никакого греха, который нужно было бы отпустить Ему, — ни приобретенного по происхождению, ни совершенного по воле, — Он же без всяких предшествующих заслуг их творит верующих в Него, Которым отпускает всякий грех. Кто сотворил Его таким, что Он никогда не имел и не будет иметь злой воли, Он же в членах Его творит из злой воли добрую. Итак, [Бог] предопределил и Его, и нас; поскольку и в Нем, чтобы был Он Главой нашей, и в нас, чтобы были мы телом Его, Он предузнал не предшествующие наши заслуги, но будущие Свои дела.
3аключение
68. Те, кто читают это, если понимают, — пусть воздают благодарение Богу, а если не понимают, пусть молятся, чтобы внутренним учителем их стал Тот, от лица Которого знание и разумение (Ср.: Притч 2:6). Те же, кто полагают, что я ошибаюсь, пусть вновь и вновь с усердием обдумывают сказанное, чтобы не случилось им самим ошибиться. А я, становясь благодаря читающим мои труды не только более ученым, но и более безупречным [в мыслях], смогу познать из этого благоволение Божие ко мне. И более всего ожидаю я этого от учителей Церкви, если попадет [мой труд] к ним в руки и они соблаговолят узнать то, что я пишу.
О КНИГЕ БЫТИЯ, ПРОТИВ МАНИХЕЕВ
Перевод глав 8–16 первой книги (по изданию: PL 34, 171–218) выполнили преподаватели Тобольской Православной Духовной семинарии протоиерей Алексий Сидоренко и Евгений Алексеевич Тельминов. Главы 1–7 первой книги этого труда опубликованы в журнале «Альфа и Омега» № 1(39) за 2004 год. Главы 17–22 первой книги в переводе протоиерея Алексия Сидоренко опубликованы в издании: Историко–философский ежегодник — 2002. Сборник научных трудов. Екатеринбург. Изд–во Уральского ун–та, 2002.
При публикации перевода всего творения будет учтено последнее его критическое издание: Sancti Augustini opera. De Genesi contra Manichaeos / Ed. D. Weber. Wien, 1998 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL) 91).
© Предисловие, перевод, примечания. А. К. Сидоренко, 2006
ПРЕДИСЛОВИЕ
Трактат «О книге Бытия, против манихеев» (388/389) представляет собой первый опыт блаженного Августина в толковании начальных глав книги Бытия. Известно резкое неприятие манихейской сектой всего Ветхого Завета. Августин и сам в течение девяти лет был жертвой сектантских софизмов.
— Разрыв с манихеями был ознаменован появлением этого труда, поскольку Августин сознавал не только вред лжеучения манихеев, но и свою ответственность за души близких, которые последовали за ним в манихейское сообщество. Соответственно, в трактате решается двуединая задача — экзегетическая и апологетическая. Необходимо было показать, что Ветхий Завет содержит ответы на многие вопросы, касающиеся мироустройства, и что еретики, отделившиеся от кафоликов, церковных людей, не могут иметь верного ключа к его пониманию. Эта сложная задача не могла быть решена сразу, поэтому он предпринимает в дальнейшем новые попытки толкования Ветхого Завета; экзегетический анализ книги Бытия мы находим в следующих его творениях:
«О книге Бытия, буквально. Книга неоконченная» (De Genesi ad litteram imperfectus liber, 393/394; 426/427);
книги 11–13 «Исповеди» (Confessiones, 397–401);
«О книге Бытия, буквально» (De Genesi ad litteram, 401–415);
книга 11 «О граде Божием» (De civitate Dei, 416);
начало трактата «Против врага закона и пророков» (Contra adversarium legis et prophetarum, 419–420).
Главный вывод, к которому приходит блаженный Августин при изъяснении Священного Писания, заключается в том, что его глубина не может быть исчерпана окончательно, но должна нас побуждать к благочестивому вчитыванию в передаваемое Откровение и к прославлению Творца всяческих.
У нас едва ли есть основания принципиально противопоставлять раннюю экзегезу и ту, которую мы находим в позднейших творениях, хотя некоторые моменты пересматривались и уточнялись радикальным образом.
Перечислим основные положения экзегетики книги Бытия, которых Блаженный неотступно придерживался в течение всей жизни:
— абсолютная неизменность Творца и изменяемость твари;
— сотворенность души не из сущности Божией;
— рождение Сына Божия из сущности Отца;
— сотворение твари из ничего;
— творение как общий акт Трех Лиц Пресвятой Троицы;
— гармония мироздания, высших и низших его пределов, как результат иерархичности творения, обнимаемого Провидением Божиим [34].
КНИГА ПЕРВАЯ
Перевод с латинского протоиерея Алексия Сидоренко и Е. Тельминова
13. И рече Бог: да будет свет. И бысть свет. Не это манихеи имеют обыкновение осуждать, но то, что следует за этим: И виде Бог свет, яко добро. Ибо они говорят: Следовательно, до этого Бог не знал свет или не знал, что такое добро. Жалкие люди, которым неприятно то, что Богу понравились дела Его; посмотрели хотя бы на человека ремесленника, плотника, например. И хотя в сравнении с премудростью и силой Божией он — почти ничто, но и он валит лес и обрабатывает древесину, обтесывая, выравнивая, обтачивая, шлифуя и полируя ее столь долго, пока она не будет соответствовать нормам ремесла — насколько то возможно — и понравится мастеру своему. И что же, неужели созданное нравится ему потому, что он не знал до этого блага? Безусловно, знал в глубине души, где само искусство прекраснее того, что искусством созидается. Но то, что мастер видит внутри искусства, то проверяет вовне, в творении; и совершенно то, что нравится создателю своему. Итак, словами И виде Бог свет, яко добро показывается не то, что Богу открылось неведомое благо, а то, что понравилось сотворенное.
14. Что если было бы сказано: Удивился Бог, что свет хорош? Сколь бы они шумели, сколь спорили? Ведь удивление действительно происходит обыкновенно от вещей неожиданных; однако и они читают и восхваляют Господа нашего Иисуса Христа, удивившегося, как сказано в Евангелии, вере верующих (Мф 8:10). Кто же произвел в них самую веру, если не Тот, Кто ей удивился? Если бы и другой ее произвел, зачем удивился ей Тот, Кто заранее знал? Если бы манихеи разрешили этот вопрос, то увидели бы, что и другой разрешить можно. Если же не разрешают, зачем опровергают то, что, как они считают, к ним не относится, тогда как того, что, по их словам, относится к ним, они не знают? Ибо то, чему удивляется Господь наш, должно вызывать удивление и в нас, до сих пор нуждающихся в таком побуждении. Итак, все Его таковые действия не суть проявления взволнованного духа, но научающего наставника. Так и слова Ветхого Завета не учат тому, что Бог немощен, а утешают нашу немощь. Ведь ничего нельзя сказать о Боге по достоинству. Но, — чтобы мы укреплялись и достигали того, о чем никакой человеческой речью сказать нельзя, — говорится то, что мы вместить можем.
15. И разлучи Бог между светом и между тмою. И нарече Бог свет день, а тму нарече нощь. Здесь не сказано, что Бог сотворил тьму; потому что тьма, как уже говорилось выше, есть отсутствие света: но было сотворено разделение между светом и тьмой. Как и мы, например, возглашением проявляем голос, тишину же образуем не звуком, потому что тишина есть отсутствие голоса: однако мы каким–то чувством различаем голос и тишину, и одно называем голосом, другое тишиной. Следовательно, насколько верно утверждение, что мы создали тишину, настолько же верно свидетельство многих мест Божественных Писаний, что Бог создал тьму, потому что Он какие хочет времена и места — или лишает света, или не дает его им вовсе. Но все это сказано для нашего разумения. Ибо каким языком назвал Бог свет «днем», а тьму «ночью»? еврейским ли, греческим, латинским или каким–то иным? Так можно было бы допытываться, каким языком было названо и все прочее. Но у Бога — чистый разум, без звука и различия языков. Нарече же сказано, потому что Он создал возможность именования; ибо Он так все разделил и упорядочил, что каждое могло быть теперь отличено и получить имя. Но позже, в своем месте, мы посмотрим, так ли надо понимать слова И нарече Бог? Ибо чем больше мы обращаемся к Писаниям и к ним привыкаем, тем яснее нам становятся их выражения. И мы ведь так говорим: тот глава семейства построил этот дом, то есть соделал, чтобы дом был построен; и во всех книгах Божественных Писаний содержится множество такового.
16. И бысть вечер, и бысть утро, день един. И здесь злословят манихеи, думая, что так сказано потому, будто с вечера начался день. Они не понимают, что то деяние, которым был создан свет и появилось разделение между светом и тьмой, и свет был назван «днем», а тьма — «ночью», — не понимают, что все это деяние относится к дню; после же этого деяния, как бы по окончании дня, бысть вечер. Но так как и ночь принадлежит своему дню, то не говорится, что прошел день один, если с ним не завершилась также и ночь, и настало утро: так с утра и до утра считаются и все последующие дни. Потому что теперь, когда появилось утро, и завершился день един, начинается деяние, которое следует от того самого созданного утра, и после этого деяния начинается вечер, вслед за тем утро, и минует другой день; так один за другим проходят и все прочие дни.
17. И рече Бог: да будет твердь посреде воды, и да будет разлучающи посреде воды и воды. И бысть тако. И сотвори Бог твердь, и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию [35] . И нарече Бог твердь небо. И виде Бог, яко добро. Не помню, чтобы манихеи имели обыкновение опровергать это; но то, что воды были разделены, дабы одним быть над твердью, а другим под твердью — поскольку, как мы говорили, материя эта именовалась водой, — полагаю, означает, что твердью небесной телесная материя видимых предметов была отделена от материи бестелесной предметов невидимых. Ибо хотя небо — и наикрасивейшее тело, всякое невидимое творение превосходит красоту неба; потому, возможно, и говорится, что над небом есть невидимые воды, которые понимаются немногими не месторасположением, но достоинством природы, превосходящей небо; хотя определенно об этом утверждать ничего нельзя, поскольку это сокрыто и удалено от чувств людей. Но как бы то ни было, прежде чем понять, должно поверить. И бысть вечер, и бысть утро, день вторый. Отныне то, что повторяется, должно пониматься и толковаться, как сказано.
18. И рече Бог: да соберется вода, яже под небесем, в собрание едино, и да явится суша. И бысть тако. И собрася вода, яже под небесем, в собрания своя, и явися суша. И нарече Бог сушу землею, и собрания вод нарече моря. И виде Бог, яко добро. Об этом манихеи говорят: Если все было полно вод, каким образом вода собралась воедино? Но выше уже было сказано, что именованием вод называется та материя, над которой носился Дух Божий и из которой Бог должен был все оформить. Однако теперь, когда говорится, да соберется вода, яже под небесем, в собрание едино, говорится, дабы эта телесная материя оформилась в тот вид, какой имеют эти видимые воды. Само это собрание воедино и есть образование тех вод, которые мы видим и осязаем. Ведь всякая форма собирается по принципу единообразия. И когда говорится да явится суша, — как иначе должно это понимать, если не так, чтобы та материя приняла зримую форму, которую теперь имеет эта земля и которую мы видим и осязаем? Итак, то, что выше именовалось землей невидимой и неустроенной, означало смешение и непросветленность материи; и то, что именовалось водой, над которой носился Дух Божий, означало ту же самую материю. Но теперь эти вода и земля образуются из той материи, которая называлась их именами, прежде чем приняла те формы, которые мы видим теперь. И действительно, говорят, что в еврейской речи всякое собрание вод, соленых или пресных, называется морем.
19. И рече Бог: да прорастит земля былие травное [36], сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодовитое творящее плод, емуже семя его в нем, по роду на земли. И бысть тако. И изнесе земля былие травное, сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодовитое творящее плод, емуже семя его в нем, по роду на земли. И виде Бог, яко добро. И бысть вечер, и бысть утро, день третий. (Быт 1:11–13). Здесь они обыкновенно говорят: Если Бог повелел произрасти из земли траве в корм и древу плодоносному, то кто повелел произрасти такому большому количеству трав тернистых и ядовитых, не пригодных для пищи, и столь многим деревьям, которые никакого плода не приносят? Надлежит им так отвечать, чтобы никакие тайны не были бы открыты недостойным и не обнаружилось бы, о каком образе грядущего здесь идет речь. Поэтому должно говорить, что за грех человека была проклята земля, так что стала рождать терния: не так, чтобы сама испытывала страдания, ибо она чувств не имеет, но чтобы всегда являть очам людей последствия грехопадения, что побуждало бы их отвратиться наконец от грехов и обратиться к заповедям Божиим. Ядовитые же травы сотворены в наказание или для упражнения смертных; а все это — вследствие греха, потому что мы стали смертными после грехопадения. Через бесплодные деревья люди уязвляются, дабы они понимали, насколько постыдно быть без плода благих дел на ниве Божией, то есть в Церкви; и страшились бы, чтобы не оставил их Бог, потому что и сами в своих садах оставляют без внимания неплодоносящие деревья и никакой уход к ним не прилагают. Итак, не написано, что до грехопадения человека земля произвела что–либо другое, кроме травы в корм и плодоносных деревьев; после же грехопадения мы видим, что земля рождает многое дикое и неплодоносное — думаю, по той причине, о которой мы сказали. Так и было сказано первому человеку после его согрешения: Проклята земля в делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву селную: в поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от неяже взят еси: яко земля еси и в землю отидеши (Быт 3:17–19).
20. И рече Бог: да будут светила на тверди небесней, освещати землю и разлучати между днем и между нощию: и да будут в знамения и во времена, и во дни и в лета, и да будут в просвещение на тверди небесней, яко светити по земли. И бысть тако. И сотвори Бог два светила великая [37]: светило великое в начала дне, и светило меншее в начала нощи, и звезды: и положи я Бог на тверди небесней, яко светити на землю, и владети днем и нощию, и разлучати между светом и между тмою. И виде Бог, яко добро. И бысть вечер, и бысть утро, день четвертый. Здесь они прежде всего доискиваются, каким образом в четвертый день появились светила, то есть солнце, луна и звезды. Ибо как могли быть без солнца три предыдущих дня, когда мы видим ныне, что день начинается восходом, а заканчивается закатом солнца, ночью же становится для нас отсутствие солнца, когда оно возвращается на восток из другой части мира? Мы им ответим: могло статься так, что три предыдущих дня исчислялись, каждый в отдельности, через такой промежуток времени, за который солнце совершает свой оборот, с того момента, когда оно на востоке появляется и доколе снова на восток не возвратится. Ведь этот промежуток и длительность времени люди могли бы ощущать, даже если бы обитали в пещерах, где восход и заход солнца видеть невозможно. И, следовательно, ощущать, что этот промежуток времени прошел, можно было даже без солнца, до того, как солнце было создано, а сам промежуток времени в той трехдневке исчислялся бы отдельными днями. Так бы мы ответили, если бы не удерживало нас то, что там говорится, и бысть вечер, и бысть утро, что, как мы видим ныне, не может происходить без движения солнца. Остается, следовательно, понимать так, что в самом этом промежутке времени так называются различия действий: вечер — вследствие завершения начатого дела, а утро — по причине начала предстоящего; надо думать, по сходству с делами человеческими, потому что они в большинстве случаев утром начинаются, а вечером оканчиваются. Ибо в Божественных Писаниях часто выражения, связанные с делами человеческими, переносятся на дела Божественные.
21. Доискиваются они, далее, почему о светилах было сказано И да будут в знамения и во времена. Неужели, говорят они, те три дня могли быть без времен, или они не соотносятся с промежутками времени? Но в знамения и во времена сказано, чтобы этими светилами времена упорядочивались бы и распознавались людьми; потому что если бы времена проходили и не разделялись ни на какие части, которые отмечаются движением светил, то они могли бы и проходить и истекать, но не могли бы быть воспринимаемы и различаемы людьми. Как и в пасмурный день, часы хотя и проходят и образуют свою длительность, однако нами не различаются и не могут быть отделены друг от друга.
22. И сотвори Бог два светила: светило великое в начала дне, и светило меншее в начала нощи, — это сказано так, как если было бы сказано — во главенство дня и во главенство ночи [38]. Ведь солнце не всегда начинает день, сопровождая его и оканчивая; луна же нам является иногда в средине или в конце ночи; следовательно, если те ночи, в которые это происходит, не ею начинаются, как она сотворена в начало ночи? Но если ты под началом понимал бы главенство, а под главенством — господство, то стало бы ясно, что в течение дня солнце удерживает господство; луна же — в продолжение ночи, и что, если даже прочие светила тогда и появляются, она, однако, своим сиянием превосходит всех и потому наисправедливейше называется их главой.
23. В отношении сказанного и разлучати между светом и между тмою также может возникнуть клевета, когда они спросят: Каким образом Бог отделил день от ночи выше, если теперь, в четвертый день, это делают светила? Но здесь сказано таким образом и разлучати между светом и между тмою, как если было бы сказано: «Да разделяются день и ночь так между собой, чтобы день отводился солнцу, ночь же — луне и прочим светилам». Ибо оба они уже были разделены ранее, но — не между светилами; теперь же — дабы определенно стало, какое из числа светил должно являться людям днем, а какое — ночью.
24. И рече Бог: да изведут воды гады душ живых, и птицы летающыя по земли, по тверди небесней. И бысть тако. И сотвори Бог киты великия, и всякую душу животных гадов, яже изведоша воды по родом их, и всяку птицу пернату по роду. И виде Бог, яко добра. И благослови я Бог, глаголя: раститеся и множитеся, и наполните воды, яже в морях, и птицы да умножатся на земли. И бысть вечер, и бысть утро, день пятый. Здесь они обыкновенно останавливаются, доискиваясь или, скорее, клевеща: почему написано, что животные — не только те, которые живут в водах, но также и те, которые летают в воздухе, а также и все крылатые — рождены в водах? Но пусть знают все, кого это волнует, что этот облачный и влажный воздух, в котором летают птицы, ученейшими мужами, которые тщательно этот вопрос исследуют, обыкновенно отождествляется с водами. Ибо он уплотняется и становится вязким от испарений и как бы истечений моря и земли, и от этой влаги некоторым образом густеет, так что становится способным нести полет птиц. И потому в безоблачные ночи выпадает роса, капли которой утром можно найти в траве. Взять ту гору в Македонии, которая называется Олимп; говорят, она такой высоты, что на ее вершине и ветер не ощущается, и облака не собираются, потому что она превосходит своей высотой весь тот влажный воздух, в котором летают птицы, и потому, как утверждают, там нет птиц. Что и передается теми, которые, говорят, имели обыкновение ежегодно — не знаю ради каких жертвоприношений — достигать вершины упомянутой горы и запечатлевать в пыли некие знаки, которые на другой год находили неповрежденными; чего не могло бы случиться, если бы это место было доступно ветру и дождю. Кроме того, поскольку разреженность тамошнего воздуха не позволяла им дышать, они не смогли бы там пребывать, если бы не прикладывали к носу влажных губок, через которые втягивали более густой и привычный воздух. Итак, они засвидетельствовали, что никогда не видели там ни одной птицы. Таким образом, справедливо говорит наивернейшее Писание, что не только рыбы и прочие водные животные, но также и птицы произошли из вод; потому–то они и могут летать в воздухе, который происходит из влаги моря и земли.
25. И рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, четвероногая и гады, и звери земли по роду. И бысть тако. И сотвори Бог звери земли по роду, и скоты по роду их, и вся гады земли по роду их. И виде Бог, яко добра. Также и это манихеи имеют обыкновение подвергать сомнению, говоря: Что за надобность была Богу создавать столь многих животных в водах или на земле, которые людям не нужны? Многие из них даже опасны и страшны. Но говоря так, они не понимают того, как все прекрасно своему Творцу и Создателю, Который пользуется всем для управления миром, над которым властвует высшим законом. Ведь если несведущий вступит в мастерскую какого–нибудь ремесленника, то увидит там многие инструменты, предназначение которых он не знает; но, только если очень глуп, сочтет их излишними. А теперь, если бы он, беспечный, попал в печь или поранил себя каким–нибудь острым металлическим орудием, владея им плохо, то тоже посчитал бы, что там много опасного и вредного. Но ремесленник, зная употребление всего, смеется над его неразумием и, не обращая внимания на нелепые слова, трудится в мастерской не покладая рук. Однако люди настолько глупы, что, не осмеливаясь порицать у ремесленника того, чего они не знают, но, видя нечто, верят, что все это необходимо и все на своем месте, — в этом–то мире, Творцом и Управителем которого провозглашен Бог, дерзают порицать многое, причин чего они не видят, и — не знающие — в делах и орудиях Всемогущего Художника желают казаться знающими.
26. Поэтому я признаю, что не знаю, почему были сотворены крысы и лягушки, или мухи и черви; но вижу, что все они в своем роде прекрасны, хотя по нашим грехам многие кажутся нам враждебными. Ибо я не найду ни одного животного, рассматривая тело и члены которого, я не обнаружил бы в них меру, число и порядок служащими единству согласия. Не постигаю, откуда они проистекают, если только не от высших меры, числа и порядка, которые пребывают в самом неизменном и вечном величии Бога. Если бы эти словоохотливейшие и неразумнейшие поразмыслили, то не стали бы нам досаждать, но, созерцая всяческую красоту и горнего и нижнего, повсюду прославляли бы Бога–Устроителя; и — поскольку разум оскорбить невозможно ничем, — если бы и соблазнилось вдруг чем–либо плотское чувство, то отнесли бы они это не к изъяну самих вещей, но к бренности нашей природы. Конечно, все животные для нас или полезны, или опасны, или излишни. Против полезных они не имеют, что сказать. Опасными же — мы или наказываемся, или подвергаемся испытаниям, или устрашаемся, дабы любили и желали не эту, наполненную многими опасностями и трудами жизнь, но другую, лучшую, где высшее успокоение; и приготовляли бы себя к ней делами благочестия. Но зачем нам рассуждать об излишних? Если тебе не нравится то, что они не приносят пользу, будь доволен тем, что они не приносят вред; потому что хотя нашему дому они не необходимы, однако ими дополняется целостность вселенной, которая намного больше нашего дома и намного лучше. Да и Бог намного лучше управляет ею, чем любой из нас своим домом. Итак, пользуйся полезными, остерегайся опасных, оставь излишних. Но, когда увидишь во всем меру и число и порядок, ищи Творца. И другого ты не найдешь, у которого высшая мера и высшее число и высший порядок, как только Бога, о Котором наисправедливейше сказано, что Он все расположил мерою, числом и весом (Прем 11:21). И, пожалуй, получишь больший плод, прославляя Бога в смирении муравья, нежели в превознесении всадника, переправляющегося через реку на вьючном животном
О количестве души
Глава I
Еводий. Так как я вижу, что у тебя много досуга, то прошу ответить мне на вопросы, которые, как мне кажется, занимают меня вполне благовременно и уместно. Согласись, что довольно часто, когда я спрашивал тебя о чем–либо важном, ты останавливал меня каким–то греческим изречением, предостерегающим доискиваться того, что выше нас. Но я не думаю, чтобы мы были выше нас же самих. И если я спрашиваю о душе, то ведь никак не заслуживаю ответа: «Что нам до того, что выше нас?», ибо хочу только знать, что такое мы.
Августин. Перечисли коротко, что ты желаешь услышать о душе.
Еводий. Изволь: у меня это подготовлено долгими размышлениями. Я спрашиваю: откуда душа, какова она, сколь велика, зачем она дана телу, какой она становится, когда входит в тело, и какою — когда оставляет его?
Августин. Твой вопрос о том, откуда душа, я вынужден понимать в двояком смысле. Ведь мы можем спросить: откуда этот человек? и тогда, когда желаем знать, где его отчизна, и тогда, когда спрашиваем, из чего он состоит, из каких элементов и вещей. Что из этого ты желаешь знать, когда спрашиваешь то же о душе?
Еводий. И то и другое, но о чем следует знать прежде — предпочитаю оставить на твое усмотрение.
Августин. Отчизна души, я полагаю, есть сам сотворивший ее Бог. Но субстанцию души я назвать не могу. Я не думаю, чтобы она была из тех обыкновенных и известных стихий, которые подпадают под наши телесные чувства: душа не состоит ни из земли, ни из воды, ни из воздуха, ни из огня, ни из какого–либо их соединения. Если бы ты спросил меня, из чего состоит дерево, я назвал бы тебе эти четыре общеизвестные стихии, из которых, нужно полагать, состоит все подобное, но если бы ты продолжал спрашивать: из чего состоит сама земля, или вода, или воздух, или огонь, — я уже не нашелся бы, что ответить. Также точно, если спросят: из чего составлен человек, я отвечу: из души и тела, и если еще спросят о теле, я сошлюсь на указанные четыре стихии. Но при вопросе о душе, которая обладает своей особенной субстанцией, я нахожусь в таком же затруднении, как если бы спросили: из чего земля?
Еводий. Почему ты утверждаешь, что она имеет свою собственную субстанцию, когда ты сказал, что она сотворена Богом? Этого я не понимаю.
Августин. Но ведь я не отрицаю, что Бог сотворил и землю, но при этом не могу сказать, из чего состоит земля. Ибо земля есть тело простое именно потому, что она — земля, и от того называется стихией всех тех тел, которые состоят из четырех стихий. следовательно, высказанная нами мысль, что душа и Богом создана, и имеет некоторую свою природу, не заключает в себе противоречия. Ведь эту особенную, ее собственную природу сотворил сам же Бог, как сотворил он и природу огня, воздуха, воды и земли, из которых составляется все остальное.
Еводий. Но ведь мы производим смертное, а Бог создал душу, как мне кажется, бессмертную. Или ты думаешь иначе?
Августин. Значит, ты бы хотел, чтобы и люди творили такое же, какое сотворил Бог?
Еводий. Я не говорил этого. Но как он, будучи бессмертным, сотворил нечто бессмертное по подобию своему, так и то, что творим по своему подобию мы, созданные от Бога бессмертными, должно было бы быть бессмертным.
Августин. Ты был бы прав, если бы нарисовал картину по образу того, что считаешь в себе бессмертным, но в данном случае ты изображаешь на ней подобие тела, которое вполне смертно.
Еводий. Каким же образом я подобен Богу, если не могу творить ничего бессмертного, как творит он?
Августин. Как изображение твоего тела не может иметь той силы, какую имеет само твое тело, так не следует удивляться, если и душа не имеет столько могущества, сколько имеет тот, по чьему подобию она сотворена.
Глава II
Еводий. С тем, откуда душа, т. е. что она от Бога, я пока соглашусь, внимательно об этом поразмыслю и, если встретится какое–нибудь недоумение, спрошу после. Теперь прошу объяснить мне, какова она.
Августин. Мне кажется, что она подобна Богу. Ведь ты, если не ошибаюсь, спрашиваешь о душе человеческой.
Еводий. Этого–то именно я и желал, чтобы ты объяснил мне, каким образом душа подобна Богу, когда о Боге мы верим, что он никем не создан, человеческая же душа, как ты сам сказал выше, создана Богом.
Августин. Как, ты полагаешь, что Богу трудно было создать нечто подобное себе? Разве ты не видишь, что это по силам даже нам, причем в самых разнообразных видах?
Глава III
Еводий. Пока достаточно и этого. Теперь скажи, сколь велика душа.
Августин. В каком смысле ты спрашиваешь, сколь она велика? я не понимаю, спрашиваешь ли ты о ее широте, гдолготе, толщине, или обо всем этом вместе, или желаешь знать, какой она обладает силой. Мы имеем, например, обыкновение спрашивать, сколь велик был геркулес, т. е. скольких футов достигал его рост, равно и сколь велик был сей муж, т. е. сколь велика была его сила и доблесть. Еводий. Я желаю знать о душе и то и другое. Августин. Но первое не может быть не только разъяснено, но даже и мыслимо о душе. Ибо о душе никоим образом нельзя предполагать, чтобы она была или длинна, или широка, или как бы массивна: все это телесное, и душу в этом роде представляем мы лишь по аналогии с телами. Поэтому и в таинствах благоразумно повелевается, чтобы презрел все телесное и отрекся от этого мира (который, как мы видим, суть мир телесный) тот, кто желает явиться таким, каким он сотворен от Бога, т. е. подобным Богу, так как для души нет другого спасения, другого обновления, другого примирения с творцом ее. Поэтому сколько велика душа, — если исследовать ее в означенном направлении, — я сказать не могу, но могу утверждать, что она не длинна, не широка, не обладает массой и не имеет ничего, что обыкновенно определяется при измерении тел. Почему я так думаю? — я готов представить тебе, если угодно, все основания.
Еводий. Мне это угодно, и я сильно этого желаю: потому что мне кажется, что душа есть как бы ничто, если в ней нет ничего из сказанного.
Августин. Но может быть прежде я покажу тебе, что есть много вещей, о которых ты не можешь сказать, что они ничто, и в которых, однако же, нет тех измерений, каких ты ищешь в душе, так что ты увидишь, что душа не только не есть ничто из–за того, что в ней нет ни долготы, ни широты и проч., но, наоборот, тем ценнее и тем значимей, что ничего этого не имеет. а потом мы рассмотрим, действительно ли она ничего этого не имеет.
Еводий. Употребляй какой хочешь порядок и способ — я готов слушать и учиться.
Глава IV
Августин. Прекрасное намерение. Но я хотел бы, чтобы ты отвечал мне на мои вопросы, ведь может так случиться, что ты уже знаешь то, чему я буду стараться тебя научить. Полагаю, что ты не сомневаешься, что это дерево не есть полное ничто?
Еводий. Кто стал бы в этом сомневаться?
Августин. Ну, а сомневаешься ли ты, что справедливость гораздо лучше дерева?
Еводий. Это было бы поистине смешно: какое здесь может быть сравнение!
Августин. ты прав, но обрати внимание на следующее: если ты согласен, что дерево настолько хуже справедливости, что, по–твоему, тут нет места никакому сравнению, а между тем ты признал, что это дерево не есть ничто, то полагаешь ли ты, что мы сочтем за ничто саму справедливость?
Еводий. Какой безумец счел бы ее ничем?
Августин. Совершенно справедливо. Но может быть дерево потому и кажется тебе чем–то, что оно имеет и длину, и ширину, и массу, и если бы отнять у него все это, оно стало бы ничем?
Еводий. Пожалуй, что так.
Августин. Так стало быть справедливость, о которой ты сказал, что она не только не есть ничто, но даже нечто далеко более божественное и более превосходное, чем дерево, кажется тебе длинною?
Еводий. Никоим образом: очевидно, что у нее нет ни длины, ни ширины, ни чего–либо другого в том же роде.
Августин. Но если справедливость не есть что–либо в этом роде и, однако же, не есть ничто, то почему тебе кажется ничем душа, если она не имеет какой–либо длины?
Еводий. допустим, мне не кажется, что душа потому ничто, что не длинна, не широка и не массивна, но ты ведь отлично понимаешь и сам, что еще ничем не доказал, что это действительно так. Весьма возможно, что многое из того, что не обладает указанными свойствами, действительно велико и прекрасно, но из этого еще отнюдь не следует, что я непременно должен считать таковою и душу.
Августин. Знаю, что мне предстоит все это объяснить, но так как предмет этот весьма тонкий и требует совершенно других воззрений, нежели те, что люди привыкли иметь в обыденной жизни, то я прошу тебя не тяготиться идти тем путем, каким я считаю нужным тебя вести, не утомляться некоторою околичностью рассуждений и не досадовать, что желаемое будет достигнуто не сразу и не вдруг. Прежде всего спрошу, полагаешь ли ты, что есть какое–нибудь тело, которое не имело бы соответственно своему виду некоторой длины, ширины и высоты?
Еводий. Я не понимаю, что ты называешь высотой.
Августин. Я называю высотой измерение, которым определяется внутреннее содержание тела, мыслимое или ощущаемое, если тело прозрачно, как стекло, ибо если ты отнимешь это у тел, то они, — по крайней мере таково мое мнение, — не смогут быть ни ощущаемы, ни вообще признаваемы за тела. Итак скажи, что ты думаешь по этому предмету.
Еводий. Я нисколько не сомневаюсь, что все тела обладают высотой.
Августин. Ну, а как ты думаешь, эти три измерения существуют только в телах?
Еводий. Не понимаю, как могли бы они существовать в чем–либо другом.
Августин. Стало быть ты думаешь, что душа есть не что иное, как тело?
Еводий. Если мы и ветер признаем за тело, то я не могу отрицать, что, по моему мнению, и душа есть тело: я представляю ее себе чем–то в этом роде.
Августин. Я согласен, пожалуй, что ветер есть тело в том смысле, в каком и волна, если бы ты спросил о ней. ибо мы чувствуем, что ветер — это воздух, приведенный в движение; в спокойном и защищенном от всяких ветров месте это можно доказать маленьким опахалом, которым мы, даже прогоняя мух, колеблем воздух и чувствуем дуновение. Когда же это происходит в силу более тайного движения тел небесных или земных на большом пространстве мира, то называется ветром, который носит различные имена по различным странам неба. Или тебе это кажется иначе?
Еводий. Мне ничего не кажется, и то, что ты говоришь, я нахожу вероятным; но я сказал, что душа есть не сам ветер, а нечто в этом роде.
Августин. Ты скажи мне прежде, думаешь ли ты, что ветер, о котором ты упомянул, имеет какую–либо длину, ширину и высоту? Затем мы посмотрим, есть ли нечто в том же роде и душа, чтобы мы могли таким же образом исследовать и ее величину.
Еводий. Что можно найти большее по длине, ширине и высоте, чем этот воздух, который, как ты меня убедил, если приведен в движение, делается ветром?
Глава V
Августин. Ты прекрасно говоришь, но не полагаешь ли ты, что душа твоя существует только в твоем теле?
Еводий. Я думаю именно так.
Августин. Но как ты думаешь, существует ли она только внутри, наполняя тело, как мех, или только снаружи, в виде покрывала, или же и снаружи, и внутри?
Еводий. думаю так, как ты сказал в конце. Ибо если бы она не была внутри, не было бы ничего жизненного в наших внутренностях, а если бы ее не было бы и снаружи, ты не мог бы чувствовать и легкого укола на коже.
Августин. Так зачем же тебе спрашивать, сколь велика душа, если ты сам видишь, что она такова, какою дозволяет ей быть объем тела?
Еводий. если этому учит разум, я больше ни о чем не спрашиваю.
Августин. Ты прекрасно поступаешь, если не ищешь более того, чему учит разум. Но кажется ли тебе это заключение достаточно прочным?
Еводий. Кажется, коль скоро я не нахожу другого. Но в своем месте я предложу тебе весьма занимающий меня вопрос: сохранит ли она эту фигуру, когда выйдет из тела? я помню, что поставил это в конце подлежащих рассмотрению вопросов. А так как к количеству же души, по моему мнению, относится и вопрос о числе душ, то думаю, что в своем месте не следует обойти и этого.
Августин. Мысль уместная, но прежде потолкуем, если угодно, об ее объеме, который меня еще продолжает занимать, чтобы я и сам чему–нибудь поучился, если ты уже удовлетворен.
Еводий. Спрашивай, о чем хочешь: потому что это твое притворное сомнение заставляет меня самым действительным образом сомневаться в том, что я предполагал уже доказанным.
Августин. Скажи мне, пожалуйста: то, что называется памятью, не кажется ли тебе пустым именем?
Еводий, Кому же так может казаться?
Августин. Считаешь ли ты ее принадлежностью души, или тела?
Еводий. И в этом сомневаться смешно. Разве можно верить или быть убежденным, что бездушное тело что–нибудь помнит?
Августин. Помнишь ли ты город Медиолан?
Еводий. Конечно.
Августин. Так как мы о нем теперь вспомнили, то ты припоминаешь, конечно, как он велик и каков он?
Еводий. Разумеется, припоминаю.
Августин. Стало быть, не видя его в настоящее время глазами, ты видишь его душой?
Еводий. Совершенно верно.
Августин. Полагаю также, что ты помнишь, каким большим пространством областей он в настоящее время отделен от нас?
Еводий. Помню и это.
Августин. Итак, ты видишь душою и само расстояние.
Еводий. Вижу.
Августин. Но если душа твоя находится здесь же, где и тело, и не простирается далее его объема, как было доказано вышеприведенным заключением, то как происходит, что она все это видит?
Еводий. Полагаю, что это делается при помощи памяти, потому что сама душа не присутствует в тех местах.
Августин. Следовательно, в памяти содержатся образы тех мест?
Еводий. Думаю, что да: потому что я не знаю, что в настоящее время делается там, а я бы непременно это знал, если бы моя душа простиралась даже до тех мест и чувствовала, что там происходит в настоящее время.
Августин. Ты, на мой взгляд, говоришь истину, но действительно ли образы эти суть образы тел?
Еводий. Необходимо так: потому что города и области суть не что иное, как тела.
Августин. А не смотрел ли ты когда–нибудь в маленькое зеркальце, или не видел ли ты когда–нибудь своего лица в зрачке чужого глаза?
Еводий. И даже очень часто.
Августин. Почему оно представляется там гораздо меньшим, чем есть на самом деле?
Еводий. А ты хотел бы, чтобы отражение представлялось большим, чем само зеркало?
Августин. Следовательно, изображения тел необходимо должны представляться малыми, если малы тела, в которых они представляются.
Еводий. Совершенно верно.
Августин. Но если душа так же мала по объему, как и ее тело, то каким образом в ней могут отпечатлеваться столь великие образы, что она может представлять в своем воображении и города, и обширные области, и всякие иные громады? я желал бы, чтобы ты несколько внимательнее подумал над тем, сколько великого и как много содержит в себе наша память, которая, в свою очередь, содержится в душе. Какое, следовательно, у нее основание, какая глубина, какая неизмеримость, если она может все это принять, между тем как вышеприведенное заключение показывает, что она такова же по объему, как и тело?
Еводий. Я не нахожу, что тебе ответить, и не в состоянии выразить, до какой степени меня это смутило; я теперь и сам смеюсь над собою, что определил величину души мерою тела.
Августин. Так она уже не кажется тебе чем–то вроде ветра?
Еводий. Никоим образом, потому что если и воздух, течение которого, как полагают, производит ветер, может наполнить весь этот мир, то душа может представлять в своем воображении такие бесчисленные и такие великие миры, что я не в состоянии и подумать о том пространстве, которое могло бы содержать в себе эти образы.
Августин. В таком случае подумай, не лучше ли полагать, что она, как я сказал выше, ни длинна, ни широка, ни высока, подобно тому, как согласился ты со мной относительно справедливости.
Еводий. я охотно бы с этим согласился, если бы меня не приводил в замешательство следующий вопрос: каким же все–таки образом она, не имея ни долготы, ни широты, ни высоты, может принимать в себя бесчисленные образы столь больших объемов?
Глава VI
Августин. Мы, может быть, откроем и это, если предварительно тщательно разберем, что есть эти три: долгота, широта и высота. Итак, постарайся мысленно представить такую долготу, которая еще не приняла никакой широты.
Еводий. Ничего подобного я не могу себе представить. Если я нарисую в уме своем нить паутины, тоньше которой мы обыкновенно ничего не видим, я встречу и в ней, помимо долготы, и своего рода широту, и высоту; как бы они малы ни были, существование их я, однако же, отрицать не могу.
Августин. Твой ответ довольно недурен, но когда ты усматриваешь в нити паутины эти три измерения, ты ведь различаешь их и знаешь, чем они разнятся между собой?
Еводий. Как не знать, что они разнятся? В противном случае разве мог бы я видеть, что они есть в этой нити?
Августин. В таком случае тем же умом, которым ты их различил, ты можешь и отделить их, представив одну долготу, но только не представляя себе никакого тела, потому что каково бы тело ни было, оно непременно будет иметь их все. То, представление чего я желаю в настоящее время вызвать в тебе, бестелесно, потому что одна долгота может быть представлена только умом, но в теле найдена быть не может.
Еводий. Теперь я понимаю.
Августин. Итак, если бы ты захотел эту долготу мысленно продольно рассечь, ты нашел бы, что это невозможно, потому что в противном случае она имела бы и широту.
Еводий. Это ясно.
Августин. В таком случае эту чистую и простую долготу мы назовем, если угодно, линией: этим именем ее обыкновенно называют ученые.
Еводий. Называй как хочешь. Я не забочусь о названиях, коль скоро ясен сам предмет.
Августин. И прекрасно делаешь: я не только одобряю, но и убеждаю, чтобы ты всегда заботился более о вещах, чем о словах. так если эту линию, которую ты уже хорошо себе представляешь, протянуть в одну или обе стороны, насколько можно протянуть ее в длину, — ты увидишь, что у нее нет конца. или твоя мысль не в состоянии дойти до такого представления?
Еводий. Представляю.
Августин. В таком случае ты также видишь, что не может выйти никакой фигуры, если не делать ничего, кроме протягивания линии.
Еводий. Что ты называешь фигурой, я пока не понимаю.
Августин. Фигурой в данном случае я называю то, когда известное пространство бывает заключено в линии или в линиях, как, например, если ты рисуешь круг или соединяешь концами четыре линии, так что ни один конец какой–либо из них не остается не соединенным с концом другой.
Еводий. то, что ты называешь фигурой, я как будто уже вижу перед собою, но ума не приложу, к чему это ты клонишь и что намерен из этого сделать, чтобы дать мне искомое знание о душе.
Глава VII
Августин. Я с самого начала предупреждал тебя и просил терпеливо отнестись к некоторой околичности наших рассуждений. Прошу и теперь о том же. Предмет исследуется немаловажный и нелегкий для познания, а мы желаем узнать его и овладеть им вполне. Ведь иное дело, когда мы верим авторитету, и иное — когда разуму. Вера в авторитет весьма сокращает поиски и не требует особого труда. Если она тебе нравится, ты можешь прочитать много такого, что об этих предметах написали, как бы из снисхождения, великие и божественные мужи, находя это необходимым для пользы, и в чем они требовали веры к себе со стороны тех, для чьих душ, более тупоумных или более занятых житейскими делами, другого средства к спасению быть не могло. Такие люди, которых в обществе всегда большинство, если желают постигать истину разумом, весьма легко одурачиваются подобием разумных выводов и впадают в такой смутный и вредный образ мыслей, что отрезвиться и освободиться от него или не могут никогда, или же могут, но только самым бедственным для себя путем. Таким полезнее всего верить превосходнейшему авторитету и соответственно ему вести жизнь. если ты считаешь, что это безопасней, я не только не возражаю против этого, а даже весьма одобряю. Но если ты не можешь обуздать в себе того страстного желания, под влиянием которого решился дойти до истины путем разума, ты должен терпеливо выносить многие и длинные околичные пути, чтобы вел тебя тот разум, который один только может быть назван разумом, т. е. разум истинный; и не только истинный, но и точный, и чуждый всякого подобия ложности (если только возможно для человека каким–либо образом достигнуть этого), так чтобы тебя не могли отвлечь от него никакие рассуждения ложные или истиноподобные.
Еводий. Я уже не хочу торопиться. Пусть делает свое дело разум и ведет как хочет, лишь бы только привел.
Глава VIII
Августин. Это устроит Бог, которому следует молиться или о таких только вещах, или о них по преимуществу. Но возвратимся к начатому делу. Тебе уже известно, что такое линия и что такое фигура. Поэтому я попрошу тебя ответить мне на такой вопрос: думаешь ли ты, что может образоваться какая–либо фигура, если продолжать линию с той или с другой стороны до бесконечности?
Еводий. Полагаю, что это невозможно.
Августин. Что же следует делать, чтобы образовать фигуру?
Еводий. Для этого линия не должна быть бесконечной, а должна быть замкнута в круг, коснувшись себя другой стороною. Иначе я не вижу, каким образом в одну линию заключить какое–нибудь пространство, а если этого не произойдет, то по твоему описанию не будет и фигуры.
Августин. Ну, а если бы я захотел образовать фигуру из прямых линий, можно ли образовать ее из одной линии или нельзя?
Еводий. Никак нельзя.
Августин. А из двух?
Еводий. И из двух также.
Августин. А из трех?
Еводий. Думаю, что можно.
Августин. Ты, следовательно, прекрасно понял и усвоил, что если нужно образовать фигуру из прямых линий, то менее чем из трех линий образовать ее нельзя. Но если бы тебе представился противоположный этому довод, заставил бы он тебя отказаться от этого мнения?
Еводий. если бы кто–либо доказал мне, что это ложно, в таком случае не осталось бы решительно ничего, о чем я мог бы сказать, что знаю это.
Августин. Теперь ответь мне вот на что: каким образом ты сделал фигуру из трех линий?
Еводий. Соединив их концами.
Августин. А не кажется ли тебе, что там, где они соединяются, образуется угол?
Еводий. Это так.
Августин. Из скольких же углов состоит эта фигура?
Еводий. Их столько же, сколько и линий.
Августин. Ну, а сами линии ты провел равные или неравные?
Еводий. Равные.
Августин. А углы все ли одинаковы, или один более сжат, а другой — открыт?
Еводий. И их я считаю также равными.
Августин. А могут ли в фигуре, которая образована из трех равных прямых линий, углы быть неравными, или не могут?
Еводий. Никак не могут.
Августин. Ну, а если фигура состоит из трех прямых, но не равных между собою линий, — могут ли и в ней углы быть равными, или ты думаешь об этом иначе?
Еводий. Решительно не могут.
Августин. Ты говоришь верно. Но скажи пожалуйста, какая фигура тебе кажется лучше и красивее: та, которая состоит из равных, или та, что из неравных линий?
Еводий. Лучше та, в которой господствует равенство.
Глава IX
Августин. Итак, ты предпочитаешь равенство неравенству?
Еводий. Не знаю никого, кто бы не предпочел.
Августин. Теперь обрати внимание, что в этой фигуре, которой придают совершенство три равных угла, противоположно углу, т. е. лежит с противоположной стороны, — линия или угол?
Еводий. я вижу линию.
Августин. Ну, а если бы углу был противоположен угол, а линии — линия, не нашел бы ты в такой фигуре еще большего равенства?
Еводий. с этим я согласен, но как это может выйти при трех линиях, решительно не понимаю.
Августин. А при четырех линиях это может случиться?
Еводий. Может.
Августин. Стало быть фигура, состоящая из четырех прямых линий, лучше, чем та, что из трех?
Еводий. Думаю, что да, если в ней господствует равенство.
Августин. Ну, а думаешь ли ты, что фигура, состоящая из четырех прямых равных линий, может образоваться и так, что в ней не все углы будут между собой равны, или не думаешь?
Еводий. Думаю, что может.
Августин. Каким образом?
Еводий. Если два угла будут более сжаты, а два — более открыты.
Августин. Но замечаешь ли, что и два более сжатые, и два более открытые угла взаимно противоположны друг другу?
Еводий. Совершенно верно и ясно.
Августин. Следовательно, ты и здесь наблюдаешь, что равенство, насколько оно могло сохраниться, сохранилось, ибо видишь: коль скоро фигура образуется из четырех равных линий, то уже никак не может быть, чтобы не были равными между собой или все, или два и два угла, и притом те, которые равны, взаимно противоположны друг другу.
Еводий. Вижу и весьма твердо в этом убежден.
Августин. А не поражает ли тебя такая и столь постоянная своего рода справедливость даже в этих вещах?
Еводий. Каким это образом?
Августин. Да ведь, я полагаю, справедливостью мы называем не что иное, как равномерность, а равномерность, по всей видимости, получила свое название от известного равенства. Но что в этой добродетели составляет равномерность, как не то, чтобы каждому причиталось свое? отдавать же каждому свое нельзя без некоторого различения. Или ты думаешь иначе?
Еводий. Это совершенно ясно, и я вполне с этим согласен.
Августин. Ну, а есть ли, по–твоему, какое–нибудь различение, если все между собою равно и ничем решительно взаимно не отличается?
Еводий. Вовсе нет.
Августин. Итак, справедливость сохраняется только в том случае, если в вещах, в которых она сохраняется, существует некоторое, так сказать, неравенство и несходство.
Еводий. Понимаю.
Августин. Следовательно, если мы признаем, что эти фигуры, о которых говорим, несходны между собою: одна состоит из трех, а другая — из четырех углов, хотя обе образуются из равных линий, — не находишь ли ты, что удержана своего рода справедливость тем, что первая, которая не может иметь равенства противолежащих частей, сохраняет неизменно равенство углов, а в последней, в которой существует такая соразмерность противолежащих сторон, этот закон углов допускает некоторое неравенство? Пораженный этим, я и нашел нужным спросить тебя, насколько тебя привлекла к себе эта истина, эта равномерность, это равенство?
Еводий. Теперь я понимаю, о чем ты говоришь и немало тому удивляюсь.
Августин. А теперь, так как ты справедливо предпочитаешь равенство неравенству, и так как, полагаю, такого же мнения придерживается всякий, кто только одарен человеческим смыслом, то поищем, если угодно, такую фигуру, в которой могло бы оказаться высшее равенство. оказавшаяся такою без всякого сомнения будет предпочтена остальным.
Еводий. Конечно, угодно, и что это за фигура я очень желаю знать.
Глава X
Августин. Но прежде ответь мне: не кажется ли тебе, что из тех фигур, о которых мы уже достаточно говорили, превосходнее та, которая состоит из четырех равных линий и из стольких же равных углов, потому что в ней, как видишь, есть и равенство линий, и равенство углов, и существует равенство противолежащих частей, поскольку линия лежит против линии и угол против угла, чего в той фигуре, которая очерчивается тремя равными линиями, мы не находили.
Еводий. Все так, как ты говоришь.
Августин. Имеет ли она высшее равенство, или тебе кажется иначе? ибо если она имеет его, то мы напрасно задумали искать другую, а если не имеет, то я желал бы, чтобы ты доказал мне это.
Еводий. На мой взгляд — имеет: потому что там, где и углы равны, и линии равны, я не нахожу возможности отыскать неравенства.
Августин. Я же думаю иначе. Прямая линия, пока идет к углам, имеет высшее равенство, но как только с ней соединяется с противоположной стороны другая линия и образуется угол, то не считаешь ли ты уже само это неравенством? или ты находишь, что та часть фигуры, которая ограничивается линией, отвечает по равенству и сходству той, которая заканчивается углом?
Еводий. Нет, не кажется, и я стыжусь своей необдуманности. Я увлекся тем, что видел в ней и углы и стороны между собой равными, но кто не увидел бы, как велико различие этих сторон от углов?
Августин. Обрати внимание и на другое яснейшее доказательство неравенства. ты видишь, что как в этой треугольной, состоящей из равных линий фигуре, так и в той квадратной есть некоторая середина.
Еводий. Вижу.
Августин. Теперь, если бы из этой самой средины мы провели линии ко всем частям фигуры, нашел ли бы ты эти линии равными или неравными?
Еводий. Они решительно неравны: потому что те непременно будут более длинными, которые мы проведем в углы.
Августин. А сколько таких в квадратной фигуре и сколько в треугольной?
Еводий. Четыре в первой и три во второй.
Августин. А какие из них меньшие, и сколько таких в той и другой фигуре?
Еводий. Их то же число, и это те, которые идут к средине сторон.
Августин. Ты говоришь, по–моему, совершенно верно, и на этом далее останавливаться нет нужды. для нашей цели достаточно и этого, поскольку ты видишь, что хотя здесь и сохраняется великое равенство, но еще не во всех отношениях совершенное.
Еводий. Вижу несомненно, и сильно желаю знать, что это за фигура, которая имеет высшее равенство.
Глава XI
Августин. Да какая же, как не та, окраина которой отовсюду однообразна, без помехи равенству со стороны какого–либо угла, и от средины которой ко всем частям окраины могут быть проведены равные линии?
Еводий. Думаю, что я уже понимаю. Мне кажется, что ты имеешь в виду фигуру, окаймленную круговой линией.
Августин. Ты понял верно. Теперь обрати внимание на следующее. Из предшествующего рассуждения мы узнали, что под линией понимается одна долгота и ей не придается никакой широты; потому–то она не может быть делима вдоль своей длины. Полагаешь ли ты, что можно представить какую–либо фигуру без широты?
Еводий. Решительно нет.
Августин. Ну, а сама широта может ли не иметь долготы, может ли существовать одна широта подобно тому, как мы выше говорили о долготе без широты, или не может?
Еводий. По моему мнению, не может.
Августин. Если не ошибаюсь, ты понимаешь также, что широта может быть делима с каждой стороны, тогда как линия продольно не может.
Еводий. Это ясно.
Августин. Что же, по–твоему, следует ставить выше: то, что может быть делимо, или то, что не может?
Еводий. Разумеется то, что не может.
Августин. Следовательно, ты предпочитаешь линию широте? Ведь если нужно предпочитать то, что не может быть делимо, то мы должны непременно предпочитать и то, что менее делимо. Широта же делима со всех сторон, а долгота только поперек, так как деления продольного не допускает; поэтому она превосходнее широты. Или ты с этим не согласен?
Еводий. Разум принуждает согласиться с тем, что ты говоришь.
Августин. Теперь, если угодно, поищем что–либо в таком роде, что вообще не может быть делимо. Ведь такое будет превосходнее даже самой линии: потому что линия, как ты видишь, может быть рассечена на бесчисленное множество частей. Впрочем, я предоставляю найти это тебе самому.
Еводий. По–моему, не может быть делимо то, что мы назвали в фигуре серединой, из которой проводятся линии к окраинам. Если бы она была делима, то не могла бы не иметь долготы или широты. Имей она одну долготу, из нее уже нельзя будет проводить указанные линии, так как она сама будет линией. Если же она будут иметь еще и широту, то потребует для себя другой середины, из которой к окраинам широты проведутся линии. И то и другое отвергается разумом. Следовательно, она есть то, что не может быть делимо.
Августин. Ты прав. Но не представляется ли тебе чем–либо таким и то, откуда начинается линия, хотя бы самой фигуры, о середине которой мы говорим, еще и не было? Я имею в виду то начало линии, откуда начинается долгота, которую ты должен представлять без всякой долготы. Поскольку когда ты представляешь долготу, то уже никоим образом не представляешь того, откуда начинается сама долгота.
Еводий. Представляется таким вполне. Августин. И это, что ты, по–моему, уже понял, есть самое могущественное из всего, о чем мы говорили. Оно есть то, что не допускает никакого деления и называется точкой (punctum), если находится в середине фигуры; а если представляет собою начало линии или линий, или даже конец их, или вообще обозначает нечто такое, что следует представлять не имеющим частей, и в то же время не занимает середины фигуры, — называется знаком (signum). Следовательно, знак есть метка без отношения к чему–либо; а точка есть метка, указывающая середину фигуры. Мне хотелось бы сразу условиться относительно этих названий, чтобы не оговаривать все это в процессе рассуждений. Очень многие, впрочем, называют точкой середину не всякой фигуры, а только круга или шара; но мы не станем теперь углубляться в тонкости различных определений.
Еводий. Согласен.
Глава XII
Августин. В самом деле, посмотри, какую имеет она силу. Ею начинается линия, ею же заканчивается; мы видели, что из прямых линий не может образоваться никакой фигуры, если ею не завершится угол. Затем, если линия может быть рассечена в каком–либо месте, она рассекается ею; и соединяется всякая линия с линией только ее посредством. Наконец, разум показал, что из всех плоских фигур (ибо о высоте мы еще не говорили ничего) следует предпочитать ту, которая очерчивается круговой линией, по причине ее высшего равенства; а само это равенство устанавливается ничем иным, как лежащею в середине ее точкой. Можно было бы много говорить о ее могуществе, но я буду умерен и предоставлю тебе самому обдумать остальное.
Еводий. Пусть будет так; я не буду скучать и над исследованием более темных вещей; а теперь, как мне кажется, я достаточно вижу великую силу этого знака.
Августин. Теперь обрати внимание на следующее. Ты узнал, что такое знак, что такое долгота и что такое широта. Что из этих трех, по–твоему, нуждается в другом, в чем именно, и нуждается ли так, что без другого не может существовать?
Еводий. Мне думается, широта нуждается в долготе, без которой ее вовсе нельзя представить. Затем я нахожу, что долгота, хотя и не нуждается для своего существования в широте, но без упомянутого знака (точки) быть не может. Знак же, очевидно, существует сам по себе и ни в чем другом не нуждается.
Августин. Это так. Но рассмотри внимательнее, действительно ли широта может быть рассекаема со всех сторон, или есть сторона, с которой и она не допускает сечения, хотя допускает его более, чем линия.
Еводий. Решительно не понимаю, откуда бы она не могла.
Августин. Думаю, что ты забыл, потому что не знать этого ты никак не можешь. Я наведу тебя на мысль так: ты, конечно, представляешь себе широту, не придавая ей мысленно никакой высоты?
Еводий. Именно так.
Августин. Следовательно, к широте может присоединиться еще и высота; а теперь скажи: может ли присоединиться еще что–нибудь, что могло бы еще более быть рассекаемо со всех сторон?
Еводий. Ты замечательно навел меня на мысль. Теперь я вижу, что высота может принимать сечение не только сверху или снизу, но и с боков, и нет вообще никакого направления, по которому она не могла бы быть делима. Отсюда видно, что и широта не может принимать сечения с тех сторон, с которых встает высота.
Августин. А так как ты, если не ошибаюсь, уяснил себе и долготу, и широту, и высоту, то скажи, может ли не быть двух первых там, где есть высота?
Еводий. Без долготы, на мой взгляд, высота быть не может; но без широты — может.
Августин. В таком случае возвратись к представлению широты, и если ты представлял ее в своем воображении как бы лежащей, то пусть она поднимется на какую–нибудь сторону так, как бы ты хотел провести ее через эту узенькую расщелину, которая замечается между створенными дверьми. Понимаешь, что я хочу сказать?
Еводий. Что ты говоришь, то я понимаю; но что ты хочешь сказать, того, быть может, еще не понимаю.
Августин. Я хочу, чтобы ты сказал мне, кажется ли тебе, что поднятая так широта перешла в высоту и потеряла уже название и свойства широты, или она остается широтой, хотя и приведена в такое положение?
Еводий. Думаю, она сделалась высотою.
Августин. Помнишь ли ты, скажи на милость, как мы определили высоту?
Еводий. Припоминаю и стыжусь, что ответил таким образом. Широта, и так как бы поднятая, не допускает сечения продольного сверху вниз: ничего внутри содержащегося в ней представлять нельзя, хотя и можно представлять средину и окраины. По определению же высоты, которое ты, как я припомнил, сделал выше, там решительно нет высоты, где нельзя представить ничего внутри.
Августин. Ты прав, и я желал, чтобы ты вспомнил именно это. Поэтому теперь скажи, предпочитаешь ли ты истинное ложному?
Еводий. Сомневаться в этом — невероятное безумие.
Августин. В таком случае скажи, будет ли истинной линией та, которая может быть рассечена продольно; или истинным знаком (точкою) тот, который может быть рассечен каким бы то ни было образом; или истинною широтою такая, которая, если ее поднять в таком виде, как мы сказали, допускала бы продольное сечение сверху вниз?
Еводий. Нет.
Глава XIII
Августин. Видел ли ты когда–нибудь этими телесными глазами или такую точку, или такую линию, или такую широту?
Еводий. Никогда, ибо они нетелесны.
Августин. В таком случае, если телесное созерцается телесными очами, то душа, которой мы усматриваем это бестелесное, по необходимости не должна быть телесною или телом. Или ты полагаешь иначе?
Еводий. Пусть так, я согласен, что душа не есть тело или что–нибудь телесное; но скажи же мне наконец, что она такое?
Августин. Да ты в данном случае обрати внимание на то, вытекает ли из сказанного следствие, что душа вовсе не имеет той величины, о которой у нас теперь речь; к удивлению моему ты забыл, что вопрос о том, что такое душа, был уже разобран нами. Ведь ты помнишь, что ты сперва спрашивал, откуда она; на этот вопрос я, помню, отвечал двояко: сперва так, как будто речь шла о ее родине, а потом так, как если бы она была из земли, или из огня, или из другой какой–либо из этих стихий, или из всех, или из нескольких из них. При этом нам уяснилось, что об этом так же не следует спрашивать, как и о том, откуда земля или какая–либо из остальных стихий, отдельно взятых. Ибо хотя Бог и сотворил душу, но ее следует представлять так, что она не есть ни из земли, ни из огня, ни из воздуха, ни из воды, а имеет свою особую субстанцию; разве только предположить, что Бог, давший субстанцию земле, чтобы она не была ничем другим, как только землею, не дал душе того, чтобы она не была ничем другим, как только душою. Если же ты хочешь, чтобы я определил тебе душу, и поэтому спрашиваешь, что такое душа, то я легко отвечу тебе. Душа, по моему мнению, есть некоторая субстанция, причастная разуму, приспособленная к управлению телом.
Глава XIV
Итак, лучше обрати внимание на то, откуда возникает сомнение, не имеет ли душа количества и, так сказать, пространственного объема. Коль скоро душа не есть тело, — потому что иначе она не могла бы созерцать ничего бестелесного, — то она не имеет и пространства, которыми измеряются тела; а поэтому неправильно полагать, или мыслить, или представлять в ней такое количество. Тебя приводит в смущение то обстоятельство, что не имея сама никакой величины, она содержит в памяти такие пространства неба, земли и моря? Но она есть некоторая удивительная сила, которую ты, насколько присущ уму твоему свет, мог заметить из того, что нами уже раскрыто. Ведь разум показал, что нет такого тела, которое не имело бы длины, широты и высоты, и что ни одно из этих свойств не может быть в теле без других двух, а между тем относительно души мы признали, что некоторым внутренним оком, т. е. умом, она может созерцать и одну линию; я полагаю, что мы признали этим как то, что душа не есть тело, так и то, что она лучше тела. Признав это, мы, полагаю, не должны сомневаться, что она и лучше линии. Ибо если все эти три находятся в теле, коль скоро оно есть тело, то было бы смешно, если бы не была лучшею всех этих трех та, которая лучше тела. Но и сама линия, над которой превосходство души доказывается несомненно, постольку превосходит широту и высоту, поскольку менее этих двух может подвергаться сечению. Далее, эти две постольку подвергаются большему сечению, чем линия, поскольку более ее распространяются вовне; линия же не имеет другого протяжения, кроме долготы, по отнятии которой не останется вовсе никакого пространства. Поэтому то, что лучше линии, неизбежно не имеет никакого протяжения, и вовсе не может быть делимо и рассекаемо. Следовательно, мы напрасно, по–моему, стараемся отыскать величину души, которой она не имеет, коль скоро мы согласились, что она лучше линии. И если из всех плоских фигур самая лучшая есть та, которая очерчивается круговой линией, а в этой фигуре, по учению разума, нет ничего лучше и могущественнее точки, которая, в чем не сомневается никто, частей не имеет, то что удивительного в том, что душа нетелесна и непротяженна, хотя и настолько сильна, что от нее зависит управление всеми членами тела и она представляет собою как бы средоточие всех телесных движений?
Но как середина глаза, которая называется зрачком, есть не что иное, как известная точка глаза, в которой, однако же, такая сила, что с какого–нибудь возвышенного места может видеть и охватывать половину неба, пространство которого беспредельно, так не противоречит истине и то, что душа не имеет никакой телесной величины, определяемой тремя указанными измерениями, хотя и может представлять в своем воображении какие угодно громады тел. Но не многим дано посредством самой души созерцать душу, т. е. чтобы душа видела саму себя; видит же она посредством ума. Ему одному предоставлено видеть, что между вещами нет ничего могущественнее и величественнее тех натур, которые представляются существующими, так сказать, без вспученности. Ведь не без смысла величина тела называется вспученностью, которая, если бы имела большую цену, то слоны, несомненно, были бы разумнее нас. А если бы кто–либо стал утверждать, что слоны мудры (встречал я, хоть и к удивлению своему, но встречал нередко и таких людей, которые спорили и об этом), такой, по мнению моему, согласится, по крайней мере, с тем, что пчелка мудрее осла; а приравнять их по величине значило бы быть большим ослом, чем сам осел. Но мы говорили о глазе. Кому не известно, что глаз орла гораздо меньше нашего? А между тем, паря в такой высоте, что при дневном свете мы с трудом различаем его, он ясно видит зайчика, скрывающегося под кустом, и рыбку под волнами. Если же в самих чувствах, которым дано чувствовать только телесное, не имеет значения для дела, т. е. для силы чувств, величина тела, то скажи на милость, следует ли бояться за душу человеческую, которой превосходнейший и почти единственный взор есть сам разум, стремящийся постигнуть ее же саму, — бояться, что она — ничто, если тот же разум, т. е. она же сама докажет, что она не имеет никакой величины, занимающей место? Поверь мне, что о душе следует мыслить нечто великое, но великое безо всякого представления о массе. Это легче удается тому, кто, будучи хорошо образован, приступает к этому не из желания пустой славы, но воспламененный божественной любовью к истине; или тому, кто упражняется в изысканиях такого рода, и хотя приступил к ним недостаточно подготовленным наукой для исследований, но терпеливо отдается на учение добрым и отказывается, насколько это возможно в настоящей жизни, от всяческих телесных привязанностей. Не может же допустить божественное провидение, чтобы благочестивые души не имели возможности найти самих себя и своего Бога, т. е. Истину, коль ищут благочестиво, усердно и с чистым сердцем.
Глава XV
Если мне удалось разрешить все твои сомнения, то покончим, если угодно, с этим вопросом и перейдем к другому. А то, что об известных фигурах мы говорили пространнее, чем тебе бы хотелось, то впоследствии ты убедишься, насколько это будет важно для другого. Ведь такого рода знания, с одной стороны, упражняют душу, подготавливая ее к созерцанию более возвышенных предметов, чтобы, пораженная их светом и не будучи в состоянии выносить его, она не бежала назад в тот мрак, из которого порывалась уйти; а с другой — доставляет доказательства, если не ошибаюсь, самые точные; и когда с их помощью бывает что–либо найдено и доказано, то, насколько подобное дано исследовать человеку, сомнение становится бесстыдным. Ибо я в этих вещах сомневаюсь менее, чем в тех, которые видим мы этими глазами, вечно ведущими войну со слизью. Что может быть несноснее и неприятнее для слуха, чем когда утверждают, что мы превосходим животных разумом, а между тем вещи, которые мы видим телесными глазами и которые иные животные видят куда лучше нашего, признают за нечто существующее, то же, что мы созерцаем разумом, пытаются представить несуществующим? А ведь если бы кто–либо стал утверждать, что последнее таково же, как и то, что мы видим глазами, то и в этом случае следовало бы признать его утверждение недостойным.
Еводий. Охотно принимаю сказанное и полностью соглашаюсь с тобою. Но хотя заключение, что душа не имеет телесной величины, мне настолько ясно, что я решительно не знаю, как можно опровергнуть эти доказательства, однако меня смущает следующее. Почему, прежде всего, насколько с годами растет тело, настолько же растет или кажется растущею и душа? Кто станет отрицать, что мальчики в раннем детстве уступают по своим способностям даже некоторым животным? Кто также усомнится, что с возрастом в них некоторым образом растет и разум? Затем, если душа распространяется по пространству своего тела, то почему она не имеет величины? А если бы она не распространялась, то каким образом ощущала бы укол, где бы он ни был сделан?
Августин. Ты задаешь те самые вопросы, над которыми частенько задумывался и я. Поэтому я так же готов отвечать тебе, как обыкновенно отвечаю и себе. Удовлетворителен ли будет ответ — пусть о том судит разум, который руководит тобою. Каков бы впрочем он ни был, более точного я дать не могу, разве только с помощью Божьей придет на ум что–либо лучшее во время самого рассуждения. Но поведем, если угодно, нашу речь так, чтобы ты под руководством разума отвечал сам себе; и прежде всего рассмотрим, действительно ли то обстоятельство, что человек с возрастом делается способнее и приобретает все большую и большую опытность, служит верным доказательством возрастания души вместе с телом.
Еводий. Поступай, как тебе угодно. Я, со своей стороны, весьма одобряю этот способ учить и учиться. Не знаю, как это происходит, но когда я сам отвечаю на то, о чем по неведению спрашивал, само открытие становится более приятным не только по существу дела, но и по неожиданности, приводящей в удивление.
Глава XVI
Августин. Итак, скажи, думаешь ли ты, что словами «больше» и «лучше» обозначаются две различные вещи, или этими двумя именами названо одно и то же?
Еводий. Полагаю, что это — не одно и то же.
Августин. Какое же из этих двух, по твоему мнению, относится к величине?
Еводий. Разумеется, «больше».
Августин. Ну, а когда мы признаем, что из двух фигур круг лучше квадрата, величина ли нас побуждает к этому, или что–то другое?
Еводий. Отнюдь не величина; причиной этого превосходства служит равенство, о котором мы говорили выше.
Августин. В таком случае обрати внимание на следующее. Находишь ли ты, что душевная доблесть есть некоторое равенство жизни, сообразующейся во всех отношениях с разумом. Ведь если в жизни одно идет в разрез с другим, то это, если не ошибаюсь, оскорбляет нас более, чем если какая–либо часть круга находится на большем или меньшем, чем другая, расстоянии от центра. Или это тебе представляется иначе?
Еводий. Напротив, я согласен с тобой и принимаю твое определение душевной доблести. Ибо и разумом должен быть называем и признаваем только разум истинный; и тот, чья жизнь во всех отношениях сообразована с истиной, только тот и живет хорошо и честно; и только такового следует считать имеющим добродетель и ею живущим.
Августин. Ты хорошо говоришь; но полагаю, от тебя не укрылось и то, что круг имеет больше сходства с душевной доблестью, чем какая–либо другая из плоских фигур. Отсюда у Горация тот превозносимый всеми стих, в котором он говорит, когда ведет речь о мудром: Сильный, в себя самого весь свернувшийся и округленный.
И это верно. Ибо как в числе добрых душевных качеств не найдешь ничего, что во всех отношениях соответствовало бы самому себе более, чем добродетель, так и в числе плоских фигур — более, чем круг. Поэтому, если круг превосходит остальные фигуры не площадью, а некоторой стройностью образа, то тем более следует думать о душевной доблести, что она превосходит остальные душевные расположения не тем, что занимает большее место, а некоторой божественной соразмерностью и согласием в образе действий. И когда отрок похвальным образом совершенствуется, в чем по преимуществу разумеется это усовершенствование, как не в душевной доблести? Или, по–твоему, это не так?
Еводий. Это очевидно.
Августин. Раз так, то ты не должен думать, будто душа совершенствуется подобно телу, через рост. Совершенствуясь, она достигает доблести, красота и совершенство которой, как мы признали, зависит не от пространственной величины, а от великой силы постоянства; и если, с чем ты уже согласился, «больше» — это одно, а «лучше» — совсем другое, то усовершенствование души с возрастом, по моему мнению, не значит, что она делается больше, но — лучше. Ведь если бы это происходило вследствие увеличения тела, то и благоразумнее был бы тот, кто длиннее или толще. Но полагаю, ты не станешь отрицать, что в жизни мы подобной связи не наблюдаем.
Еводий. Кто стал бы это оспаривать? Однако же, так как и ты признаешь, что душа совершенствуется с возрастом, я удивляюсь, как это бывает, что чуждая всякой величине душа получает что–то, если не от объема телесных членов, то, выходит, от пространства времени.
Глава XVII
Августин. Перестань удивляться, потому что и на это я отвечу тебе подобным же доводом. Как нет доказательств того, что размеры тела что–нибудь придают душе, потому что многие, имеющие члены слабые и малые, оказываются куда мудрее тех, кто имеет большое и тучное тело, точно также мы видим, что некоторые юноши гораздо деятельнее и предприимчивее иных зрелых мужей. Поэтому я не вижу никаких оснований думать, что время в смысле человеческого возраста дает приращение как телам, так и душам. Ведь и между самими телами, которые с течением времени растут и занимают более обширные пространства, старшие часто имеют меньший объем; и это не только старики, которые со временем сморщиваются и уменьшаются, но даже и тела детей; между последними мы встречаем меньших по телесному росту сравнительно с такими, которых они старше по летам. Итак, если продолжительность времени не служит причиной увеличения самих тел, но вся сила в этом отношении заключается в семени и в некоторой тайной и трудной для познания естественной мере, то тем менее следует думать, будто от длительности времени и душа получает большую долготу. Изучает она многое, как мы знаем, опытностью и настойчивостью.
Тебя, быть может, смущает то обстоятельство, что греческое слово (?) мы обыкновенно переводим словом (?). Но нужно заметить, что много слов переносится от тела на душу, равно как и от души на тело. Если Вергилий называет гору недобросовестною, а землю справедливейшею, — именами, как видишь, перенесенными от души на тело, то что удивительного, если и в обратном смысле мы употребляем слово (?), хотя долгими (?) могут быть только тела? А та из добродетелей, которая называется величием души, правильно понимается относящейся не к пространству, а к некоторой силе, а именно к душевному могуществу и власти; и добродетель эта заслуживает тем высшую цену, чем большее она презирает. Но о ней будем говорить после, когда будем рассматривать вопрос о том, сколь велика душа, в таком смысле, в каком обыкновенно спрашивают, сколь велик был Геркулес не по весу и росту, а по превосходству подвигов. Ибо такой, насколько помню, мы установили порядок. В настоящем же случае тебе следует припомнить то, что сказано нами о точке, и сказано, по–моему, достаточно. Разум учил нас, что она есть самое могущественное и по преимуществу господствующее в фигурах. Могущество же и господство — разве не указывают они на некоторое величие? А между тем в точке мы не открыли никакого пространства. Поэтому, когда мы слышим или говорим о душе, что она велика или высока, мы должны представлять не то, сколько она занимает места, а то, какой она располагает силой. Итак, если твой первый довод, связанный с тем, что, как тебе казалось, с возрастом душа растет вместе с телом, разобран уже достаточно, то перейдем к другому.
Глава XVIII
Еводий. Все ли мы обсудили из того, что обыкновенно вызывает у меня недоумение, не знаю. Может случиться, что из памяти и ускользнуло что–нибудь. Но разъясним то, что пришло мне в голову в настоящее время, а именно, что в младенчестве дитя говорить не умеет, а вырастая начинает говорить.
Августин. Это нетрудно. Ты, полагаю, знаешь, что каждый ребенок говорит на том языке, на котором говорят люди, среди которых он родился и вырос.
Еводий. Разумеется.
Августин. Представь же, что кто–нибудь родился и вырос там, где люди не говорят вообще, а передают друг другу свои мысли посредством мимики и жестов. Не думаешь ли ты, что и он будет делать то же, и что тот не будет говорить, кто не будет слышать речи?
Еводий. Не спрашивай меня о том, чего быть не может. Разве можно представить себе столь странное общество?
Августин. Неужели ты не видел в Медиолане юношу прекрасного телосложения и в высшей степени достойного, который, однако же, был нем и глух, и других понимал только по движениям тела, и сам выражал свои мысли тем же способом? Этим он приобрел особую известность. Я же знал одного крестьянина, который прекрасно говорил и от жены, также говорящей, родил всех детей, четырех или более того (теперь точно не припомню) мальчиков и девочек, немыми и глухими. Они были немы, так как не могли говорить; а поскольку они замечали подаваемые им знаки только глазами, то считались и глухими.
Еводий. Первого я хорошо знаю, а относительно других, которых не знаю, верю тебе. Но что же из этого следует?
Августин. Но ведь ты сказал, что не можешь представить себе, чтобы кто–нибудь родился среди таких людей.
Еводий. Я и теперь говорю то же самое; потому что ты, полагаю, согласишься, что эти люди родились среди тех, которые говорили.
Августин. Я этого не отрицаю; но коль скоро нам известно, что такие люди существуют, то представь, пожалуйста, что глухие мужчина и женщина вступили в брак, а затем, заброшенные судьбою в пустыню, где однако же могли бы жить, родили сына с нормальным слухом. Как стал бы он разговаривать со своими родителями?
Еводий. А не иначе, разумеется, как подавая телодвижениями знаки, какие подавали бы ему и родители. Но очень малое дитя не могло бы делать и этого. Поэтому мой довод остается в силе. Получает ли душа с возрастом способность говорить или подавать знаки движениями — это разница несущественная; потому что и то, и другое одинаково относится к душе, которую мы не желаем признать возрастающей.
Августин. После этих слов может показаться, что по твоему мнению и те, кто ходят по канату, имеют душу большую, нежели те, которые этого делать не могут.
Еводий. Это совсем другое дело; тут всякий увидит искусство.
Августин. А почему именно искусство? Не потому ли, что он изучил его?
Еводий. Конечно.
Августин. Так почему же ты не считаешь искусством изучение чего–либо другого?
Еводий. Напротив, я не отрицаю, что все, подлежащее изучению, относится к искусству.
Августин. Стало быть наш герой не научился у родителей подавать знаки при помощи телодвижений?
Еводий. Научился.
Августин. В таком случае ты должен согласиться, что и это есть дело своего рода подражательного искусства, а не увеличения души вследствие возраста.
Еводий. С этим согласиться я не могу.
Августин. В таком случае не все, что изучается, относится к искусству, хоть ты только что и согласился с этим.
Еводий. Непременно к искусству.
Августин. Значит тот не научился подавать телодвижениями знаки, с чем ты также было согласился.
Еводий. Он научился; но это не относится к искусству.
Августин. Но незадолго до этого ты сказал, что то, что изучается, относится к искусству.
Еводий. Пожалуй, я готов признать, что умение говорить и подавать знаки при помощи жестов относится к искусству, поскольку мы этому учимся. Но только те искусства, которые мы изучаем, наблюдая за другими, — это одно, а те, которые влагаются в нас учителями, — совсем другое.
Августин. Какие же из этих искусств, по твоему мнению, усвояет душа в силу того, что делается больше? Уж не все ли?
Еводий. Думаю, что не все, но только первые.
Августин. А не из этого ли рода искусств будет, на твой взгляд, искусство ходить по канату? По–моему и это искусство приобретается посредством наблюдения за теми, кто так делает.
Еводий. Думаю, что так; но, однако же не всякий, кто видит это и всматривается с великим старанием, в состоянии бывает усвоить это искусство, но только тот, кто идет учиться к знатоку этого дела.
Августин. Ты очень хорошо говоришь. В том же роде я дам тебе ответ и относительно речи. Многие греки слышат нас, говорящих другим языком, гораздо чаще, чем смотрят на хождение по канату; однако, чтобы изучить наш язык, часто, как делаем это и мы, желая изучить их язык, обращаются к учителям. Если это так, то мне кажется удивительным, почему ты приписываешь возрастанию души то, что люди говорят, и не хочешь приписать этому же то, что они ходят по канату.
Еводий. Не понимаю, каким образом ты это смешиваешь. Ведь тот, кто для изучения нашего языка берет себе учителя, уже знает свой родной язык, который, по моему мнению, он изучил вследствие возраста души; когда же затем он изучает чужой, то это я приписываю уже не увеличению души, а искусству.
Августин. Ну, а если бы тот человек, который родился и вырос между немыми, попав в среду других людей, научился говорить поздно и будучи уже юношею; полагаешь ли ты, что его душа выросла бы в то время, когда он учился говорить?
Еводий. Этого я никогда не решусь утверждать; я уже начинаю верить твоим заключениям и более не считаю умение говорить доказательством роста души. Иначе я вынужден был бы признать, что и все другие искусства душа усвояет посредством возрастания. А сказав это, я должен был бы допустить в заключение и ту нелепость, что душа уменьшается в росте, коль скоро что–нибудь забывает.
Глава XIX
Августин. Ты прекрасно понял суть дела, и настолько верно, что я могу тебе сказать: правильно говорится о душе, что она как бы растет, когда учится, и, напротив, уменьшается, когда забывает; но говорится это в переносном смысле, как мы и показали выше. При этом нужно остерегаться, чтобы при слове «растет» не представлять себе, будто она занимает большее пространство; нужно представлять, что, становясь более сведущей, она приобретает для своей деятельности большую силу, чем она имела прежде. Важны при этом и свойства того, что она изучает и чем она представляется в некотором роде приращенной. Ведь и в теле мы видим три рода приращений. Одно — необходимое, которым придается членам естественная стройность. Другое — излишнее, когда что–нибудь, ненормально увеличиваясь, выделяется своей диспропорцией. Так бывает, между прочим, когда люди рождаются с шестью пальцами; таковы и многие другие аномалии, которые, когда принимают сверх обыкновения чрезвычайные размеры, кажутся просто чудовищными. Третье — вредное, которое, если случается, называется опухолью. И в последнем случае о членах говорят, что они выросли, и на деле они действительно занимают большее пространство; но это связано с потерей здорового состояния. Также точно и в душе есть некоторые естественные приращения, когда о ней говорят, что она увеличивается почтенными и имеющими приложение к честной и блаженной жизни науками. Когда же мы изучаем такое, что более возбуждает удивление, чем приносит пользу, то оно, хоть в некоторых отношениях и бывает выгодным, должно быть признано излишним и отнесено к упомянутому второму роду. Из того, что известный игрок на флейте, как рассказывает Варрон, доставил такое удовольствие народу, что сделался царем, не следует, чтобы мы должны были заботиться об увеличении своей души этим мастерством; также точно, как мы не пожелали бы иметь зубы больше человеческих, если бы услышали, что кто–нибудь, имевший такие зубы, растерзал ими врага. Вредный же род искусств — это тот, который вредит здоровому состоянию души. Умение, например, с удивительным искусством различать по запаху и вкусу кушанья; умение сказать, в каком озере поймана рыба или скольких лет выдержки вино, — это все знания, заслуживающее сожаления. Если какая–либо душа, которая, пренебрегши умом, погрязла в чувствах, представляется выросшею такими искусствами, то о ней следует сказать, что она только опухла, или даже, что она истощала.
Глава XX
Еводий, Не могу с тобой не согласиться; и тем не менее я сокрушаюсь, что душа наша является такою во всех отношениях невежественной и скотской, какою мы ее видим в новорожденном младенце. Почему она не приносит с собой никакого знания, коль скоро вечна?
Августин. Ты поднимаешь великий вопрос, и притом такой, по которому мнения наши до такой степени противоречат друг другу, что тебе кажется, будто душа не принесла с собой никакого знания, а мне кажется, напротив, что принесла все, и что так называемое учение есть не что иное, как припоминание и представление прошедшего в настоящем. Но не кажется ли тебе, что теперь заниматься этим вопросом несколько неуместно? Ведь мы стараемся, как можем, разъяснить, что душа называется малой или великой не по объему занимаемого ею места; о вечности же ее мы будем рассуждать тогда, когда приступим к рассмотрению четвертого из поставленных тобою вопросов, а именно: зачем она дана телу? Для вопроса же о ее величине не имеет значения, всегда или не всегда она была и будет, или что в известное время она несведуща, а в другое сведуща, — коль скоро мы доказали выше, что продолжительность времени не служит причиной даже увеличения тел, и коль скоро известно, что с ростом приобретение знания может и не соединяться, а со старостью соединяется часто. Сказано нами и многое другое, по моему мнению достаточное для того, чтобы доказать, что с увеличением тела, которое происходит с возрастом, душа не становится большей.
Глава XXI
Поэтому рассмотрим, если угодно, твой другой довод, а именно, что душа, которой мы не желаем приписывать никакой пространственной величины, чувствует прикосновение по всему пространству тела.
Еводий. Я согласился бы перейти к этому вопросу, если бы не находил нужным сказать кое–что относительно сил. Что значит, что увеличивающиеся с возрастом тела дают душе большие силы, если вместе с тем душа не делается большей? Хотя обыкновенно душе приписывают доблести, а силы телу, однако я никогда не позволю себе отчуждать их от души, коль скоро вижу, что в бездушных телах их нет. Правда, и это отрицать нельзя, душа пользуется силами, как и чувствами, при посредстве тела; тем не менее, если тело несет эту службу потому, что живет, никто не усомнится отнести это по преимуществу к душе. Итак, если в подрастающих детях мы встречаем силы большие, чем в младенцах, и если потом отроки и юноши изо дня в день возрастают в своих силах, которые затем уменьшаются по мере старения тела, то, по моему мнению, это служит немаловажным указанием на то, что душа с телом растет и с телом же стареет.
Августин. То, что ты говоришь, не во всех отношениях нелепо. Но я держусь обыкновенно того мнения, что силы зависят не столько от объема тела и возраста, сколько от известного упражнения и стройного образования членов. Чтобы доказать это, я спрошу: согласен ли ты, что если один человек может совершать более длительные прогулки и менее утомляться, чем другой, то это означает, что у него больше сил?
Еводий. Согласен.
Августин. Почему же я, будучи мальчиком, когда упражнялся в птицеловстве, без устали проходил пешком несравненно большие расстояния, чем став уже юношей, когда перешел к другим занятиям, принуждавшим меня больше сидеть на месте, если увеличение сил следует приписать увеличению возраста и вместе с ним возрастанию души? Затем, в телах борцов учителя их искусства обращают внимание не на массу или величину, а на известные связки мышц, на отдельные мускулы и на всю фигуру тела, насколько она пропорциональна, и в этом по преимуществу ищут доказательство сил. Однако же и это все имеет мало значения, если к нему не присоединится искусство и упражнение. Мы часто видим, что людей огромного роста превосходят низенькие и худенькие как в движении, так и в переноске тяжестей, и даже в самой борьбе. Кому неизвестно, что какой угодно победитель олимпийских игр скорее устанет в дороге, чем привычный к тому рыночный торговец, которого он мог бы раздавить одним пальцем? Итак, если и силы мы называем великими не безотносительно и не все сразу, а только некоторые, наиболее годные к тому или другому делу; если пропорции тел имеют гораздо большее значение, чем размеры; если и упражнения придают столько сил, что, как подтверждается многочисленными примерами, человек, поднимая ежедневно маленького теленка, достигал того, что мог поднимать и держать его, ставшего быком, не чувствуя большой тяжести, которая прибавлялась понемногу; то силы, обнаруживающиеся в большем возрасте, отнюдь не показывают возрастания души.
Глава XXII
Если сравнительно большие тела животных наделены несколько большею силою именно потому, что они большие, то причина этого в том, что по закону природы тяжести меньшие уступают большим. Закон этот проявляется не только в тех случаях, когда тела сами по себе стремятся занять свое место, как, например, тела жидкие и земляные — в самом центре мира, который находится внизу, а тела воздушные и огненные — наоборот, вверху; но и в тех, когда каким–либо метательным орудием, толчком или отражением они бывают вынуждены под действием чуждой им силы идти не туда, куда стремились бы сами по себе. Если ты пустишь с высоты, хотя и одновременно, но различной величины два камня, то больший упадет на землю скорее; но если меньший попадет под него и так будет им охвачен, что не выскользнет из–под него, он поддастся ему совершенно и вместе с ним упадет на землю. И точно также, если больший будет брошен сверху вниз, а меньший брошен снизу вверх, то там, где они встретятся, необходимо последует отражение и обратное движение меньшего. А чтобы ты не подумал, что это случается потому, что меньшему дано, вопреки природе, насильственное движение в высоту, тогда как другой направляется с большим стремлением к своему месту, — сделай так, чтобы больший был брошен вверх и встретился с меньшим, падающим на землю; увидишь, что и в этом случае меньший, будучи отражен, получит движение к небу, и когда упадет потом вниз, упадет не в ту сторону, в которую был направлен, а в другую. Если же два камня не в силу естественного движения, но потому, что брошены один против другого двумя, например, сражающимися на войне, столкнутся друг с другом на средине пролетаемого ими расстояния, то кто усомнится, что меньший уступит большему и оба полетят в ту сторону, откуда летел первый и куда был брошен последний? Впрочем, хотя это и действительно так бывает, т. е. хотя тяжести меньшие, как сказано выше, и уступают большим, однако большую важность имеет при этом то, с какой скоростью они движутся навстречу друг другу. Если меньший, брошенный при помощи какого–нибудь сильного метательного орудия с большей силой и стремительностью, столкнется с большим, брошенным с меньшей или уже ослабленной в полете силой, то хотя он и отскочит от последнего, но замедлит его движение, или даже даст ему движение обратное, в зависимости от их скоростей и веса. Теперь я прошу тебя вникнуть в следующее: не подходят ли под это правило и так называемые животные силы. Кто станет отрицать, что тела всех животных имеют свой вес? Этот вес, перемещаемый в определенном направлении желанием души, имеет значительную силу вследствие собственной величины. Но душевное желание для движения веса тела пользуется сухожилиями, как своего рода метательными орудиями; а сухожилиям придает большую живость и подвижность сухость и умеренная теплота; влажный же холод, напротив, расслабляет и обессиливает их. Поэтому во сне, который медики называют холодным и влажным, подтверждая такое воззрение на него доказательствами, члены приходят в расслабление, и само напряжение сил у просыпающихся отличается особенной слабостью; оттого нет слабее и бессильнее летаргиков. Но некоторые сумасшедшие, которые страдают бессонницей и острыми приступами лихорадки, т. е. всем тем, что вызывает жар и производит крайнее напряжение и жесткость жил, напротив, как известно, оказывают сопротивление с большей силой, чем в здоровом состоянии, и обнаруживают значительную силу вообще, хотя тело их вследствие болезни бывает обычно худым.
Итак то, что называется силами, слагается из желания души, из известного механизма сухожилий и из тяжести тела. Желание порождается волей; оно бывает стремительнее при наличии надежды или отваги, и обессиливается страхом, а еще более — отчаянием, поскольку при страхе, оставляющем еще место надежде, силы обыкновенно оказываются большими. Механизм дается соответствующим образованием тела; состояние здоровья видоизменяет его, а упражнения — укрепляют. Тяжесть сообщается массивностью членов, приобретаемой возрастом и питанием, а восстанавливается одним питанием. У кого все это получает одинаково значительное развитие, тот возбуждает удивление своими силами, и тем скорее один человек будет слабее другого, чем больше у него недостает указанного. Но часто бывает и так, что человек, имеющий меньшую тяжестью тела, в силу большего желания и лучшего механизма побеждает другого, имеющего большую массу. И наоборот, массивность иногда бывает так велика, что при самом незначительном усилии подавляет мелкого противника, несмотря на делаемые им гораздо большие усилия. Но когда уступает не тяжесть тела и не расположение и состояние сухожилий, а само желание, т. е. сама душа, так что победу одерживает не сильнейший во всех отношениях, а во всем слабейший, и более отважный над трусливым, — то не знаю, следует ли и это приписывать ее силам; разве что только кто–либо станет утверждать, что и душа имеет свои силы, благодаря которым победитель получил большую отвагу и уверенность в себе. В таком случае, коль скоро они у одного есть, а у другого их нет, — это дает понять, насколько душа превосходит тело даже в том, что совершается через тело.
Итак, коль скоро у ребенка есть несомненно одно только желание притянуть к себе или оттолкнуть что–либо, но его сухожилия в силу своего недавнего и еще несовершенного образования неповоротливы, по причине влажности, изобилующей в этом возрасте, — вялы, и из–за отсутствия всякого упражнения — слабы, а вес до такой степени мал, что не может сообщить сильный толчок даже тогда, когда бывает брошен другим, то кто, увидев, что все это, не бывшее прежде, привнесено годами, и узнав, что годами же даны и силы, сочтет правильным и разумным мнение, будто выросла душа, которая на самом деле только пользуется тем, что со дня на день увеличивается? Такой, если бы увидел сперва, как недалеко летят и быстро падают камышинки, пущенные со всей силой из слабого лука юношей, скрытым от него завесой, а вслед за тем увидел бы, как высоко летят к небу стрелы, уже отягченные железом, оперенные, пущенные сильно натянутой тетивою, — то, получив уверение, что то и другое сделано человеком с равным усилием, мог бы, пожалуй, подумать, что этот человек за столь короткое время вырос и увеличился в своих силах. Что можно придумать нелепее этого?
Далее, обрати внимание и на то, до какой степени невежественно, если душа вырастает, ставить приращения ее в зависимость от телесных сил, а не считать источником их увеличение познаний, в то время как первым она придает со своей стороны только желание, а последними владеет нераздельно? Затем, если мы думаем, что душа вырастает, когда придаются ей силы, то должны также думать, что она и уменьшается, когда силы убывают. Но силы убывают в старости, отнимаются и при научных занятиях. А между тем как раз в это время познания приобретаются и увеличиваются. А увеличиваться и уменьшаться что–либо в одно и то же время никак не может. Следовательно, то обстоятельство, что в большем возрасте силы бывают большими, не служит доказательством возрастания души. Можно было бы сказать и много иного, но если ты уже удовлетворился, я покончу с этим предметом, и мы перейдем к другому.
Еводий. Я вполне убедился в том, что возрастание силы напрямую никак не связано с возрастанием души. Полагаю, что даже сумасшедший, чьи силы, как известно, делаются большими, чем обыкновенно бывают у здорового, — даже сумасшедший не сказал бы, что помешательством и болезнью душа возрастает, хотя само тело при этом уменьшается. С этих пор я буду придерживаться того мнения, что в сухожилиях заключается все, чему мы так удивляемся, когда в ком–либо видим чрезвычайную силу. Поэтому я прошу тебя приступить к тому, к чему обращена теперь вся моя мысль, а именно: почему душа, если она не имеет той пространственной величины, которую имеет тело, чувствует его повсюду, где бы к нему не прикоснулись?
Глава XXIII
Августин. Что ж, приступим, но на этот раз тебе придется быть особенно внимательным. Поэтому сосредоточься и ответь, что это, по твоему мнению, за чувство, которым душа пользуется посредством тела (ведь оно–то, собственно, и называется чувством)?
Еводий. Я слышал, что есть пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание; что сказать сверх этого, я не знаю.
Августин. Разделение это весьма древнее и часто употребляется в речах, обращенных к народу. Но я желал бы, чтобы ты определил, что такое само это чувство, — определил так, чтобы в определении твоем заключались одновременно все указанные выше чувства и не подразумевалось ничего такого, что не было бы чувством. Если это невозможно, я не настаиваю. Для дела будет вполне достаточно, если ты будешь в состоянии опровергнуть или подтвердить мое определение.
Еводий. Последнее, пожалуй, лучше всего.
Августин. Так слушай. Чувство, по–моему, суть то, в силу чего от души не укрывается испытываемое телом.
Еводий. Целиком одобряю это определение.
Августин. В таком случае возьми его, как свое собственное, и защищай, пока я буду понемногу его опровергать.
Еводий. Буду, пожалуй, защищать, если ты будешь помогать; а если нет, то я сразу же от него отказываюсь, поскольку, думаю, ты не напрасно нашел нужным его опровергать.
Августин. Не подчиняйся столь слепо авторитету, особенно же — моему, которого почти что и нет. «Смей разуметь», как говорит Гораций: пусть покоряет тебя разум, а не страх.
Еводий. Как бы дело ни велось, я решительно ничего не боюсь. Ты, конечно, не допустишь, чтобы я заблуждался. Но начинай поскорее, чтобы проволочки не утомили меня более, чем сами возражения.
Августин. Так скажи же мне, что испытывает твое тело, когда ты меня видишь?
Еводий. Нечто, конечно же, испытывает, потому что глаза, если не ошибаюсь, суть части моего тела; если бы они ничего не испытывали, то каким бы образом я тебя видел?
Августин. Но мне недостаточно одного твоего уверения, что глаза твои нечто испытывают; объясни, что именно они испытывают.
Еводий. Разумеется, не что другое, как само виденье, поскольку видят. Ведь если бы ты спросил, что испытывает больной, я отвечал бы, что болезнь; желающий испытывает желание, опасающийся — опасение, радующийся — радость. Значит, видящий испытывает именно виденье.
Августин. Но радующийся чувствует радость, не так ли?
Еводий. Полагаю, что так.
Августин. И то же я мог бы сказать и о других душевных волнениях?
Еводий. Именно.
Августин. Стало быть, коль скоро глаза что–нибудь чувствуют, то это они и видят.
Еводий. С этим я никак не могу согласиться: болезни никто не видит, хотя глаза часто ее чувствуют.
Августин. Видно, что твое внимание обращено на глаза; ты неплохо следишь за ходом наших рассуждений. Итак, всмотрись, также ли точно видящий, видя, чувствует виденье, как радующийся, радуясь, чувствует радость?
Еводий. А разве может быть как–то иначе?
Августин. Но все то, что видящий, видя, чувствует, все то он непременно и видит.
Еводий. Не непременно; а если, видя, он чувствует любовь: неужели и любовь он видит?
Августин. Осмотрительная оговорка; радуюсь, что тебя трудно поймать. Но обрати теперь внимание на следующее. Так как между нами решено, что не все то, что глаза чувствуют, и не все то, что мы, видя, чувствуем, мы непременно видим: то не считаешь ли ты истинным по крайней мере то, что все, что мы видим, то непременно и чувствуем?
Еводий. Если бы я с этим не согласился, то каким бы образом могло называться чувством то, что мы видим?
Августин. Ну, а не испытываем ли мы всего того, что чувствуем?
Еводий. Это так.
Августин. Итак, если все, что мы видим, чувствуем, и все, что чувствуем, испытываем, то, значит, мы испытываем все, что видим.
Еводий. Не возражаю.
Августин. Значит, когда мы видим друг друга, ты испытываешь меня, а я — тебя?
Еводий. Думаю, что так, и признать это меня настойчиво принуждает разум.
Августин. Смотри же, что из этого следует. Полагаю, что тебе показалось бы величайшей нелепостью и глупостью, если бы кто–нибудь стал утверждать, что ты испытываешь какое–либо тело там, где нет самого тела, которое ты испытываешь.
Еводий. Нелепость ясна, и я полагаю, что все так, как ты говоришь.
Августин. Ну, а не очевидно ли тебе, что мое тело находится в одном месте, а твое — в другом?
Еводий. Очевидно.
Августин. Однако же глаза твои чувствуют мое тело; если же чувствуют, то непременно и испытывают; но они не могут испытывать там, где нет того, что они испытывают; а между тем их нет там, где мое тело; следовательно, они испытывают там, где их нет.
Еводий. Хоть я и согласился со всем тем, с чем казалось мне нелепостью не согласиться, однако этот последний вывод нелеп до такой степени, что я согласен скорее признать, что в предшествующем сделал какую–нибудь неосмотрительную уступку, чем сам вывод признать за истинный. Ведь я и во сне не решился бы сказать, что глаза мои чувствуют там, где их нет.
Августин. В таком случае припомни, на каком месте ты вздремнул: разве ускользнуло бы что–нибудь вследствие твоей неосторожности, если бы ты был так же внимателен, как незадолго перед этим?
Еводий. Я действительно стараюсь вспомнить и снова обдумать все, о чем мы говорили; но не вижу с достаточной ясностью, в уступке чего я должен был бы раскаиваться, кроме разве того, что, когда мы видим, чувствуют наши глаза. Чувствует, быть может, само зрение.
Августин. Пусть будет так. Зрение действительно простирается вовне, и благодаря глазам проникает так далеко, что может повсюду осматривать то, что мы видим. От этого так бывает, что оно скорее видит там, где находится то, что оно видит, но не там, откуда оно исходит, чтобы видеть. В таком случае, когда ты видишь меня, то не ты, собственно, видишь?
Еводий. Какой безумец скажет это? Во всяком случае, вижу я; но вижу зрением, исходящим вовне благодаря глазам.
Августин. Если же ты видишь, то ты и чувствуешь; если ты чувствуешь, то ты и испытываешь; ты не можешь испытывать что–либо там, где тебя нет; там, где ты меня видишь, там нахожусь я; следовательно, ты испытываешь меня там, где нахожусь я. Но если там, где нахожусь я, тебя нет, то я решительно не понимаю, каким образом ты решаешься утверждать, что видишь меня именно ты.
Еводий. Я говорю, что вижу тебя, где ты находишься, простерши зрение в то место, в котором ты находишься; но признаю, что меня там нет. Если бы я, например, дотронулся до тебя палкой, я дотронулся бы несомненно, и чувствовал бы это; однако же я не был бы там, где дотронулся до тебя. В таком же смысле я говорю, что вижу зрением. Хотя меня и нет там, это, однако же, не вынуждает меня признать, будто вижу не я.
Августин. Итак, ты не сделал никакой необдуманной уступки, потому что можешь отстоять и глаза свои, для которых зрение, как ты говоришь, есть как бы своего рода палка, и то заключение, что глаза твои видят там, где их нет, не представляется нелепостью.
Еводий. Так оно и есть; более того, мне сейчас пришла в голову мысль, что если бы глаза видели там, где они находятся, они видели бы и самих себя.
Августин. Правильнее было бы сказать не «и самих себя», а «только бы самих себя и видели». Ведь там, где они находятся, т. е. в том месте, что они занимают, они одни только и есть; ибо там нет ни носа, ни чего–либо другого, смежного с ними. Иначе и ты, пожалуй, был бы там, где я нахожусь, потому что мы оба находимся друг подле друга. Если это так, и если бы глаза видели только там, где они находятся, они не видели бы ничего, кроме самих себя. Если же они самих себя не видят, то мы должны согласиться, что они не только видят там, где их нет, но даже там только и могут видеть, где их нет.
Еводий. После этого у меня не остается никаких сомнений.
Августин. Следовательно, ты не сомневаешься, что глаза испытывают там, где их нет. Ибо где они видят, там и чувствуют; ведь видеть значит чувствовать, чувствовать же значит — испытывать; поэтому там, где они чувствуют, там и испытывают. Но видят они не в том месте, где находятся; следовательно, они испытывают там, где их нет.
Еводий. Интересно, как все это я признаю за истину!
Глава XXIV
Августин. Ты, пожалуй, прав. Но скажи на милость, все ли то мы видим, что узнаем посредством зрения?
Еводий. Думаю, что да.
Августин. И думаешь также, что все, что мы узнаем, видя, мы узнаем посредством зрения?
Еводий. Да.
Августин. В таком случае почему мы, видя один только большой дым, узнаем, что под ним скрывается огонь, которого мы не видим?
Еводий. Ты говоришь правду, и я уже не думаю более, что мы видим все то, что узнаем посредством зрения: потому что мы можем, как ты доказал, видя одно, узнавать другое, чего зрением достичь не можем.
Августин. Ну, а можем ли мы не видеть того, что чувствуем зрением?
Еводий. Никоим образом.
Августин. Следовательно, одно дело чувствовать, а другое — знать.
Еводий. Совершенно верно: потому что дым, который мы видим, мы чувствуем, а что под ним есть огонь, которого мы не видим, то мы знаем.
Августин. Ты рассуждаешь прекрасно. Но замечаешь при этом, конечно, что когда это происходит, то тело наше, т. е. глаза, не испытывает воздействия от огня, а испытывает от дыма, который только и видит. Ведь мы согласились выше, что видеть — значит чувствовать, а чувствовать — значит испытывать.
Еводий. Это так, и я согласен с этим.
Августин. Итак, когда вследствие испытываемого телом впечатления что–либо не укрывается от души, то это не всегда извещается одним из упомянутых пяти чувств, но лишь тогда, когда не укрывается само испытываемое впечатление; потому что огня того мы не видим, не слышим, не обоняем, не вкушаем, не ощущаем, а он не укрывается от нашей души потому, что виден дым. То, вследствие чего он не укрывается, не называется чувством, потому что от огня тело наше ничего не испытывает, а. называется познанием через чувство, потому что оно выведено и добыто из испытываемого телом впечатления, хотя и другого, т. е. из усмотрения другой вещи.
Еводий. Понимаю и вижу, что это отвечает и благоприятствует тому твоему определению, которое ты предоставил защищать мне, как мое собственное. Ведь, помнится, ты определил чувство так, что от души не укрывается то, что испытывает тело. Таким образом то, что дает нам видеть дым, мы называем чувством, потому что, видя его, наши глаза, которые суть части тела, испытывают определенное впечатление; но то, что мы узнаем огонь, от которого тело не испытывает ничего, мы не называем чувством.
Августин. Одобряю твою память и последовательность в суждениях; но эта ограда, защищающая определение, вот–вот упадет.
Еводий. Каким это образом?
Августин. Думаю, ты не станешь отрицать, что наше тело испытывает нечто, когда мы растем или стареем; очевидно также, что этого мы не ощущаем ни одним из своих чувств; однако же это не укрывается от души. Следовательно, от нее не укрывается нечто, что испытывает тело, но это никак нельзя назвать чувством. Видя большим то, что мы некогда видели меньшим, и видя стариками тех, о которых известно, что они были юношами и детьми, мы заключаем, что и наши тела испытывают некоторое того же свойства изменение даже в настоящее время, когда мы разговариваем. И в этом мы, полагаю, не обманываемся. Скорее я готов признать обман в том, что вижу, чем в той мысли, что волосы мои в настоящее время растут или что тело мое поминутно изменяется. Если это изменение есть состояние, испытываемое телом, — чего не отрицает никто, — и не чувствуется в настоящее время нами, а между тем и не укрывается от души, потому что не укрывается от нас, то тело, как я сказал, испытывает такое, что от души не укрывается, и однако же это не есть чувство. Поэтому определение, которое не должно было бы заключать в себе ничего такого, что не есть чувство, оказывается на деле неправильным, ибо заключает в себе таковое.
Еводий. Вижу, что мне остается только просить тебя, чтобы ты или дал другое определение, или исправил, если можешь, это, поскольку не могу отрицать его ошибочности в силу сказанного тобою, что я вполне одобряю.
Августин. Исправить это легко. Мне хотелось бы, чтобы ты на это решился. Поверь мне, что ты это сможешь, если только хорошо понял, в чем оно грешит.
Еводий. Да в чем же другом, как не в том, что обнимает чужое?
Августин. Но каким образом?
Еводий. А таким, что тело стареет; поэтому нельзя отрицать, что оно испытывает нечто; а если мы это знаем, то от души не укрывается нечто, что испытывает тело, и однако же этого нельзя воспринять никаким чувством, так как я в данное время не вижу, что я старею, не чувствую этого ни слухом, ни обонянием, ни вкусом, ни осязанием.
Августин. Откуда же тебе это известно?
Еводий. Заключаю об этом разумом.
Августин. На какие же основания опирается твой разум?
Еводий. На те, что я вижу других стариками, зная при этом, что и они некогда были столь же юными, как я теперь.
Августин. А то, что ты их видишь, разве не есть чувство?
Еводий. Кто отрицает это? Но из того, что я их вижу, я предполагаю, что старею и я, хотя этого не вижу.
Августин. Итак, какие же слова, по твоему мнению, нужно прибавить к тому определению, чтобы исправить его, если чувство есть не что иное, как испытываемое телом состояние, не укрывающееся от души, и однако же испытываемое так, что душа знает о нем не через другое какое–либо испытываемое ею впечатление или тому подобное?
Еводий. Скажи, пожалуйста, это несколько пояснее.
Глава XXV
Августин. Скажу, и с большим удовольствием. Но сосредоточься: то, что скажу я, будет иметь значение для всего дальнейшего. Определение должно содержать не более и не менее того, что нужно для уяснения дела; в противном случае оно неправильно. Действительно ли оно не имеет этих недостатков, это разъясняется перестановкой. Яснее ты увидишь это из следующих примеров. Положим, что ты спросил бы меня: что такое человек; а я определил бы его следующим образом: человек есть животное смертное. Из того, что сказанное мною истинно, не следует, что ты должен признать и определение верным. Прибавив к нему слово «всякий», ты должен сделать в нем перестановку и посмотреть, останется ли оно истинным и после перестановки, т. е. как истинно то, что всякий человек есть животное смертное, также ли истинно будет и то, что всякое животное смертное есть человек. Увидев, что последнее ложно, ты должен отвергнуть определение в силу того недостатка, что оно обнимает чужое: потому что не один только человек есть животное смертное, но и всякое бессловесное животное — смертно. Это определение человека обыкновенно исправляется тем, что к «смертному» прибавляется «разумное», потому что человек есть животное смертное и разумное, и как всякий человек есть животное разумное и смертное, так и всякое разумное и смертное животное есть человек. Следовательно, прежнее определение неправильно вследствие того, что обнимает лишнее, а последнее верно, потому что содержит всякого человека и не содержит ничего более, кроме человека. Но его можно неправомерно сузить, прибавив слово «грамотное». Ибо хотя всякое животное разумное, смертное и грамотное есть человек, однако очень многие люди, которые неграмотны, не будут подпадать под это определение. Итак, определение это в первоначальном виде будет ложным, но если сделать в нем перестановку, оно истинно. Ибо ложно, что всякий человек есть животное разумное, смертное и грамотное; но истинно, что всякое разумное, смертное и грамотное животное есть человек.
Но определение будет гораздо неправильнее обоих приведенных, если оно говорит ложь и в первоначальном предложении, и по перестановке. Таковы следующие два: человек есть животное белое; человек есть животное четвероногое. Скажешь ли, что всякий человек есть животное белое или четвероногое, или скажешь в обратном порядке, — одинаково скажешь ложь. Но разница будет в том, что первое определение простирается на некоторых людей, ибо немало есть людей белых; но последнее не простирается ни на кого, потому что четвероногого человека нет вообще. Усвой это на всякий случай для проверки определений, чтобы судить об их правильности, излагая их в виде предложения и делая в них перестановку. Много по этому предмету преподается и другого, многословного и очень темного; я постараюсь познакомить тебя с этим понемногу, когда это окажется кстати.
Теперь обрати внимание на данное нами определение и, рассмотрев его, как человек уже более сведущий, исправь. Мы нашли, что, будучи определением чувства, оно обнимает собою нечто, что не есть чувство, и поэтому, если сделать в нем перестановку, не будет истинно. Так истинно, пожалуй, то, что всякое чувство есть испытываемое телом состояние, не укрывающееся от души, как истинно и то, что всякий человек есть животное смертное; но как ложно то, что всякое смертное животное есть человек, потому что и бессловесное животное смертно, так ложно и то, что всякое испытываемое телом состояние, не укрывающееся от души, есть чувство, потому что у нас в настоящее время растут ногти и это от души не укрывается, мы это знаем, однако же не чувствуем, а узнаем посредством умозаключения. Чтобы исправить первое определение человека, мы прибавили к нему слово «разумное»; благодаря этому прибавлению из него исключены животные бессловесные, которые в нем содержались, и определение в таком виде не уже обнимает ничего, кроме человека, а человека обнимает всего. Не думаешь ли ты, что таким же точно образом следует прибавить нечто и к нашему определению чувства, чтобы этим исключить из него то, что содержится в нем чужого, и чтобы в нем не разумелось ничего, кроме чувства, а чувство разумелось все?
Еводий. Я думаю, что ты абсолютно прав, но что должно быть прибавлено, не знаю.
Августин. Чувство — это несомненно всякое испытываемое телом состояние, не укрывающееся от души; но выражение это не допускает перестановки по причине известного испытываемого телом состояния, когда оно растет или умаляется с нашего ведома, т. е. так, что это не укрывается от души.
Еводий. Верно.
Августин. Ну, а это испытываемое состояние само ли по себе не укрывается от души, или через что иное?
Еводий. Очевидно, через иное: потому что одно дело видеть ногти большими, и совсем другое — знать, что они растут.
Августин. Следовательно, если сам рост есть испытываемое состояние, а эта величина, которую мы чувствуем, произошла от этого испытываемого состояния, но сама не есть это состояние, то очевидно, что мы знаем об этом состоянии не через него, а через нечто иное. Мы скорее чувствовали бы это состояние, чем заключали о нем, если бы оно не укрывалось от души само по себе, а не через другое.
Еводий. Понимаю.
Августин. В таком случае чего же ты задумываешься над тем, что следует прибавить к этому определению?
Еводий. Теперь я знаю, что следовало бы определить так: чувство — это испытываемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся.
Августин. Если это так, я готов признать определение правильным. Но проверим, если угодно, не грешит ли оно тем другим недостатком, каким грешит определение человека, к которому прибавлено слово «грамотное». Ведь ты, полагаю, помнишь, что сказано было о человеке. Он есть животное разумное, смертное и грамотное; и что определение это неправильно потому, что оно истинно по перестановке, а в первоначальном изложении — ложно. Ибо то ложно, что всякий человек есть животное разумное, смертное и грамотное, хотя и истинно, что всякое животное разумное, смертное и грамотное есть человек. Определение это неправильно потому, что хотя и не содержит ничего, кроме человека, однако человека содержит не всякого. Может быть, таково же и это определение чувства, которое представляется нам пока вполне верным. Ибо хотя всякое испытываемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся, есть чувство, однако не всякое чувство есть именно это. Это ты можешь пояснить себе так. Животные бессловесные чувствуют и все почти обладают упомянутыми пятью чувствами в той мере, в какой дано им это природой; или ты отрицаешь это?
Еводий. Никоим образом.
Глава XXVI
Августин. А не согласишься ли ты с тем, что знание обретается лишь тогда, когда какой–либо предмет воспринят и воспроизведен здравым умом?
Еводий. Соглашусь.
Августин. Но бессловесное животное умом не пользуется.
Еводий. Согласен и с этим.
Августин. Следовательно, понятие «знание» к бессловесному животному не относится; но коль скоро что–нибудь не укрывается, оно познается; бессловесные животные поэтому не чувствуют, если только всякое чувство есть испытываемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся. А между тем они — чувствуют. После этого какие же причины могут удерживать нас от того, чтобы отвергнуть определение, которое оказалось не в состоянии объять всякое чувство, потому что в него не входит чувство бессловесных животных?
Еводий. Признаюсь, я ошибся, согласившись с тобой, что знание получается лишь тогда, когда что–либо воспринимается здравым умом. Когда ты об этом спрашивал, я принял в расчет одних только людей. О животных же бессловесных я хотя и не могу сказать, чтобы они пользовались разумом, но не могу отрицать у них и знания.
Думаю, что собака знала своего господина, если узнала его, как сказано (в «Одиссее»), спустя двадцать лет; о других бесчисленных примерах умолчу.
Августин. Скажи, пожалуйста, когда тебе представляются две вещи, — одна, которую нужно постигнуть, и другая, посредством которой ты можешь постигнуть, какой из них ты придаешь большее значение и какую предпочитаешь другой?
Еводий. Без всякого сомнения предпочитаю ту, которую нужно постигнуть.
Августин. Из этих же двух вещей, знания и разума, знанием ли мы постигаем разум или разумом — знание?
Еводий. Насколько мне представляется, та и другая вещь так тесно между собой связаны, что посредством той и другой можно постигать каждую. Ведь и сам разум мы не постигли бы, если бы не знали, что нужно его постигать. Поэтому знание стоит впереди, так как посредством его мы постигаем разум.
Августин. Ну, а само знание, которое, по твоим словам, стоит впереди, постигается без помощи разума?
Еводий. Я такого не говорил — это было бы величайшим безрассудством.
Августин. Стало быть, постигается разумом?
Еводий. Нет.
Августин. Неужто безрассудством?
Еводий. Почему это вдруг?
Августин. Так чем же, наконец?
Еводий. Ничем, ибо знание врождено нам.
Августин. Ты, кажется, забыл, с чем мы согласились выше, когда я спрашивал, думаешь ли ты, что знание образуется тогда, когда какой–либо предмет воспринимается здравым умом. Помнится, ты ответил, что человеческое знание представляется тебе именно таким; теперь же ты утверждаешь, что человек может иметь некоторое знание и тогда, когда воспринимает предмет безо всякого разумения. Разве не очевидно, что эти два положения противоречат друг другу? Поэтому я желал бы знать, какое из этих двух положений ты выбираешь; ведь то и другое одновременно никоим образом не могут быть истинными.
Еводий. Выбираю то, которое только что высказал; потому что с предшествующим я согласился, признаюсь, необдуманно. Ведь когда мы разумом ищем истинного, и это достигается посредством вопросов и ответов, каким образом разум мог бы дойти до последнего вывода, если бы предварительно не принял что–нибудь за верное? А каким образом он мог бы принять что–нибудь за верное, если бы это что–нибудь не было нами узнано? Следовательно: если бы этот разум не нашел во мне чего–либо познанного, опираясь на что он вел бы меня к непознанному, я решительно ничего не узнал бы через него, да и его самого не назвал бы разумом. Ввиду это ты напрасно не соглашаешься со мной, что в нас непременно существует некоторое знание прежде разума, от которого сам разум берет свое начало.
Августин. Я сделаю угодное тебе и позволю исправлять ошибки во всех тех случаях, когда ты будешь недоволен высказанным с чем–либо своим согласием. Но пожалуйста, не злоупотребляй этим и не относись небрежно к моим вопросам. В противном случае слишком часто неосмотрительно даваемое тобой согласие на что–либо заставит тебя сомневаться и в том, с чем ты согласился правильно.
Еводий. Продолжай начатое. Хоть я и сосредоточу, насколько смогу, свое внимание, потому что мне стыдно столько раз отступаться от своего мнения, однако я никогда не побоюсь воспротивиться этому стыду и исправить свою ошибку, особенно при твоем содействии. Упрямство не должно быть терпимо из–за того, что желательно постоянно.
Глава XXVII
Августин. Пусть же постоянство это утвердится в тебе как можно скорее — так приятна мне высказанная тобою мысль! Но пока будь как можно более внимательным к тому, что я хочу сказать. Спрашиваю: какое, по–твоему, различие между разумом и умозаключением?
Еводий. Я недостаточно силен, чтобы указать это различие.
Августин. В таком случае скажи, полагаешь ли ты, что человеку — юноше или мужу, пожалуй даже (скажем безо всяких околичностей) что и мудрому, если только ум у него здрав, разум присущ непосредственно и постоянно, как здоровое, например, состояние телу, если оно не страдает от язв и от ран; или напротив, как способность, например: ходить, сидеть, говорить, — может то проявляться, то не проявляться?
Еводий. Я полагаю, что здравому уму всегда присущ разум.
Августин. Ну, а то, что мы, спрашивая ли другого, или сопоставляя одно с другим, с чем уже согласились прежде или что очевидно само по себе, доходим до познания какой–либо вещи, — это всегда делается именно нами или с помощью стороннего мудреца?
Еводий. Не всегда. Ибо и всякий человек, и человек мудрый, как я полагаю, не всегда сам ли по себе, или с кем другим, доискивается чего бы то ни было посредством рассуждения: потому что тот, кто доискивается, еще не нашел; следовательно, если бы он всегда доискивался, то никогда бы не находил. Но мудрый нашел уже по крайней мере (чтобы не упоминать о чем–либо другом) саму мудрость, которой, будучи еще глупым, доискивался пожалуй и посредством рассуждения, или каким–либо иным способом.
Августин. Ты говоришь верно. Так уясни же, пожалуйста, для себя, что то не есть сам разум, когда мы посредством чего–либо, с чем согласились или что знаем, доходим до чего–то прежде неизвестного; потому что это, как мы теперь согласились с тобою, не всегда присуще здравому уму; а разум присущ всегда.
Еводий. Понимаю, но к чему это?
Августин. А к тому, что незадолго до этого ты сказал (и я, по–твоему, непременно должен был с этим согласиться), что мы имеем знание прежде разума, на том основании, что разум, ведя нас к неизвестному, опирается на что–либо уже известное; между тем как в настоящее время мы нашли, что это, когда оно делается, не следует называть разумом; потому что здравый ум не всегда это делает, хотя разум имеет всегда; а это, пожалуй, правильно называется умозаключением, так как разум есть своего рода взор ума, а умозаключение — разумное исследование, т. е. движение этого взора по всему, что подлежит обозрению. Последнее нужно для того, чтобы найти, а разум — чтобы видеть. Итак, когда этот взор ума, который мы называем разумом, будучи брошен на какой–либо предмет, видит его, — это называется знанием; а если ум не видит, хотя и напрягает взор, — это называется невежеством или незнанием. Ведь и этими телесными глазами не всякий, кто смотрит, видит; это мы легко замечаем в темноте. Из этого, полагаю, ясно, что одно дело взор, и совсем другое — видеть; в уме эти две вещи мы называем разумом и знанием. Но, может быть, ты хочешь что–либо возразить или находишь это различением недостаточно ясным?
Еводий. Я доволен этим различением и охотно с ним соглашаюсь.
Августин. В таком случае скажи, для того ли, по твоему мнению, мы бросаем взор, чтобы видеть, или для того мы видим, чтобы бросить взор?
Еводий. Ни один слепой, конечно, не усомнится, что взор существует для того, чтобы видеть, а не наоборот.
Августин. Следовательно, мы должны признать, что видеть имеет гораздо большую цену, чем иметь взор.
Бводий. Несомненно.
Августин. Следовательно, и знание имеет большую цену, чем разум.
Еводий. Нахожу это заключение последовательным.
Августин. Полагаешь ли ты, что бессловесные животные лучше и счастливее людей?
Еводий. Пусть Бог хранит от подобного безумия.
Августин. Ты пришел в ужас вполне справедливо; но к этому нас приводит высказанное тобой положение. Ты сказал, что они имеют знание, но не имеют разума. Человек же имеет разум, посредством которого с трудом достигает знания. Но пусть он достигает и легко; что такого особенного придает нам разум, что мы считаем себя выше бессловесных животных, если они имеют знание, а знание, как оказалось, следует ценить выше, чем разум?
Глава XXVIII
Еводий. Я вынужден или не допускать знания в бессловесных животных, или признать без возражений их действительное превосходство надо мною. Но объясни мне, пожалуйста, свойство того, что я упомянул о собаке Улисса: ведь вызванное ею удивление и побудило меня лаять на ветер.
Августин. Да неужели ты действительно думаешь, что это знание, а не просто только известная сила чувства? Чувством превосходят нас многие бессловесные (отыскивать причину этого теперь неуместно); но умом, разумом, знанием Бог поставил нас выше их. Упомянутое чувство в соединении с привычкой, которая имеет большую силу, может различать то, что подобным душам доставляет удовольствие, и может различать тем легче, что душа животных более привязана к телу, которому принадлежат эти чувства и которым она пользуется для жизни и удовольствия, получаемого ею от того же самого тела. Человеческая же душа посредством разума и знания, о которых у нас речь и которые несравненно превосходнее чувств, возвышается, насколько может, над телом, и охотнее наслаждается тем удовольствием, которое внутри нее; а чем более вдается в чувства, тем более делает человека похожим на скота. От этого бывает, что и плачущие дети, чем более они чужды разума, тем легче различают чувством даже прикосновение или приближение кормилиц, и не могут выносить запаха других женщин, к которым не привыкли.
Поэтому, хотя бы я и прервал одним другое, я с удовольствием занялся бы беседой такого свойства, которая убедила бы душу не погружаться в чувства более, чем того требует необходимость, а отвлекаясь от них, сосредоточиваться более в самой себе и младенчествовать в отношении к Богу. Последнее и значит, совлекши человека ветхого, сделаться человеком новым. Начинать с этого — прямая необходимость по причине пренебрежения законом Божьим, и в божественных Писаниях ничего не излагается с такой истиной и таинственностью. Я желал бы поговорить об этом поболее, чтобы, под предлогом советов тебе, убедить и себя самого заботиться лишь о том, чтобы отдать себя обратно самому же себе, у которого я особенно в долгу; а через это сделаться и для Бога, как говорит Гораций, слугою — другом Господину. А последнее решительно невозможно, если мы не преобразуем себя по Его образу, который Он дал для сохранения, как нечто самое драгоценное и любезное, когда дал нам нас же самих такими, что выше нас нельзя считать ничего, кроме Него самого. На мой взгляд нет дела более трудного и нет дела более похожего на прекращение деятельности: ни предпринять, ни выполнить его душа не может без помощи того, кому она отдает себя обратно. Поэтому–то человек должен преобразовывать себя по милосердию Того, Чьею благостью и властью он образован.
Но мы должны возвратиться к предмету нашего разговора. Находишь ли ты для себя теперь доказанным, что бессловесные животные не имеют знания и что все то, чему мы удивляемся в них, как имеющему некоторое подобие знания, есть сила чувства?
Еводий. Это действительно доказано; и если по этому предмету остаются некоторые вопросы, которые следовало бы разрешить, я воспользуюсь для того другим временем; а теперь я желал бы знать, какое ты из этого выведешь следствие?
Глава XXIX
Августин. А какое другое, по твоему мнению, как не то, что вышеприведенное определение чувства, заключавшее в себе сперва что–то большее, чем чувство, оказывается в настоящее время страдающим противоположным недостатком, потому что не может обнимать всякое чувство? Ибо бессловесные животные имеют чувство и не имеют знания; а между тем, что не укрывается, то познается; а все, что познается, без сомнения, относится к знанию. Со всем этим мы с тобой уже согласились. Следовательно, или неверно то, что чувство есть испытываемое телом состояние, не укрывающееся от души, или же его бессловесные животные не имеют, так как у них нет знания. Но мы признали за бессловесными животными чувство. Следовательно, неправильно определение.
Еводий. Признаюсь, мне нечего против этого возразить.
Августин. Обрати внимание еще на одно обстоятельство, которое должно заставить нас еще более стыдиться за это определение. Ты помнишь, конечно, что третий из указанных тебе недостатков определения, безобразнее которого ничего быть не может, заключается в том, что определение является ложным во всех отношениях. Таково известное определение человека: человек есть животное четвероногое. Кто говорит и доказывает, что всякий человек есть животное четвероногое, или — что всякое животное четвероногое есть человек, тот несомненно сумасшедший, если не шутит.
Еводий. Ты говоришь правду.
Августин. Ну, а если окажется, что и наше определение чувства страдает таким же недостатком, не следует ли, по твоему мнению, устранить и выбросить его из головы с большей решительностью, чем что–либо другое?
Еводий. Кто это станет отрицать? Но я не желал бы, если это возможно, чтобы ты еще долго удерживал меня на этом предмете и терзал своими вопросами.
Августин. Не бойся — дело уже подходит к концу. Или, так как речь идет о различии между бессловесными животными и людьми, ты, быть может, еще не убедился, что одно дело чувствовать, а другое — знать?
Еводий. Убедился.
Августин. Итак, одно — чувствовать, другое — знать?
Еводий. Именно.
Августин. Но мы ведь чувствуем не разумом, а зрением, слухом, обонянием, вкусом или осязанием.
Еводий. Согласен.
Августин. Все же, что мы знаем, знаем разумом; поэтому никакое чувство не есть знание. А что не укрывается, то относится к знанию; следовательно, то, что какая–либо вещь не укрывается, также точно не относится к какому–либо чувству, как к какому–либо человеку нельзя правильно отнести называние четвероногого. Поэтому то наше определение, принятое тобою, как оказалось, не только входит в чужую область и опускает кое–что свое, но даже вовсе своего не имеет, а содержит все чужое.
Еводий. Что же мы станем теперь делать? Неужели ты допустишь, чтобы с этим оно и ушло с твоего суда? Хотя защиту его, как мог, вел я, но саму формулу процесса, которая обманула нас, составил ты. Если я и не смог выиграть дела, я вел его, по крайней мере, добросовестно: этого для меня достаточно. Но ты, который, с одной стороны, побудил его смело вступить в тяжбу, а с другой, своими опровержениями заставил со стыдом отказаться от нее, — что станешь делать ты, если тебя станут обвинять в злоупотреблении доверенностью?
Августин. Да разве есть какой–нибудь судья, которого я из–за этого должен был бы опасаться? Я, как частным образом приглашенный юрист, хотел опровергать тебя только для того, чтобы ты запасался нужными сведениями, и когда дойдет дело до суда, явился на него приготовленным.
Еводий. Так стало быть есть нечто, что ты можешь сказать в пользу этого определения, которое по необходимости вверил для защиты и сохранения мне, немощному?
Августин. Разумеется есть.
Глава XXX
Еводий. Что же это такое, скажи на милость?
Августин. А вот что. Хотя одно дело чувство, и совсем другое — знание, однако то их свойство, по которому что–либо от души не укрывается, обще им обоим; как обще человеку и бессловесному животному свойство животного, хотя они и весьма различаются между собой. Ибо не укрывается то, что является душе или через телесную организацию, или через умственный просвет; первое составляет принадлежность чувства, последнее — знания.
Еводий. Следовательно, то определение остается неприкосновенным и верным?
Августин. Без сомнения, остается.
Еводий. Так в чем же состояла моя ошибка?
Августин. Ошибка состояла в том, что ты, не обдумав как следует дела, отвечал утвердительно, когда я спросил тебя: все ли то, что не укрывается, познается?
Еводий. А как же я, по–твоему, должен был бы отвечать?
Августин. Если что–либо не укрывается, это не всегда есть знание, но лишь тогда, когда не укрывается благодаря разуму; а если не укрывается благодаря телу, то называется чувством, коль скоро испытываемое телом состояние не укрывается само по себе. Разве ты не знаешь, что некоторые философы и мужи весьма остроумные полагали, что даже и то, что понимается умом, не подходит под название знания, если понимание не будет так твердо, что поколебать его в уме нельзя будет никаким доводом?
Еводий. Весьма благодарен за это разъяснение. Но так как уже со всей, по моему мнению, тонкостью показано, что такое чувство, то возвратимся, пожалуй, к тому вопросу, ради которого мы входили в это разъяснение. В доказательство, что душа имеет такой же объем, как и ее тело, я привел тот аргумент, что, начиная с головы и до последнего пальца ноги, она чувствует прикосновение всюду, где бы ты его не произвел; это и послужило поводом к тому, что мы перешли к определению чувства, задержавшему нас столь надолго, хотя, быть может, это и необходимо для дела. Так покажи же теперь пользу этого труда, если она, конечно, есть.
Августин. Есть несомненно, и притом весьма большая: все, чего мы добивались, сделано. Для того, чтобы усвоить как можно тверже, мы продолжительнее, чем ты желал, рассуждали о том, что чувство есть испытываемое телом состояние, не укрывающееся от души; помнишь ли ты то наше открытие, что глаза чувствуют или лучше испытывают известное состояние там, где их нет?
Еводий. Помню.
Августин. Если не ошибаюсь, ты также согласился, или по крайней мере не сомневаешься, что следует согласиться
и с тем, что душа гораздо лучше и могущественнее, чем всякое тело?
Еводий. Сомневаться в этом я считаю преступным.
Августин. В таком случае, если тело, в силу некоего соединения с душой, может испытывать известное состояние там, где его нет, что, как выяснилось, случается с глазами при зрении, то неужели мы душу, благодаря которой обнаруживают такую силу сами глаза, признаем до такой степени грубой и неповоротливой, что от нее укрывалось бы испытываемое телом состояние, даже если она и не находится там, где происходит само это испытываемое состояние?
Еводий. Это заключение поражает меня настолько сильно, что я чувствую себя загнанным в угол и не знаю не только что отвечать, но и того, где я нахожусь. В самом деле, что мог бы я возразить? Что то не есть чувство, когда испытываемое телом состояние само по себе от души не укрывается? Но чем же оно будет, если не этим? Или что глаза ничего не испытывают, когда мы видим? Но это нелепо. Или они испытывают там, где они находятся? Но они не видят самих себя, и там, где они, нет ничего, кроме них же самих. Или что душа не могущественнее глаз, хотя она–то и есть основание их силы? Но бессмысленнее этого ничего нет. Уж не следует ли сказать, что высшую степень могущества составляет испытывать там, где что–либо находится, чем там, где не находится? Но если бы это было верно, зрение не было бы превосходнее остальных чувств.
Августин. А что значит, что когда глаза, например, испытывают какой–нибудь удар, порез или изменение влажности, — испытывают там, где они находятся, — и когда это от души не укрывается, то это называется не зрением, а ощущением; и притом все подобное глаз может испытывать и в бездушном теле, хотя бы и не было души, от которой испытываемое состояние не укрывалось бы; а то, чего глаз не может испытывать иначе, как при условии, чтобы ему была присуща душа, т. е. то, что испытывает он в зрении, то лишь одно он испытывает там, где сам не находится? Не видно ли из этого всякому, что душа не содержится ни в каком месте, коль скоро глаз, который есть тело, испытывает не в своем месте лишь то, чего никогда не испытывает без души.
Еводий. Скажи, пожалуйста, что же мне после этого делать? Ведь на этих основаниях можно заключать, что наши души не находятся в телах? А если это так, то ведь я же знаю, где я нахожусь? Кто вынудит меня признать, что я — не сама душа?
Августин. Не смущайся, отнесись к этому с большим оптимизмом. Это рассуждение обращает нас к нам же самим, и насколько это возможно, отвращает от тела. Хотя твое заключение, что душа не находится в теле существа живого и одушевленного и кажется нелепостью, однако были, и полагаю, есть и теперь весьма ученые мужи, которые так именно и думали. Ты понимаешь сам, что это предмет весьма тонкий и требует для своего рассмотрения достаточно очищенного умственного взора. В данном случае подумай лучше, какое ты можешь представить другое основание, чтобы доказать, что душа длинна или широка, или что–либо в том же роде: потому что сам видишь, что тот твой аргумент об ощущении прикосновения — к истине не прикасается и нисколько не доказывает, что душа разлита по всему телу, как кровь, например. Но если тебе добавить нечего, перейдем к рассмотрению того, что осталось.
Глава XXXI
Еводий. Может быть, я и не имел бы что добавить, если бы не вспомнил, сколь мы, будучи отроками, удивлялись, как дергались хвосты ящериц, отделенные от остального тела; я никоим образом не могу представить себе, чтобы подобное движение совершалось без души, и не понимаю, как это душа не имеет никакого протяжения, если она может быть рассекаема вместе с телом.
Августин. В ответ на это я мог бы указать тебе на воздух и огонь: эти две стихии удерживаются в теле земном и влажном присутствием души, чтобы составлялось смешение всех четырех; а когда душа отходит от тела, устремляются вверх, и высвобождаясь, движут эти тела тем быстрее, чем неожиданнее они вырываются в свежесделанную рану; а затем движение ослабевает и, наконец, прекращается, коль скоро убегающее делается все меньшим и улетучивается вовсе. Но меня останавливает то, что я наблюдал этими самыми глазами, — наблюдал, пожалуй, позже, чем можно тому поверить, но на самом деле не позже, чем я должен был наблюдать. Недавно, когда мы были в Лигурии, юноши наши, бывшие в то время со мною ради своих научных занятий, лежа на земле в тенистом месте, заметили многоножное пресмыкающееся животное, т. е. некоего длинного червя. Животное это известно всем, но того, о чем я хочу сказать, я никогда в нем не наблюдал. Один из юношей, повернув стиль, который случайно держал в руках, рассек животное пополам: тогда обе части тела разошлись в противоположные стороны с такой скоростью и с таким неослабным напряжением движения, как будто бы это были два животные одного и того же рода. Пораженные этим дивом и любопытствуя знать причину, юноши тотчас же принесли эти два живые куска к нам, на место, где мы сидели вместе с Алипием. С немалым удивлением наблюдали и мы, как они могли бегать по доске в разные стороны и как один из них, тронутый стилем, сворачивался в сторону болевшего места, между тем как другой не чувствовал ничего и продолжал свои собственные движения в другом месте. Да чего же более? Мы производили опыты, пока было можно, и червяка, даже — червей, уже рассекали на множество частей: все они двигались так, что, если бы это не было сделано нами и не были бы видны свежие раны, мы бы решили, что их столько же и родилось отдельно и что каждый из них жил сам по себе.
Но то, что я сказал в ту пору этим юношам, когда они с напряженным вниманием обратились ко мне, то я опасаюсь в настоящее время сказать тебе. Мы уже настолько продвинулись вперед, что не ответь я тебе иначе, так, чтобы это служило в пользу защищаемого мною мнения, существенное положение наше, подкрепленное таким долгим рассуждением, окажется рухнувшим, будучи подточено одним червяком. Тем я приказал, чтобы в своих научных занятиях они, как начали, так и продолжали держаться определенного порядка; что в свое время им будет удобнее приступить к исследованию и изучению этого, если это окажется нужным. Но если бы я захотел изложить то, о чем, по удалении их, я рассуждал с Алипием, когда каждый из нас со своей собственной точки зрения припоминал виденное, высказывал предположения, задавался вопросами, — то нам пришлось бы говорить гораздо больше, чем мы говорили с тобой с самого начала со всеми отступлениями и околичностями. Впрочем, я не скрою от тебя, что думаю. Если бы в то время мне не было уже известно многое касательно тела, вида, присущего телу, места, времени, движения, о чем весьма тонко и темно рассуждается по поводу этого же самого вопроса, я бы склонился признать победу за теми, которые говорят, что душа есть тело. Поэтому, насколько могу, я еще и еще убеждаю тебя, не предавайся безрассудно книгам или рассуждениям людей слишком болтливых и до крайности доверяющих этим телесным чувствам, пока не исправишь и не утвердишь стези, которые ведут душу к самому Богу; чтобы научные занятия и труды еще легче, чем бездействие и праздность, не отвратили тебя от этого таинственнейшего и спокойнейшего убежища ума, от которого он странствует в настоящее время в удалении, пока обитает здесь.
Теперь же, в противовес тому, что, как я чувствую, приводит тебя в крайнее недоумение, выслушай из многого не то, что тяжеловеснее, а то, что короче; я не мог выбрать того, что для меня вероятнее остального, а мог выбрать то, что более подходит для тебя.
Еводий. Говори, пожалуйста, как можешь скорее.
Августин. Прежде всего скажу следующее. Если причина, от которой при рассечении некоторых тел это происходит, неизвестна нам, из–за этого одного мы не должны еще приходить в смущение до такой степени, чтобы считать ложным то многое, что перед тем казалось яснее света. Ведь может случиться, что причина этого неизвестна нам потому, что она скрыта от самой человеческой природы; или быть может она и известна какому–нибудь человеку, но он не может быть нами спрошен, или если бы и был спрошен, не мог бы удовлетворить нас, так как мы не владеем нужными для того способностями ума. Неужели вследствие этого у нас должно быть отнято то, что мы изучили самым основательным образом и что признаем за самое истинное? Если же все то верное и несомненное, что отвечал ты на мои вопросы, остается неприкосновенным, то нам нечего по–детски бояться упомянутого червячка, хотя бы мы и не в состоянии были представить причину его живучести и множественности. Ведь если бы ты имел о ком–нибудь твердое и несомненное убеждение, что он человек добрый, и застал бы его на пиру с разбойниками, которых преследовал, причем по какой–нибудь случайности он умер бы прежде, чем мог быть тобою спрошенным, ты, хотя это для тебя навсегда и осталось бы тайной, придумал бы скорее какую угодно причину его сообщества и пиршества со злодеями, чем злодейство и соучастие в злодействе. Так почему же и в данном случае, когда множеством вышеприведенных доказательств, которые и сам ты обсудил основательнейшим образом, для тебя уяснилось, что душа не содержится в определенном месте и потому не имеет никакого такого количества, какое видим мы в теле, — почему ты для объяснения, отчего некоторое животное, будучи рассечено, живет во всех частях, не предположишь другой какой–нибудь причины, но только не той, чтобы душа могла быть рассекаема вместе с телом? Если этой причины мы открыть не можем, то не следует ли скорее искать истинного, чем верить ложному?
Глава XXXII
Затем я спрошу у тебя: думаешь ли ты, что в наших словах звук — это одно, а то, что обозначается звуком, — совсем другое?
Еводий. По моему мнению — это одно и тоже.
Августин. В таком случае скажи, откуда происходит сам звук, когда ты говоришь?
Еводий. Кто усомнится в том, что он от меня же и происходит?
Августин. Стало быть, от тебя происходит и солнце, когда ты называешь солнце?
Еводий. Ты спрашивал меня о звуке, а не о самом предмете.
Августин. Следовательно, звук — одно, а предмет — другое, обозначаемое звуком; а ты сказал, что то и другое — одно и тоже.
Еводий. Согласен, я ошибся.
Августин. В таком случае скажи, можешь ли ты, зная латинский язык, употребить название sol (солнце) так, чтобы звуку не предшествовало представление о солнце?
Еводий. Никак не могу.
Августин. Ну, а если прежде, чем название это сорвется с твоих уст, ты, желая его высказать, несколько времени пробудешь в молчании; не будет ли содержаться в твоей мысли то, что потом услышит другой?
Еводий. Это очевидно.
Августин. Но ведь солнце имеет огромную величину; так нельзя ли и понятие его, которое ты содержишь в мысли до произнесения слова, представлять длинным, широким и т. п.?
Еводий. Никак нельзя.
Августин. Теперь скажи мне: когда вырывается из уст твоих само название, и я, слыша его, представляю себе солнце, которое представил себе ты до произнесения и при самом произнесении слова, а теперь, быть может, представляем мы оба, — не кажется ли тебе, будто само название как бы получило от тебя то значение, которое передано мне посредством ушей?
Еводий. Кажется.
Августин. Следовательно, если само название состоит из звука и значения, звук же относится к ушам, а значение — к уму, то не полагаешь ли ты, что в названии, как бы в некотором одушевленном существе, звук представляет собой тело, а значение — душу звука?
Еводий. На мой взгляд — это звучит убедительно.
Августин. Теперь обрати внимание на то, может ли звук имени быть разделен на буквы, между тем как душа его, т. е. его значение, не может? Ведь несколько прежде ты сказал, что в нашей мысли оно не представляется тебе ни длинным, ни широким.
Еводий. Вполне с этим согласен.
Августин. Ну, а когда этот звук разделится на буквы, удерживает ли он, по твоему мнению, свое значение?
Еводий. Каким образом отдельные буквы могут иметь то значение, какое имеет составленное из них название?
Августин. Ну, а когда с разделением звука на буквы теряется значение, не кажется ли тебе, что делается нечто похожее на то, что бывает, когда из растерзанного тела исходит душа, и что с названием случается как бы некоторый род смерти?
Еводий. Соглашаюсь с этим, и притом так охотно, как ни с чем в этой речи.
Августин. Итак, если из этого сравнения ты достаточно себе уяснил, каким образом душа с расчленением тела может не рассекаться, то вникни теперь в то, каким образом могут жить сами куски тела, хотя бы душа и не была рассечена. Ты уже согласился, и согласился, по моему мнению, справедливо, что значение, составляющее как бы душу звука, когда произносится имя предмета, само по себе никоим образом не может быть делимо, между тем как звук, представляющий собой как бы его тело, может. Но в имени sol звук делится так, что ни одна часть его не удерживает никакого значения. Поэтому на буквы его, по разложении тела имени, мы будем смотреть как на члены, лишившиеся души, т. е. потерявшие значение. Но если найдем имя, которое, будучи разделено, может иметь какое–нибудь значение и в отдельных частях, то ты должен будешь согласиться, что рассечение в последнем случае не непременно производит нечто подобное смерти, потому что рассматриваемые отдельно члены покажутся тебе имеющими какое–нибудь значение и как бы дышащими.
Еводий. Разумеется соглашусь, и жду с нетерпением, чтобы ты произнес такое имя.
Августин. Изволь. По соседству с солнцем, об имени которого у нас шла речь выше, мне припоминается lucifer (Венера); если рассечь это слово между вторым и третьим слогом, оно в первой своей части, когда мы скажем luci, будет иметь некоторое значение, и следовательно этой большею половиною тела будет жить. Последняя часть также имеет душу, потому что когда тебе приказывают принести что–нибудь, ты слышишь эту часть. Разве ты мог бы повиноваться, когда кто–нибудь скажет тебе: Регcodicem, если бы слово fer ничего не означало? Когда это слово присоединяется к luci, оно произносится lucifer, и указывает на звезду; а когда отсекается от него, все же нечто значит, и потому как бы удерживает жизнь.
Но так как все, что подлежит чувствам, находится в известном месте и времени, или точнее — занимает известное место и время, то чувствуемое глазами разделяется по месту, а ушами — по времени. Как вышеупомянутый червяк, будучи целым, занимает больше места, чем его часть; так и когда произносится слово lucifer, требуется более продолжительное время, чем если бы говорилось только luci. Поэтому, если последняя часть слова живет значением при том уменьшении времени, какое сделано известным разделением звука, хотя само значение остается нераздельным (потому что протяжение во времени имеет не оно, а звук), то также точно следует полагать, что и по рассечении тела червяка, хотя часть его, именно потому, что была частью, и жила в меньшем месте, однако душа отнюдь не была рассечена и в меньшем месте не сделалась меньшей, хотя при целости животного владела разом всеми членами, простиравшимися на большое пространство. Ибо она владела не пространством, а телом, которое приводила в движение; также точно как известное значение слова, хотя протяжения во времени не имеет, однако как бы одушевляло и наполняло все буквы имени, имеющие каждая свою меру и протяжение. Этим подобием, которое, чувствую, тебе нравится, в настоящее время и удовольствуйся. Рассуждений же более тонких, для которых потребовались бы не подобия, по большей части обманывающие, а само дело, в настоящий момент не жди, потому что, с одной стороны, пора закончить и так затянувшуюся беседу, а с другой, чтобы проникнуть в предметы этого рода и постигнуть их, душа твоя должна предварительно усвоить многое другое, чего у тебя недостает; только тогда ты сможешь со всей ясностью понять, действительно ли оно так на деле, как говорят о том некоторые ученейшие мужи, т. е. душа сама по себе делима быть не может, но через тело — может.
Теперь же, если хочешь, выслушай, или лучше — узнай, какова душа не по объему места и времени, а по силе и могуществу, ибо таковы, если помнишь, наши первоначальные предположения и распорядок. О числе же душ, хотя и это относится к тому же вопросу, я не знаю, что тебе сказать. Скорее я сказал бы, что об этом вовсе не следует спрашивать или что тебе следовало бы подождать с этим вопросом, чем сказал, что число и множество не относится к количеству или что по отношению к такому темному вопросу я в настоящее время не могу ничем тебе помочь. Ведь если бы я сказал, что душа одна, ты бы зашумел, что в одном–де она блаженна, в другом — несчастна, и что одна и та же вещь в одно и то же время не может быть и блаженной, и несчастной. А если бы я сказал, что она одна и в то же время их много, ты стал бы смеяться; а я не имел бы под руками ничего, чем мог бы вовремя сдержать твой смех. А если бы я сказал только, что их много, я посмеялся бы сам над собою и скорее выдержал бы твое, чем свое неудовольствие на себя. Поэтому выслушай от меня то, что, по моему мнению, ты можешь выслушать с пользой; а что для обоих или для одного из нас так тяжеловесно, что может подавить, того не желай ни поднимать, ни налагать.
Еводий. Согласен и надеюсь, что, насколько это будет по силам моей душе, ты изложишь то, о чем можно говорить со мной с пользой для меня.
Глава XXXIII
Августин. О, если бы мы оба могли спросить об этом какого–либо ученейшего, и притом красноречивейшего и во всех отношениях мудрейшего и совершеннейшего человека! Как прекрасно в своей речи и рассуждениях он разъяснил бы, какую силу имеет душа в теле, какую сама в себе, какую у Бога, к Которому она, будучи чистой, весьма близка, и в Котором имеет для себя высшее и всяческое благо! Теперь же, когда мне недостает такого человека, я вынужден предложить тебе только свои услуги. Выгода здесь заключается в том, что в ту пору, как я, неученый, буду объяснять, какую силу имеет душа, я без опасения испробую, какую силу имею сам я. Прежде всего, однако, я урежу твои слишком широкие и безграничные ожидания: не думай, что я буду говорить о всякой душе, но только — о человеческой, о которой одной мы должны заботиться, если обязаны заботиться о себе. Итак, во–первых, она, как это легко видеть всякому, животворит своим присутствием это земное и смертное тело; собирает его в одно и содержит в единстве, не дозволяя ему распадаться и истощаться; распределяет питание равномерно по членам, отдавая каждому из них свое; сохраняет его стройность и соразмерность не только в том, что касается красоты, но и в том, что касается роста и рождения. Все это, впрочем, может казаться общим человеку с деревьями, поскольку и о последних мы говорим, что они живут, и видим и утверждаем, что каждое из них в своем роде сохраняет себя, питает, растет, рождает.
Взойди поэтому на другую ступень и посмотри, какой силой располагает душа в чувствах, где жизнь проявляется очевиднее и яснее. Ибо не следует обращать внимания на то нечестие, вполне грубое и более деревянное, чем сами деревья, которое оно берет под свое покровительство, — нечестие, которое верит, что виноградная лоза чувствует боль, когда с нее срывают кисть, и что деревья не только чувствуют, но и видят и слышат, когда их рубят; для разбора этого святотатственного заблуждения будет приличным другое место. Теперь, как я предположил, обрати внимание на то, какую силу обнаруживает душа в чувствах и в самом движении существа более наглядно одушевленного, — в чувствах и в движении, в которых у нас нет ничего общего с теми, которые прикреплены к месту корнями. Душа простирается в ощущение и в нем чувствует и различает теплое и холодное, шероховатое и гладкое, твердое и мягкое, легкое и тяжелое. Затем, вкушая, обоняя, слушая, видя, она различает бесчисленные особенности вкусов, запахов, звуков, форм. И во всем этом то, что соответствует природе ее тела, она принимает и стремится к тому, а что противоположно этой природе, то отвергает и от этого бежит. В известный промежуток времени она отвлекается от этих чувств и восстанавливает их чувствительность как бы посредством своего рода праздников, перебирает сама по себе целыми рядами и на разные манеры образы вещей, которые через них получила; все это и составляет собой сон и сновидения. Делая разные телодвижения и бродя туда и сюда, она нередко находит удовольствие в самой легкости движения и без труда приводит члены в гармонию; для соединения полов делает что может, и общением и любовью двойственную природу обращает в одну; склоняет не только к рождению, но и к ласке, защите и кормлению детей. Силой привычки привязывается к вещам, через среду которых проводит тело и которыми тело поддерживает, и отрывается от них, будто от членов, с болью; эта сила привычки, не разрываемая самой разлукой с вещами и промежутком времени, называется памятью. Но всю эту силу, как согласится каждый, душа проявляет и в бессловесных животных.
Итак, поднимись на третью ступень, которая составляет уже собственность человека, и представь эту память бесчисленных вещей, не приросших силою привычки, а взятых на сохранение и удержанных наблюдательностью и при помощи условных знаков; эти разные роды искусств, возделывание полей, постройки городов, многоразличные чудеса разнообразных сооружений и великих предприятий, изобретения стольких знаков в буквах, в словах, в телодвижениях, во всякого рода звуках, в живописи и ваянии; столько языков у народов, столько учреждений, то новых, то восстановленных; такую массу книг и всякого рода памятников для сохранения памяти и такую заботливость о потомстве; эти ряды должностей, властей, почестей и санов в быту ли то семейном, или в государственном внутреннем и военно–служебном, в светском ли то или в священном культе; эту силу соображения и вымысла, потоки красноречия, разнообразие поэтических произведений, тысячи видов подражания ради потехи и шутки, искусство музыкальное, точность измерений, науку вычислений, разгадку прошедшего и будущего на основании настоящего. Велико все это и вполне человечно. Но все это богатство еще обще, с одной стороны, душам ученым и неученым, с другой, — добрым и злым.
Теперь подними свой взор выше и впрыгни на четвертую ступень, с которой начинается доброта и все то, что действительно заслуживает похвалы. Начиная с этой ступени душа осмеливается предпочитать себя не только своему телу, хотя и составляющему некоторую часть мирового, но и самому мировому телу, и не считать его блага своими благами, а по сравнению с собственным могуществом и красотой, отделять и презирать их; и затем, чем более любит себя, тем более удаляется от нечистот, очищает себя от всякой телесной грязи и старается всячески о возможной красоте своей и убранстве; борется против всего, что становится ей на пути, чтобы отклонить ее от ее предположений и намерений; высоко ценит общество человеческое и не желает другому ничего такого, чего не хочет себе; повинуется авторитету и заповедям мудрых, и верит, что через них говорит с нею Бог.
Этому светлому стремлению души присущ еще труд и великое и тягостное столкновение со скорбями и прелестями этого мира. Ибо с самим делом очищения соединяется страх смерти, часто невеликий, но часто и весьма сильный. Невелик он бывает тогда, когда в простоте сердца верится (ибо видеть, действительно ли оно так, можно душе только вполне очистившейся), что все управляется божественным провидением и правдой так, что смерть не может несправедливо прилуниться никому, хотя бы нанес ее человек несправедливый. Но боязнь смерти становится сильной и на этой уже ступени, когда дело очищения тем менее представляется прочным, чем заботливее о нем стараются, и кажется меньшим оттого, что по причине страха уменьшается спокойствие, крайне необходимое для исследования таинственных вещей. Затем, чем более душа в силу самого своего успеха чувствует, как велико различие между нею чистою и нею же оскверненною, тем более опасается, что, когда она сложит это тело, Бог ее, оскверненную, может потерпеть еще менее, чем терпит она сама. А нет ничего труднее, чем бояться смерти, и в то же время воздерживаться от прелестей этого мира, как требуют того сами опасности. Но такова сила души, что она может успевать и в этом при помощи правды высочайшего и истинного Бога, которою весь этот мир поддерживается и управляется, которая делает и то, что не только все существует, но и так существует, что существовать лучше решительно не может. Этой правде с великим благочестием и твердой надеждой она и вверяет себя в столь трудном деле своего очищения, чтобы она помогла ей и усовершила ее.
Когда это совершится, т. е. когда душа будет свободна от всякого тления и омыта от скверн, тогда, наконец, она почувствует себя исполненною величайшей радостью, нисколько не боится за себя, не испытывает никакой тревоги за свое положение. Это составляет пятую ступень. Ибо одно дело — добиваться чистоты, и совсем иное — иметь ее; и совершенно одно дело — очищать себя оскверненную, другое же — не дозволять снова оскверняться. На этой ступени душа чувствует свою силу во всех отношениях; а когда почувствует это, тогда с великой и невероятной уверенностью устремляется к Богу, т. е. к самому созерцанию истины, и это составляет высочайшую и таинственнейшую награду, ради которой столько было затрачено труда.
Но это действие, т. е. стремление души к уразумению того, что существует истинным и высочайшим образом, представляет собой высшее созерцательное состояние души. Совершеннее, лучше и нормальнее его нет для души ничего. Это — шестая ступень. Ибо одно дело — очищать сам глаз души, чтобы он не смотрел напрасно и бесцельно и не видел превратно; другое — сохранять и укреплять его здоровье; и совсем иное — обращать ясный и прямой взор на то, что подлежит рассмотрению. Те, которые хотят делать последнее прежде, чем будут очищены и получат исцеление, до такой степени болезненно поражаются этим светом истины, что не только не находят в нем ничего доброго, но даже, напротив, находят в нем весьма много дурного, отказывают ему в названии истины и с некоторым сладострастием и жалким наслаждением, проклиная врачевание, погружаются обратно в свой мрак, который болезнь их только и может выносить. Поэтому–то по божественному вдохновению и вполне правильно говорит пророк: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50. 12). Дух правый, по моему мнению, делает то, что душа в изыскании истины не может уклоняться от прямого пути и заблуждаться. А такой дух не обновится в ней прежде, чем сердце не будет чистым, т. е. прежде, чем само помышление не устранится и не очистится от всякого пожелания и всякой нечистоты смертных вещей.
А что скажу я тебе об этой радости, о наслаждении высочайшим и истинным благом, о тихом мерцании света и вечности, присущих этому видению и созерцанию истины, которое составляет седьмую и последнюю ступень души — даже и не ступень, а некоторое постоянное пребывание, в которое восходят всеми предшествующими ступенями? Об этом сказали, насколько сочли нужным сказать, некоторые великие и несравненные души, о которых мы думаем, что они видели и видят это. Со своей стороны, с полной уверенностью скажу тебе одно: если мы будем с постоянством держаться того направления, которое предписывает нам Бог и которого мы решились держаться, то мы достигнем при помощи силы и мудрости божественной той высочайшей причины, или высочайшего виновника бытия, или высочайшего начала всех вещей, или иным образом, более соответственно, называемой вещи, постигнув которую, мы действительно увидим, что все под солнцем — суета суетствующих.
Суета есть ложь, а под суетствующими разумеются или обманутые, или обманывающие, или те и другие вместе. Но вместе с тем мы будем в состоянии распознать, какое различие между этим и тем, что существует истинно и каким образом и это все сотворено Богом–творцом, и как оно, будучи по сравнению с тем ничтожно, рассматриваемое само по себе кажется удивительным и прекрасным. Тогда узнаем, как истинно то, чему ведено нам веровать; как прекрасно и в высшей степени спасительно мы были воспитаны матерью–церковью; как велика была польза того молока, о котором апостол Павел сказал, что он дал его в питье младенцам (1 Кор. 3. 2). Принимать эту пищу, когда кто–либо кормится матерью, в высшей степени полезно; но принимать тогда, когда уже вырос, стыдно; отвергать ее, когда она нужна, достойно сожаления; порицать же ее когда бы то ни было или ненавидеть — злодейство и несчастье; а готовить и надлежащим образом раздавать ее — дело в высшей степени похвальное и полное любви. И в этой телесной природе, коль скоро она повинуется законам божественным, увидим такие смены и чередования, что само воскресение плоти, которому частью верят с большим трудом, частью же вовсе не верят, признаем за несомненное до такой степени, что для нас не будет вернее восход солнца после захода. Наконец и таких, которые смеются над человеком, воспринятым от могущественнейшего, вечного и неизменного Сына Божия во образ и начаток спасения и родившегося от Девы, и над другими чудесами этой истории, и таких мы станем презирать, как тех детей, которые, увидев живописца, рисующего с лежавших перед ним картин, на которые он посматривал, думают, что человек иначе и не может рисовать, как только посматривая при этом в другую картину. При этом в созерцании истины, насколько каждый в состоянии ее созерцать, такое наслаждение, такая чистота, такая неподдельность, такая несомненная достоверность, что каждый полагает, что кроме этого он никогда ничего не знал, хотя и казался самому себе знающим; и так как душа не встречает препятствий к тому, чтобы отдаться истине всецело, то смерть, которой она прежде боялась, т. е. полное бегство и отрешение от этого тела, обратится в предмет желания, как высочайший дар.
Глава ХХХIV
Ты слышал, сколь велики сила и могущество души. Сказать коротко: если следует признать, что человеческая душа не есть то, что есть Бог, то также точно следует заключить, что из всего созданного нет ничего ближе ее к Богу. Поэтому в католической церкви существует божественное и превосходное предание: «Никакое творение не должно быть чтимо для души» (с особой охотой говорю теми же словами, какими мне это и было внушено), а должен быть чтим только сам Творец всех существующих вещей, их Которого все, через Которого все, в Котором все, т. е. неизменное начало, неизменная мудрость, неизменная любовь; единый, истинный и совершенный Бог, Который всегда был, всегда будет, никогда не был иначе, чем есть, никогда не будет иначе; Которого ничего нет таинственнее и ничего присущее; Которого трудно найти, где Он есть, а еще труднее найти, где Его нет; с Которым не могут быть все, и без Которого не может быть никто (и так далее, если мы, люди, можем сказать о Нем что–либо более невероятное, но тем не менее более подходящее и более приличное). Итак, этого единого Бога должна чтить душа, — чтить, не давая ему определенных очертаний и без смутных представлений о Нем. Ибо необходимо, чтобы то, что душа чтит как Бога, она представляла лучшим, чем сама она.
А лучшим души не следует считать ни природы, ни земли, ни морей, ни звезд, ни луны, ни солнца, ни всего вообще, чего можно касаться или что можно видеть глазами, ни того, наконец, чего видеть мы не можем. Все это даже далеко хуже, чем какая бы то ни была душа, как убеждает нас в том разум, если только любители истины решаются со всевозможным постоянством и тщательностью следовать за ним по пути несколько необычному, и оттого — трудному. Если же в природе вещей есть что–либо иное, кроме того, что познается чувствами, и вообще кроме того, что занимает какое–либо определенное место, над чем всем мы признали превосходство души; итак, если есть что–либо иное из сотворенного Богом, — одно из этого хуже души, другое — равно ей. Хуже, например, душа бессловесного животного; равны, например, ангелы; но лучше ее нет ничего. А если есть что–либо из этого лучше ее, это зависит от ее греха, но не от природы. Но грех делает ее не до такой степени худшей, чтобы душу бессловесного животного следовало ставить выше ее или уравнивать с ней.
Итак, она должна чтить только Бога, который один есть ее творец. Человека же, какого–либо другого, хотя бы мудрейшего и совершеннейшего, и вообще какую бы то ни было душу, причастную разуму и блаженнейшую, она должна только любить, подражать ей и отдавать ей приличное по заслугам и чину. Ибо «Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи» (Вт. 6. 13). Родственным же душам, заблуждающимся и падающим, мы обязаны, насколько то возможно и заповедано, подавать помощь, представляя дело так, что и это, когда делается хорошо, делается через нас Богом. Ничего не должны мы считать своим, увлекаясь жаждой пустой славы: одного этого зла достаточно, чтобы низвергнуть нас с высоты в преисподнюю. И ненавидеть мы должны не подавленных пороками, а сами пороки, и не грешащих, а сами грехи. Ибо мы должны желать оказывать помощь всем, даже оскорбившим нас, оскорбляющим или вообще желающим оскорбить. Это истинная, это единственная религия. Примириться через нее с Богом относится к величию души, о котором у нас речь и которое делает ее достойной свободы; ибо освобождает от всего Тот, служить Которому в высшей степени полезно для всех, и в служении Которому, совершенно угодном, заключается единственная свобода.
Но я вижу, что переступил уже границы своего первоначального предположения и много наговорил тебе безо всяких с твоей стороны вопросов. Впрочем, я не жалею об этом. Так как это рассеяно по множеству церковных писаний, то мы кстати свели все это в одно; понять это вполне, однако же, нельзя, разве только кто–нибудь, мужественно подвизаясь на четвертой из указанных семи ступеней, сохраняя благочестие и приобретая здоровье и силу для восприятия этого, исследует все подробно и с особой тщательностью и проницательностью: ибо всем означенным ступеням присуща своя отличительная и особая красота. Более правильно мы называем их действиями.
Глава XXXV
Вопрос идет о могуществе души, и может случиться так, что все это она делает одновременно, но ей кажется, что она делает лишь то, что делает с затруднением или, по крайней мере, со страхом; ибо она делает это с большим вниманием, чем остальное. Итак, если снова всходить снизу вверх, первое действие, или преподавание, называется одушевлением; второе — чувством; третье — искусством; четвертое — доблестью; пятое — покоем; шестое — вступлением; седьмое — созерцанием. Могут быть они названы и так: из тела; через тело; около тела; к себе самой; в себе самой; к Богу; у Бога. Можно и так: прекрасное из другого; прекрасное через другое; прекрасное около другого; прекрасное к прекрасному; прекрасное в прекрасном; прекрасное к красоте; прекрасное пред красотой. Обо всем этом, если тебе покажется, что что–либо нужно разъяснить подробней, ты спросишь после. В настоящее же время я хотел обозначить это столькими названиями для того, чтобы ты не затруднялся, когда другие то же самое называют другими именами и употребляют даже иное деление, и чтобы из–за этого ты не отвергал того или иного. Одно и то же совершенно правильно и с полным основанием может быть называемо и разделяемо бесчисленными способами; а при таком обилии способов, каждый пользуется тем, какой находит для себя более подходящим.
Глава XXXVI
Итак, высочайший и истинный Бог нерушимым и неизменным законом, которым Он управляет всем созданным, подчинил тело душе, душу Себе, а через это и все — Себе; и не оставляет души ни в каком действии ее или наказанием, или наградой. Он признал самым прекрасным, чтобы существовало все, что есть, и существовало так, как оно есть, и распределялось бы по степеням природы в таком порядке, чтобы никакое безобразие ни с какой стороны не оскорбляло взоры, осматривающие целое, а всякое наказание и всякая награда душе своей соразмерностью всегда придавали бы нечто правильной красоте и предначертанному для всего порядку. Душе дано свободное воление. Силящиеся опровергнуть это своими пустыми доводами — слепы до такой степени, что не понимают, что по крайней мере эти пустые и святотатственные вещи они говорят по своей доброй воле. Но свободное воление дано душе не так, чтобы, предпринимая что–либо, она ниспровергла в какой–нибудь части божественный порядок и закон. Ибо дано оно мудрейшим и непобедимейшим Господом всякой твари. Но видеть это дано немногим; и способным к тому делает каждого только истинная религия.
Эта истинная религия есть та, которая через примирение воссоединяет душу с единым Богом, от которого та как бы оторвалась из–за греха. Овладевает же она душой и начинает вести ее в упомянутом третьем действии; в четвертом — ожидает; в пятом — преобразует; в шестом — вводит; в седьмом — пасет. Все это делается в одном случае скорее, в другом — медленнее, соответственно степени любви и заслуг той или иной души; и все это делает Бог в высшей степени справедливо, правильно и прекрасно, как бы не вздумали распоряжаться собой те, относительно которых Он это делает. Что же касается вопроса о том, насколько приносит пользу освящение младенцев, то вопрос этот весьма темный; однако следует верить, что некоторую пользу все–таки приносит. Разум найдет это, когда такого рода исследование будет полезно (хотя я предпочел отложить на будущее для своего исследования и многое другое, как нужное для познания). А это будет в высшей степени полезно, если исследование будет совершаться под руководством благочестия.
Если это так, то кто имеет право досадовать на то, что душа дана телу для приведения его в движение и управления им, коль скоро такой и столь божественный порядок вещей не мог устроиться лучшим образом? Или сочтет себя вправе задавать вопросы о том, какой она делается в этом смертном и бренном теле, когда она и смерти подвергнута справедливо за грех, и может и в самом теле стать высоко по своей доблести? Или какой она будет по смерти, когда наказание смертью должно по необходимости оставаться, если будет оставаться грех, а добродетели и благочестию будет наградой сам Бог, т. е. сама истина? Поэтому прекратим наконец, если угодно, нашу слишком длинную речь, и приложим неусыпное и благоговейное старание о соблюдении божественных заповедей. Другого убежища от стольких зол у нас нет. Если же я сказал что–нибудь более темно, чем ты ожидал, то постарайся, запомнив это, спросить о том в другое, более удобное время. Нам не откажет в помощи, если будем просить Его, Тот, Кто свыше является учителем всех.
Еводий. Я этой речью был приведен в такой восторг, что считал святотатством прервать ее; но если ты находишь, что пора прекратить разговор, и если тех трех оставшихся вопросов ты счел нужным в настоящее время коснуться лишь кратко, — я положусь в этом на твой суд; в будущем, при исследовании столь великих предметов, я буду не только сообразовываться со временем, ввиду твоих многочисленных занятий, но и заботиться о том, чтобы самому быть более подготовленным.
О страданиях Господа
Страдания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа суть залог славы и учение терпения. И действительно, почему не могут надеяться на благодать Божию сердца верных, ради которых Единственный Сын Божий, совечный Отцу, счел малым только родиться Человеком от человека, но и умер от рук людей, которых Сам создал? Велико то, что по обетованию Господа должно совершиться с нами, но значительно более велико то, что — вспоминаем мы вновь и вновь — уже ради нас было совершено. Когда Христос умер за нечестивых (см. Рим 5:6), где они были и кем они были? Кто усомнится, что дарует Свою жизнь святым Тот, Кто уже даровал им Свою смерть? Почему человеческая тленность медлит уверовать, что люди некогда будут жить с Богом? Куда более неимоверное уже совершилось: Бог умер за людей. Ведь Христос и есть Слово, (о Котором сказано): «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). Это Слово Божие «стало плотию, и обитало с нами» (Ин 1:14). Ибо Оно не могло умереть за нас, не восприняв от нас смертную плоть.
Так Бессмертный смог умереть, так Он жизнь пожелал даровать смертным, намереваясь сделать причастниками Себе тех, кому Сам прежде сделался причастным.
Мы не имели в себе, чем жить, Он не имел в Себе, чем умереть; поэтому [Спаситель] совершил с нами — взаимообразным способом — удивительный обмен: мы дали то, чем Он умер. Он даст то, чем мы будем жить.
Однако плоть, которую Он принял от нас, дабы умереть, Он и даровал нам, как Творец; жизни же, имея которую, мы будем жить с Ним и в Нем, Он от нас не принимал. Поэтому со стороны нашей природы, по которой мы люди, Он умер не в Своем, но в нашем [естестве], так как Его природа, по Которой Он Бог, смерти совершенно не подвержена, но со стороны творения, которое он создал как Бог, Он умер еще и в Своем, ибо и плоть, в которой умер, создал Он Сам.
Стало быть, нам не только не следует стыдиться смерти Господа Бога нашего, но, напротив, и верить в нее всецело и хвалиться ею. Ибо [Христос], восприняв смерть, которую нашел в нас, непреложно обещал даровать жизнь в Себе, которую мы сами иметь не можем. Тот, Кто возлюбил нас так, что, не имея греха, претерпел за грешников заслуженное нами по грехам, как не даст нам того же, что и праведникам, — Он, Который оправдывает? Тот, Чье обещание истинно, как не дарует нам награду святых, — Он, Который безропотно перенес казнь от ропотников? Поэтому, братья, будем бесстрашно исповедовать и проповедовать, что Христос за нас был распят. Будем возвещать Христа распятого не робея, но радуясь, не стыдясь, но похваляясь. Апостол Павел знал и передал нам источник для хвалы. Хотя Павел многое мог поведать о величии и божественности Христа, он не сказал, что будет хвалиться чудесами Христа, Который будучи Богом Словом у Отца, сотворил мир и, даже став человеком, подобным нам, правил миром, но сказал: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гол 6:14). Апостол видел, Кто, ради кого и где висел, и в таковом уничижении Бога предвосхищал наше божественное возвышение.
А люди, которые глумятся над нами за то, что мы чтим Господа распятого, хотя кажутся себе разумными, на самом деле безумствуют — неисцелимо и безнадежно, — не будучи способными понять ни нашей веры, ни нашей проповеди. Ведь мы и не утверждаем, что Христос умер по Божеству, — но по человечеству.
Когда умирает какой–либо человек, тогда та часть его, которая по существу делает его человеком, — та, которой он отличается от [бессловесного] скота, которая имеет разум, которая различает человеческое и божественное, временное и вечное, ложное и истинное, то есть его разумная душа, не претерпевает смерти вместе со своим телом, но отходит живой; и однако говорится: человек умер. Почему же тогда нельзя сказать: умер Бог, — не подразумевая, конечно, что в Боге могло умереть Его Божество, но что умерло Его смертное [человечество] которое Он воспринял ради смертных. Ибо, как со смертью человека душа его не умирает во плоти, так и при смерти Христа Его Божество не умерло в человеке. Но Бог, говорят они, не мог соединиться с человеком и во Христе стать с ним одним. Если придерживаться этого плотского и пустого воззрения и человеческих мнений, значительно труднее было бы поверить в то, что дух мог соединиться с плотью, чем в то, что Бог — с человеком, и все же ни один человек не был бы человеком, если бы дух человеческий не соединился с человеческим телом. Итак, если дух и тело являются более сложным и удивительным сочетанием, чем дух и дух, и если дух человека, раз он не тело, и тело человека, раз оно не дух, все же соединены воедино, дабы образовался человек, то куда скорее мог Бог, «Который есть дух» (Ин 4:24), не с телом, не имеющим духа, но с человеком, его имеющим, соединиться духовным сочетанием, дабы из двух стал единый Христос.
Стало быть, и мы будем хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для нас мир и мы для мира распинаемся; не стыдясь, будем полагать его на челе, этом средоточии стыда. Но если попытаться развернуто изложить, какое и сколь спасительное учение терпения проповедуется этим крестом, хватит ли нам слов для предмета, хватит ли времени для слов? [Скажем лишь]: какой человек, если он искренне и горячо верует во Христа, дерзнет превозноситься, когда Господь учит смирению не только словом, но и Своим примером? А о том, сколь полезно для нас это учение, кратко напоминает следующее изречение Св. Писания: «Пред падением возносится сердце и перед славой пребывает в смирении» (Притч 18:13); с ним созвучно другое: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак 4:6); и еще одно: «Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 4:2). Равным образом, когда апостол призывает нас не высокомудрствовать, но стать единомысленными со смиренными, следует задуматься, в какую бездну гордости впадает человек, противящийся смиренному Богу, и сколь губительным для человека является нетерпеливо переносить то, что пожелал ему [ниспослать] Праведный Господь, если Бог терпеливо перенес то, что пожелал ему [назначить] неправедный враг. Аминь.
О СУПРУЖЕСТВЕ И ПОХОТИ
Глава IV
Естественное благо супружества. Всякий союз по природе своей избегает обманывающего участника. Какая супружеская целомудренность является истинной. Девственность и целомудренность не истинны, если они не основаны на истинной вере
Соединение мужчины и женщины для рождения детей — это естественное благо супружества. Но этим благом дурно пользуется тот, кто использует его животным образом, так, что стремление его направлено на удовлетворение жажды телесных наслаждений, а не желании продолжения рода.
У некоторых животных, не имеющих разума, а также у многих птиц наблюдается нечто похожее на супружеский союз: и брачное искусство гнездования, и поочередное сидение на яйцах, и поиск пищи; при этом очевидно, что когда они спариваются, они, скорее всего, занимаются делом продолжения рода, а не удовлетворяют свою похоть.
Из этих двух дел подобным человеческому в животном является то, которое в человеке подобно животному, то есть дело продолжения рода.
Я уже сказал, что к природе супружества относится то, что мужчина и женщина соединяются в союз ради рождения потомства, при этом они не обманывают друг друга, так как любой союз по определению не имеет целью обман союзников. Этим очевиднейшим благом супружества обладают даже люди, которые не являются приверженцами Христовой веры; однако пользуясь этим благом не на основе истинной веры, они устремляются ко злу и греху.
Следовательно, только супружеский союз и причем союз только приверженцев Христовой веры обращает на пользу благочестия ту низменную похоть, посредством которой плоть страстно желает противного духу (Галат., V, 17).
Ибо только приверженцы Христовой веры имеют изначальное намерение таким образом воспроизвести себя в потомстве, дабы рождающиеся в их роду сыновья возродились бы сыновьями Бога.
Вот почему те, которые рожают сыновей не с тем стремлением, той волей, той целью, чтобы они из плоти первого человека превратились в плоть Христову, а именно родители, не придерживающиеся истинной веры и кичащиеся своим неверующим в Христа потомством, лишены подлинной супружеской целомудренности, даже если они состоят в брачном союзе и совокупляются с целью рождения детей.
Ибо коль скоро целомудренность есть добродетель, по отношению к которой противоположностью, то есть пороком, является распутство, и все добродетели, даже те, которые осуществляются посредством тела, пребывают в душе; то каким образом истинный разум может признать целомудренным тело, если и самый дух, заключенный в нем, хотя и происходит от истинного Бога, предается разврату, отрицая своего Творца! Этот разврат порицается в священном псалме, где сказано: «Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя» (Псалм. XXII, 27).
Следовательно, целомудренность, супружеская ли, вдовья ли, девичья ли, может быть названа истинной только тогда, когда она происходит от истинной веры.
Ибо, коль скоро, согласно правильному рассуждению, священная девственность предшествует супружеству, то разве найдется какой–нибудь христианин, который, будучи в трезвом уме, не отдаст предпочтение правоверным христианским девушкам, готовящимся вступить в брак, не только перед весталками, но также и перед девственницами–еретичками? Вот до какой степени сильна вера, о которой Апостол говорит: «Все, что не по вере, грех» (Рим., XIV, 23), и о которой также в послании к Евреям имеются такие слова: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр., XI, 6).
Глава V
Порицание жажды наслаждений не то же самое, что осуждение супружества. Отчего возник стыд в отношении человеческого тела. Адам и Ева не были сотворены слепыми. Что такое открытие глаз в первых родителях
Поскольку это так, действительно заблуждаются те, которые полагают, что коль скоро осуждается плотское влечение, то следует порицать и супружество, как будто это болезненное влечение плоти происходит от брака, а не от греха.
Не правда ли, те первые супруги, бракосочетание которых прославил Бог, сказав: «Плодитесь и размножайтесь» (Бытие, I, 28), были нагими, и не стыдились этого? Итак, на вопрос: почему после грехопадения люди стали стыдиться своих нагих тел, следует ответить: потому, что возникло то непристойное движение, коего не было бы в супружестве, если бы прародители не согрешили.
Или быть может, как некоторые считают (так как они недостаточно обращают внимание на то, что читают), сначала люди были созданы слепыми, как собаки, и, что еще более нелепо, обрели зрение не как собаки в результате роста, но вследствие совершения греха? Не дай Бог этому верить! Но что побуждает тех, которые так думают? Вероятно, те известные слова Писания: «И взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и они ели; И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Бытие III, 6 и 7).
Исходя из этого, малопонимающие люди считали, что сначала глаза первых людей были закрыты и что они открылись после, о чем, по их мнению, свидетельствует божественное Писание.
Но неужели же Агарь, служанка Сары, которая, когда сын испытывал жажду и горько плакал, открыла глаза свои и увидела колодец (там же, XXI, 19), прежде имела закрытые глаза? Или те два ученика, которые после воскресения Господа шли по дороге и о которых Евангелие повествует, что «открылись глаза их, и в преломлении хлеба они узнали его» (Луки XXIV, 31, З5), разве глаза их до того были закрыты? Итак, то, что написано о первых людях: «Открылись глаза обоих», — мы должны понимать так, что их глаза сосредоточились на наблюдении и познании того нового, что стало происходить в их теле: в особенности потому, что открытое их глазам обнаженное тело возбуждало их похоть.
В противном случае, то есть если бы глаза первого человека до грехопадения были закрыты, каким образом Адам всем к нему приведенным животным, как живущим на земле, так и летающим над землей, смог бы дать имена, кроме как только сделав это путем распознавания, распознать же их Адам не смог бы, если бы не обладал зрением? Наконец, каким образом ему была показана и сама женщина, то есть Ева, когда он сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Бытие II, 23)? В конце концов, если кто–нибудь был бы упрямым до такой степени, что говорил бы: «Адам мог распознавать не через зрение, но путем прикосновения», то что он может сказать относительно написанного там, то есть в Священном Писании, о дереве, от которого женщина намеревалась взять пищу и которое весьма приятно для глаз (там же, III, 6)? Итак, «были наги, и не стыдились» (там же, III, 25) ; не потому что не видели, но потому что в телах, которые видели, не воспринимали ничего такого, чего можно было бы стыдиться. Ведь не сказано: «Были оба нагими, и пребывали в неведении», но сказано: «не стыдились». Ибо потому, что ранее они не делали ничего недозволенного, то и стыдиться им было нечего.
Глава VI
Человеку по справедливости воздается за то, что плоть его ему не повинуется. Из–за неповиновения плоти возникает стыдливость
После того, как человек переступил изначальный закон Бога, ему был дан другой закон, предписывающий иное отношение к плоти, закон, противоречащий ее низменным желаниям. И совершенно заслуженным воздаянием за непослушание плоти являются муки человека, страдающего из–за своего неповиновения закону.
Ведь очевидно, что когда змей, совращая прародителей, сулил им раскрытие глаз их, то открыть им он желал нечто такое, чего лучше бы им и не знать вовсе. И конечно же человеку при этом ясно было, что он сделал: он отделил тогда зло от блага; но произошло это не таким образом, что отказался он от зла, а таким — что, напротив, поддался ему.
Но было бы несправедливо, если бы раба, то есть плоть, повиновалась тому, кто сам не повинуется своему Господу! Ну что же это такое, что глаза, губы, язык, руки, ноги, изгибы спины, шеи и груди находятся в нашей власти, когда надо привести их в движение для совершения действий соответственно предназначению каждого из них, при том условии, что мы имеем тело, свободное от препятствий и здоровое; когда же дело доходит до совокупления, то созданные для деторождения члены не повинуются воле, а ожидают, пока похоть своей властью их к этому подвигнет? Она же иногда этого не делает, хотя дух того желает, а иногда — делает, хотя дух не желает.
Неужели не постыдно для свободы человеческой воли, что из–за пренебрежения к Богу повелевающему она потеряла власть над своими членами? На чем же еще можно было бы показать, что человеческая природа испорчена вследствие непослушания, как ни на этих неповинующихся членах, посредством которых, через деторождение, продолжается человеческий род? Именно по этой причине указанные части тела называются детородными.
Итак, это движение совокупляющихся органов является непристойным именно потому, что оно не повинуется человеческой воле; когда первые люди познали это непристойное движение плоти и устыдились наготы своей, то они прикрыли свои тела фиговыми листьями (Бытие III, 7). Обуреваемые стыдом люди пожелали спрятать срамные места, кои против воли их возбуждены были; и так как первым людям было стыдно за свое непристойное желание, то, покрывшись, они совершили подобающее.
Глава VII
Зло сладострастия не уничтожает благо супружества
Поскольку совершенно невозможно, чтобы супружество перестало быть благом из–за присущего ему зла сладострастия, то, исходя из этого, несведущие люди полагают, что сладострастие тоже не является чем–то дурным, но относится к упомянутому благу. И не только утонченным разумом, но и обычнейшим здравым смыслом признается, что вожделение было и у прародителей, и что в настоящее время оно сохраняется у людей, состоящих в браке.
То, что они в супружестве совершают с целью продолжения рода, является благом брака; однако то же самое до бракосочетания скрывается, так как является постыдным пороком похоти, который везде, где бы то ни было, избегает быть увиденным, и, стыдясь, стремится уединиться в укромном месте.
Поэтому супружество следует прославлять, ибо оно делает из порока похоти некое благо; но в то же время супружество испытывает чувство стыда, поскольку не может существовать без вышеупомянутого акта.
Как, например, если бы кто–нибудь с обезображенной ногой, хромая, тем не менее дошел бы до чего–либо хорошего, то это прибытие не может считаться злом из–за недуга хромоты и хромота не может быть объявлена благом вследствие пользы этого прибытия; также мы не должны ни осуждать супружество за порок сладострастия, ни прославлять сладострастие из–за благой природы супружества.
Глава VIII
Болезненная страсть вожделения в супружестве присуща не любви, но необходимости. В браке должна присутствовать любовь приверженцевистинной веры. О ком следует сказать, что он, вступая в плотскую связь, не побежден пороком вожделення. Каким образом некогда встарь Святые Отцы имели плотское общение со своими супругами
Конечно, это вожделение является болезненным влеченнем, о котором Апостол говорит даже истинно верующим супругам: «Ибо воля Божия есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (I Фес. V, 3–5).
Итак, истинно верующий супруг не только не стал бы пользоваться чужим сосудом, как это делают те, кто домогается чужих жен, но и знал бы, что даже и себе принадлежащим не следует обладать, пребывая во власти недуга телесного вожделения.
Это следует понимать не так, будто Апостол запрещал супружескую, то есть дозволенную и достойную уважения любовную связь, но так, что он требовал, дабы это было сожительством, которое никоим образом не имело бы характера болезненной страсти. Однако это было бы возможно, если бы из–за первородного греха не потеряла силу свобода воли; и теперь сожительство с неизбежностью имеет характер болезни, присущей не любви, но необходимости; в то же время без данной необходимости в имеющих родиться сыновьях не может быть достигнута и сама любовь.
Тот, у кого такое стремление сердца, соблюдает свой сосуд, то есть свою супругу, в святости и чести, также как и приверженцы истинной веры, уповающие на Бога; но, без сомнения, не соблюдает свой сосуд тот, кто пребывает в состоянии болезненного желания, также как и язычники, которые не знают Бога.
Конечно, человек, вступая в плотскую связь, не побежден пороком похоти лишь тогда, когда пылающее вожделение, сопровождающееся беспорядочными и непристойными движениями, он обуздывает и смиряет; и заботясь о продолжении рода это вожделение смягчает и употребляет только для того, чтобы плотским образом произвести на свет тех, кто должен духовно возродиться, а не для того, чтобы обрекать дух на рабское служение телу.
Так, никому из христиан не следует сомневаться, что святые Отцы от Авраама и до Авраама, которым Бог дал угодный ему завет, обладали женами; а что касается того, что некоторым из них было даже дозволено, чтобы один муж имел многих жен, то это было разрешено не из–за стремления к разнообразию наслаждений, а из–за стремления к умножению потомства.
Глава IX
Почему разрешено мужу иметь много жен, в то время как женщине никогда не позволено иметь много мужей.
Природа стремится к единству первоначал
Если бы Богу, который является нашим отцом, нравилось бы такое большое количество жен у наших праотцов только потому, что последних мучило более обильное желание, тогда даже и святые женщины, притом каждая из них, принадлежали бы многим мужчинам. Если какая–нибудь из них делала бы это, то что, кроме разнузданности похоти, побуждало бы ее к тому, чтобы иметь много мужчин, ведь из–за этой своей распутности она не имеет большего числа сыновей? Однако, то самое, первое, по божественной воле созданное брачное соединение супругов в достаточной мере свидетельствует, что к благу супружества больше относится связь не одного мужчины и многих женщин, но одного и одной, дабы супружество проистекало оттуда, где можно опереться на наиболее благоприятный пример. По мере же продолжения человеческого рода, благие женщины вступают в интимную близость с благими мужчинами, причем много женщин с одним мужчиной. Но, очевидно, что в первом случае, то есть когда соединяются один мужчина и одна женщина, их союз может достичь высокой степени достоинства, если в нем воцарится умеренность, во втором же случае, то есть когда один мужчина обладает многими женщинами, природа допускает это лишь ради обильного деторождения.
К тому же более естественным представляется господство одного над многими, нежели многих над одним. И невозможно сомневаться, что согласно естественному порядку мужчины лучше господствуют над женщинами, чем женщины над мужчинами. Апостол, соблюдая это, говорит: «Глава жене — муж» (I Кор. 11:3); и «Жены, повинуйтесь мужьям вашим» (Колос. 3:18) ; и апостол Петр: «Так, Сара, — говорит, повиновалась Аврааму, называя его господином» (I Петр. 3:6).
Это позволено, так как природа любит единственность повелителей, множественность же мы скорее увидим в подчиненных: однако много женщин никогда не сочетались бы законно браком с одним мужем, если бы от этого не рождалось много сыновей. Если же одна женщина ложится со многими мужчинами, то она не может быть названа супругой, но только — блудницей, потому что от этого ей не будет умножения потомства, а будет лишь увеличение сладострастия.
Глава X
Таинство брака. Нерасторжимые супружеские узы. Мирской закон о разводе отличается от закона евангельского
Так как поистине супруги, приверженцы Христовой веры, наделяются не только плодородием, коего результат наличествует в потомстве, и не только целомудренностью, скрепой которой является вера, но и неким таинством брака, о чем Апостол говорит: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь» (Эфес. V, 25); то, несомненно, сущность этого таинства состоит в том, чтобы мужчина и женщина, связанные супружескими узами, продолжали жить нераздельно до самой смерти; и не разрешается расторгать брак, иначе как по причине прелюбодеяния (Матф. V, 32).
Ибо Христом и Церковью охраняется то, чтобы человек живущий, покуда он жив, никогда никаким разводом не мог бы быть отделен от своей супруги.
Во граде Бога нашего, на святой горе Его (Псалтирь X VII, 2), то есть в Церкви Христовой, всем истинно верующим супругам, которые, несомненно, суть от тела Христова, дано такое правило этого таинства, что, хотя и женщины выходят замуж, и мужчины женятся ради рождения на свет детей, но высший закон не позволяет оставить бездетную супругу и взять в жены другую женщину — плодовитую.
Если бы кто–нибудь совершил такое, то есть оставил бездетную супругу и женился на другой женщине, то он, так же как и женщина, если бы она вышла замуж за другого мужчину, был бы виновен в прелюбодеянии по закону Евангелия, но не был бы виновен по мирскому закону; ибо мирской закон заключается в том, что после расторжения брака (даже если не было совершено преступное прелюбодеяние) любому супругу позволяется сочетаться браком с другим супругом; и даже, как сказано в Писании, Господь заявлял, что святой Моисей разрешил Израильтянам, вследствие жестокосердия их, разводиться с женами (Матф. XIX, 8, 9).
Среди людей, хоть однажды заключавших брачный союз, он сохраняет такую силу, что скорее супругами будут считаться те, которые уже не живут вместе, чем те, которые сожительствуют без бракосочетания.
Конечно, если бы христианский брак не имел такой силы, то сожительство с другими не называлось бы прелюбодеянием.
Только в том случае, если умер муж, с которым было истинное супружество, возможно истинное супружество с тем, с кем прежде было прелюбодеяние.
Итак, между живыми супругами сохраняются брачные узы, которые не могут быть уничтожены ни разлукой супругов, ни связью одного из супругов с кем–либо другим.
Брачные узы остаются законными при совершении преступного прелюбодеяния одним из супругов, если формально брак будет сохранен; так же как душа вероотступника, отказавшись от брака с Христом, даже потеряв веру, не лишается Таинства веры, то есть не перестает быть христианской, потому что через обряд крещения она раз и навсегда получила возможность возвращения к вере.
Ибо если бы вероотступник лишился этого Таинства (что, однако, невозможно), то, без сомнения, вернувшемуся к вере оно было бы возвращено. Тот же, кто отступился от истинной веры, получает наказание, а не награду, которую нужно заслужить.
Глава XI
Обет взаимного воздержания не расторгает супружества. Между Марией и Иосифом истинный брак.
Каким образом Иосиф является отцом Христа. В браке Марии и Иосифа наличествовали все блага супружества
Если же какие–нибудь супруги по обоюдному согласию пожелают совсем воздерживаться от плотских сношений, то это еще не значит, что между ними разорвется брачная связь: напротив, она будет более прочной, если они заключат между собой договоры, которые должны будут соблюдать не на основе низменных наслаждений, доставляемых плотским совокуплением, а благодаря самопроизвольным стремлениям душ.
Ведь, не лукавя, сказал Ангел Иосифу: «Не бойся принять Марию, жену твою» (Матф. I, 20).
Супругой она называлась по обручению, но Иосиф с ней не сожительствовал и не собирался делать этого; однако Мария не лишилась звания супруги, и это название не было ложным, хотя между ней и Иосифом и не было, и не предполагалось никакой плотской связи.
И вот эта девственница тем более свято и чудесно радовала своего мужа, что даже зачав без него и будучи неравной с ним в отношении ребенка, она тем не менее была равна с ним по вере.
Поэтому родители Христа, и не только мать, но и отец его, поскольку он супруг его матери, оба заслужили, чтобы их брак назывался прочным; причем оба они суть супруги по душе, а не по плоти.
И Иосиф, являющийся отцом Христа по душе, и Мария, мать его по душе и по плоти, несмотря на это родительство, пребывали в состоянии смиренности, но не величия, слабости, но не божественности.
Ибо не обманывает Евангелие, где сказано: «И отец его и мать дивились сказанному о нем».
И в другом месте: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим». Там же, немного далее: «И мать его сказала ему: Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
И он, чтобы показать, что он сам имеет вместо них Отца, который его породил в большей степени, чем мать, отвечает им: «Зачем было вам искать меня? или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но, с другой стороны, чтобы никто не подумал, что эти слова свидетельствуют о том, что Иисус отвернулся от своих родителей, Евангелист далее добавляет: «И они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них» (Луки II, 33, 41, 4851).
Спрашивается, у кого в повиновении, как не у родителей? Кто именно пребывал в повиновении, если не Иисус Христос, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу? Итак, почему был он в повиновении у тех, которые гораздо ниже образа Бога, если не потому, что не уничижил себя самого, приняв образ раба (Филип. II, 6, 7), коему образу были причастны и его родители? Но хотя Иисус не был зачат от Иосифа, а только был рожден Марией, конечно, оба родители не были бы причастны Христу–рабу, если бы не были соединены друг с другом супружескими узами, хотя в браке их и не было плотского соединения. Только для того и доведен ряд рождений от Давида до Иосифа — родители Христа, согласно Писанию, замыкают цепь продолжателей рода Давида (Матф. I, 16 и Луки III, 23), — чтобы оба супруга, Иосиф и Мария, равны были в отношении к Сыну своему, и не было бы обиды и несправедливости полу мужскому, более предпочтительному в супружестве, ведь предсказано было, что произойдет Христос из семьи Давида. Предсказание же сбылось бы и без этого, ибо Мария и сама принадлежала к роду Давидову.
Итак, в родителях Христа супружество преисполнилось всех благ: потомства, верности и таинства.
Мы знаем, что потомком Марии и Иосифа является сам Господь Иисус; верность же наличествует потому, что не было в этом браке прелюбодеяния; таинство — ибо не было расторжения брака.
Глава XII
Всякий, рожденный из плотского сожительства, есть плоть греховна
В супружестве Марии и Иосифа не было только лишь плотского сожительства, потому что в плоти Сын не мог бы родиться без вожделения, а это постыдное плотское вожделение невозможно без греха. Но тот, кто намеревался быть без греха, желал быть зачатым не в плоти греховной, но только лишь в подобии плоти греховной (Рим. VIII, 3). Здесь же сказано, как он учил, что всякий, рожденный от плотского сожительства, есть плоть греховная, поскольку не является плотью греховной только одна–единственная плоть, которая рождена не из низменного сожительства.
Тем не менее плотское сожительство в браке, имеющее целью продолжение рода, не является грехом, потому что благая воля духа побуждает повинующееся тело, а не сама повинуется возбуждающей похоти плоти; и в супружестве воля человека не порабощается грехом плотского соития, так как справедливо, что потребностью продолжения рода уменьшается урон, наносимый грехом.
Плотское вожделение, наносящее этот урон, господствует в мерзостях прелюбодеяния и разврата, а также в каком угодно другом бесчестии и мрази; это же самое вожделение в супружестве находится в полном подчинении у необходимости продолжения рода.
Плотское соитие является господином там, то есть в осуждаемом за безнравственность прелюбодеянии, но оно же является слугой здесь, то есть в стыдящемся его добродетельном браке.
Итак, это вожделение является не благом супружества, а необходимостью для продолжения рода, позорным пятном брака, непристойностью грешащих, огнем распутства.
Вследствие этого, разве не останутся супругами те, кто по взаимному соглашению прекращает плотское сожительство; ведь являлись супругами Иосиф и Мария, которые и не вступали в плотскую связь?
Имя Аврелия Августина — одно из самых значительных в западноевропейской культурной традиции как с литературной, так и с философско–теологической точки зрения. Идеи этого Отца Церкви определяли развитие западной мысли вплоть до XIII века, однако и впоследствии, в том числе и в XX веке, они не потеряли своего значения.
Августин родился в городе Тагасте, в африканской провинции Нумидия, 13 ноября 354 г. н. э. Отец его, обедневший римский патриций, был язычником; мать, Моника, христианкой (впоследствии она была канонизирована католической церковью). Около 365 г. Августин отправился в город Медавра, где получил образование в области латинской литературы и грамматики. В 370 г., когда умер его отец, Августин начал изучение риторики в Карфагене, крупном торговом и административном центре того времени.
Большое впечатление на молодого Августина произвел трактат римского оратора и писателя 1 в. н. э. Цицерона «Гортензий» (ныне утраченный), побудивший его усомниться в значимости мирских, чувственных удовольствий и благ и обратиться к занятиям философией. Первоначально Августина не удовлетворили алогичные, с его точки зрения, идеи христианства и он обратился к манихейству. Это религиозно–философское учение, возникшее в III в.н. э. и получившее распространение от Китая до Испании, провозгласило существование двух мировых первоначал: бытия и небытия, добра и зла, света и тьмы, между которыми идет постоянная борьба. Неутихающая эта борьба происходит и в человеке, ибо душа его причастна светлому первоначалу, а тело темному. Манихейское учение оказалось привлекательным в глазах Августина, потому что давало понятный ответ на вопрос о происхождении зла в мире и человеке, в то время как христианство, провозглашая благого Бога в качестве единственного Творца всего существующего, не могло, по тогдашнему мнению Августина, логично объяснить, что же является источником зла.
В 374 году Августин открыл в Карфагене риторическую школу. В 383 г. он переезжает в Рим, где продолжает преподавание риторики. Постепенно происходит разочарование в манихействе, в рамках которого Августин не мог разрешить ряд проблем, например, вопросы критерия достоверности человеческого мышления, источника непрекращающейся борьбы благого и злого первоначал и др. Углубившись в занятия философией, Августин примыкает к скептицизму.
В 384 г. он переезжает в Медиолан, где под влиянием известного христианского епископа Амвросия Медиоланского, а также в результате изучения неоплатонических сочинений, изменяет свое негативное отношение к христианству. Он начинает снова читать Новый Завет, и особенно впечатляют его послания апостола Павла. В 386 г. Августин обращается в христианство, а в 387 г. принимает крещение. Через год он покинул Италию, возвращается в своей родной город Тагаст, где основал небольшую монашескую общину. Августин занимается как литературной, так и церковной деятельностью, пишет сочинения против своих прежних союзников — скептиков и манихеев. В 396 г. его избирают епископом Гиппона, и он остается на этом посту до самой смерти в 430 г.
Последние тридцать лет своей жизни Августин руководит борьбой против ересей донатистов и пелагиан. Донатисты не признавали таинства, совершаемые священниками, изменившими христианству в период гонений, и даже образовали свою самостоятельную церковь. Пелагиане отрицали передачу по наследству первородного греха, главным для достижения спасения считали не благодать Бога, а нравственные усилия самого человека, его нравственный выбор.
Среди антипелагианских сочинений Августина — и трактат «О супружестве и похоти», написанный в 420 году. Он посвящен вопросу о первородном грехе и таинстве брака. Постановка и решение Августином проблем сущности брака, условий его подлинности, возможности расторжения, многоженства и многомужия, соотношения духовного и плотского в супружестве, — во многом определили содержание представлений о браке и сексуальных отношениях в западноевропейской христианской культурной традиции.
О томъ, какъ оглашать людей необразованныхъ
1. Ты меня просишь, возлюбленный о Господе братъ, написать тебе руководство для оглашенія необразованныхъ; потому–что, по словамъ твоимъ, въ Карфагене, где ты состоишь Діакономъ, часто приводятъ къ тебе такихъ, коимъ нужно преподать первыя начала христіаиской веры, — такъ–какъ по познаніямъ, какія ты имеешь о сей вере, и по пріятности твоей речи, тебя почитаютъ тамъ более другихъ способнымъ къ преподаванію наставленія, а ты съ своей стороны почти всегда затрудняешься темъ: какъ надобно преподавать свое ученіе, съ чего начинать и до чего доводить повествованіе; должно ли къ повествованію присовокуплять какое–либо увещаніе, или достаточно изложить для оглашаемаго те пункты ученія, въ соблюденіи коихъ должны состоять жизнь и исповеданіе Христіанина. Ты признаешься, что часто и тебе самому не нравилась твоя длинная и холодная речь, не говоря уже о техъ, коихъ ты наставлялъ, и о всехъ прочихъ, кои были при семъ слушателями оной, и эта необходимость вынудила тебя просить меня — ради любви, какою я одолженъ тебе, не облениться написать тебе нечто о семъ предмете. Я же съ своей стороны сколько по чувству взаимной между нами любви, столько и вообще изъ любви и повиновенія матери нашей — Церкви, не только не отказываюсь отъ сего, но и со всемъ усердіемъ готовъ, при помощи Божіей, содействовать собрату своему наставленіемъ. Ибо чемъ большее я имею желаніе раздавать повсюду божественное сокровище, темъ более я долженъ стараться облегчить способы въ раздаяніи онаго для моихъ сотрудниковъ, дабы они удобно могли выполнить то, что хотятъ преодолеть трудомъ и ревностію.
2. Что касается до твоего образа мыслей о семъ предмете, то я не советовалъ бы тебе много безпокоиться, если представляется тебе иногда, что ты говоришь слишкомъ простонародно и скучно, потому–что,можетъ быть, тому, кого ты наставлялъ, не такимъ это казалось; но поелику ты желалъ, чтобы отъ тебя услышали что–либо лучшее, то речь твоя и казалась тебе недостойною слуха другихъ. И мне моя речь почти никогда не нравится; потому–что мне всегда бываетъ желательно составить речь лучшую, какую я и составляю часто въ уме своемъ, прежде нежели начну выражать оную словами: если же мне не удастся выполнить сего, какъ бы мне хотелось, то я сокрушаюсь о томъ, что языкъ мой былъ недостаточенъ для моего сердца. Я хочу, чтобы слушающій меня вполне разумелъ то, что я разумею, но чувствую, что я говорю не такъ, чтобы исполнилось мое желаніе; особенно когда мысль съ быстротою молніи является въ уме, а слово медлительно и продолжительно, и весьма непохоже на оную, такъ–что, пока оно произносится, мысль уже уходитъ въ свое уединеніе. Впрочемъ, поелику мысль удивительньнымъ образомъ напечатлеваетъ въ памяти следы свои, то по симъ следамъ мы составляемъ звучащіе знаки, которые называемъ языкомъ или Латинскимъ, или Греческимъ, или Еврейскимъ, или другимъ какимъ–либо. Представляемъ ли мы сіи знаки въ уме своемъ или выражаемъ оные голосомъ, — это все равно; потому–что следы, по коимъ составляются сіи знаки, не принадлежатъ ни Римлянамъ, ни Грекамъ, ни Евреямъ, ни какому–либо другому народу, но образуются точно такъ–же въ уме, какъ выраженіе душевныхъ движеній на лице нашемъ. Гневъ, на примеръ, иначе называется на Латинскомъ, иначе на Греческомъ, иначе на какомъ–либо другомъ языке; но видъ человека разгневаннаго не принадлежитъ исключительно ни Грекамъ, ни Римлянамъ. Поэтому не все понимаютъ, когда кто скажетъ: «я разгневанъ», но только разумеющіе языкъ сей; а когда смотрятъ на разгневаннаго, то все видятъ, что онъ разгневанъ. Но не такъ удобно вывести наружу и какъ–бы напечатлеть въ чувстве слушающихъ посредствомъ слова те следы, какіе мысль оставляетъ въ уме нашемъ, какъ открытъ и понятенъ для всякаго бываетъ взоръ; потому–что те находятся внутри — въ душе, а сей наружи — на лице. Отсюда должно заключить, сколь отлично наше слово отъ мысли, когда оно не выражаетъ и того впечатлвнія, какое мысль оставляетъ въ памяти. А мы, ревнуя о пользе слушателя, хотимъ говорить соответственно нашему разуменію; но поелику намъ сего не удается, то мы безпокоимся и сокрушаемся, думая, что мы напрасно трудпмся; а отъ–того наша речь делается слабее и неразвязнее. Впрочемъ, изъ ревности техъ, кои желаютъ слушать меня, я заключаю, что моя речь не такъ холодна, какъ мне представляется, и — что они получаютъ отъ нея некоторую пользу, это я узнаю изъ того удовольствія, какое выражается на лице ихъ, и затемъ съ своей стороны тщательно стараюсь выполнить свое дело, какъ скоро вижу, что они хорошо понимаютъ то, что имъ предлагается. Такъ и ты изъ того самаго, что къ тебе чаще приводятъ такихъ, кои желаютъ получить отъ тебя наставленіе въ вере, долженъ заключить, что твоя речь не такою кажется другимъ, какою тебе самому; а потому ты не долженъ почитать себя безплоднымъ, если созерцаемаго тобою не выражаешь такъ, какъ бы тебе хотелось, когда ты и созерцать многаго еще не можешь такъ, какъ бы желалъ, потому–что въ сей жизни каждый видитъ только якоже зерцаломъ въ гаданiи (1 Кор. 13, 12); да и любви мы не имеемъ такой, которая бы, разогнавъ мракъ плоти, проникла въ вечный светъ, въ которомъ видно все, даже и то, что преходитъ. Но поелику добродетельные люди день отъ дня делаются способнее къ созерцанію того незаходимаго дня, котораго око не виде и ухо не слыша и который на сердце человеку не взыде (1 Кор. 2, 9): то и нетъ причины опасаться намъ за свою речь при наставленіи непросвещенныхъ, если только мы не будемъ слишкомъ много разсуждать о предметахъ высшихъ нашего разуменія, и говорить объ нихъ языкомъ невразумительнымъ. Прибавь къ тому еще и то, что насъ гораздо охотнее слушаютъ, когда мы сами находимъ удовольствіе въ предмете, о которомъ говоримъ; ибо речь наша въ такомъ случае делается восторженнее, течетъ свободнее и бываетъ вразумительнее. Поэтому не трудное дело преподать то, чему должно веровать, съ чего начать и до чего доводить повествованіе, какъ изложить оное, чтобы въ одномъ случае оно было кратко, а въ другомъ пространно, но всегда полно и совершенно, и когда надобно употреблять первое и когда последнее: но какъ произвести то, чтобы каждый наставлялъ съ охотою? Ибо тотъ пріятнее будеть въ речахъ своихъ, кто более успеетъ въ семъ деле: въ этомъ большой трудъ! На сей случай и правило готово. Ибо если въ именіи вещещественномъ, то кольми паче въ духовномъ, доброхотна дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7). Но чтобы таковое доброхотство было полезно, это зависитъ отъ милосердія Того, кто повелелъ поступать такъ. Итакъ, при помощи Божіей, разсудимъ сперва объ образе повествованiя, — чего, я знаю, ты желаешь, потомъ о наставленіи и увещаніи.
3. Повествованіе будетъ полное, когда кто начнетъ оное съ первыхъ словъ книги Бытія: Въ начале сотвори Богъ небо и землю, и доведетъ до настоящихъ временъ Церкви. Но не должно однакожъ все Пятокнижіе Моисеево, все книги Судей, Царствь и Ездры, Евангелiе и Деянія Апостольскгя, если бы мы и выучили оныя до слова, передавать наизусть, или своими словами пересказывать и обьяснять все содержаніе оныхъ; на это и времена не достанеть, да и нетъ въ томъ никакой нужды: но обо всемъ надобно сказать кратко и въ общихъ чертахъ, и выставить на видъ только замечательнейшія событія, исторію коихъ охотнее слушаютъ, и притомъ такія, которыя поставлены въ числе членовъ веры. Но и таковыя событія не надобно показывать какъ–бы въ обнаженномъ виде, и тотчасъ удалять оныя съ глазъ, а надобно иногда остановиться, на иныхъ какъ–бы для разбора и проясненія, и предложить оныя на разсмотреніе самимъ слушателямъ; всего же прочаго коснуться только слегка или вовсе прейти оное молчанiемъ. Такимъ образомъ то, что мы предложимъ въ семъ случае по выбору, при молчаніи о прочемъ, будетъ иметь большее значеніе; наставляемый нами уразумеетъ оное безъ труда, и его память не обременится. Но во всемъ безъ сомненія не только намъ самимъ надобно смотреть на цель наставленія, которая есть любы отъ чиста сердца, и совести благія, и веры нелицемерныя (1 Тим. 1, 5), и къ которой мы должны направлять все слова свои; но къ ней долженъ быть обращенъ и взоръ того, кого мы наставляемъ. Ибо не для чего другаго до пришествія Господа написаао все, заключающееся въ Священномъ Писаніи, какъ для того, чтобы предвозвестить Его пришествіе и предъизобразить будущую Церковь, т. е. народъ Божій во всехъ языцехъ, что составляетъ тело Его въ сопричисленіи къ сему всехъ Святыхъ, жившихъ до Его пришествія и веровавшихъ въ Него грядущаго, точно такъ–же какъ мы веруемъ въ Него пришедшаго. Какомъ образомъ у Іакова, предъ рожденіемъ его, напередъ показалась рука, которую онъ придерживался пяте родившагося прежде него брата, потомъ следовала голова, а затемъ необходимо и прочіе члены; но однакожъ голова не только все последовавшіе члены, но и самую руку, которая при рожденіи вышла прежде, превосходитъ своимъ достоинствомъ и властію, и хотя не по времени появленія, но по порядку природы есть первая: такъ и Господь Iисусъ Христосъ, прежде нежели явился во плоти и предсталъ предъ глаза людей, какъ человекъ въ качестве Ходатая Бога и человековъ (1 Тим. 2, 5), сый надъ всеми Богъ благословенъ во веки (Рим. 9, 5), послалъ напередъ во святыхъ Патріархахъ и Пророкахъ некоторую часть своего тела, которою какъ–бы рукою предвозвещалъ свое рожденіе, и предшествовавшій Ему тотъ горделивый и упорный народъ придерживалъ узами Закона, какъ–бы пятью пальцами, не преставая при семъ самъ быть предвозвещаемъ въ продолженіе пяти періодовъ времени; въ сообразность съ чемъ и тотъ, кто далъ Законъ сей, написалъ пять книгъ. И гордые те, мудрствуя по плоти и надеясь сами собою снискать себе оправданіе, не получили благословенія отъ руки Христовой, но отрыновени быша отъ оной, а потому тiи спяти быша и падоша: мы же востахомъ и исправихомся (Псал. 19, 9). Такимъ образомъ хотя Господь Iисусъ Христосъ послалъ напередъ некоторую часть тела Своего во Святыхъ, кои предшествовали Ему по времени рожденія; однакожъ Онъ самъ есть глава тела Церкви и все веровавшіе въ Того, кого они предвозвещали, принадлежатъ къ тому–же телу, главою коего Онъ самъ. Ибо потому, что они предшествовали Ему, они не отделены отъ Него, но еще более соединены съ Нимъ; потому–что они последовали Ему: подобно какъ и рука, хотя и можетъ выказываться прежде, однакожъ она соединена съ теломъ ниже главы. Почему елика преднаписана быша, въ наше наказанiе преднаписашася (Рим. 15, 4) и сія образы намъ быша (1 Кор. 10, 6) и сiя вся образы прилучахуся онемъ: писана же быша въ наученіе наше, въ нихже концы векъ достигоша (1 Кор. 10, 11).
4. Но какая главнейшая причина пришествія Господа, какъ не явленіе чрезмерной любви Божіей къ намъ, когда еще, грешикомъ намъ сущимъ, Христосъ за ны умре (Рим. 5, 8) долженъ сказать ты наставляемому. И это потому, что цель всякой заповеди и исполненіе закона есть любовь: дабы, т. е. мы любили какъ самихъ себя взаимно и полагали по братiи души, яко Онъ по насъ душу свою положи (1 Іоан. 3, 16), такъ и самаго Бога, яко той первее возлюбилъ есть насъ (1 Іоан. 4, 19) и своего Сына не пощаде, но за насъ всехъ предалъ есть Его (Рим. 8, 32). Но ни чемъ такъ нельзя расположить къ любви, какъ своимъ собственнымъ примеромъ, и тотъ чрезвычайно жестокосердъ, кто, не желая принимать отъ другихъ любви, не хочетъ и самъ оказывать оной. Ибо, если изъ примеровъ зазорной и нечистой любви мы знаемъ, что те, кои хотяъ быть взаимно любимыми, всема возможными знаками стараются показать, въ какой степени они любять, и такимъ образомъ продолжаютъ действовать дотоле, пока не заметятъ соответствія своимъ чувствованіямъ въ сердце техъ, коихъ они хотятъ расположить къ себе, и воспламеняются потомъ темъ сильнейшею любовію, чемъ более огня замечаютъ въ техъ сердцахъ, овладеть коими оно желаютъ; если при семъ сердце, находившееся въ оцепененіи, возбуждается, когда чувствуетъ, что оно любимо, и воспламеняется еще более,когда видитъ новую любовь, то очевидно нетъ большей причины къ возбужденію и увеличенію любви, какъ когда тотъ, кто еще любитъ, знаетъ, что онъ уже любимъ, или когда тотъ, кто первый начинаетъ любить, видитъ взаимную къ себе любовь. Если такъ, говорю, бываетъ въ нечистой любви: то не более ли должно быть это въ дружбе? Ибо чего другаго мы опасаемся въ дружбе, какъ не того, чтобы другъ нашъ не подумалъ, что мы его или не любимъ или любимъ менее, чемъ онъ насъ? Если онъ узнаетъ объ этомъ: онъ сделается холоднее въ той любви, какою наслаждаются друзья; и если онъ не будетъ столько малодушенъ, чтобы таковое равнодушіе принять за оскорбленіе дружбы, то онъ останется только нашимъ советникомъ, а не пламеннымъ другомъ. Не излишне при семъ заметить и то, что хотя и высшіе желаютъ быть любимы низшими и утешаются ихъ непритворною услужливостію, и чемъ более чувствуютъ это, темъ более ихъ любятъ; но какою любовію воспламеняется низшій, когда чувствуетъ, что его любитъ высшій? Любовь всегда бываетъ пріятнее тамъ, где она происходитъ не отъ вниманія къ недостаткамъ другаго, но отъ обилія благотворительности; ибо та любовь бываетъ изъ состраданія, а эта изъ милосердія. Если же низшему и случилось бы когда–либо испытать нерасположеніе къ себе высшаго; за то онъ исполняется еще большею любовію, когда высшему благоугодно будеть показать, сколько онъ любитъ того, кто ни какимъ образомъ не ожидалъ себе столько добра. Но что выше правосуднаго Бога и наже согрешающаго человека, который темъ съ большею опрометчивостію отдалъ себя подъ защиту и иго гордымъ властямъ, которыя не могутъ сделать его блаженнымъ, чемъ более отчаялся въ попеченіи о немъ той власти, которая высока только по своей благости? Итакъ, ежели Iисусъ Христосъ для того наипаче пришелъ въ міръ, чтобы человекъ позналъ, сколько любитъ его Богъ, и позналъ для того, чтобы и самъ воспламенялся любовію къ Тому, кто первее возлюбилъ есть насъ, — и по заповеди Его, возлюбилъ своего ближняго; ежели все божественное Писаніе, которое написано прежде, написано для предвозвещенія пришествія Христова, и все, что после предано писанію и имеетъ божественную важность, повествуеть о Хрнсте о внушаетъ любовь: то очевидно, что въ сію обою заповедію, т. е. въ любви къ Богу и ближнему, не только весь законъ и пророцы висятъ (Матф. 22, 40), такъ–какъ они въ то время составляли все Священное Писаніе, но и все те книги божественнаго Писанiя, кои въ–последствіи посвящены нашему назиданію и утверждены въ нашей памяти. Посему въ Ветхомъ Завете сокрытъ Новый, а въ Новомъ раскрытъ Ветхій. Въ–следствіе такой–то сокровенности плотскіе люди, плотскимъ образомъ разсуждающіе, какъ тогда были подвержены страху наказанія, такъ и ныне одержимы онымъ; а духовные, духовно разсуждающіе, какъ тогда было освобождены отъ онаго, — ибо имъ открывалось сокровенное, — такъ освобождаются и ныне данною благодатію. Поелику же ничто столько не противно любви, какъ ненависть, а мать ненависти есть гордость: то тотъ–же самый Господь Iисусъ Христосъ, Богъ и человекъ, есть вместе и образъ божественной любви къ намъ, и примеръ нашего человеческаго уничиженiя, дабы недугъ нашъ темъ удобнее исцелился противодействующимъ лекарствомъ; ибо великое бедствіе — гордый человекъ, но величайшее милосердіе — уничиженный Богъ. — Таковую–то любовь поставивъ себе какъ–бы целію, къ которой должны быть направлены все слова твои, ты, о чемъ только повествуешь, повествуй такъ, чтобы наставляемый тобою, слушая тебя, верилъ, веря надеялся, надеясь любилъ.
Какъ наставлять техъ, кои не съ истиннымъ расположенiемъ приходятъ къ оглашенiю?
5. Но не излишне и съ правосудія Божія, которое поселяетъ въ сердцахъ человеческихъ спасительный страхъ, начинать назиданіе оглашаемаго въ любви, дабы онъ, зная, что его любитъ Тотъ, кого онъ боится, воспламенялся и самъ взаимною къ Нему любовію и опасался оскорбить любовь Его къ себе своимъ нерасположеніемъ; ибо весьма редко случается, даже почти никогда, чтобы изъ желающихъ принять Христіанство пришелъ кто–либо такой, кто не исполненъ бы былъ сколько–нибудь страха Божія. Правда, иногда изъ ожиданія отъ людей какой–либо выгоды, каковой въ противномъ случае нетъ надежды получить, или изъ опасенія навлечь ихъ непріязнь и нерасположеніе, иной желаетъ сделаться, или, лучше сказать, не сделаться, а притвориться Христіаниномъ; потому–что вера не есть предметъ для спасенія тела, но есть дело верующаго сердца (Рим. 10, 10): но такъ–какъ Богъ всегда милосердъ къ намъ грешнымъ, то и оглашающій своею речью можетъ расположить оглашаемаго пожелать сделаться темъ, кемъ онъ хотелъ притвориться; а если онъ уже началъ желать, то мы должны смотреть на него какъ на такого, который пришелъ принять Христіанство не изъ прежнихъ видовъ; и хотя сокрыто отъ насъ, расположился ли онъ къ тому своимъ сердцемъ, но во всякомъ случае мы должны поступать съ нимъ такъ, какъ будто было бы въ немъ сіе желаніе, хотя бы на самомъ деле его и но было. Здесь не будетъ никакой потери. Если въ немъ есть такое желаніе: то оно еще более утвердится при нашемъ содействіи, хотя бы мы и не знали, въ какое время и въ какой часъ началось оное. Полезно бы было также напередъ осведомиться, если можно, отъ техъ, кои знаютъ его, каково состояніе его духа, или по какимъ побужденіямъ онъ пришелъ къ принятію христіанской веры; если же не отъ кого узнать объ этомъ: то можно и самаго его спросить, и что онъ ответитъ, сообразно съ темъ и начинать речь свою. Если же онъ придетъ съ притворнымъ сердцемъ, желая человеческихъ выгодъ, или избегая невыгодъ, и во всякомъ случае намеренъ солгать: то и тогда надобно начинать речь со словъ его, не съ темъ однакожъ, чтобы обличить его во лжи, которая какъ будто бы тебе была известна; но если онъ скажетъ, что онъ пришелъ съ такимъ намереніемъ, которое действительно заслуживаетъ одобреніе: то правду ли онъ скажетъ или нетъ, но во всякомъ случае, одобривъ и похваливъ сіе намереніе, мы должны заставить его радоваться тому, что онъ таковъ, какимъ онъ желаетъ казаться. Если же онъ скажетъ не то, что должно быть въ сердце желающаго получить наставленіе въ христіанской вере: то сделавъ ему ласковый и легкій упрекъ, какъ человеку необразованному и несведущему, и показавъ и похваливъ истинную цель христіанскаго ученія въ сильныхъ, но краткихъ выраженіяхъ, дабы или не ослабить чрезъ то последующаго повествованiя, или не навязать ему напередъ чего–либо такого, къ чему еще не расположилось его сердце, — заставь его пожелать того, чего еще не желалъ онъ или по заблужденію, или по притворству.
6. Если же онъ, можетъ–быть, скажетъ, что самъ Богъ внушилъ ему мысль или страхомъ подвигнулъ его къ тому, чтобы сделаться Христіаниномъ: въ такомъ случае самое утешительное мы можемъ сделать начало речи съ того, сколь великое Богъ имеетъ о насъ попеченіе. Отъ таковыхъ чудесъ и откровеній надобно сперва перенесть вниманіе его къ писаніямъ святыхъ мужей и къ известнымъ пророчествамъ, дабы онъ узналъ, по какому неизреченному милосердію и ему Богъ внушилъ эту мысль. Потомъ надобно показать ему, что самъ Господь не внушилъ бы ему мысли или не побудилъ бы его сделаться Христіаниномъ и присоединиться къ Церкви, н не обратилъ бы его къ тому такими знаменіями и откровеніями, если бы Онъ не захотелъ возвести его на надежнейшій путь, какой предуготованъ въ Священномъ Писаніи, и на которомъ ему не нужно искатъ видимыхъ чудесть, а удовлетворяться невидимыми, и не во сне, а въ бодрственномъ состояніи получать наставленіе. Затемъ уже надобно начинать самое повествованіе съ того, что Богъ сотворилъ вся добра зело (Быт. 1, 31) и доводить оное, какъ мы сказали, до настоящихъ временъ Церкви, показывая при семъ причины каждаго дела и происшествія, о коихъ мы повествуемъ, и направляя оныя къ одной всеобщей цели, т. е. къ любви, на которую долженъ быть устремленъ взоръ какъ делающаго что–либо, такъ и говорящаго. Ибо если вымышленныя басни поэтовъ, изобретенныя для удовольствія людей, любящихъ заниматься однимъ вздоромъ, благоразумные учители стараются направить къ какой–либо пользе, хотя суетной и временной: то темъ паче должны быть осторожны мы, дабы, повествуя объ истинныхъ происшествіяхъ, но не приводя причинъ оныхъ, не произвесть въ слушающихъ или суетнаго удовольствія или даже пагубнаго любопытства. Но однакожъ не такъ надобно выставлять причины сіи, чтобы, отступивъ отъ стези повествованія, сердце и языкъ нашъ занимались одними отвлеченнейшими разсужденіями, но чтобы самая истина, представляемая на разсмотреніе разума, была какъ–бы золото, которое связуетъ каменья, но не нарушаетъ порядка украшенія. По окончаніи повествованія надобно внушить надежду воскресенія, и смотря по удобопріемлемости и силамъ слушающаго и сколько позволитъ время, разсудить, — въ опроверженіе суетныхъ насмешекъ неверующихъ, — о воскресеніи мертвыхъ и объ отрадномъ для добрыхъ и страшномъ для злыхъ последнемъ будущемъ суде, — истине, касающейся всехъ безъ исключенія, и, упомянувъ съ ужасомъ и отвращеніемъ о казняхъ нечестивыхъ, проповедывать о царстве праведныхъ и верующихъ, о горнемъ томъ граде и его радостяхъ. А потомъ надобно воодушевить и подкрепить слабость человека противъ искушеній и соблазновъ, возникающихъ или вне, или внутри самой Церкви. Вне Церкви — со стороны язычниковъ, или Іудеевъ, или еретиковъ, а внутри — со стороны отребія гумна Господня. Но не должно однакожъ входить въ споры со всякимъ родомъ нечестивыхъ и предложенными вопросами опровергать все неправыя ихъ мненія: но по краткости времени должно показать, что такъ предвозвещено было, и сказать потомъ, какая польза происходитъ отъ искушенiй и какое врачевство противъ оныхъ въ примере терпенія самаго Господа. Если же речь наша бываетъ направлена противъ техъ, развратныя толпы коихъ видимо наполняютъ Церкви: то не излишне при семъ изложить кратко и обстоятельно правила христіанскаго, благочестиваго образа жизни, дабы пьяницы, сребролюбцы, обманщики, игроки, прелюбодеи, блудники, любители зрелищъ, ворожеи, колдуны, прорицатели, знатоки какихъ–либо суетныхъ и вредныхъ наукъ и т. под. не увлекли кого–либо въ свое распутство, и онъ не почелъ для себя сего темъ более позволительнымъ, когда видитъ, что многіе, называющіеся Христіанами, любятъ это, и делаютъ и защищаютъ и советують и даже убеждаютъ къ тому. Потомъ свидетельствами божественнаго Писанія доказать, какой конецъ предназначенъ темъ, кои ведутъ таковую жизнь, и доколе они будутъ терпимы въ Церкви; предваривъ при семъ оглашаемаго, что онъ найдетъ въ Церкви многихъ Христіанъ добрыхъ, истинныхъ, гражданъ небеснаго Іерусалима, ежели самъ вступитъ въ ихъ общество. Наконецъ тщательно надобно вразумить его, чтобы онъ не полагалъ на человека своей надежды; потому–что намъ нельзя знать, какой человекъ праведенъ, а если бы то и возможно было, то не съ темъ намъ представляются примеры праведныхъ, чтобы мы оправдывались чрезъ нихъ, но чтобы, подражая имъ, знали, что и мы оправдываемся Темъ, кто оправдываетъ ихъ. Отсюда можетъ произойти то благотворное последствіе, что когда тотъ, кто слушая насъ слушаетъ чрезъ насъ Бога (Лук. 10, 16), будетъ преуспевать въ христіанской жизни и познаніи, и съ охотою вступитъ на путь Христовъ, — онъ не осмелится приписать ничего ни намъ, ни себе, но будетъ любить самаго себя, и насъ, и всехъ другихъ людей въ Томъ и для Того, кто возлюбилъ его, когда онъ былъ еще врагомъ, дабы чрезъ оправданіе соделать его другомъ. Въ этомъ отношеніи, я думаю, ты не будешь нуждаться въ наставнике; потому–что безъ всякаго предуведомленія необхадимость научитъ тебя — въ томъ случае, когда ни тебе, ни слушающимъ тебя, не позволитъ время, — говорить кратко, а въ противномъ — пространнее.
7. Но если придетъ къ тебе для наставленія человекъ, сведущій въ наукахъ, который уже решился быть Христіаниномъ, и приходитъ только для того, чтобы сделаться онымъ: то никакъ нельзя предположить, чтобы таковому человеку не было известно многое изъ нашего Священнаго Писанія, а гораздо вероятнее, что онъ, ознакомившись съ нимъ предварительно, приходитъ только для принятія Таинствъ; потому–что такіе люди обыкновенно не вдругъ делаются Христіанами, но напередъ все тщательно испытываютъ, расположенія своего сердца сообщаютъ другимъ кому могутъ, и советуются съ ними въ семъ деле. Съ такими людьми надобно говороть кратко и не внушать имъ того, что они уже знаютъ, а коснуться сего только слегка, сказавъ имъ, что мы веруемъ тому и тому, что они уже знаютъ, и такимъ образомъ перечислить кратко все, что надобно внушить необразованнымъ и неученымъ, такъ, чтобы ученый тотъ не учился снова тому, что онъ уже знаетъ, и узналъ напротивъ изъ нашихъ повествованій то, чего онъ, можетъ быть, не знаетъ. Не безполезно при семъ спросить и его самаго, по какому побужденію возродилось въ немъ желаніе сделаться Христіаниномъ, и если узнаешь, что его расположило къ тому книги содержащіяся въ Каноне или какія–либо другія благонамеренныя сочиненія: то скажи сначала что–нибудь объ нихъ; похвали первыя со стороны ихъ канонической важности, а последнія со стороны тщательнаго труда ихъ писателей; и особливо въ книгахъ каноническихъ выставь на видъ высоту спасительныхъ истинъ, въ нихъ заключающихся, а въ техъ благозвучіе и красоту слога, кои нравятся какъ образованному, такъ и необразованному. Не излишне также узнать отъ него, кого преимущественно онъ читалъ, и какія книги расположили его присоединиться къ Церкви. Если онъ скажетъ о книгахъ намъ известныхъ, или писанныхъ какимъ–либо знаменитымъ мужемъ, въ православіи коего Церковь не имеетъ сомненія: то одобри это. Если же онъ напалъ на сочиненія какого–либо еретика и по неведенію сердечно принялъ то, чего не одобряетъ истинная вера, и затемъ считаетъ себя православнымъ: въ такомъ случае его надобно вразумить, что вселенская Церковь и все другіе ученейшіе мужи, пребывающіе въ ея истине, держатся другаго ученія; хотя, правду сказать, и те, кои православными отошли отъ сей жизни и оставили потомкамъ свои сочиненія, въ некоторыхъ местахъ своихть твореній, будучи или не поняты, или превратно толкуемы, людямъ высокомернымъ и дерзкимъ подавали поводъ къ некоторымъ ересямъ и разномыслію; — что нимало не удивительно, какъ скоро мы и о каноническихъ писаніяхъ, въ коихъ заключена чистейшая истина, можемъ сказать, что не столько по неуразуменію того, что говоритъ въ нихъ писатель, и какова истина сама въ себе, — ибо въ такомъ случае еще можно бы было исправить ошибку, — сколько по упорному и гордому предубежденію, что въ писаніяхъ сихъ заключается именно то ученіе, какое они защищаютъ, многіе породили многіе пагубные догматы, расторгнувъ чрезъ то единство общенія. — Съ такою скромностію надобно говорить, когда желаетъ вступить въ общество Христіанъ не простой, какъ говорятъ, человекъ, но образованный и сведущiй въ писаніяхъ ученыхъ мужей; но не надобно однакожъ терять при семъ и важности наставнической, дабы не подать ему повода къ надменности. Обо всемъ же прочемъ, касающемся или веры, или нравовъ, или искушеній, по правиламъ здраваго ученія, надобно говорить такъ, какъ изложено выше, съ темъ однакожъ, чтобы все таковыя разсужденія направлены были къ одной главной цели, о которой сказано много прежде, т. е. къ любви.
8. Нередко приходятъ также къ оглашенію некоторые изъ известныхъ такъ называемыхъ школъ Грамматиковъ и Риторовъ люди, которыхъ нельзя отнести ни къ простымъ, ни къ ученымъ, коихъ умъ обогащенъ сведеніями о многихъ предметахъ. Таковымъ людямъ, кои думаютъ о себе, что красноречіемъ своимъ они превосходятъ прочихъ, — когда они приходятъ къ принятію христіанства, должно внушать то особенно въ сравненіи съ неучеными, чтобы они, облекшись въ христіанское смиреніе, научились не презирать техъ, кои избегаютъ более погрешностей нравственныхъ, чемъ словесныхъ, и красноречія Своего не поставляли бы наравне съ чистотою сердца, а не только не предпочитали оной. Особенно надобно научать ихъ слушать божественное Писаніе и не пренебрегать его слогомъ — потому, что онъ не напыщенъ, и чтобы они не думали, что все слова и дела человеческія, о коихъ говорится въ сихъ книгахъ, не дожны быть разоблачены отъ того чувственнаго покрывала, въ какомъ они представлены, но принимаемы такъ, какъ говоритъ буква. Таковымъ людямъ полезно знать, что мысли такъ–же должно предпочитать словамъ, какъ душа предпочитается телу, и что они должны слушать более речи назидательныя, чемъ красноречивыя, подобно какъ надобно избирать друзей более благоразумныхъ, чемъ красивыхъ. Они должны также знать, что не слово доходитъ до слуха Божія, но расположеніе сердечное, а потому не смеялись бы, когда заметятъ, что Настоятели и Служители Церкви призываютъ Бога языкомъ, исполненнымъ барбаризмовъ и солецизмовъ (ошибокъ противъ чистоты языка и грамматики), или если они не понимаютъ произносимыхъ ими словъ или безпорядочно выговариваютъ оныя. Нельзя сказать, чтобы таковые недостатки уже и не требовали исправленія, какъ скоро народъ тогда только можетъ говорить: аминь, когда онъ все совершенно разумеетъ; но они могутъ быть терпимы тамъ, где благословеніе преподается не столько словомъ, сколько желаніемъ сердечнымъ. Что касается до Таинствъ, къ принятію коихъ приходятъ Христіане, то для людей разсудительныхъ достаточно услышать то, что они означають; а людямъ тупоумнымъ надобно объяснять многими словами и подобіями, дабы они не презирали того, что видятъ.
Но представимъ, что къ намъ пришелъ нето желающій сделаться Христіаниномъ, изъ рода частныхъ людей, но впрочемъ не деревенскихъ , но городскихъ, каковыхъ ты много встречалъ въ Карфагене, — который на вопросъ: для земной ли какой–либо выгоды или для вечнаго покоя онъ желаетъ сделаться Христіаниномъ? ответитъ, что для вечнаго покоя: въ такомъ случае ему можно преподать такое наставленіе:
«Благодареніе Богу, возлюбленный братъ! Отъ всей души поздравляю тебя и радуюсь, что ты среди толикихъ и столь опасныхъ треволненій міра сего помыслилъ объ истинной и верной безопасности! Люди съ великими усиліями и въ сей жизни ищутъ покоя и безопасности, но по своимъ злымъ похотямъ не находятъ оныхъ; потому–что они ищутъ покоя въ предметахъ непостоянныхъ и скоро–преходящихъ, которые, когда бываютъ истребляемы и уносимы временемъ, производятъ въ сердцахъ человеческихъ скорбь и безпокойство. Ищетъ ли кто спокойствія въ богатстве, — онъ становится более гордымъ, чемъ спокойнымъ. Не видимъ ли мы примеровъ тому, какъ многіе внезапно теряли оное, многіе даже гибли изъ–за него, когда они или не могли удовлетворить своей жадности, или насильственно лишаемы были онаго корыстолюбцами? Но если бы оно и на всю жизнь оставалось съ человекомъ и не покидало своего владетеля: то не долженъ ла онъ будетъ самъ разстаться съ нимъ при своей смерти? Какова жизнь человека, есла онъ состареется? Или, когда люди желаютъ себе старости: то чего другаго они желаютъ, какъ не продолжительной слабости? Такъ и почести міра сего что иное суть, какъ не смехъ, суета и поводъ къ паденію? Ибо такъ говорить святое Ппсаніе: всяка плоть сено, и слава человеча, яко цветъ травный. Изше трава и цветъ отпаде; глаголъ же Бога нашего пребываетъ во векъ (Иса. 40, 1). Посему кто желаетъ истиннаго покоя и истиннаго счастія, тотъ долженъ оставить надежду на скорогибнущія и преходящія вещи, и полагать оную въ слове Господнемъ, пребывающемъ во векъ, дабы и самому пребыть съ нимъ во веки.
Есть также люди, которые не домогаются богатства и не гоняются за суетною славой, но желають найти удовольствіе и успокоеніе въ гостинницахъ, въ любовныхъ связяхъ, театрахъ и другихъ пустыхъ зрелищахъ, столько любимыхъ въ большихъ городахъ. Но они сами причиняютъ себе бедность своею расточительностію и отъ бвдности впадають въ последствіи въ воровство и грабежи, а не редко даже въ разбой, и на каждомъ шагу должны бываютъ чивствовать страхъ, — такъ–что темъ, кои не задолго предъ темъ веселились въ гостиннице, уже чудится вопль темничнаго заключенія. Находясь на ристалищахъ, они уподобляются демонамъ, побуждая криками своими людей ранить другъ друга, и въ противномъ случае сами заводятъ между собою брань и сраженіе, чтобы угодить безсмысленной толпе. Заметивъ, что сопернвки, после первой схватки дружатся между собою, они исполняются негодованіемъ, преследуютъ ихъ и кричатъ, чтобы ихъ били палками, и къ таковому безчинному делу принуждаютъ блюстителя всякаго благочинія — судію. Если же увидятъ, что на ристалище поднялась ужасная вражда или между комедіантами, или всадниками, или охотниками: то ихъ бедныхъ посылаютъ въ сраженіе и бой не только съ людьми, но и со зверями, и чеме большею исполняются они яростію другъ противъ друга, темъ более те увеселяются, рукоплещутъ и побуждаютъ, неистовствуя более сами въ себе, чемъ те, неистовствомъ коихъ они утешаются. Какое же спокойствіе можетъ иметь духъ, который питается однимъ несогласіемъ и раздорами? Обыкновенно какова принимается пища, таково бываетъ и здоровье. Наконецъ, поелику безумныя радости не суть радости, но однакожъ, каковы бы ни были и сколько бы ни доставляли намъ удовольствія — богатство, почести, разгульные домы, сраженія на зрелищахъ, любовныя связи, роскошныя бани и т. под., все это бываетъ до одного какого–либо несчастнаго переворота, и — еще при жизни отлетитъ отъ насъ это ложное блаженство, а при насъ останется одна бедная и немощная совесть, которая должна будетъ увидеть въ Господе своего судію и грознаго домовладыку, потому–что она не хотела видеть въ Немъ своего наставника и любвеобильнаго Отца, и не имела любви къ Нему. Ты же, поелику возжелалъ истиннаго покоя, какой обещается Христіанамъ въ будущей жизни, можешь вкусить его и здесь съ сладостію и пріятностію среди горестей сей жизни, ежели возлюбишь заповеди Того, кто обещалъ оный. Ибо ты скоро почувствуешь, что плоды правды пріятнее плодовъ неправды, и что человеку гораздо более бываеть радости при доброй совести среди бедствій, чемъ при злой — среди утехъ; потому–что ты не съ темъ пришелъ присоединиться къ Церкви, чтобы получить отъ нея временную какую–либо пользу.
Есть и такіе, которые желають быть Христіанами или изъ ожиданія отъ людей какихъ–либо временныхъ выгодъ, или изъ опасенія оскорбить техъ, кого они боятся. Но таковые люди суть люди отверженные, хотя до времени они и бываютъ терпимы въ Церкви, какъ плевелы на гумне до времени веянія; если же они не исправятся и не начнутъ быть Христіанами ради будущаго вечнаго покоя: то напоследокъ отлучены будутъ. Они не должны ласкать себя надеждою, что на гумне они могутъ быть вместе съ пшеницею; потому–что въ житнице они не будугь съ нею, но предадутся огню. Есть еще и другіе, кои хотя и почитаютъ Бога и не гнушаются именемъ христіанскимъ, и не съ притворнымъ сердцемъ вступаютъ въ Церковь Божію, но желають земнаго счастія и хотять быть и въ сей жизни счастливее техъ, кои не чтутъ Господа. А потому, когда видятъ, что некоторые порочные и нечестивые люди наслаждаются благополучіемъ въ сей жазни, а они лишены онаго: то приходятъ въ уныніе, какъ будто бы они напрасно чтутъ Бога, и легко отпадаютъ отъ веры. Не таковъ истинный Христіанинъ; но кто для нескончаемаго блаженства и вечнаго покоя, обещаннаго святымъ въ будущей жизни, желаетъ быть Христіаниномъ, чтобы не пойти въ вечный огнь съ діаволомъ, но вступить въ вечное царство со Христомъ, — тотъ есть истинный Хростіанинъ! Онъ бодрствуетъ при всякомъ искушеніи, дабы и счастіе не надмило его, и несчастіе не подавило; умеренъ и воздерженъ при изобиліи благъ земныхъ, и мужественъ и терпеливъ въ напастяхъ. Преуспевая постоянно въ добродетели, онъ доходитъ до такого соверщенства, что более любитъ Бога, чемъ страшится геенны, такъ–что, если бы Господь сказалъ ему: «наслаждайся непрестанно плотскими удовольствіями, и греши, сколько можешь и не будешь поверженъ въ геенну, но только со мною не будешь»: онъ ужаснется и не будеть совсемъ грешить не изъ опасенія впасть въ геенну, но дабы не оскорбить Того, кого онъ любитъ, и въ комъ одномъ заключается тотъ покой, котораго око не виде и ухо не слыша и который на сердце человеку не взыде, егоже уготова Богъ любящимъ Его (1 Кор. 2, 9). Объ этомъ покое ясно говоритъ Писаніе, когда повествуетъ, что отъ начала міра, когда Богъ сотворилъ небо и землю и вся яже въ нихъ, Онъ шесть дней делалъ, а въ седмой почилъ отъ делъ своихть. Всемогущій могъ конечно и въ одинъ моментъ времени сотворить все, и Онъ не истомился до того, чтобы имелъ нужду въ успокоеніи, когда рече и быша, повеле и создашася, но делалъ это, дабы показать, что по прошествіи шести періодовъ міра въ седмой періодъ, какъ–бы въ седмой день, Онъ почіетъ во Святыхъ своихъ, такъ–какъ и они почіютъ въ Немъ после всехъ добрыхъ делъ, которыми они служали Ему, и которыя Онъ самъ въ нихъ производитъ, когда призываетъ ихъ къ тому, даетъ заповеди, отпускаеть прежнія согрешенія и оправдываетъ того, кто прежде нечестивъ былъ. Какимъ образомъ потому, что они действуютъ по благодати Его, мы говоримъ, что Онъ самъ действуетъ: такъ точно, когда они успокоиваются, говорится, что успокоивается Онъ самъ. Ибо что касается Его самаго, то Онъ не имеетъ нужды въ успокоеніи, потому–что не чувствуетъ труда. Сотворилъ же Онъ все словомъ своимъ, а слово Его есть самъ Христосъ, въ которомъ почіютъ Ангелы и все чистейшіе небесные духи во святомъ безмолвіи. Но такъ–какъ человекъ чрезъ грехопаденіе потерялъ тотъ покой, какой онъ имелъ въ Божестве Его: то онъ долженъ былъ получить оный въ Его человечестве; почему на время благоприличное, когда сіе должно было исполниться, Слово то вочеловечилось и родидилось отъ жены, не принявъ плотской скверны, но, напротивъ, освятивъ собою плоть. О пришествіи Его знали по откровенію Святаго Духа и пророчествовали и ветхозаветные праведники, и такимъ образомъ спасались верою въ Него грядущаго, какъ мы спасаемся верою въ Него пришедшаго, и — высота сего таинства издревле чрезъ все продолженіе вековъ была прообразуема и предвозвещаема. Посему сколько мы должны любить Бога, который такъ возлюбилъ насъ, что послалъ въ міръ своего единороднаго Сына, дабы Онъ, облекшись въ уничиженіе нашего смертнаго естества, отъ грешниковъ и за грешниковъ умеръ!
Поелику Богъ всемогущь и благъ и праведенъ и милосердъ, — который сотворилъ вся добра зело, какъ великое, такъ и малое, какъ высшее, такъ и низшее, какъ видимое, каковы: небо, земля и море, и на небе солнце, луна и прочія звезды, а на земле и въ море дерева и кустарники, и животныя всякаго рода, и вообще все тела небесныя и земныя, такъ и невидимое, каковы духи, коими тела оживотворяются: то Онъ и человека создалъ по своему образу, дабы, какъ Онъ по своему всемогуществу владычествуетъ надъ всемъ твореніемъ, такъ и человекъ по своему разуму, по которому онъ также знаетъ и чтитъ Творца своего, владычествовалъ надъ всеми земными животными. Онъ создалъ ему также помощницу — жену не для удовлетворенія плотскому похотенію, потому–что тела ихъ въ то время не были растленны, доколе смертность не досталась въ уделъ имъ — въ наказаніе за грехъ; но дабы и мужъ славился о жене, предъидя предъ нею ко Господу и подавая ей въ себе примеръ святости и благочестія, подобно какъ и онъ самъ имелъ славу Божію, когда последовалъ Его премудрости. По сотвореніи Богъ поставилъ ихъ въ некоторомъ блаженномъ месте, которое Священное Писаніе называетъ Раемъ, и далъ имъ заповедь, которую если они не преступятъ, то пребудутъ навсегда въ томъ блаженномъ безсмертіи; а если преступять, то испытаютъ наказанія смертности. Богъ предвиделъ конечно, что они подвергнутся паденію; но такъ–какъ Онъ есть творецъ и виновникъ всякаго добра, то Онъ сотворилъ и ихъ, какъ сотворилъ и животныхъ, дабы исполнить землю земными благами; потому–что человекъ и грешникъ всегда выше животнаго. И заповедь, которую они имели нарушить, Онъ далъ наипаче для того, дабы они были безответны при определеніи наказанія за преступленіе оной; ибо, что бы ни делалъ человекъ, Богъ всегда славенъ во Святыхъ своихъ. Если онъ поступаетъ праведно, — Богъ достоинъ прославленія за праведное воздаяніе; если же согрешаетъ, — за милосердое прощеніе. Итакъ почему же и не сотворить было человека, если Богъ и зналъ, что онъ согрешитъ, когда Онъ увенчиваетъ стоящаго, поддерживаетъ падающаго и помогаетъ возстающему, будучи славенъ всегда и везде своею благостію, правосудіемъ и милостію, — особенно же, когда Онъ предвиделъ, что изъ смертнаго того племени произойдутъ праведники, которые не себе будутъ искать славы, но стануть воздавать оную Творцу своему, и за богоугодную жизнь свою удостоятся вселенія со святыми Ангелами и блаженной жизни?
Тотъ–же, кто далъ людямъ свободное произволеніе, дабы не по рабской необходимости, но по доброй воле они служили Богу, далъ таковое и Ангеламъ. Почему тотъ Ангелъ, который съ другими подвластными ему духами по гордости не хотелъ оказать повиновенія Богу и сделался діаволомъ, не причинилъ никакого вреда Богу, а только самому себе; ибо Богь знаетъ, какъ поступить съ отпадающими оть Него духами и, подвергнувъ оныя заслуженному ими наказанію, устроить сообразно планамъ своего чуднаго домостроительства низшихъ своихъ тварей. Итакъ ни діаволъ не сделалть никакого вреда Богу, когда онъ и самъ палъ и человека увлекъ въ погибель, ни самъ человекъ нисколько не уменьшилъ правды или могущества или блаженства Творца своего, когда по собственной воле согласился вместе съ обольщенною діаволомъ женою нарушить заповедь Божію; потому–что, по неизменнымъ законамъ Божественнаго правосудія, все осуждены на позорное наказаніе, и одинъ Богъ славенъ по правоте своего мщенія. Человекъ, удалившійся отъ Творца своего, преданъ въ пленъ діаволу, а самаго діавола можетъ победить обратившійся къ Богу человекъ; такъ–что одни только те, кои до конца пребудутъ въ единомысліи съ діаволомъ, пойдутъ съ нимъ въ муку вечную, а те, кои смирятся предъ Богомъ и при помощи Его благодати победятъ діавола, получатъ жизнь вечную.
Мы не должны обезпокоиваться темъ, что наибольшая часть людей последуетъ діаволу, а наименьшая — Господу; ибо и зеренъ пшеницы бываетъ гораздо менее въ сравненіи съ мякиною. Но какъ земледелецъ знаетъ, куда употребить большую груду мякины, такъ и для Бога ничего не значитъ множество грешниковъ; потому–что Онъ знаетъ, что сделать съ нами, дабы ничемъ не возмущалось Его царство. Поэтому и діавола еще нельзя почитать победителемъ потому, что онъ наибольшую часть людей увлекъ на свою сторону, и только наименьшая должна съ нимъ сражаться. Два общества людей — одно нечестивыхъ, а другое — праведныхъ отъ начала человеческаго рода до кончины века будутъ существовать въ міре, видимо перемешиваясь между собою, но отделяясь одно отъ другаго по расположеніямъ сердечнымъ, пока въ день судный они не отделены будутъ другъ отъ друга и видимымъ образомъ. Ибо все люди, любящіе гордость и временное преобладаніе, вместе съ духами, кои славу свою поставляютъ въ покореніи людей, составляютъ одно общество, и хотя различествуютъ между собою способами пріобретенія сей власти, но по тяжести злыхъ своихъ вожделеній низвергаются въ одну и ту–же бездну. Равнымъ образомъ и все люди и все духи, смиренно ищушіе не своей, но Божіей славы и благоугождающіе предъ Нимъ, принадлежатъ къ одному обществу. Но премилосердый Богъ долготерпеливъ и по отношенію къ нечестивымъ людямъ, и даетъ имъ время для покаянія и исправленія. Такъ, положивъ истребить потопомъ всехъ людей кроме одного праведника съ его семействомъ, коихъ Онъ восхотелъ спасти въ ковчеге, Онъ хотя и зналъ, что нечестивые те не исправятся, однакожъ и тогда, въ продолженіе ста летъ, какъ строился ковчегъ, Онъ не преставалъ возвещать повсюду о гневе своемъ, грядущемъ на нихъ, такъ–что, если бы они обратились ко Господу, Онъ пощадилъ бы ихъ, какъ пощадилъ въ–последствіи Неневитянъ, принесшихъ покаяніе, когда Богъ чрезъ Пророка предвозвестилъ ихъ погибель (Іон. 3). Если такъ поступалъ Богъ съ теми, о коихъ Онъ зналъ, что они пребудутъ во злобе своей, и давалъ имъ время для раскаянія: то примеромъ симъ Онъ хотелъ научить насъ, сколь терпеливы должны быть мы въ отношеніи къ злымъ, когда мы еще не знаемъ, каковы они будутъ въ–последствіи, и когда ведующій все будущее Богъ щадитъ ихъ и дозволяетъ имъ жить. Таинство потопа, во время коего праведные спаслись чрезъ древо, предвозвещало также будущую Церковь, которую ея Царь и Господь Iисусъ Христосъ таинствомъ креста своего спасъ отъ потопленія міра сего. Богъ зналъ конечно и то, что между потомками спасенныхъ въ ковчеге будутъ въ–последствіи злые, которые неправдами наполнятъ лице земли; потому–что и после сего зло не преставало распространяться на земле чрезъ гордость, похоти и другое нечестіе, когда люди, оставивъ Творца своего, не только прилепились къ твари, которую создалъ Богъ, почитая оную за Бога, но и уклонили сердца свои къ деламъ рукъ человеческихъ и художественнымъ произведеніямъ, въ которыхъ они обожали и почитаіи самихъ демоновъ: но въ предотвращеніе сего зла Онъ не погубилъ потопомъ всехъ людей, дабы съ одной стороны показать примеръ будущаго суда, а съ другой таинствомъ древа предвозвестить свободу праведныхъ.
Впрочемъ и тогда были праведники, благочестно чтившіе Бога и побеждавшіе гордость діавола, — граждане того святаго града, кои спасались верою въ будущее уничиженіе Царя своего, открытое имъ Духомъ Святымъ. Между таковыми особенно славенъ Авраамъ, благочестивый и верный рабъ Божій, коему открыта была тайна Сына Божія, и за подражаніе вере коего — верующіе всехъ народовъ называются его чадами. Отъ сего Авраама произошелъ народъ, который одинъ почиталъ единаго истиннаго Бога, создавшаго небо и землю, когда прочіе народы служили идоламъ и демонамъ, и въ которомъ уже весьма ясно предъизображалась будущая Церковь. Но въ народе семъ наибольшею частію были люди плотскіе, которые за видимыя благодеянія почитали Господа, и только немногіе помышляли о вечномъ покое и искали небеснаго отечества, каковымъ людямъ пророчески и открыто было будущее уничиженіе Царя и Господа нашего Iисуса Христа, дабы чрезъ сію веру они исцелялись отъ всякой гордости и надменности. Святые сіи, предшествуя по времени рожденію Господа, не только словами, но и самою жизнію, супружествомъ, детьми и делами предвозвещали то время, когда чрезъ веру въ распятаго Господа изъ всехъ народовъ земли должна была составиться Церковь Божія; сіи святые Патріархи и Пророки оказывали также плотскому народу Израильскому, который назывался после Іудеями, и видимыя благодеянія и смягчали жестокость телесныхъ наказаній, угрожавшихъ ему за его жестокосердіе, и — во всемъ этомъ выражались однакожъ духовныя тайны, относящіяся ко Христу и Его Церкви, членами коей были и сіи праведники, хотя они жили еще до пришествія Христова. Ибо самъ единородный Сынъ Божій, Слово Отчее, равный и совечный Отцу, имъже вся быша, сделался для насъ человекомъ, дабы быть главою целой Церкви, какъ–бы какого–либо тела; и — хотя Патріархи сіи явились прежде Его, подобно какъ и рука показывается иногда прежде рожденія всего тела, однакожъ они соединены съ симъ теломъ ниже главы, которая есть Iисусъ Христосъ. Народъ сей, по переселеніи во Египетъ, служилъ жесточайшему царю, и будучи обремененъ тяжкими работами, взыскалъ Избавителя–Бога. Въ это время посланъ былъ къ нему одинъ изъ сего же народа святый рабъ Божій Моисей, который, устрашивъ нечестивый народъ Египетскій великими чудесами, производимыми имъ силою Божіею, вывелъ оттуда народъ Божій чрезъ Чермное море, которое, разступившись, открыло путь проходившимъ чрезъ оное Израильтянамъ, а Египтянъ, погнавшихся вследъ за ними, потопило въ волнахъ своихъ. Такимъ образомъ, какъ во время потопа земля водами была очищена отъ неправды грешниковъ, которые погибли въ семъ наводненіи, а праведные спаслись посредствомъ древа: такъ вышедшій изъ Египта народъ Божій открылъ себе путь ко спасенію въ водахъ, коими истреблены были враги его. Издесь нельзя не видеть таинства древа; ибо Моисей жезломъ ударилъ по морю, чтобы произвести это чудо. Вообще то и другое событіе знаменовало Таинство святаго Крещенія, чрезъ которое верующіе вступаютъ въ новую жизнь, а грехи ихъ, какъ враги, встребляются и погибаютъ. Но гораздо яснее въ семъ народе предъизбражено было страданіе Христово, когда Богъ повелелъ Израильтянамъ закалать и снедать агнца, и кровію его мазать двери домовъ своихъ, и совершать такое празднество каждый годъ, называя оное Пасхою Господнею; ибо сія Пасха яснейшимъ образомъ прообразовала Господа нашего Iисуса Христа, который, по слову Пророка, яко овча на заколеніе ведеся (Ис. 53, 7). Знаменіе сего страданія и креста и ты ныне долженъ изображать на челе своемъ, какъ некогда Израильтяне на дверяхъ, и какъ все Христіане на себе изображаютъ оное. — После сего народъ сей въ продолженіе сорока летъ водимъ былъ по пустыне и получилъ законъ, написанный перстомъ Божіимъ, подъ именемъ коего разумеется Духъ Святый, какъ объ этомъ ясно сказано въ Евангеліи (Лук. 11, 20); ибо Богъ не имеетъ телесной формы, и въ Немъ нельзя представлять техъ членовъ и перстовъ, какіе мы видимъ у себя; но поелику Духъ Святый разделяетъ святымъ божественные дары, которые хотя и различны одинъ отъ другаго, но соединяются между собою въ одномъ союзе любви, подобно какъ и персты наши хотя и разделены одинъ отъ другаго, но по началу соединены между собою: то по сей или другой какой–либо причине Духъ Святый называется перстомъ Божіимъ, но однакожъ мы, слыша это, не должны представлять въ Боге телесной формы. Законъ сей написанъ былъ перстомъ Божіимъ на каменныхъ скрижаляхъ въ обозначеніе жестокосердія народа, по которому онъ не могъ исполнить сего закона; ибо, желая отъ Бога телесныхъ благъ, онъ располагался къ соблюденію онаго более по плотскому страху, нежели по духовной любви, а законъ можеть исполнить только одна любовь. По этой–то прочине, дабы удержать народъ сей подъ рабскимъ игомъ, онъ и обремененъ былъ множествомъ внешнихъ обрядовъ относительно различія въ пище, жертвоприношенія животныхъ и многаго другаго, кои все однакожъ были знаменіями вещей духовныхъ, относящихся къ Господу Iисусу Христу и Его Церкви, и которые еще въ то время некоторые святые люди понимали во свое спасеніе и соблюдали, когда то было нужно, но наибольшая часть плотскихъ людей только соблюдала, но не понимала.
При столь многихъ и различныхъ знаменіяхъ будущихъ вещей, кои все трудно исчислить и которыя ныне выполняются въ Церкви, народъ сей введенъ былъ въ землю обетованія, где, сообразно его желанію, предназначено ему было временно и плотски царствовать. Но сіе земное царство имело однако жъ образь царства духовнаго. Тамъ построенъ былъ Іерусалимъ, славнейшій градъ Божій, служащій знаменіемъ того свободнаго града, который называется небеснымъ Іерусалимомъ, каковое слово есть Еврейское и означаетъ виденiе мира. Граждане его суть все святые люди, какъ бывшіе прежде, такъ и настоящіе и будущіе, и все святые духи, кои въ горнихъ селеніяхъ небесныхъ съ благоговейною преданностію повинуются Богу, будучи чужды нечестивой гордости діавола и его аггеловъ. Царь сего града есть самъ Господь Iисусъ Христосъ, Слово Отчее, управляющее высшими Ангелами, и соделавшееся человекомъ, дабы управлять и людьми и возвести ихъ съ Собою въ вечное царство мира. Въ земномъ царстве народа Израильскаго образомъ сего Царя более всехъ былъ царь Давидъ, отъ семени коего произошелъ по плоти истинный Царь нашъ, Господь Iисусъ Христосъ, сый надъ всеми Богъ благословенъ во веки (Рим. 9, 5). Много въ сей земле обетованія произведено было делъ въ предъизображеніе будущаго пришествія Христова и Его Церкви, — что ты можешь мало–по–малу узнать изъ книгъ Священнаго Писанiя; но чрезъ несколько поколеній Богь далъ другое знаменіе, более относящееся къ существу дела. Городъ тотъ Іерусалимскій взятъ былъ въ пленъ, и наибольшая часть его жителей отведена въ Вавилонъ. Но какъ Іерусалимъ знаменуетъ градъ и общество святыхъ: такъ Вавилонъ знаменуетъ городъ и общество нечестивыхъ, потому–что по словопроизводству онъ означаетъ: смешеніе. О смешеніи сихъ двухъ обществъ, которое началось съ самыхъ первыхъ временъ человеческаго рода и по стеченію различныхъ обстоятельствъ времени будеть продолжаться до кончины века, пока на последнемь суде не последуетъ между ними решительнаго разделенія, — мы уже сказали несколько выше. Плененіе сего града Іерусалима и отведеніе народа его на порабощеніе въ Вавилонъ предвозвещено было Господомъ чрезъ Іеремію, Пророка того времени (Іер. гл. 25 и 29). Между царями Вавилонскими, у коихъ въ порабощеніи находились Іудеи, были такіе, которые, по сему случаю будучи возбуждены некоторыми чудесами, познавали и почитали единаго истиннаго Бога, создавшаго всю тварь, и повелевали почитать Его своимъ подданнымъ, а порабощеннымъ ими Іудеевъ заставляли молиться за поработившихъ ихъ, дабы въ мире ихъ они могли также въ мире раждать детей, строить домы и насаждать сады и виноградники. Но имъ обещано освобожденіе по истеченіи 70 летъ отъ плена. Все это имело то таинственное предзнаменованiе, что Церковь Христова, состоящая изъ святыхъ Его, — гражданъ небеснаго Іерусалима, будетъ покорствовать царямь века сего. Ибо такъ говоритъ и апостольское ученіе: всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется, и: воздадите убо всемъ должная: емуже убо урокъ, урокъ: а ему же дань, дань (Рим. 13, 1. 7), и вообще все, что должны воздавать мы по законамъ человеческаго учрежденія, если только это не противно закону Божію; да и самъ Господь своимъ собственнымъ примеромъ научилъ насъ соблюдать сiе ученіе, когда не усумнился заплатить за себя поголовную дань (Матф. 17, 27). Рабы Христіане и добрые верующіе должны верно и нелицемерно служить временнымъ господамъ своимъ, которыхъ они будутъ судить, если они до конца пребудутъ въ нечестіи, или съ коими равно будутъ царствовать, если они обратятся къ истинному Богу. Но всемъ вообще заповедуется повиноваться человеческимъ и земнымь властямъ, пока по истеченіи предопределеннаго времени, обозначаемаго седмидесятью годами, Церковь не освободится отъ смешенія съ міромъ, подобно какъ Іерусалимъ освободился отъ плена Вавилонскаго. По случаю сего плененія Церкви и сами земные цари, оставивъ идоловъ, за коихъ они преследовали Христіанъ, познали и чтутъ единаго истиннаго Бога и Господа Iисуса Христа, и объ нихъ–то Апостолъ Павелъ заповедалъ Христіанамъ молиться, даже когда гонима была Церковь. Ибо такъ говоритъ онъ: молю убо прежде всехъ творити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія, за вся человеки: за царя, и за всехъ, иже во власти суть: да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестiи чистоте (1 Тим. 2, 1–2). Итакъ сіи цари даютъ миръ Церкви и тишину, хотя и временную, для духовнаго созиданія домовъ и насажденія садовъ и виноградниковъ; по сей–то прячине и мы тебя назидаемъ и насаждаемъ настоящею проповедію, и это же самое делается во всемъ міре, какъ говоритъ тотъ–же Апостолъ: Божіе тяжаніе, Божiе зданiе есте (1 Кор. 3, 9), пока изъ Христіанъ не составится одно общее мирное царство».
«По прошествіи 70–ти летъ, о коихъ таинственно пророчествовалъ Іеремія, дабы предъизобразить кончину временъ, въ Іерусалиме сделано было начало къ возстановленію храма Божія. Но такъ–какь все это делалось только образно: то Іудеи и не имели совершеннаго мира и свободы. Посему ихь победили въ–последствіи Римляне и сделали своими данниками. Съ того самаго времени, какъ Евреи вступили въ землю обетованную и стали иметь своихъ царей, до самаго плененія Вавилонскаго пророчества объ Iисусе Христе, какъ будущемъ Избавителе, становились время–отъ–времени определеннее, какъ видно изъ книги Псалмовъ Давидовыхъ и писаній другихъ великихъ и святыхъ Пророковъ; и это для того, дабы слепотствующій народъ не призналъ безвременно за такого Избавителя кого–либо изъ земныхъ царей своихъ. Но и во время самаго плененія были Пророки, которые возвещали о пришествіи Господа Iисуса Христа — Избавителя всехъ; — и после того, какъ по прошествіи седмидесяти летъ плена храмъ былъ возстановленъ, Іудеи терпели такія угнетенія и несчастія отъ языческихъ царей, что должны были узнать, что еще не пришелъ тотъ Избавитель, который, по ихъ мненію, долженъ освободить ихъ не отъ духовнаго, но отъ плотскаго рабства».
«Такимъ образомъ прошло пять періодовъ времени, изъ коихъ первый простирался отъ начала человеческаго рода, т. е. Адама, который былъ первымъ человекомъ, — до Ноя, построившаго ковчегъ предъ наступленіемъ потопа. За симъ следовалъ второй — отъ Ноя до Авраама, который хотя и называется отцемъ всехъ народовъ, подражающихъ вере его, но по плоти былъ родоначальникъ происшедшаго отъ него, такъ–называемаго въ–последствіи, народа Іудейскаго, который, до распространенія христіанской веры между язычниками, одинъ изъ всехъ народовъ земли почиталъ единаго истиннаго Бога, и изъ котораго долженъ былъ произойти по плоти Спаситель Христосъ. Эпохи сихъ двухъ періодовъ времени обозначены въ книгахъ Ветхаго Завета, а остальныхъ трехъ — въ Евангеліи, и именно въ родословіи Iисуса Христа (Матф.1,17). Ибо третій періодъ простирается отъ Авраама до Давида царя, четвертый отъ Давида до того плена, когда народъ Божій переселился въ Вавилонъ, пятый — отъ сего переселенiя до пришествiя Господа нашего Iисуса Христа, а со времени Его пришествiя идетъ шестый періодъ. Въ сей последній періодъ духовная благодать, известная до того времени не многимъ Патріархамъ и Пророкамъ, открылась всемъ народамъ, дабы каждый туне чтилъ Господа, желая отъ Него не видимыхъ наградъ за свое служеніе и временнаго счастія, но одной вечной жизни, которою онъ будетъ наслаждаться въ самомъ Боге, и — дабы въ сей шестой періодъ умъ человеческій возобновился по образу Божію, точно такъ какь въ шестый день по образу Божiю былъ созданъ человекъ; ибо законъ тогда только исполняется, когда не изъ желанія временныхъ бдагъ, но изъ любви къ заповедавшему кто–либо соблюдаетъ его заповеди. Но кто не возлюбитъ правосуднаго и премилосердаго Бога, который первее такъ возлюбилъ нечестивейшихъ и гордыхъ людей, что ради ихъ послалъ въ міръ своего единороднаго Сына, чрезъ котораго Онъ сотворилъ все, дабы Онъ не чрезъ измененіе своего естества, но чрезъ воспріятіе человечества, не только обиталъ съ ними, но и за нихъ и отъ нихъ умеръ, и такимъ образомъ явиль Новый Заветъ вечнаго наследія, въ которомъ обновленный человекъ, при благодати Божіей, проводилъ бы новую жизнь, т. е. жизнь духовную, подобно какъ въ Ветхомъ Завете плотской народъ, за исключеніемъ не многихъ Патріарховъ и Пророковъ и некоторыхъ сокрытыхъ отъ исторіи Святыхъ, представляя собою ветхаго человека и живя по плоти, желалъ отъ Господа Бога плотскихъ наградъ и получалъ оныя въ предъизображеніе благъ духовныхъ? Посему все земныя блага презрелъ Богочеловекъ Іисусъ, дабы научить насъ презирать оныя, и переносилъ все земныя злоключенія, переносить кои Онъ заповедалъ намъ, дабы ни въ техъ мы не искали счастія, ни въ сихъ не боялись несчастія. Родившись отъ неискусомужныя Матери, которая хотя навсегда пребыла непорочною, будучи девою въ зачатіи и въ смерти, но обручена была древоделу, — Онъ научилъ насъ погашать надменность плотскаго благородства. Родившись притомъ въ городе Вифлееме, который между всеми городами Іудейскими былъ такъ малъ, что и доселе называется селеніемъ, Онъ не хотелъ, чтобы кто–либо гордился знаменитостію какого–либо земнаго города. Беднымъ сделался Тотъ, кому принадлежитъ все и чрезъ кого все сотворено, — дабы всякiй верующій въ Него не дерзалъ превозноситься земнымъ богатствомъ. Не восхотелъ быть почтенъ отъ лодей царемъ Тотъ, о всегдашнемъ царстве коего свидетельствуетъ вся тварь, — дабы показать путь смиренія темъ несчастнымъ, коихъ отделила отъ Него ихъ гордость. Алкалъ, кто насыщаетъ всехъ; жаждалъ, кто подаетъ всемъ питіе, и кто есть духовный хлебъ алчущихь и источникъ жаждущихъ (Іоан. 6, 35); утомлялся отъ земнаго пути, кто въ себе показалъ намъ путь на небо (Іоан. 14, 6); былъ какъ–бы немъ и глухъ предъ злословившими Его, кто отверзалъ уста немому и уши глухому; былъ связанъ, кто разрешалъ узы греховныя; біенъ, кто снималъ съ насъ болезни; преданъ на пропятіе, кто окончилъ наши мученія; умеръ, кто возставлялъ мертвыхъ; но и воскресъ, чтобы уже никогда не умирать, и научить верующихъ не думать о смерти такъ, какъ будто бы после оной уже не было жизни».
«Потомъ, утвердивъ въ вере учениковъ своихъ, и въ продолженіи сорока дней беседовавъ съ ними, въ глазахъ ихъ вознесся на небо, и, по исполненіи пятидесяти дней отъ своего воскресенія, послалъ имъ Святаго Духа, дабы они при помощи благодати, изліявшейся чрезъ Него въ сердца ихъ, не только безъ труда, но и съ пріятностію могли исполиять законъ, данный Іудеямъ въ десяти заповедяхъ, которыя называются десятословiемъ и главнымъ образомъ состоятъ въ томъ, чтобы мы любили Господа всемъ сердцемъ, и всею душею, и всею мыслію, и ближняго своего, какъ самихъ себя (Втор. 6, 5); ибо въ сiю обою заповедію весь законъ и пророцы висятъ, какъ сказалъ самъ Господь въ Евангеліи (Матф. 22, 40), и доказалъ это своимъ примеромъ. Да и самъ народъ Израильскій принялъ писанный перстомъ Божіимъ или, какъ мы сказали, Духомъ Святымъ, законъ также по исполненіи пятидесяти дней съ того времени, какъ онъ образно праздновалъ Пасху, закалая и снедая агнца, и его кровію помазуя двери домовъ своихъ, подобно какъ после страданія и воскресенія Господа, который есть истинная Пасха, въ пятьдесятый же день Духъ Святый посланъ былъ на Апостоловъ, но уже не для обозначенія жестокосердiя народа каменными скрижалями, — когда они собраны были въ одно место въ самомъ Іерусалиме, и бысть внезапу съ небесе шумъ, яко носиму дыханiю бурну (Деян. 2, 2) и явишася имъ разделени языцы яко огненни (ст. 3), и начаша глаголати иными языки (ст. 4), такъ–что все приходящіе слышаху единъ кiйждо ихъ своимъ языкомъ глаголющихъ ихъ; потому–что въ этотъ городъ изъ всехъ странъ стекались разсеянные по онымъ Іудеи и говорившіе потому разными наречіями. Потомъ со всемъ дерзновеніемъ проповедуя Христа, именемъ Его твориля многія чудеса, такъ–что тень мимо–проходившаго Петра, когда касалась какого–либо мертвеца, воскрешала его (Деян. 5, 15). Іудеи же, видя, что такія чудеса творятся именемъ Того, котораго они, частію по зависти, а частію по неведенію предали на распятіе, одни подвизались на гоненіе проповедниковъ Его — Апостоловъ, а другіе, дивясь еще более тому, что такія чудеса совершаются именемъ Того, кого они распяли и осмеяли, приходя въ раскаяніе, целыми тысящами обращались къ вере въ Него. Это были не те кои желали отъ Господа временныхъ благодеяній и земнаго царства, и плотскимъ образомъ судили о Царе Христе, но кои духовно разсуждали о семъ, и любили Того, кто за нихъ–же потерпелъ отъ нихь такія мученія, и до пролитія Своей крови прощалъ имъ ихъ грехи, и въ примере Своего воскресенія показалъ надежду безсмертія. Такимъ образомъ, умертвивъ земныя пожеланія ветхаго человека и стремясь къ новой духовной жазни, они, какъ заповедалъ Господь въ Евангеліи, продавали все, что имели, и цену проданннаго полагали къ ногамъ Апостоловъ, дабы они сами давали каждому, въ чемъ кто имелъ нужду (Деян. 4, 35), — и, живя согласно въ христіанской любви, никто изъ нихъ ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее; и душа и сердце были одно о Господе (Деян. 4, 32). Потомъ и отъ самихъ Іудеевъ, согражданъ своихъ по плоти, терпели гоненіе, и разсеялись повсюду, чтобы чрезъ сіе разсеяніе темъ далее пронести имя Христово, подражая при семъ терпенію своего Господа, который, благодушно потерпевъ за нихъ прежде Самъ, научилъ ихъ благодушно переносить все за имя Его. Къ числу таковыхъ гонителей принадлежалъ сначала и Апостолъ Павелъ, который сильно неистовствовалъ противъ Христіанъ, но въ–последствіи уверовавъ и сделавшись Апостоломъ, посланъ былъ проповедывать Евангеліе язычникамъ и потерпелъ гораздо более за имя Христово, чемъ сколько сделалъ противъ него. Учреждая Церкви во всехъ народахъ, где только сеялъ онъ семя Евангелія, онъ тщательно заповедывалъ, чтобы те, кои отъ идоловъ своихъ обращались къ почитинію единаго Бога, но не легко соглашались продавать и раздавать свое именіе, делали по–крайней–мере приношенія въ пользу бедныхъ святыхъ, находившихся въ Церквахъ христіанскихъ въ Іудеи, такъ–что сіи были какъ–бы воины, а те какъ–бы содержавшіе ихъ; но впрочемъ те и другіе утверждены были на одномъ краеугольномъ камне — Христе, въ которомъ Іудеи и Язычники соединялись какъ–бы две, съ разныхъ сторонъ сходившіяся, стены. Но после неверующiе язычники стали воздвигать на Церковь Христову тягчайшія и непрестанныя гоненія, такъ–что съ каждымъ днемъ исполнялось слово Господа: Се Азъ посылаю васъ, яко овцы посреде волковъ (Матф. 10, 16)».
«Но та лоза, которая, согласно предреченію самаго Господа, должна была распространить свои плодоносныя ветви по всей земле, разширялась темъ далее, чемъ более орошалась кровію мучениковъ, которые, въ безчисленномъ множестве умирая повсюду за истину Веры, производили то, что гнавшія ихъ царства должны были уступить имъ, и мучители ихъ, сокрушивъ свою гордую выю, сами обращались къ вере Христовой. Но надобно же было, чтобы сія самая лоза, какъ о томъ предрекъ Господь (Іоан. 15, 1 и далее), была очищена, и изъ ней вырублены были безплодныя ветви, подъ которыми разумеются все те люди, кои во имя Христово, но не для Его, а для своей славы, разсеявали повсюду ереси и расколы, и при противодействіи коихъ Церковь укреплялась более и более въ чистоте своего ученія и терпеніи. Все это, какъ предречено было, такъ и исполнилось; и какимъ образомъ первенствующіе Христіане, не видя еще исполненія сего, чудесами убеждались верить сему: такъ мы видя теперь, что это все исполнилось такъ, какъ предречено въ техъ книгахъ, кои написаны задолго до исполненія сихъ будущихъ событій, должны несомненно верить и тому, чему еще остается исполниться. Такъ между прочимъ въ техъ–же самыхъ книгахъ говорится объ имеющихъ наступить въ міре скорбяхъ, и о томъ последнемъ судномъ дне, когда граждане обоихъ городовъ (Іерусалима и Вавилона) воскреснутъ въ телахъ своихъ, и предъ судищемъ Христовымъ должны будугь отдать отчетъ въ делахъ своихъ (2 Кор. 5, 10; Рим. 14, 12). Ибо тотъ, кто благоизволилъ прежде прійти во смиреніи человеческомъ, придетъ некогда во славе своей власти, и отделитъ праведныхъ отъ нечестивыхъ, не только отъ техъ, кои совсемъ не хотели веровать въ Него, но и отъ техъ, кои хотя и веровали, но тщетно и безплодно, и первыхъ введетъ съ Собою въ вечное царство, а последнихъ предастъ вечной казни вместе съ діаволомъ. Но какимъ образомъ никакая временная радость не можетъ ни сколько сравниться съ радостію вечной жизни, какую будутъ иметь святые: такъ и никакое мученіе временныхъ казней не можетъ сравниться съ вечными мученіями грешниковъ».
«Итакъ, любезный братъ! укрепляй себя о имени и при помощи Того, въ Кого ты веруешь, противъ злоязычія техъ, кои смеются надъ нашею верою, и устами коихъ говоритъ самъ діаволъ, стараясь осмеять паче всего нашу веру въ воскресеніе. Доказательство своего воскресенія ты имеешь въ самомъ себе, когда ты видишь, что ты, не существовавъ прежде, теперь существуешь. Где была эта масса твоего тела съ его формою и членами за несколько летъ до твоего рожденія или даже до зачатія твоего во утробе матери? Не изъ сокровенныхъ ли недръ природы, при невидимомъ действіи въ образованіи оной Господа Бога, произошла она на светъ и по прошествіи определенныхъ періодовъ достигла до такой величины и приняла такой видъ? Неужели же для Бога, который въ одно мгновеніе ока выводитъ громады облаковъ и покрываетъ оными небо, труднее воспроизвести твое тело, каковымъ оно было, когда Онъ могъ создать оное, когда его еще не было? Итакъ верь твердо и несомненно, что все, что для глазъ человеческихъ кажется какъ–бы погибающимъ, все это цело для всемогущества Божія, по которому Онъ безъ всякаго труда и замедленія можетъ воздвигнуть все, если только потребуетъ сего Его правда; воскресенія же телъ потребуетъ Его правосудіе, дабы въ техъ–же телахъ люди отдали отчетъ въ делахъ своихъ, въ какихъ они творили оныя, и въ техъ же телахъ или удостоились небеснаго нетленія за дела благочестія, или за дела нечестивыя подверглись такому состоянію, въ которомъ тела ихъ не разрушатся смертію, но будутъ матеріею вечныхъ болезней. Итакъ, возлюбленный братъ! имея непоколебимую веру, старайся пріобресть добрые нравы. Бойся того места мученія, где ни мучители не престаютъ мучить, ни мучимые не умираютъ, потому–что смерть ихъ безконечна, и они не могутъ умереть въ мученіяхъ; и воспламеняйся любовію и желаніемъ вечной жизни святыхъ, где ни дело не будетъ въ тягость, ни успокоеніе не вожделенно; где не будетъ никакой печали въ душе, никакой болезни въ теле, и никакого недостатка, который бы ты пожелалъ предотвратить отъ себя или своего ближняго, и где все утешеніе будетъ составлять немолчно славимый Богъ и братія святаго града, въ Немъ и о Немъ блаженно живущіе. Ибо мы, — какъ по Его собственному обещанію можемъ того ожидать и надеяться, — будемъ тогда подобны Ангеламъ (Матф. 22, 30), и наравне съ ними наслаждаться лицезреніемъ Святой Троицы, которую мы ныне познаемъ только верою; потому–что, веруя тому, чего не видимъ, мы за таковую веру удостоимся увидеть то, чему веруемъ, и такимъ образомъ равенство Отца и Сына и Святаго Духа и единство самой Троицы, по которому сіи три суть единъ Богъ, не будемъ уже выражать словами веры и звучащими знаками, но будемъ созерцать съ чистейшею и пламеннейшею любовію въ безмолвномъ благоговеніи. — Сохраняя все сіе въ сердце своемъ, моли Господа, въ котораго ты веруешь, да защититъ Онъ тебя отъ искушеній діавола, и остерегайся, дабы какимъ–либо образомъ отъинуду этотъ врагъ не закрался въ твое сердце; потому–что онъ всюду ищетъ средствъ, какъ бы кого сделать участникомъ уготованнаго ему осужденія. Ибо не чрезъ однихъ только ненавистниковъ христіанскаго имени, которые скорбятъ о томъ , что это имя овладело всемъ міромъ, не преставая сами служить идоламъ и демонамъ, — діаволъ искушаетъ верующихъ, но и чрезъ техъ еретиковъ и отступниковъ, которые, какъ мы незадолго предъ симъ сказали, подобно дикимъ ветвямъ, отсечены отъ единства православно–кафолической Церкви; а иногда даже и чрезъ самихъ Іудеевъ. Но особенно надобно остерегаться, чтобы намъ не искуситься чрезъ техъ людей, кои находятся внутри самой православной Церкви, какъ плевелы до времени веянія, которыхъ Богъ терпитъ въ оной, какъ потому, чтобы чрезъ ихъ развращеніе укрепить въ вере и благоразуміи своихъ избранныхъ, такъ и потому, что и изъ числа ихъ–же самихъ многіе обращаются ко Господу и благоугождаютъ предъ Намъ; ибо не все чрезъ долготерпеніе Божіе собираютъ себе гневъ въ день гнева и откровенія праведнаго суда Божiя, но многихъ то–же долготерпеніе Всемогущаго приводитъ въ чувство спасительнейшаго раскаянія (Рим. 2, 4–5). Доколе таковые люди бывають въ Церкви, чрезъ нихъ укрепляется не только терпеніе, но и состраданіе техъ, кои идутъ правымъ путемъ. Поэтому ты многихъ увидишь пьяницъ, сребролюбцевъ, обманщиковъ, игроковъ, прелюбодеевъ, блудниковъ, колдуновъ, прорицателей и преданныхъ какимъ–либо другимъ нечестивымъ наукамъ, заметишь, что те самыя толпы наполняютъ церкви во дни христіанскихъ праздниковъ, кои въ празднества языческія наполняютъ театры, и увидевъ это (но что я говорю увидевъ, — когда ты среди техъ самыхъ, кои называются Христіанами, найдешь много такихъ, кои деллютъ не только подобныя, но еще худшія дела?), — можетъ–быть самъ соблазнишься сделать то–же; о! беги отъ сихъ греховныхъ покушеній! имя Христово не защититъ тебя, когда грозно будетъ судить тебя Тотъ, кто прежде былъ такъ милосердъ къ тебе. Ибо Онъ самъ предвозвестилъ это въ Евангеліи, сказавъ: не всякъ глаголяй Ми, Господи, Господи, внидеть въ Царствіе Небесное; но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесехъ (Матф. 7, 21); мнози возглаголютъ Мне въ денъ той: Господи, ядохомъ предъ Тобою и пихомъ, и реку имъ: не вемъ васъ, откуду есте, отступите отъ Мене вси делателiе неправды (Лук. 13, 26–27); ибо всемъ таковымъ людямъ уготовано вечное осужденіе. Итакъ, когда ты увидишь, что многіе не только делаютъ это, но даже защищаютъ и советують: то держись закона Божія, и не подражай нарушителямъ онаго; потому–что ты не по ихъ образу мыслей, но по правде Того, кто далъ тебе законъ сей, судимъ будешь. Ищи поэтому сообщества съ добрыми людьми, которые вместе съ тобою любятъ Царя твоего, и которыхъ ты много найдешь, ежели самъ начнешь быть таковымъ. Если тебе пріятнымъ представлялось быть вместе съ теми нечестивцами на зрелищахъ и разделять съ ними удовольствіе при взгляде на какого–либо охотника или комедіанта: то во сколько кратъ пріятнее должно быть для тебя сообщество съ теми людьми, которые вместе съ тобою любятъ Господа, при которомъ никогда не посрамится любящій Его, потому–что Онъ и самъ непобедимъ и любящихъ Его делаетъ непобедимыми? Впрочемъ и на самихъ добрыхъ людей, кои предшествуютъ или сопутствуютъ тебе ко Господу, ты не долженъ полагать своей надежды, равно какъ и на самого себя, сколько бы ты ни преуспевалъ въ совершенстве; но надейся на одного Того, кто оправдываетъ ихъ и тебя; ибо одинъ Богъ неизменяемъ, а человекъ ненадеженъ. Правда мы гораздо пламеннее должны любить техъ, коихъ Господь оправдываетъ, когда по заповеди Его мы должны любить и неоправданныхъ, но иное дело любить человека, иное дело полагаться на него; первое Богъ заповедалъ, второе запретилъ (Іер. 17, 5). Если ты, при всехъ приключающихся тебе искушеніяхъ и огорченіяхъ будешь непоколебимъ въ своей вере, и не уклонишься отъ пути правды: то получишь великую мзду, тогда какъ те, кои поддаются въ семъ случае діаволу, и малой лишатся. Но будь всегда смиренъ предъ Богомъ, дабы Онъ не оставилъ тебе искуситися паче еже можеши (1 Кор. 10, 13)».
По окончаніи сей речи надобно спросить оглашаемаго, веруетъ ли онъ сему и хочетъ ли все сіе соблюдать, и если онъ торжественно исповедуетъ это: то его надобно назнаменать, и поступать потомъ съ нимъ по чиноположенію церковному. Касательно таинствъ, которыя должнымъ образомъ ему преподаны, ему надобно внушить, что хотя они суть видимые знаки вещей божественныхъ, но въ нихъ надобно уважать сіи самые невидимые предметы, и не такъ надобно принимать видъ, который освящается благословевіемъ, какъ принимается въ обыкновенномъ какомъ–либо случае. Должно также сказать ему, что означаетъ и та речь, какую онъ слышалъ, что въ ней скрывается и чему она подобна. Потомъ по сему случаю надобно вразумить его, что все, что въ Священномъ Писаніи изложено подъ чувственнымъ покровомъ, имеетъ духовное значеніе и относится къ святой и будущей жизни. Вообще надобно кратко сказать ему, что все, что читаетъ онъ въ каноническихъ книгахъ, имеетъ целію истину, святость и вечность, и ту любовь, о которой ты говорилъ ему, заметивъ ему при семъ, что подъ именемъ ближняго разумеются не только люди, известные намъ по родству, но и всякiй, кто можетъ быть съ нимъ въ томъ святомъ граде, и чтобы онъ не отчаявался въ исправленіи техъ, коихъ Господь терпитъ среди своей пшеницы, яко благость Божія, по слову Апостола (Рим. 2, 4), на покаяніе ихъ ведетъ.
Но если тебе эта речь кажется слишкомъ длинною, чтобы сказать оную при оглашеніи человека необразованнаго: то можно сказать и короче; но во всякомъ случае не надобно говорить длиннее ея, хотя бы и самый предметъ, о которомъ говорится, и слушатели требовали того. Но когда дело надобно произвести скоро: то смотри, какъ въ краткихъ чертахъ можно преподать все наставленіе. Положимъ, что пришелъ также кто–нибудь, желающій сделаться Христіаниномъ, — который на предложенный вопросъ ответитъ или не ответитъ то самое, что прежній: въ такомъ случае ты можешь составать речь свою следующимъ образомъ.
«Любезный брать! великое и истинное блаженство есть только то, которое обещано святымъ въ будущей жизни; а все видимое преходитъ, и все блаженство века сего, все утехи и пріятности минуютъ, и любящихъ оныя увлекутъ съ собою въ погибель. Отъ таковой погибели, т. е. отъ вечныхъ наказаній, милосердый Богъ, желая спасти людей, если только они сами не будутъ себе врагами и не воспротивятся милосердію Творца своего, послалъ въ міръ единороднаго своего Сына, т. е. Слово свое, равное Ему, чрезъ котораго Онъ сотворилъ все и который, оставаясь въ своемъ Божестве и не отступая отъ Отца, и ни въ чемъ не взменясь, но чрезъ воспріятіе человечества, въ смертной плоти пришелъ къ людямъ, дабы, какъ однимъ человекомъ, который первый былъ созданъ, т. е. Адамомъ, смерть вошла во весь родъ человеческій (Рим. 5, 12. 14. 18), потому–что человекъ тотъ согласился съ обольщенною діаволомъ женою преступить заповедь Божію, такъ и чрезъ одного человека — Iисуса Христа, который есть также истинный Богь, все верующіе въ Него, улучивъ прощеніе во всехъ грехахъ, вступили въ жизнь вечную».
«Все, что происходитъ ныне въ Церкви Божіей, и что во имя Христово делается во всемъ міре, все это за несколько вековъ уже предвозвещено было, и какъ предвозвещено, такъ и исполняется, дабы мы утверждались въ вере. Былъ некогда по всей земле потопъ для истребленія грешниковъ, и те, кои спаслись въ ковчеге, предъизображали судьбу будущей Церкви, которая ныне плаваетъ въ волнахъ века сего и древомъ Креста Христова спасается отъ потопленія. Аврааму, верному рабу Божію, изъ всехъ людей одному предвозвещено было, что отъ него произойдетъ народъ, который одинъ между всеми идолопоклонствующими народами будетъ почитать единаго истиннаго Бога, и все, что должно было по предреченію случиться въ семъ народе, такъ и исполнялось, какъ предречено было. Этому же самому народу предсказано было, что въ немъ явится Царь всехъ святыхъ и Богь, Iисусъ Христосъ, который по плоти будетъ происходить отъ семени Авраамова, дабы все те были чадами Авраама, кои будутъ подражать вере его: — такъ и исполнилось; Христосъ родился отъ Девы Маріи, которая была изъ рода же Авраамова. Пророки предсказали, что Онъ піострадаетъ на кресте отъ того–же Іудейскаго народа, взъ котораго Онъ происходилъ по плоти: — такъ и случилось. Предвозвещено было, что Онъ воскреснетъ, и — воскресъ; и, согласно съ темиже предреченіями Пророковъ, вознесся на небо и послалъ ученикамъ своимъ Святаго Духа. Предвозвещено было не только Пророками, но и самимъ Господомъ Iисусомъ Христомъ, что Церковь Его распространится по всему міру и утвердится чрезъ мученичество и страданія Святыхъ, и — предвозвещено было тогда, когда имя Его еще неизвестно было язычникамъ, а если и известно, то служило предметомъ посмеянія: — и однако жъ чрезъ возвещеніе чудесъ, которыя Онъ творилъ Самъ или чрезъ Своихъ служителей, мы видимъ, что ныне выполняется, что предвозвещено было, когда и сами цари земли, гнавшіе прежде Христіанъ, покоряются имени Христову. Предвозвещено было также, что въ Церкви Его возникнутъ многія ереси и расколы, и подъ Его именемъ пройдутъ по всемъ местамъ, где только могутъ: — такъ и исполнилось. Неужели же теперь не исполнится и остальное изъ всего того, что предвозвещено было? Очевидно, какъ исполнились те предреченія, которымъ пришло свое время, такъ исполнятся и те, коимъ еще придетъ оное. Къ числу неисполнившихся событій относятся бедствія и скорби праведныхъ, и день последняго суда, въ который Господь, воскресивъ всехъ мертвыхъ, отделитъ отъ праведныхъ всехъ нечестивыхъ, и не только техъ, кои находятся вне Церкви, но и всехъ техъ, коихъ Онъ по долготерпенію Своему, въ надежде ихъ исправленія, блюдегь въ оной, какъ мякину на гумне до времени веянія, — предастъ вечному огню. А те, кои смеются воскресенію мертвыхъ, думая что истлевшая плоть возстать уже не можетъ, воскреснутъ, чтобы получить въ оной наказаніе; и Господь покажетъ имъ, что Онъ такъ–же силенъ въ одно мгновеніе воскресить тела ихъ, каковы они были, какъ и произвелъ овыя, когда ихъ еще не было. Все же верующіе, кои будутъ царствовать со Христомъ, такъ воскреснутъ въ телахъ своихъ, что, изменившись, удостоятся ангельскаго нетленія, дабы, по обещанію Господа, быть подобными Ангеламъ, и вместе съ ними немолчно славить Бога и жить въ Немъ и о Немъ въ такой радости и такомъ блаженстве, какого человекъ ни выразить, ни представить не можетъ».
«Веруя всему этому, бойся искушеній, дабы врагъ твой діаволъ, старающійся всякаго увлечь съ собою въ погибель, не соблазнилъ тебя или чрезъ техъ людей, кои находятся вне православно–кафолической Церкви, каковы или язычники или еретики, или даже чрезъ техъ, кои внутри оной ведутъ непотребную жизнь, каковы чревоугодники, сластолюбцы, волхвователи, любители зрелищь и демонскихъ наукъ, и вообще все сребролюбцы и гордецы, или ведущіе какой–либо другой образъ жизни, воспрещенный закономъ. Не подражай таковымъ людямъ, но ищи сообщества съ людьми добрыми, которыхъ ты легко найдешь, если самъ будешь таковымъ, — дабы вамъ всемъ совокупно почитать и любить своего Господа, который самъ составляетъ все наше сокровище, и благостію и красотою коего мы и въ той вечной жизни будемъ наслаждаться. Любить же Его надобно не такъ, какъ мы любимъ какой–либо видимый предметъ, но какъ любимъ премудрость, истину, святость, правду, любовь или что–либо подобное, и притомъ не каковы оне бываютъ въ людяхъ, но каковы въ самомъ источнике вечной и неизменной премудрости. Итакъ, если ты увидишь какихъ–либо людей, кои любятъ это; то и пристань къ ихъ обществу, дабы чрезъ Iисуса Христа, Ходатая Бога и человековъ (1 Тим. 2, 5), ты могъ войти въ примиреніе съ Богомъ. О людяхъ же развратныхъ, хотя бы они и были въ пределахъ Церкви, не думай, чтобы они вошли въ Царствіе Небесное, потому–что въ свое время они отделены будутъ, если въ сей жизни не сделаются лучшими. Такимъ образомъ добрымъ людямъ последуй, злыхъ терпи, но всехъ люби, потому–что не знаешь, какимъ завтра будетъ тотъ, кто ныне былъ злымъ; не люби только ихъ неправды, но ихъ самихъ люби, дабы они познали правду, потому–что намъ заповедана не только любовь къ Богу, но и любовь къ ближнему, и въ сію обою заповедiю весь законъ и пророцы висятъ (Матф. 22, 40). Закона сего никто не можетъ исполнить, какъ только принявшій дары Святаго Духа, равнаго во всемъ Отцу и Сыну; ибо Богъ троиченъ, и на сего Бога должно быть возложено все наше упованіе. На человека нельзя возлагать онаго, каковъ бы онъ ни былъ; ибо иное Тотъ, кемъ мы оправдываемся, и иное те, съ коими оправдываемся. Но не чрезъ одне похоти діаволъ искушаетъ насъ, но и страхомъ гоненій, болезней и самой смерти, и если все это человекъ перенесетъ за имя Христово въ надежде живота вечнаго, онъ удостоится великой награды; если же уступитъ діаволу, то съ нимъ осудится. Но делами милосердія во смиреніи сердца можно умолить Господа, да не оставитъ Онъ рабовъ своихъ искуситися паче, еже можемъ, но сотворитъ со искушеніемъ и избытіе, яко возмощи намъ понести (1 Кор. 10, 13)».
Печатается по изданiю: Блаженнаго Августина, епископа Иппонійскаго О томъ, какъ оглашать людей необразованныхъ. // Журналъ «Христiанское чтенiе, издаваемое при Санктпетербургской Духовной Академiи». — 1844 г. — Часть III. — С. 3–77.
О порядке
Книга 1
1
Исследовать и познавать порядок вещей свойственно, Зиновий, всякому; но, в то же время, постигнуть и разъяснить тот общий порядок, которым держится и управляется этот мир, дело весьма трудное и редко осуществимое. К тому же, если даже кто–то и достигает этого, то не может достигнуть другого, а именно: найти для столь божественных и таинственных предметов слушателя достойного как по добродетельной жизни, так и по некоему складу своих научных занятий. Тем не менее, некоторые лучшие умы ничего так страстно не доискиваются, а наблюдающие с возможным мужеством своего рода скалы и бури этой жизни — ничего с большим усердием не стараются узнать и изучить, как то, каким образом так бывает, что Бог о делах человеческих печется, а, между тем, в этих человеческих делах всюду и всегда такая превратность, какую трудно приписать не то что божественному, но даже и рабскому управлению, если, конечно, дать такую власть рабу. Посему принимающим близко к сердцу этого рода вопросы остается, как бы по необходимости, прийти к заключению, что божественное провидение не простирается до этого дальнего и дольнего, или что все это зло в действительности совершается волею Божьей. И то, и другое нечестиво, но особенно — последнее. Хоть, впрочем, прийти к тому мнению, будто что–либо оставлено Богом, равно и невежественно, и в высшей степени опасно для души. Никто, однако, не станет никого винить за то, что тот сделать не в силах. Да и хула в пренебрежении гораздо извинительней, нежели хула в злости и жестокости. Поэтому разум, не чуждый благочестия, как бы вынужден полагать, что божество не может управлять этим земным миром, или — что оно скорее пренебрегает и презирает его, чем управляет им так, что всякая жалоба на Бога была бы еще жалобою кроткой и не заслуживающей порицания.
Но кто настолько слеп умом, что усомнится приписать божественному действию и управлению все то разумное в движении тел, что происходит независимо от человеческого распоряжения и воли? или, быть может, припишет случайности образование так точно и тонко соразмеренных членов каких–либо самых малейших животных? а если отвергнет случай — должен будет признать в этом дело разума. Да и во всей совокупности природы, разве осмелимся мы, руководствуясь какими–нибудь бреднями суетного мнения, представлять чуждым таинственному волению Верховного Правителя то, что в каких–либо отдельных предметах удивляет нас своим устройством, нисколько не нуждающимся в искусстве человеческом? Напротив, это–то и поражает, что члены блохи расположены и организованы удивительнейшим образом, а человеческая жизнь, между тем, вращается и течет в непостоянстве бесчисленных превратностей. Но ведь это то же самое, как если бы кто–нибудь, имея до такой степени слабое зрение, что взор его на мозаичном полу не мог бы охватить пространство, большее одного квадратика, стал бы укорять художника за неумение давать этим квадратикам порядок и известное расположение. Разве виноват художник в том, что его критик не способен воспринимать его мозаичные работы, сливающиеся во всей своей совокупности в одно прекрасное целое? Но ведь именно это и происходит с теми недалекими людьми, которые, не будучи в силах своим слабым умом объять всю совокупность и гармонию вещей, если что–нибудь причиняет им вред, и, по их мнению, этот вред велик, считают, что и во всем прочем царит великая мерзость.
2
Важнейшая причина этого заблуждения заключается в том, что человек не знает самого себя. Чтобы познать себя, нужна большая привычка отвлекаться от чувств, сосредоточивать душу и удерживать ее саму в себе. А этого достигают лишь те, кто всякие раны мнений, наносимые течением обыденной жизни, или прижигают уединением, или излечивают, занимаясь свободными на уками. Возвращенная таким образом самой себе душа постигает, в чем состоит красота вселенной (universitatis), правильно названной так от слова «единство» (abuno). Подобная красота недоступна душе, которая обращена на множество отдельных предметов, с жадностью гоняется за нищетой и не знает, что ее можно избежать простым удалением от толпы. Под толпой же я понимаю не людскую толпу, а толпу всего, что действует на чувства. И неудивительно, что душа терпит тем большую нищету, чем большее количество старается охватить.
Как бы ни был обширен круг, в нем есть одна средняя точка, к которой склоняется все, называемая геометрами центром, и хотя части его окружности могут быть делимыми бесконечно, в круге нет другой такой точки, от которой бы все прочие находились на равном расстоянии и которая господствовала бы над всеми, словно по некоему праву уравнения. Выйди отсюда в какую–либо часть круга, и потеряешь все, чем множество держится в единстве. Так и душа, вылившись из самой себя, рассеивается в некоторой беспредельности и истощается до полной нищеты, поскольку ее природа принуждает ее во всем искать одного, а множество находить его мешает.
Смысл сказанного мною, причину, от которой зависит заблуждение душ, а равно и то, каким образом все сливается в одно и является совершенным, а грехов все же следует избегать, — все это ты, мой Зиновий, легко поймешь. Ведь мне хорошо известны и твои природные дарования, и твоя душа, любящая красоту всякого рода без страстной неумеренности и нечистоты. Эта печать будущей в тебе мудрости служит тебе во имя Божье защитой против гибельных страстей; не бросай своего дела, увлекшись ложными удовольствиями — ничего не может быть гнуснее и опаснее подобной сделки.
Итак, поверь мне, ты постигнешь все, о чем шла речь выше, если предашься научным занятиям, которые очищают и образовывают душу, хотя бы она прежде и вовсе не была способной воспринять семена божественной мудрости. Каким образом все это может случиться и к какому приведет порядку, что сулит разум учащимся и добрым, какую жизнь проводим мы, твои друзья, и какой плод собираем от своего благородного досуга, — все это, полагаю, ты узнаешь из этих книг, более приятных нам твоим именем, чем нашей обработкой, особенно если и ты сам, избирая лучшее, захочешь ввести и включить себя в тот порядок, о котором я тебе пишу.
Когда болезнь желудка принудила меня оставить школу, — меня, который, как тебе известно, и без подобной крайности задумывал бросить все и предаться философии, я тотчас же перебрался на дачу ближайшего друга моего Верекунда. Нужно ли говорить, что это — с охотно данного им согласия — ты ведь прекрасно знаешь редкое благоволение этого замечательного человека к людям вообще, и ко мне в частности. там мы рассуждали обо всем, что казалось нам полезным, благоразумно избегая резких споров, ибо, как я заметил, несдержанность в выражениях и неумеренная горячность усугубляли мою болезнь. да и к тому же, если бы нам захотелось что–либо записать, куда легче припомнить неторопливую и рассудительную беседу. Диспуты, или, если угодно, состязания вели со мною Алипий, мой брат Навигий и Лиценций, неожиданно увлекшийся поэзией. В то же время возвратился с военной службы Тригеций, который, как ветеран, полюбил историю. Имели мы кое–что для этого и в книгах.
3
В одну из ночей, бодрствуя по обычаю, я молча размышлял сам с собой обо всем, что только приходило на ум. Из любви к исследованию истины у меня развилась привычка размышлять по ночам. При этом я не позволял юношам отвлекать меня от этих ночных бдений своей болтовней. Впрочем, я к ним несправедлив, ибо они и в продолжение целого дня изрядно трудились, да частенько еще пытались продолжать свои рассуждения далеко заполночь, что мне казалось уже чрезмерным. Кроме того, я хотел приучить их, помимо разговоров и книг, работать в тишине, наедине со своею душой.
Итак, повторяю, я бодрствовал, когда вдруг до моего слуха донесся шум воды, протекавшей позади бань, и я вслушался в него внимательнее обыкновенного. Мне показалось тогда очень странным, что пробегавшая по булыжнику вода журчала то внятнее, то глуше. Я задумался о том, какая могла быть тому причина, и, признаюсь, не придумал никакой. В это время Лиценций, ударив по дереву своей кровати, вспугнул докучливых мышей и этим дал понять, что не спит.
Тогда я сказал ему:
— Обратил ли ты внимание, Лиценций (ибо я вижу, что муза твоя засветила огонь для твоих ночных занятий), как неодинаково шумит этот поток?
— Для меня, — ответил он, — это не новость. Как–то я, мечтая о хорошей погоде, проснулся и прислушивался, не идет ли дождь. Тогда я и обратил внимание на то, как странно шумит эта вода.
То же подтвердил и Тригеций, ибо и он, лежа на своей кровати в той же спальне, бодрствовал, хотя мы о том и не знали. Сейчас в Италии даже зажиточные люди редко могут позволить себе жечь светильники всю ночь, так что у нас в комнате было совсем темно.
Итак, я увидел, что моя школа в ее наличном составе (Алипий и Навигий ушли в город) не спит, а так как упомянутое течение воды побуждало меня завести речь о нем, я сказал:
— Какая, по вашему мнению, причина того, что этот звук так меняется? Ведь немыслимое же дело, чтобы кто–нибудь в эти часы останавливал поток, переходя его или моя в нем что–либо?
— А не оттого ли это, — отвечал Лиценций, — что листья, во множестве опадавшие осенью, скопились в узких местах канала, то уступая напору воды, то вновь собираясь вместе и устраивая плотину? Притом, разве различное положение плавающих листьев не может делать и чего–либо другого, чтобы подобным образом то задерживать, то освобождать поток?
Так как другого объяснения я не имел, то это мне показалось вероятным, и, похвалив остроумие Лиценция, я признался, что не придумал ничего путного, хотя и долго искал причины явления.
Затем, немного помолчав, я сказал:
— Ты был вправе не отвечать, а витать мыслью подле Каллиопы.
— Да, вправе, — откликнулся Лиценций, — но, признаться, ты меня крайне удивил.
— Каким это образом?
— А таким, — отвечал он, — что тебя удивило это явление.
— Да что же, — возразил я, — и производит удивление, как не вещь необычная, являющаяся вне очевидного порядка причин?
— Что «вне очевидного», — ответил он, — согласен; но «вне порядка», по моему мнению, не бывает ничего.
Так как ум этого юноши, буквально только на днях обратившегося к философским занятиям, обнял столь быстро такой высокий предмет, я решительно и куда оживленней, чем обычно, когда обращаюсь к ним с какими–нибудь вопросами, сказал:
— Превосходная, во всех отношениях превосходная мысль и мужественная отвага. Этим великим шагом, поверь мне, ты далеко переступил геликон, до вершины которого ты силишься добраться, словно до неба. Но я желал бы, чтобы ты защищал эту мысль, потому что я попытаюсь ее опровергнуть.
— Оставь меня, пожалуйста, в покое в настоящую минуту, — отвечал он, — потому что я сильно занят другим.
Тогда я, отчасти опасаясь, чтобы отдавшись всецело поэзии он не слишком отвлекался от философии, сказал:
— Меня сердит, что ты, распевая и завывая на все лады, вымучиваешь из себя эти свои стихи, которые воздвигают между тобою и истиной стену более огромную, чем та, что существовала между твоими влюбленными, потому что последние по крайней мере перешептывались между собою через естественно образовавшуюся в стене трещину (Лиценций собирался в то время воспеть Пирама).
Так как я высказал это голосом более суровым, чем предполагал сам, то он на некоторое время примолк. А я думал уже оставить начатое и сосредоточиться снова в себе, чтобы напрасно и без толку не занимать предзанятого. Но он заговорил:
— У Теренция не так кстати сказано, как мог бы это сказать теперь я о себе: «Несчастен я, как обнаружившая себя мышь». Только то, что следует у него далее, может обратиться в противоположное. Он говорит: «теперь я пропал»; а я, может быть, теперь–то и найдусь. Ведь (если вы придаете какое–нибудь значение тому, что прорицатели имеют обычай совершать гадания и по мышам) если я ту домовую или полевую мышь, которая меня, как бодрствующего, тебе выдала, убедил своим стуком вернуться в свою норку и успокоиться, то почему бы и меня эта суровость твоего голоса не убедила, что лучше философствовать, чем петь? ибо философия (я уже начал верить твоим ежедневным доказательствам) — наша истинная и незыблемая обитель. Поэтому, если тебе не неприятно и если ты находишь, что это так следует, спрашивай о чем хочешь — насколько могу, я стану защищать порядок вещей и буду доказывать, что вне порядка ничего быть не может. я до такой степени проникся мыслью о нем, что если бы кто–нибудь и победил меня в настоящем состязании, я и это приписал бы не случайности, а порядку вещей. Победа будет одержана не над самим предметом, а над Лиценцием.
4
Я снова с радостью обратился к ним.
— А ты как думаешь? — спросил я Тригеция.
— Я, как человек военный, высказываюсь в пользу порядка, — отвечал он, — но испытываю при этом некоторое сомнение и желаю подвергнуть столь важный предмет самому тщательному обсуждению.
— В пользу порядка, — говорю я, — высказалась и та сторона, а то, что ты находишься в состоянии сомнения, это, полагаю, общее у тебя и с Лиценцием, и со мной самим.
— Вовсе нет, — возразил Лиценций, — я в этой мысли убежден твердо. Зачем бы я стал колебаться разрушить ту стену, о которой ты упомянул, прежде чем она поднимется совершенно? ибо отвратить меня от философии может не столько поэзия, сколько неуверенность в возможности открытия истины.
Тогда Тригеций торжественно провозгласил:
— Каково? Наш Лиценций уже не академик! а ведь обыкновенно он защищает их с особой ревностью!
— Оставь это, пожалуйста, в данную минуту, — отвечал тот, — пусть подобного рода хитрости и уловки не отклоняют и не отрывают меня от какого–либо божественного предмета, который начал представляться моей мысли и к которому я с жадностью стремлюсь.
Тогда я, чувствуя, как радость переполняет меня, с восхищением продекламировал стих из «Энеиды»:
Так отец богов, так всевышний аполлон
Да совершит; клади начало.
Ибо он сам, дающий в настоящее время предзнаменование и проникающий в наши души, он сам и доведет, если только пойдем туда, куда он велит идти. Но всевышний Аполлон — это не тот аполлон, который в пещерах, на горах, в рощах, возбужденный чадом воскурений и гибелью приносимых в жертву животных, овладевает душами исступленных, а Аполлон совершенно другой, справедливо называемый всевышним, а сказать без обиняков — сама истина. Прорицатели же ее — все, кто может быть мудрым. Итак, Лиценций, обнадеженные благочестием своего богопочитания, отправимся в путь, и своими стопами затопчем пагубный огонь смрадных страстей.
— Спрашивай же, прошу тебя, — сказал он, — если только я в состоянии буду это нечто великое объяснить, пользуясь и твоими, и своими словами.
— Прежде всего, — говорю я, — объясни мне, почему тебе кажется, что эта вода стекает таким образом не случайно, а в силу некоего порядка. То, что вода пущена по деревянным желобам и проведена для нашего употребления, может, конечно, относиться к порядку. Разумные люди сделали так, что, придав ей соответствующее направление, могут теперь пользоваться ею и для питья, и для купания, и, очевидно, их навело на эту мысль удобное месторасположение источника. Но что в эту воду листья нападали именно так, а не иначе, что и вызвало удивившее нас явление, — сочтем ли мы и это происшедшим в порядке вещей, а не в силу простого случая?
— То есть, — отвечал он, — кому–нибудь, прекрасно понимающему, что без причины ничего не происходит, может показаться, что листья должны были или могли упасть иначе, чем упали. Но зачем ты непременно хочешь, чтобы я входил в подробное разъяснение деревьев и ветвей, и самой тяжести, какую природа сообщила листьям? Зачем мне исследовать подвижность воздуха, которая заставляет их летать, их тяжесть, которая заставляет их опускаться, все разнообразие их падения, зависящее от состояния погоды, от их веса, формы и других бесчисленных и более тайных причин? Подобные вещи укрываются от наших чувств, укрываются совершенно. Но каким–то образом от души не скрыто одно: без причины ничего не бывает; этого достаточно для рассматриваемого нами вопроса. Человек невыносимо надоедливый может продолжать допрашивать, какая–де была причина, что там посажены деревья? я отвечу: люди хотели использовать плодородие почвы. а если это деревья не плодовые и выросли случайно? И в таком случае я отвечу, что мы знаем мало. Ибо взрастившая их природа вовсе не случайна. Прибавлять ли еще что–нибудь? Или докажите мне, что может что–либо произойти без причины, или верьте, что вне определенного порядка причин не может быть ничего.
5
— Хотя, — сказал я ему, — ты и называешь меня невыносимо надоедливым (а не быть таким я едва ли мог, потому что помешал твоим беседам с Пирамом и Тисбой), однако я продолжу свои вопросы. Эта природа, в которой ты хочешь видеть порядок, для какого блага (чтобы не говорить об остальных бесчисленных предметах) произвела эти самые деревья, не приносящие плода?
Пока он раздумывал, что сказать, Тригеций отвечал:
— Да разве деревья полезны одними плодами? А сколько есть другого: сколько очевидной пользы они приносят своей густой тенью, своими бревнами и досками, ветвями и листьями?
— Не отвечай, пожалуйста, так на его вопросы, — сказал Лиценций. — есть бесчисленное множество вещей, от которых людям нет никакой пользы, или, если есть, то такая неясная и сомнительная, что раскрыть или доказать ее невозможно. Пусть лучше он сам докажет нам, что бывает что–нибудь такое, чему не предшествует причина.
— Мы увидим это, — отвечал я, — после. Потому что мне уже нет необходимости быть учителем, пока ты, заявивший открыто, что имеешь точные сведения по этому предмету, не научишь меня, крайне желающего научиться и поэтому проводящего без сна дни и ночи.
— Что ты хочешь этим сказать? — возразил он. — Не то ли, что я следую за тобою легче, чем те листья за ветром, который бросает их в протекающую мимо воду, так что они не только падают, но и уносятся? Нечто подобное и будет, если Лиценций станет учителем Августина, и притом — по существенным предметам философии.
— Не унижай, пожалуйста, — сказал я, — и себя так, и не превозноси меня. Ибо и я дитя в философии, и когда спрашиваю, не особенно забочусь о том, через кого ответит мне тот, Кто ежедневно слышит мои молитвы. Пророком его, я верю, некогда будешь и ты; и это некогда, быть может, недалеко. А, между тем, даже и другие, вовсе чуждые занятиям этого рода, могут кое–чему научить, когда привлекаются к кружку рассуждающих как бы цепями вопросов. «Кое–что» же — это отнюдь не «ничто». или ты не видишь (с удовольствием воспользуюсь твоим сравнением), что те самые листья, которые летят по ветру и уплывают по воде, до известной степени сопротивляются уносящему их потоку и напоминают людям о порядке вещей, если только справедливо то, что ты защищаешь.
При этих словах он, соскочив от радости с кровати, сказал:
— Кто станет отрицать, великий Боже, что ты управляешь всем в порядке? Как все направлялось к тому, с какою точно рассчитанной последовательностью все сплеталось, сколько и чего было сделано, чтобы мы завели речь об этом; сколько делается, чтобы мы обрели тебя! Ибо откуда, как не из порядка вещей, вытекает и объясняется то, что мы не спали, что ты заметил этот шум, что доискивался его причины, что не нашел причин для такой безделицы? Подвернулась даже мышь, чтобы я, неспавший, выдал себя. Наконец, и самая речь твоя, может быть и без твоего ведома (ибо никто не властен в том, что приходит на ум), ведется как–то так, что учит меня сама, как я должен тебе отвечать. согласись, ведь, если бы сказанное нами, будь оно записано, получило бы несколько более широкую известность, разве все эти события не показались бы настолько значительными, что спрошенный о них какой–нибудь прорицатель или халдей должен был бы предсказать их гораздо ранее, чем они случились? и если бы предсказал, разве не пришли бы все в восхищение от его провиденья, разве не провожали бы его с такими большими похвалами, что никто бы даже и не решился выведать у него, для чего падает лист с дерева или зачем докучает мышь лежащему человеку? ибо говорил ли кто–нибудь когда–либо из них о чем–то подобном? Вынужден ли был он предсказывать что–либо подобное обращавшимся к нему с вопросом? а, между тем, если бы он предсказал, что имеет появиться некая нерядовая книга, и увидел, что это необходимо случится (ибо иначе он не мог бы и предсказывать), то все что ни делают летающие листья в поле или ничтожнейший зверек в доме совершенно также необходимо в порядке вещей, как и эти письмена. ибо последние зависят от наших слов, которые без тех предшествующих ничтожнейших обстоятельств не могли бы ни прийти На ум, ни быть высказаны и переданы потомству. Поэтому пусть, пожалуйста, никто не спрашивает меня, почему что бывает. Достаточно и того, что ничего не делается, ничего не происходит без какой–либо вызвавшей это причины.
6
— Из этого следует заключить, — сказал я, — что тебе, юноша, неизвестно, сколь часто и какие достойные мужи выступали против предсказаний. Но так как ты, вижу, решительно не хочешь отвечать на этот вопрос, то скажи: как тебе кажется, этот защищаемый тобою порядок — есть ли нечто доброе, или злое? Он ворчливо ответил:
— Ты предложил такой вопрос, что я могу ответить «первое» или «второе». Я вижу в этом нечто среднее. Порядок, по–моему, не есть ни добро, ни зло.
— Но скажи, по крайней мере, — продолжал я, — что ты считаешь противным порядку?
— Ничего, — отвечал он. — ибо каким образом что–либо может быть противным тому, что все обнимает, все содержит? Ибо все, что будет противно порядку, по необходимости, будет вне порядка. А вне порядка, по моему мнению, ничто нет. Следовательно, не следует ничего считать противным порядку.
— Неужели, — возразил Тригеций, — заблуждение не противно порядку?
— Нисколько не противно. Ибо я не думаю, чтобы кто–нибудь заблуждался без причины. Последовательность же причин входит в порядок. И самое заблуждение не только является следствием причины, но и производит нечто, чему само служит причиной.
Тут Тригеций задумался, а я не помнил себя от радости, видя, что юноша, сын дорогого друга, сделался и моим сыном, и даже более — возвысился и стал мне другом, и пока я бился, пытаясь отвадить его от занятий посредственными науками, он оказался вдруг как бы на правах полного хозяина, разом войдя в самую сущность философии. Пока я молча удивлялся и радостно волновался, он, как бы неожиданно охваченный некоей мыслью, воскликнул:
— О, если бы я мог выразить то, что хочу! Где вы, слова, где? Помогите мне. Ибо добро и зло в порядке вещей. Верьте, если хотите. Потому что объяснить это я не умею.
7
Я удивлялся и молчал. Тригеций же, напротив, оживился, становясь все более общительным и разговорчивым, и сказал:
— Мне кажется, Лиценций, что утверждаемое тобою нелепо и совершенно чуждо истины; ты только, пожалуйста, дай мне высказаться и не перебивай меня своими восклицаниями.
— Говори, что хочешь, — отвечал тот, — я не боюсь, что ты разубедишь меня в том, что я вижу и чем почти овладел.
— Если бы, — сказал первый, — ты не отклонился уже от защищаемого тобой порядка, то ты не приписал бы Богу (чтобы выразиться помягче) такого нерадения. Ибо что можно сказать более нечестивого, чем то, что даже зло входит в порядок? Ведь Бог, несомненно, любит порядок.
— Действительно, любит. Порядок от Него истекает и Им же держится. А что о таком возвышенном предмете можно было бы сказать более подходящее, подумай, пожалуйста, об этом сам. Я же в данное время не в состоянии тебя учить.
— Зачем думать? — возразил Тригеций, — я просто беру твои слова и довольствуюсь тем, что в них понимаю. Ведь ты сказал, что и зло входит в порядок, а самый порядок истекает от всевышнего Бога, Который и любит его. Из этого следует, что и зло происходит от всевышнего Бога и, значит, Бог любит зло.
Это заключение заставило меня волноваться за Лиценция. Но он, продолжая выражать сожаление о трудности подыскать нужные и точные слова и заботясь вовсе не о том, что следует отвечать, а о том, как выразить то, что он намерен отвечать, сказал:
— Бог зла не любит, и не любит его именно потому, что не в порядке это, чтобы Бог любил зло. Но почему бы самое зло не могло быть в порядке, даже если Бог его не любит? ибо в том–то и состоит порядок зла, что Бог его не любит. Или тебе кажется такой порядок вещей презренным, что Бог любит добро, и в то же время любит и самый порядок; ибо он потому именно и любит, что любит добро и не любит зла. А все это — принадлежность великого порядка и божественного распоряжения, которое, поскольку охраняет единство всего в самой противоположности, приводит к тому, что и самое зло является необходимым. Через это, как бы некоторым образом из антитезы (что нам приятно бывает и в речи), т. е. из противопоставлений, образуется красота всех вместе взятых вещей.
После этого он ненадолго замолк. Но затем, приподнявшись и обращаясь в ту сторону, где была постель Тригеция, неожиданно заговорил:
— Скажи, пожалуйста, правосуден ли Бог?
Тот молчал, чрезвычайно, как признался после, удивленный и пораженный новым неожиданным вдохновением, которое сквозило в речи его соученика и друга. Лиценций же продолжил:
— Если ответишь, что Бог неправосуден, то поймешь, конечно, какой подвергаешься опасности ты, только что укорявший меня в неблагочестии если же, как нас и вынуждает думать самый порядок, Бог правосуден, то он правосуден именно тем, что каждому распределяется свое. Какое же может быть распределение там, где не соблюдается никакого различия? или какое может быть различие, если все — добро? да и что может быть признано существующим вне порядка, если правосудие Божие воздаст и добрым и злым, каждому по его заслугам? Но мы все признаем Бога правосудным. Следовательно, порядок обнимает собою все.
Сказав это, он соскочил с постели, и, так как никто не говорил ему ни слова, голосом уже более тихим сказал:
— Неужели ничего не ответишь мне и ты, который меня вызвал на это?
— На тебя, вижу, нашел теперь новый дух благочестия, — что ж, я готов отвечать, — сказал я ему. — Но лучше я отвечу тебе днем, который, по–видимому, уже наступает, если только этот свет, проникающий в окна, не свет луны. Ибо, с одной стороны, нужно позаботиться, чтобы все, так прекрасно сказанное тобою, Лиценций, не было забыто. Разве прежде мы не пытались делать записи подобных бесед? я без околичностей выскажу тебе, что думаю сам, но буду спорить с тобой, сколько смогу, так как для меня не может быть большего торжества, как быть побежденным тобою. Если же перед уловками или тонкостью какого–либо заблуждения тех людей, сторону которых я попытаюсь принять, твои слабые умственные силы, не укрепленные изучением наук, окажутся несостоятельными для того, чтобы защитить твои представления о Боге, то это обстоятельство позволит тебе уяснить, какими ты должен запастись силами, чтобы с большей твердостью защищать их потом. С другой же стороны, я желаю, чтобы настоящее наше состязание вышло более обработанным, потому что я предназначаю его для человека с тонким вкусом. Наш Зиновий часто и подолгу рассуждал со мною о порядке вещей, и я никогда не мог удовлетворить его пытливости в отношении столь возвышенного предмета, частью по причине темноты этого предмета, частью по недостатку времени. Постоянные отлучки истощили до такой степени его терпение, что он, чтобы принудить меня отвечать ему с большей тщательностью и обстоятельностью, вызывал меня к тому даже стихами, и стихами, заметь, хорошими, за что ты должен любить его тем более. Эти стихи не могли быть тогда прочитаны тебе, потому что ты был весьма далек от подобного рода занятий; не могут быть прочитаны и теперь, потому что его отъезд был так внезапен и столько при нем было суеты, что нам не могло и в голову прийти что–либо подобное — а он предполагал отдать их мне, когда я ему отвечу.
Много есть и других причин, почему наше состязание должно быть отослано ему. Прежде всего, это — долг. Затем будет вполне прилично подобным образом продемонстрировать его к нам благосклонности, какого рода жизнь мы ведем в настоящее время. Наконец, он никому не уступает в той радости, которую возбуждают надежды на тебя. Ибо и тогда, когда он находился здесь, по дружбе с твоим отцом, или, лучше сказать, с отцом всех нас, он сильно беспокоился не столько о том, чтобы какая–нибудь искорка твоих душевных способностей, которые он прилежно наблюдал, осталась не раздутой моими стараниями, сколько о том, чтобы она не была погашена твоим небрежением. А когда он узнает, что ты занимаешься и поэзией, то так будет доволен, что, мне кажется, я уже вижу его прыгающим от радости.
8
— Мне, — сказал Лиценций, — лестны твои слова. Не знаю, будете ли вы смеяться над моей юношеской легкомысленностью и непостоянством, или же так произошло по какому–то божественному провидению и порядку, только не колеблясь говорю вам, что я вдруг охладел в стихотворчеству. Другое, совершенно другое что–то начинает теперь светиться в моей душе. Философия, сознаюсь, гораздо прекраснее, чем Тисба, чем Пирам, чем сама Венера и Купидон, чем все эти страстные чувства.
При этом он со вздохом приносил благодарение Христу. говорить ли, что я принял это с удовольствием; да и почему, собственно, не сказать? Пусть всякий другой принимает, как хочет — я о том не забочусь.
Немного спустя наступил день, они встали, а я долго со слезами молился господу. и вот слышу, — Лиценций весело и звучно распевает слова из псалма: «Боже сил, обрати и просвяти лице твое, и спасемся» (Пс 79.8). Этот стих, выйдя накануне после ужина из комнаты по естественной нужде, он запел настолько громко, что наша мать не смогла терпеть, чтобы в известном месте распевались такие прекрасные слова. Других же слов он не произносил, поскольку лишь недавно разучил напев, и, как это часто бывает, наслаждался новой для себя мелодией. Мать, как тебе известно, женщина чрезвычайно набожная, начала выговаривать ему за то, что он выбрал для пения псалма столь неприличное место.
— Как будто, — сказал он шутя, — если бы какой–нибудь враг заключил меня в этом месте, господь Бог не услышал бы моего голоса!
Итак, поутру, возвратившись в комнату, Лиценций подошел к моей кровати и спросил:
— Скажи мне по правде (ибо мы должны поступать так, как этого хочешь ты), что ты обо мне думаешь?
— Что я думаю о тебе, — сказал я, взяв его за правую руку, — это ты и сам чувствуешь, знаешь и понимаешь. По моему мнению, ты вчера недаром так долго распевал о том, чтобы Бог сил обратившемуся тебе явил лице свое.
Вспомнив об этом, он заметил:
— Ты сказал весьма много и совершенно истинно. Меня и самого немало удивляет то обстоятельство, что я, обнаруживший столько досады, когда ты отвлек меня вчера похотей, чем, через принятие и выполнение несколько суровых советов врача, возвращаются к здоровому состоянию и к свету. И вот они живут, несчастные, довольствуясь, как бы милостыней, именем и предощущением высочайшего Бога, — однако же живут. Других же людей, или, правильнее сказать, другие души, оный превосходнейший и прекраснейший жених зовет в свой чертог уже тогда, когда они еще носят это тело; и это потому, что им хочется не просто жить, но жить блаженной жизнью. Итак, иди пока к своим музам. Но знаешь ли, чего бы я желал от тебя?
— Приказывай, что тебе угодно, — отвечал он.
— В том месте своей поэмы, где ты намерен воспеть, как умертвил себя Пирам, а на нем, полумертвом, и его возлюбленная, ты имеешь в самой скорби, которой прилично с особой силой воспламениться твоему стиху, обстоятельство весьма для тебя выгодное. Разразись проклятием этой мерзкой похоти и тому ядовитому пламени, из–за которых случаются подобные несчастья, а затем обратись весь в похвалу любви чистой и непорочной, какою души, обогащенные познаниями и добродетелью, бывают соединены прекрасным образом с разумом посредством философии, и не только избегают смерти, но и наслаждаются блаженнейшей жизнью.
Лиценций погрузился в раздумья, а затем вышел, покачав головой.
Затем встал и я, и, вознесши к Богу обычные молитвы, мы пошли в бани. Бани, когда из–за пасмурной погоды мы не могли находиться в поле, были удобным и обычным местом для наших состязаний. И вот перед самыми дверьми мы увидели петухов, вступивших в чрезвычайно жаркий бой. Захотелось нам посмотреть. Ведь на чем только не останавливаются, где только не бродят взоры любителей в ожидании, когда подаст им знак красота разума, распоряжающегося и управляющего всем ведомо и неведомо, та красота, которая влечет к себе жаждущих ее почитателей, где бы и каким бы путем не повелевала она им искать себя! так и в этих самых петухах стоило посмотреть на вытянутые вперед головы, на растопыренные на головах и шеях перья, на ожесточенные удары, на предусмотрительные увертки; да и вообще, как в каждом движении этих лишенных разума тварей не было ничего некрасивого, поскольку всем управлял иной разум, свыше. стоило затем посмотреть и на закон победителя, на его гордое пение, да и на всех членов куриной семьи, собранных в своего рода кружок, точно для демонстрации; знаком же побежденного служили выщипанные с шеи перья, в голосе и в движениях сквозило что–то безобразное, но, тем самым, уж не знаю как, с законами природы согласное и потому — красивое.
Много вопросов приходило нам на ум. Почему так делают все? Почему именно — ради власти над принадлежащими им женщинами? Или потому, что сама схватка доставляет удовольствие? Что есть в нас такого, что дается нам именно этими чувствами? Мы спрашивали себя: где нет закона? Где власть принадлежит не лучшему? Где нет отображения неизменного порядка вещей? Где нет отблеска истиннейшей красоты? Где нет меры? Но, вспомнив при этом, что должна быть мера и нашему зрелищу, мы отправились туда, куда и собирались. Здесь, по мере возможности, мы весьма прилежно занялись собиранием всех отрывочных записей состязания в эту часть книги (ибо все это было еще свежо в памяти). Заботясь о здравии, в этот день я ничего другого не делал, — только перед ужином выслушал, по заведенному обыкновению, половину книги Вергилия, — потому что в своих занятиях мы ничего так тщательно не соблюдаем, как меру. Вряд ли найдется кто–либо, кто не одобрил бы меры, но вот чувствовать ее, особенно когда занят чем–нибудь серьезно, дело весьма трудное и редкое.
9
На другой день с утра пораньше мы собрались на своем обычном месте. и когда взоры присутствующих обратились на меня, я сказал:
— Побудь здесь, Лиценций, сколько сможешь, а также и ты, Тригеций. Дело ведь идет о предмете немаловажном, — мы рассуждаем о порядке. К чему мне, впрочем, пространно и цветисто восхвалять перед вами порядок, будто бы я принадлежу к той школе, выходу из которой по какому бы там ни было случаю я радуюсь? Слушайте, если хотите, даже делайте, как хотите, но другой похвалы порядку, ни более краткой, ни более, на мой взгляд, истинной, сказать нельзя. Порядок есть то, что, если мы будем его держаться в своей жизни, то придем к Богу, а если не будем, — то и не придем. Но, если мои чувства не обманывают меня относительно вас, это для нас уже дело предрешенное, и мы надеемся, что достигнем Бога. Поэтому вопрос о первом мы должны рассмотреть и разрешить самым внимательным образом. Желал бы я, чтобы при этом находились и все остальные, обыкновенно принимающие с нами участие в подобных занятиях. Желал бы я также, если бы это было возможно, чтобы не только они, но и все наши друзья, способностям коих я всегда удивляюсь, присутствовали здесь с таким же вниманием, как и вы, — или, по крайней мере, только Зиновий, который постоянно этого добивался, но которого я, в виду обширности предмета, никогда не имел досуга удовлетворить. Но поскольку моему желанию не суждено осуществиться, то пусть они читают наши записи, так как мы уже решили не терять ни одного слова из своих рассуждений и заключать как бы в оковы письмен ускользающие из памяти вещи с той целью, чтобы вновь и вновь восстанавливать их в памяти. Этого, быть может, требует и самый порядок, устроивший отсутствие многих наших друзей. Ибо и вы в таком великом деле, так как на вас одних возложена обязанность выполнить его, без сомнения, употребите наибольшее напряжение духа; и когда они, составляющие для нас предмет величайших забот, прочитав наши записи, посчитают нужным что–либо возразить, то тогда настоящее состязание даст повод к новым состязаниям, в чем тоже будет виден свой наставляющий порядок. Но теперь, насколько позволяют обстоятельства, я буду, как и обещал Лиценцию, возражать ему, хотя он почти уже довел до конца свое дело, если только сможет оградить его твердой и прочной стеной защиты.
10
После этого, заметив по их молчанию, выражению лиц, глазам и неподвижности и спокойствию членов, что они достаточно возбуждены возвышенностью предмета и одушевлены желанием слушать, я сказал:
— Итак, Лиценций, если хочешь, собери все свои силы, напряги всю свою проницательность и определи, что такое порядок.
Услышав, что его приглашают сделать определение, он вздрогнул, точно его окатили холодной водой, и, глядя на меня с весьма смущенным выражением лица и улыбаясь (как это часто бывает) от этого смятения, сказал:
— Что это значит? За кого ты меня принимаешь? Уж не думаешь ли ты, что я на самом деле вдохновлен каким–то горним духом?
Но, тотчас оправившись, промолвил:
— Может быть, ты и прав, — со мной действительно что–то творится. Хорошо, попробую: порядок есть то, посредством чего совершается все, что постановил Бог.
— А не представляется ли тебе, — спрашиваю, — что и сам Бог действует на основании порядка?
— Совершенно верно, — отвечал он.
— Значит, — возразил Тригеций, — порядком управляется и Бог?
На это Лиценций отвечал:
— А разве ты отрицаешь божественность Христа, который и пришел к нам во исполнение порядка, и который говорит о себе, что послан от Бога отца? если же Бог послал к нам Христа во исполнение порядка, и если мы не отрицаем, что Христос есть Бог, то Бог не только управляет всем в порядке, но и сам управляется порядком.
— Не знаю, — сказал в нерешительности Тригеций,
— как я могу это принять. Вообще–то, слово «Бог» ассоциируется скорее с Богом отцом, Христос же — со словом «сын Божий».
— Прекрасное замечание, — воскликнул Лиценций,
— значит, мы должны отрицать, что сын Божий — Бог?! Хотя Тригецию и представлялось опасным отвечать на этот вопрос, тем не менее он принудил себя и сказал:
— И Он, конечно, Бог, но в собственном смысле мы называем Богом отца.
— Одумайся, — прервал я его, — ведь и сын не в переносном смысле называется Богом.
Тогда Тригеций, движимый благочестием, захотел, чтобы его последние слова не были записаны, но Лиценций, то ли желая уличить оппонента, или же просто из ребяческого легкомыслия, стал настаивать, чтобы эти слова были записаны непременно, как будто между нами спор шел из–за тщеславия. Когда же я в очень строгих выражениях высказал порицание такому движению его души, он покраснел от стыда; между тем, я заметил, что Тригеция это смущение рассмешило и развеселило. Тогда я сказал им обоим:
— Вот что, значит, вы делаете! Неужели вас не беспокоит, что вы громоздите на себя такую массу пороков и покрываете себя таким мраком невежества? Неужели такова была ваша преданность Богу и истине, которой я, неразумный, радовался? О, если бы вы видели, хотя бы и такими больными глазами, как у меня, какой опасности мы повергаемся, какой недуг безумия означает этот смех! О, если бы вы знали, как скоро и как надолго этот смех превратится для вас в плач. Несчастные, вы не понимаете, где мы находимся! Быть погрязшими, конечно, общая участь душ людей глупых и неученых; но мудрость не одинаково всем погрязшим подает руку и помощь. Поверьте, есть такие, которые призываются ею наверх, и есть такие, которые оставляются уходить в бездну. Не удваивайте же, умоляю вас, моего несчастья. Достаточно для меня и своих ран, и хотя каждодневно молю Бога, дабы он уврачевал их, но часто и сам убеждаюсь, что я не настолько достоин, чтобы выздороветь так скоро, как хочется мне. Прошу вас, если вы хоть сколько–нибудь обязаны мне чувством любви или дружбы, если понимаете, как я люблю вас, как много делаю для вас, каких тревог стоит мне забота о вашей нравственности, если я достоин того, чтобы вы не пренебрегали мною, если, наконец, я не лгу, в чем свидетель Бог, что я ничего не желаю для себя большего, чем для вас, — прошу вас, — воздайте мне добром за добро. И если вы искренне называете меня своим учителем, вознаградите меня: будьте добрыми.
Тут слезы помешали мне продолжать. Тогда Лиценций, раздосадованный, что все это записывалось, произнес:
— Скажи, пожалуйста, что такое мы натворили?
— Так ты, — говорю, — еще и не осознаешь своего греха? ты не знаешь, что обыкновенно я очень досадовал в школе, когда дети увлекались не пользой и красотой науки, а любовью к пустейшей похвальбе до такой степени, что некоторые из них не стыдились даже отвечать урок с чужих слов, и даже (зло, достойное сожаления) принимали рукоплескания от тех, чьи слова они бездумно повторяли. Хотя вы, полагаю, никогда не делали ничего подобного, однако же и в ту философическую жизнь, которую, к моему удовольствию, доводится мне наконец вести, вы вносите и всеваете самую последнюю, но своим вредом превосходящую все прочее, язву растлевающей зависти и пустого тщеславия. и может быть из–за того, что я отвращаю вас от этой суетности и этого недуга, вы сделаетесь ленивее в занятиях наукой и, удаленные от ядовитого запаха славы, застынете в бездеятельном оцепенении. я несчастен, если и теперь мне необходимо терпеть таких же людей, которые не могут расстаться с одними своими пороками, не заменив их другими.
— Ты увидишь на деле, — сказал Лиценций, — как мы будем исправляться. Только всем, что ты любишь, умоляем тебя: прости нас и прикажи все это вычеркнуть; но, в то же время, сбереги на табличках остальное. Потому что еще ничего из того, о чем мы долго рассуждали, не переписано в книги.
— Нет, — возразил Тригеций, — пусть все это остается целиком нам в наказание, чтобы то самое тщеславие, которое увлекает нас, своим же бичом и отпугивало нас от любви к нему. Постараемся только со своей стороны, чтобы эти книги были известны одним нашим друзьям и близким нам людям.
Тот согласился.
11
Между тем вошла мать и спросила, как далеко продвинулись мы в решении нашего вопроса. Когда я приказал записать, по обыкновению, о ее приходе и заданном ею вопросе, она спросила:
— Зачем вы это делаете? Разве слыхано, чтобы женщин когда–нибудь допускали к подобного рода состязаниям?
— Я не обращаю внимания, — ответил я, — на суждения людей гордых и невежественных, которые одинаково поступают и при чтении книг, и при приветствовании людей. Они думают не о том, каковы эти люди сами по себе, но о том, в какие одежды одеты и какой пышностью богатств и фортуны блистают. А в книгах они мало обращают внимания на то, откуда возникает вопрос, каким путем рассуждающие стараются достигнуть его решения, что, наконец, этими последними уяснено и разрешено. Встречаются, конечно, между ними и такие, души коих не должны быть презираемы, так как носят в себе зачатки образованности и легко вводятся через золотые и изукрашенные двери в святилище философии; но для таких достаточно сделано нашими предками, книги которых, полагаю, тебе хорошо известны. И в настоящее время, — не говоря о других, — Феодор, и по дарованиям, и по красноречию, и по самым высоким дарам фортуны, и, что важнее всего, по уму человек превосходнейший, которого ты и сама отлично знаешь, печется о том, чтобы и теперь, и после никто из потомков не имел права жаловаться на литературу нашего времени. Что же касается моих книг, то если случится, что кто–нибудь возьмет их в руки и, по прочтении моего имени не спросит, «кто это такой» и не отодвинет книгу, а из любопытства проникнет в самое их содержание, такой не будет тяготиться тем, что я философствую с тобой, и, скорее всего, не отнесется с презрением к кому–либо из тех, с кем я в них беседую. Ибо собеседники мои — люди не только свободные, чего уже достаточно для какой бы то ни было науки, а тем более для философии, но и принадлежат к знатнейшим фамилиям. А, между тем, есть книги ученых людей, которые представляют философствующими даже башмачников и людей еще более низких состояний, которые, однако же, сияли таким светом ума и добродетелей, что ни под каким видом не захотели бы поменяться своими благами с какой бы то ни было аристократией. Найдется, поверь мне, род людей, которым то, что я философствую с тобою, понравится гораздо больше, чем если бы они встретили здесь что–нибудь другое, шутливое или серьезное. Ибо у древних философствовали и женщины, а твоя философия мне весьма нравится.
А чтобы тебе, мать, не оставалось ничего неизвестным, знай, что «философия» — греческое слово и означает не что иное, как любовь к мудрости. Поэтому и божественные Писания, коим ты горячо предана, повелевают избегать и осмеивать не всех философов, а философов мира сего. Но что есть другой мир, недоступный для наших глаз, на который взирает лишь разум немногих здоровых, это показывает сам Христос, говоря не «царство Мое не от мира», а «царство Мое не от мира сего» (Ин 18.36). Поэтому каждый, кто думает, что убегать должно всякой философии, требует от нас не чего иного, как того, чтобы мы не любили мудрости. Я пренебрег бы, конечно, тобою в своих сочинениях, если бы ты не любила мудрости; но, если все же будешь любить ее хоть сколько–нибудь, с радостью не пренебрегу. А так как мне известно, что ты не только ее любишь, но и достигла в ней таких успехов, что не страшишься уже не только различных превратностей судьбы, но даже смерти (чего редко достигают и самые ученые мужи и что, по праву, считается в философии верхом совершенства), то и сам я охотно готов пойти к тебе в ученики!
Когда же она ласково и скромно возразила, что никогда я еще так не преувеличивал, а сам я увидел, что сказанного нами более чем достаточно для целой книги, то решил отложить дальнейшее рассмотрение вопроса. да и желудок решил пощадить — ему наша беседа явно не пошла на пользу. Но когда мы собрались уходить, Лиценций вдруг сказал:
— Помни, что многое из того, что мы должны были бы узнавать от тебя, дается нам таинственным и божественным порядком, часто даже без твоего ведома!
— Вижу, — говорю, — и не устаю за то благодарить Бога. А раз и вы это замечаете, то, значит, непременно станете лучшими, чем сейчас.
На том и завершился этот день.
Книга 2
1
По прошествии нескольких дней к нам заглянул Алипий. день выдался ясный и тихий, настолько приятный, насколько это только возможно зимою в этих краях. Собравшись все вместе, мы с радостью проследовали на ближайший лужок. Была с нами и наша мать. В течение нашей долгой совместной жизни я имел возможность убедиться, сколь велики ее дарования и сколь пламенно стремится ее душа к божественным предметам. На одном же из последних наших диспутов, проходившем в день моего рождения и затрагивавшем весьма серьезные вопросы, она проявила столько рассудительности и здравого смысла, что я не мог не признать ее вполне способной к постижению истинной философии (впрочем, тебе все это уже известно из первой книги настоящего сочинения). Поэтому я и решил все подгадать таким образом, чтобы она смогла принять участие и в этом нашем разговоре. Итак, когда мы расположились с возможными удобствами, я обратился к юношам:
— Хотя я немного сердит на вас из–за вашего ребяческого отношения к великим предметам, однако, милостью Божией, не без вмешательства порядка так случилось, что на речь, которой я старался отвлечь вас от этого легкомыслия, ушло столько времени, что рассуждение о столь важном предмете было отложено до прихода Алипия. Поэтому, — так как я уже ознакомил его с вопросом и показал, сколь далеко мы продвинулись в его решении, — готов ли ты, Лиценций, защищать то дело, которое ты принял на себя вместе со своим определением? Ведь, насколько я помню, ты сказал, что порядок есть то, посредством чего Бог управляет всем.
— Готов, насколько хватит сил.
— Как же, в таком случае, господь управляет всем через порядок или, если угодно, провидение? так, что посредством порядка управляет и собою, или же только всем прочим, за исключением себя самого?
— Там, — отвечал Лиценций, — где все — благо, там порядка не существует. Там царит высшее равенство, которое в порядке не нуждается.
— Значит, — говорю, — ты не отрицаешь, что у Бога все — благо?
— Разумеется.
— Выходит, что ни Бог и ничто у Бога порядком не управляется?
— Да, — согласился он.
— Так неужели все доброе, по–твоему, ничто?
— Напротив, оно — самая сущность.
— В таком случае, позволю себе напомнить твои же слова, что все сущее управляется порядком и что не существует решительно ничего, что было бы вне порядка.
— Но, — возразил Лиценций, — существует еще зло, вследствие которого и произошло так, что порядок обнимает собою и добро. Потому что порядком управляется не одно только добро, но добро и зло вместе. Когда же мы говорим — все, то, конечно же, имеем при этом в виду не одно лишь добро. Отсюда и следует, что все в совокупности, чем управляет Бог, управляется порядком.
На это я ему сказал:
— Как ты полагаешь, движется ли то, что управляется, или же оно неподвижно?
— То, что совершается в этом мире, — отвечал он, — движется.
— А остальное, — спрашиваю, — нет?
— То, что существует с Богом, то недвижимо, все же прочее, по моему мнению, движется.
— Итак, предположив, что существующее с Богом не движется, а остальное движется, ты, тем самым, хочешь дать понять, что все, находящееся в движении, с Богом не существует?
— Повтори, — сказал Лиценций, — то же, но пояснее, он попросил об этом, как мне показалось, не потому, что не понял мой вопрос, но желая потянуть время и найти, что ответить.
— Ты сказал, — говорю я, — что существующее с Богом не движется, все же прочее — движется. Следовательно, поскольку во всем, что с Богом, ты движение отрицаешь, то выходит, что движущееся существует без Бога. Ты ведь не станешь отрицать, что не все в этом мире недвижимо?
— Само собой. Но я утверждаю, что все в этом мире существует с Богом. Я, собственно, и не говорил, будто что–либо существует без Бога, но лишь сказал, что движущееся, по моему мнению, с Богом не существует.
— Значит, это небо существует без Бога, потому что факта его движения не оспаривает никто.
— Нет, — отвечал он, — оно не без Бога.
— Выходит, с Богом существует и нечто такое, что движется.
— Мне трудно уловить твою мысль; поэтому прошу, не дожидаясь моего ответа, если можно, сам догадайся о том, что я силюсь сказать. Мне думается, что, с одной стороны, без Бога ничего не существует, а, с другой, что существующее с Богом остается неподвижным. тем не менее, я не могу сказать, чтобы небо было без Бога. Не могу этого сказать не только потому, что без Бога ничего не существует, но и потому, что небо, как мне кажется, имеет в себе нечто неподвижное; это — или сам Бог, или что–то существующее с Богом; хотя, конечно, само по себе небо несомненно вращается и движется.
2
— Определи же, — говорю, — если угодно, что значит быть с Богом и не быть без Бога? ибо, если между нами сейчас возникает спор из–за смысла слов, то мы можем его легко и быстро прекратить.
— Я, — отвечал он, — ненавижу определения.
— Что же нам тогда делать?
— Определяй, — говорит, — сам. Мне проще увидеть недостатки чужого определения, чем хорошо сформулировать свое.
— Изволь. Представляется ли тебе существующим с Богом то, что им управляется?
— Когда я говорил о неподвижности того, что с Богом, я имел в виду совсем не это.
— Смотри же, — говорю, — понравится ли тебе такое определение: с Богом существует все то, что разумеет Бога?
— С этим, конечно, трудно не согласиться.
— Так что же, мудрый тебе не кажется разумеющим Бога?
— Кажется.
— Но ведь мудрые могут находиться в движении, причем где и когда угодно. А раз так, то, спрашивается, каким образом будет истинным положение, что все, существующее с Богом, неподвижно?
— Это забавно, — воскликнул он, — как будто из моих слов следует, что с Богом существует все то, что мудрый делает! с Богом — только то, что он знает.
— А разве, — возразил я, — мудрый не знает своих книг, мантию, тунику, своего скарба, если он его имеет, и прочего в том же роде, что ведомо и глупцам?
— Полагаю, что знать тунику и мантию — не значит быть с Богом.
— Итак, — сказал я, — из твоих слов следует, что не все, что знает мудрый, существует с Богом; но что только есть мудрого с Богом, то мудрый и знает.
— Именно так: с Богом существует не то, что знает мудрый при помощи чувств, а лишь то, что он постигает духом. Те же, кто знают лишь свои ощущения, не существуют не только с Богом, но, пожалуй, и с самими собой.
Тут я по выражению лица Тригеция понял, что он хочет что–то сказать, но не решается вступить в спор. Поэтому, когда Лиценций замолчал, я предложил ему высказать свое мнение.
— Что касается телесных чувств, — промолвил Тригеций, — то относительно них трудно что–либо утверждать наверняка. Ведь одно дело чувствовать, а другое — знать. Поэтому, если мы что–то и знаем, то это «что–то» содержится исключительно в нашем уме и постигается им одним. отсюда, если с Богом существует то, что мудрый познает умом, то все, что знает мудрый, все это может быть с Богом.
Мнение это одобрил Лиценций, присовокупив, со своей стороны, и нечто другое, на что я ни в коем случае не мог не обратить внимания.
— Мудрый, — сказал он, — несомненно существует с Богом, ибо он знает и самого себя. Это вытекает равно из того, что я услышал от тебя, а именно: с Богом — то, что осознает Бога, так и из того, что сказано нами ранее: что постигает мудрый, то — с Богом. Но, признаюсь, я не понимаю, посредством чего мудрый пользуется телесными чувствами (полагаю, что мы не обязаны принимать их в расчет, когда говорим о мудром), и решительно не догадываюсь, какова природа этого.
— Итак, — заметил я, — ты отрицаешь не только то, что мудрый состоит из тела и души, но и то, что он состоит из полной души — хотя было бы безумием отрицать принадлежность душе той ее части, которая пользуется чувствами. Чувствуют ведь не сами глаза или уши, а нечто другое. и если эти чувства не приписать уму, то еще менее они могут быть приписаны любой другой части души. остается разве что приписать их телу: но нелепее этого, по–моему, придумать ничего нельзя.
— Душа мудреца, — возразил Лиценций, — очищенная добродетелями и уже соединенная с Богом, достойна и названия мудрой, — другого же в ней ничего называть мудрым нельзя; но при этом, однако же, те, так сказать, грязные одежды, от которых такая душа очистилась и как бы ушла в саму себя, продолжают еще служить ей. Если и это все должно быть названо душой, то оно, конечно, находится в услужении и подчинении у той части души, которую единственно прилично называть мудрой. Полагаю, что в этой подчиненной части обитает и память. Таким образом, мудрец пользуется этой частью души, как бы рабою, показывая ей и указывая, как покоренной и подчиненной, приличествующие ей границы, дабы она не осмеливалась превозноситься перед господином, пользуясь теми чувствами, которые необходимы не мудрому, а ей же самой. К этой низшей части души относится и то, что преходяще. А для чего нужна память, как не для того, что приходит и как бы убегает? Мудрый же объемлет Бога; он наслаждается тем, Кто пребывает всегда, Кого не ждут, чтобы он был, не страшатся, что его не будет, но Кто потому и истинно–сущий, что пребывает всегда. Но будучи неподвижным и пребывая в себе самом, мудрец до некоторой степени заботится и о собственности своего раба, чтобы и бдительный раб надлежащим образом пользовался этой собственностью, как плодом, и бережно охранял ее.
Размышляя над услышанным, я вдруг вспомнил, что когда–то сам высказывал нечто подобное в присутствии Лиценция.
— Поблагодари, Лиценций, — улыбаясь сказал я, — этого твоего слугу: не приготовь он для тебя кой чего из своего собственного запаса, тебе, пожалуй, теперь пришлось бы весьма несладко. Ибо, хотя память принадлежит той части души, которая отдает себя в услужение здравому смыслу, однако теперь, поверь мне, именно она помогла тебе высказать это. и я, прежде чем перейти опять к рассуждению о порядке, спрашиваю тебя: не нужна ли, по–твоему, мудрому память по крайней мере для таких, т. е. почетных и необходимых, научных занятий?
— Зачем, когда все предметы его познания находятся в нем же самом? Ведь в помощи памяти не нуждаются и сами чувства, когда что–нибудь находится перед нашими глазами. Тем более не нужна она и мудрецу, у которого все находится перед внутренним взором его разума, который созерцает постоянно и неизменно самого Бога. А если я нуждаюсь в памяти для удержания того, что слышал от тебя, то значит, я еще не господин этой рабы, но пока еще сам служу ей, хотя борюсь, чтобы не служить, и как бы пытаюсь освободиться от нее. Иной раз я повелеваю ею, а она мне повинуется, и тогда мне кажется, что я уже победил ее, а порою она опять так поднимает свою голову, что я, несчастный, повергаюсь к ее ногам. Поэтому–то, когда мы говорим о мудром, я не хочу, чтобы ты решил, что я хоть сколько–нибудь почитаю себя таковым.
— И я придерживаюсь того же мнения относительно себя. Но, впрочем, поговорим о другом. Ответь–ка, неужто мудрый может бросить своих друзей и, пока действует еще его тело, в котором он содержит этого своего раба связанным узами закона, перестанет оказывать людям благодеяния, в особенности же учить самой мудрости, чего от него в первую очередь ожидают? Желая же быть хорошим учителем, разве не будет он часто готовиться к своим урокам заранее, дабы потом излагать все последовательно и связно? А это, в свою очередь, разве не потребует участия памяти? таким образом, ты должен или отвергнуть в мудром долг доброжелательства, или признать, что кое–что он хранит в своей памяти. А если нечто из своего богатства, необходимого не ему самому, но его друзьям, он повелевает памяти сохранить, то возможное ли дело, чтобы она, верный и послушный распоряжениям господина раб, не сохранила этого, если уж не ради приведения глупых к мудрости, то хотя бы потому, что ей это приказано хранить?
— Я полагаю, что мудрец не вверяет памяти решительно ничего, так как он всегда твердо держится в Боге и когда молчит, и когда говорит с людьми. Но его память, этот уже хорошо приученный раб, прилежно хранит то, чем могла бы иногда служить своему господину при его состязаниях и тем выполнить свой признательный долг по отношению к тому, под властью кого она живет. и это ею делается не по какому–нибудь соображению, а в силу высшего закона и высшего порядка.
— На этот раз, — заметил я, — я оставляю твои рассуждения без возражений, чтобы поскорее перейти к продолжению начатого. Но как–нибудь потом мы поговорим об этом предмете обстоятельнее (ибо предмет этот немаловажный и не может быть исчерпан столь краткой речью о нем), если на то будет воля Божья да благоприятный случай.
3
Итак, мы определили, что значит быть с Богом. И когда мною было сказано, что с Богом то, что осознает Бога, вы прибавили нечто большее, а именно: с Богом, сказали вы, то, что постигает мудрый. В этом случае меня сильно поразило то обстоятельство, каким образом вы неожиданно соединили с Богом глупость. Ибо, если с Богом существует все то, что постигает мудрый, а мудрый не может избежать глупости иначе, как только поняв и ее, то по–вашему выходит, что с Богом будет и эта зараза, хотя сказать так и грешно.
Все смолкли, потрясенные этим заключением, Тригеций же сказал:
— Пусть на это ответит тот, чье прибытие, случившееся так кстати, мы, надеюсь, приветствовали не напрасно.
— Помилуй Бог, — отвечал на это Алипий. — Неужели мне суждено было хранить свое, столь дорогое мне молчание, только до сих пор? да, вижу, покой мой нарушен. Но как бы то ни было, я постараюсь ответить на этот вопрос, если заручусь на будущее время, и вы мне пообещаете, что более этого ответа ничего от меня не потребуете.
— Не к лицу твоей доброжелательности и твоему великодушию, Алипий, — заметил я, — утаивать от нас свое мнение, весьма нами ценимое. Впрочем, сделай то, что предложил; остальное же произойдет так, как укажет порядок.
— И верно, уж коли вы избрали меня защищать порядок, то я и должен ожидать лучшего именно от порядка. Если не ошибаюсь, по–твоему заключению вышло, что они представляют себе глупость соединенную с Богом именно потому, что сказали, будто бы все, что постигает мудрый, существует с Богом. В какой степени последнее положение должно быть принято — говорить теперь не буду; обращу лишь ваше внимание на само заключение. С Богом, сказал ты, существует все то, что мудрый разумеет, а мудрый–де не может избежать глупости, не поняв ее. Но ведь, ясное дело, никто не может быть удостоен имени мудрого прежде, чем избежит глупости. Далее сказано, что с Богом существует то, что мудрый разумеет. Поэтому, если кто–нибудь постигнет глупость, чтобы ее избежать, то он еще не мудр. Когда же он сделается мудрым, тогда уже глупость не должна быть причисляема к тому, что он разумеет. На этом основании: так как с Богом соединено то, что разумеет уже мудрый, то будет правильно и логично, если мы глупость от Бога устраним!
— Ты, Алипий, — возразил я, — отвечал как всегда остроумно, но отвечал так, как обычно отвечает попавший в чужое затруднительное положение. В подобном положении, так как ты, надеюсь, не откажешься пока побыть глупым со мною, что сделали бы мы, встретив такого мудреца, который взялся бы охотно освободить нас от этой беды путем научения и состязания? Мне думается, я, со своей стороны, попросил бы его прежде всего показать мне, что такое глупость, почему и какого рода она бывает. Потому что, не знаю, как тебя, а меня глупость принуждает размышлять над нею до тех пор, пока я не осознаю ее и не превзойду. Итак, придерживаясь твоего мнения, этот мудрец должен был бы сказать нам следующее: «С подобным вопросом вам следовало бы обратиться ко мне в то время, когда я был глуп; теперь же только вы сами и можете быть для себя учителями, ибо я уже глупости не понимаю». Получив от него подобный ответ, я не задумываясь попросил бы его присоединиться к нашему обществу и вместе с нами поискать иного учителя. Ибо, хотя я и не вполне понимаю глупость, тем не менее, на мой взгляд, глупее подобного ответа не может быть ничего. Но, возможно, ему стыдно будет оставить нас безо всего и следовать за нами. В этом случае он вступит с нами в состязание и будет рассуждать о злополучиях глупости. А мы, ожидая получить вразумительный ответ, будем внимательно слушать человека, не знающего, что он говорит; или будем думать, что он знает то, чего не понимает; или, наконец, что глупость соединена с Богом, согласно с мнением тех, кого ты взялся защищать. Первых двух положений, по моему мнению, нельзя защитить никоим образом; остается, значит, последнее, хотя оно вам и не нравится.
— Я, — сказал Алипий, — никогда не считал тебя злым человеком. И теперь, оставаясь вполне непоколебимым в своем умозаключении, ты заставляешь меня, как будто я взял какое–нибудь вознаграждение за защиту тех, кого, по твоему выражению, принял под эту защиту, возвратить им взятое назад. В этом случае пусть они будут довольны уже тем, что, вступив с тобою в спор, я дал им немало времени для размышления; а если бы захотели последовать совету своего, без всякой с его стороны вины побежденного адвоката, пусть на этот раз уступят тебе, а в будущем будут осторожней.
— Я хотел бы выслушать Тригеция, который во время твоей защиты все время порывался что–то сказать, тем более, что ты знаком с ним недавно, и этот наш диспут — лучшая для вас возможность узнать друг друга поближе.
— Вы можете посмеяться над моею глупостью, — начал Тригеций, — но мне кажется, что то, чем воспринимается глупость, представляющая собою единственную и главнейшую причину неразумия, не следует называть умом.
— Что ж, — сказал я, — мнение резонное. Правда, меня сильно озадачивает то, что сказал Алипий: каким образом может кто–нибудь учить правильно о том, что он не понимает, и какой вред уму может причинить то, чего никто не видит умом; взвешивая это он поостерегся сказать то, что сказал ты, хотя это мнение было известно ему из книг весьма ученых мужей. Однако, обращая внимание на телесные чувства, и принимая в соображение, с одной стороны, что этими же чувствами пользуется душа, а с другой, что сама душа единственно и идет в некоторое сравнение с умом, я прихожу к заключению, что никто не может видеть тьмы. отсюда, если для ума понимать то же, что для чувства видеть, и если тьмы видеть не может никто, хотя бы глаза его были открыты, здоровы и чисты, то нет ничего нелепого в том, чтобы сказать, что глупость не может быть понимаема; ведь глупость — это тьма для ока разума. После этого меня не смутит уже и вопрос о том, каким образом можно избежать глупости, не понимая ее. Ибо, как глазами мы избегаем тьму потому, что нам не хочется не видеть, также точно и глупости стараемся избежать, не столько пытаясь ее понять, сколько скорбя, что вследствие глупости не понимаем того, что может быть понято, и чувствуя присутствие в себе глупости не потому, что понимаем ее саму, а потому, что мало понимаем нечто другое.
4
Но возвратимся к порядку, чтобы нам возвратить к себе, наконец, и Лиценция, который нас покинул. Спрашиваю вас: в силу ли порядка, по вашему мнению, поступает глупый во всем, что он делает? Но обратите внимание на то, как может связать вас этот вопрос. Если скажете, что он поступает в силу порядка, то где будет ваше определение, что порядок есть то, посредством чего Бог управляет всем существующим, если даже глупый в своих действиях поступает согласно порядку? если же, напротив, скажете, что в действиях глупого порядка нет, то окажется, что есть нечто такое, чем порядок не управляет. Ни того, ни другого вы не хотите. В таком случае смотрите, как бы защитой самого порядка вы не перепугали все, что только можно.
— Хотя, — сказал Тригеций (Лиценций все еще отсутствовал), — ответить на твой вопрос не так уж и трудно, мне сейчас почему–то не приходит в голову такое сравнение, которым, по–моему, я должен был бы подтвердить и прояснить свою мысль. Впрочем, скажу, как думаю, а ты и в данном случае поступи так же, как поступил перед этим, потому что упоминание твое о тьме пролило немало света на то, что в моих словах было темного. Жизнь глупца, хотя от него самого определенного направления не получает и не упорядочивается, однако действием божественного провидения вся включена в необходимый порядок вещей и ей как бы сама местность, расположенная по неизменному и вечному закону, не дозволяет быть там, где ей не следует быть. Поэтому тот, кто сосредоточивает свое внимание исключительно на одной только глупости, испытывает отвращение, как бы поражаемый великой нечистотою. Но если он отвлечется от нее и станет обозревать все мироздание в целом, то не найдет ничего беспорядочного, но напротив — все как бы распределенным и расположенным по своим местам.
— О, как много и сколь прекрасно отвечает мне через вас Бог и самый этот (чтобы я все более и более в него уверовал) какой–то сокровенный порядок вещей! ибо то, что вы высказываете, до такой степени представляется мне истинным и возвышенным, что я даже не могу постигнуть ни того, каким образом можно так говорить, ни того, как вы смогли приобрести эти сведения. Но, высказывая свое мнение, ты выражал желание подтвердить его хотя бы одним примером. таких примеров я знаю бесчисленное множество и они располагают меня вполне согласиться с твоим мнением. Кто, например, может быть гнуснее палача? Что грубее и жестче его души? однако, законами роль палача признается необходимой и входит в порядок благоустроенной общественной жизни. и палач, будучи преступным по своей душе, служит для наказания других преступников. Что гнуснее, что ничтожней красоты и полнее бесстыдства непотребных женщин, сводниц и подобных им людей? Между тем, устрани распутниц из человеческого общества, и распутство всюду внесет свой беспорядок. Но с другой стороны, поставь их на место матрон, и ты обесчестишь все позором и безобразием. До такой степени этот род людей — нечисть в жизни по своим правам и презренен по своему положению! В телах животных ты видишь одни члены и не можешь видеть других; хотя порядок природы не захотел, чтобы их не было, так как они необходимы, но он не дозволил им выставляться наружу, так как они безобразны. И они, заняв свое место, лучшее место уступили лучшим членам. Что было нам приятнее и что в деревне и на даче нам более всего напомнило театр, как не тот бой петухов, о котором часто упоминалось в предыдущей книге? При этом видели ли мы что–нибудь безобразнее побежденного петуха? А, между тем, от этого–то безобразия красота боя становилась еще совершенней.
Таково, думаю, и все прочее — нужно лишь внимательно присмотреться. Поэты, например, возлюбили так называемые солецизмы и варваризмы, и решили, изменив наименования, называть их схемами и метаплазмами и не избегать столь очевидных недостатков. Выбрось, однако же, их из стихов, и сразу же ощутишь недостаток в самых лучших приправах. А, с другой стороны, собери множество всего этого в одно место — и все это грубое, противное, отвратительное тотчас же тебе надоест. Внеси все это в прозу или судебную речь, и тебе всякий посоветует отправиться со всем этим выступать в балаган. Порядок, управляющий и соразмеряющий все это, не терпит в поэтической речи излишнего, а во всякой другой — ей чуждого. Некоторая простота, даже как бы своего рода грубость речи, своею противоположностью представляет в особом свете ее оживленные обороты и прекрасные места. Будь в ней одна простота и грубость, ты отбросил бы ее как низкую; но, с другой стороны, не будь в ней этой простоты и грубости, все те прекрасные места не выделялись бы в ней, не господствовали бы, так сказать, в своих границах и владениях, а мешали бы сами себе собственным блеском и в целом производили бы беспорядок.
5
И в этом случае красота зависит от порядка. Кто не боится обманчивых умозаключений, прокрадывающихся в сознание мало помалу, путем ли ослабления фальши, или же вызывания согласия с нею? однако, и в добросовестных состязаниях, будучи высказаны кстати, они часто имеют такую силу, что, уж не знаю как, но благодаря им становится сладким и самый обман. Не похвалить ли порядок и за это?
Наконец, в музыке, в геометрии, в движениях небесных светил, в непреложных законах чисел порядок господствует до такой степени, что если бы кто–нибудь пожелал увидеть его, так сказать, источник и самые сокровенные тайны, он найдет их в этих науках или с их помощью будет к нему безошибочно приведен. Ибо занятия этими науками, если только предаваться им умеренно (впрочем, ничего не следует здесь бояться, как излишества), воспитывают в человеке такого борца и даже вождя философии, что он сам восходит и возводит многих других к той высшей мере, дальше которой нельзя и не следует уже искать решительно ничего. С этой высоты, останавливая внимание на делах человеческих, он так широко охватывает их своим взором и так все различает, что его уже не тревожат вопросы, подобные следующим: почему–де один желает иметь детей и не имеет, а другой тяготится плодовитостью своей жены; почему нуждается в деньгах тот, кто готов их щедро дарить, а иссохший и паршивый ростовщик спит на зарытых сокровищах; почему фомадные наследства расточаются и проматываются роскошью, а нищий, проливая целый день слезы, едва вымаливает одну мелкую монету; почему иной недостойный возвышается во власти и чести, а люди с чистейшей нравственностью остаются незамеченными в толпе.
Эти, и подобные им явления человеческой жизни часто располагают людей нечестиво думать, будто нами не управляет никакой порядок божественного провидения. иные же, благочестивые, добродетельные и одаренные светлым умом люди, хотя и не могут примириться с мыслью, что мы оставлены Всевышним Богом, однако, смущенные своего рода мраком и безобразностью подобных явлений, не видят в них никакого порядка, и желая, чтобы им разъяснили сокровеннейшие причины, часто жалуются на свои заблуждения даже в стихах…
Что касается меня, то, насколько я могу вообще советовать что–либо моим друзьям в меру своего разумения, я полагаю, что они должны изучать все упомянутые науки. Только таким путем мы можем понять все это яснее дня. Если же они ленивы, или преданы другим занятиям, или уже неспособны к науке, пусть обратятся к вере, узами которой привлекает их к себе и освобождает от этих горестных и мрачных зол тот, Кто не допускает гибели ни одного верующего в Него искренне, как предписывает религия.
Ибо есть два пути, которыми мы можем следовать, когда нас мучит мрак окружающих явлений: это либо путь разума, либо — авторитета. Разум дарует нам философия, но освобождает от мрака, увы, весьма немногих. Впрочем, она побуждает их не только не пренебрегать тайнами веры, а, напротив, понимать их так, как они должны быть понимаемы. Эта истинная и, так сказать, подлинная философия своей задачей имеет не что иное, как научить, что служит безначальным Началом всех вещей, какой в Нем пребывает разум и что от Него, помимо всякого повреждения, происходит для нашего спасения. Об этом едином Боге: отце, сыне и святом духе учит достопоклоняемая религия, освобождающая народы силой чистой и непоколебимой веры, — учит не смутно, как говорят о ней одни, и не недостойно Божества, как утверждают другие. Что же касается того, что Всевышний Бог благоволил принять и носить наше человеческое тело, то чем более кажется это низким, тем более оно исполнено милости и тем менее имеет общего с человеческим высокоумием.
А откуда душа ведет свое начало, зачем она живет в этом мире, насколько зависит от Бога, что имеет своего собственного и что вносит в ту или иную природу, насколько подлежит смерти и чем оправдывается ее бессмертие — разве все эти вопросы не заслуживают того, чтобы заняться их изучением? Без сомнения — да! Но об этом мы поговорим чуть позже, пока же прошу вас принять к сведению следующее: если кто–либо осмелится добиваться знания этих предметов необдуманно и нарушая требуемый порядок научных занятий, тот променяет свою любознательность на преступное любопытство, ученость — на легковерность, сомнения — на неверие. Поэтому–то я, услыхав только что ваши столь хорошие и дельные ответы, и удивился, откуда это у вас, хотя, в то же время, не могу и не соглашаться с ними. Посмотрим, однако, как долго сможете вы продержаться. Теперь пусть прочитают нам слова Лиценция, который, уж и не знаю, чем занятый, так давно устранился от нашего разговора, что и ему, мне кажется, придется читать высказанное нами в его отсутствие, как и тем из наших друзей, которые не присутствуют теперь с нами. Иди–ка, Лиценций, сюда, и постарайся впредь не отлучаться. Послушай, ты одобрил мое определение того, что значит быть с Богом, и хотел, насколько я мог понять, доказать, что ум мудрого пребывает недвижимо с Богом. Меня сильно затрудняет следующее соображение: как это может быть, чтобы ум этого мудреца оставался неподвижным, когда его тело (ибо и он, пока живет среди людей, тело имеет) движется туда–сюда. Подобным образом ты мог бы сказать, что когда плывет корабль, находящиеся на нем люди не движутся; хотя, конечно, мы не станем оспаривать тот факт, что кораблем владеют и управляют они. Да если бы они управляли им и заставляли его идти, куда хотят, одной только мыслью, то и тогда, находясь на нем, они не могли бы не двигаться, коль скоро двигался бы сам корабль.
— Дух, — сказал Лиценций, — живет в теле не так, чтобы тело повелевало духу.
— Да этого и я не говорю, — отвечал я. — Но ведь и всадник сидит на коне не так, чтобы конь управлял им; однако же, хотя он заставляет идти коня, куда хочет, вместе с движением коня движется необходимо и сам.
— Сам всадник может сидеть неподвижно.
— Ты заставляешь нас определить, что значит находиться в движении, — сделай же это, прошу тебя, если можешь.
— Продолжай, — взмолился Лиценций, — оказывать мне свое покровительство: не спрашивай вторично, желательно ли мне давать определения — я сам поспешу их тебе представить, как только буду в состоянии это сделать.
Когда он это сказал, из дома прибежал к нам мальчик, на которого возложена была этого рода обязанность, и возвестил, что пора обедать.
— Этот мальчик, — заметил я, — заставляет вас не только определить, но и наглядно показать, что значит двигаться. Идем же и перейдем из этого места в другое, потому что, если не ошибаюсь, это и значит произвести движение.
Все рассмеялись и направились к столу.
6
Подкрепившись, мы, так как небо заволокло тучами, уселись на обычном месте в бане.
— Так что же Лиценций, — сказал я, — согласен ли ты, что движение — это не что иное, как процесс перехода из одного места в другое?
— Согласен.
— Но согласен ли ты, что никто не может оказаться в таком месте, в котором ранее не был, и оставаться при этом неподвижным?
— Что–то я тебя не понимаю, — отвечал он.
— Если что–нибудь сперва было в одном месте, а теперь в другом, согласишься ли ты, что для этого перемещения необходимо было произвести движение?
Он согласился.
— Но может ли, — говорю, — живое тело мудреца находиться с нами здесь так, что душа его будет отсюда далеко?
— Может.
— Даже, — удивился я, — если он при этом разговаривал бы с нами и учил нас?
— Если бы, — отвечал Лиценций, — он учил нас самой мудрости, я бы тогда сказал, что он — не с нами, а с самим собой.
— Значит, он — не в теле?
— Не в теле, — говорит.
— Но тело, которое лишено духа, разве оно не мертво? А ведь я имел в виду тело живое!
— Не умею, — отвечал он, — это объяснить. С одной стороны, я признаю, что тело человека не может быть живым, если в нем нет духа, с другой, — не могу сказать, чтобы дух мудрого не был бы с Богом, где бы ни находилось его тело.
— Я попытаюсь тебе помочь. Так как Бог — везде, то, пожалуй, куда бы мудрый не пошел, он везде найдет Бога, с Коим может быть. отсюда для нас есть возможность не отрицать и того, что мудрый переходит с места на место, а это ведь и значит быть в движении, и того, что он — с Богом.
— Я соглашаюсь, — сказал он, — что тело делает такой переход с места на место, но отрицаю это в отношении ума, к которому, собственно, и применимо название мудрого.
7
— Пока что я уступлю тебе, — сказал я, — дабы этот таинственный предмет, требующий более продолжительного и внимательного обсуждения, не отвлек нас от основной темы. Но остановим внимание вот на чем: так как мы определили, что значит быть с Богом, то не можем ли мы знать и того, что значит быть без Бога; хотя это, думаю, ясно уже само по себе. Ибо, я полагаю, что те, которые — не с Богом, на твой взгляд, суть без Бога.
— Если бы, — заметил Лиценций, — у меня не было недостатка в словах, то я, возможно, сумел бы сказать так, что мой ответ тебе бы понравился. Но, пожалуйста, извини мне мою неопытность, и, как это и подобает тебе, как учителю, своим быстрым умом предугадай, что я желал бы выразить. По–моему, хотя такие люди и не с Богом, однако же Бог их не оставляет. Поэтому я не могу сказать, что те, коих Бог не оставляет, суть без Бога. Но, с другой стороны, не скажу, что они с Богом, так как они Бога не имеют. Иметь же Бога, как решено было нами во время предыдущего состязания, которое с таким удовольствием вели мы в день твоего рождения, значит не что иное, как наслаждаться Богом. Но, признаюсь, меня страшит это противоречие: каким образом можно быть ни без Бога, ни с Богом.
— Не тревожься этим, — сказал я. — Кто станет обращать внимание на слова, когда самое дело будет бесспорно? Но возвратимся еще раз к данному тобой определению порядка. Порядок, сказал ты, это то, посредством чего Бог управляет всем. а на мой взгляд, нет ничего, чем не управлял бы Бог: ведь отсюда ты вывел заключение, что вне порядка нельзя найти решительно ничего.
— Я остаюсь при своем мнении, — отвечал он, — но я уже вижу, что ты хочешь сказать: управляет ли Бог и тем, что, на наш взгляд, совершается нехорошего?
— Прекрасно, ты совершенно проник в мою мысль. Но если уж ты угадал то, о чем я хотел спросить, то угадай и то, что следует ответить на мой вопрос.
— Не соберусь с мыслями, — отвечал Лиценций, покачав головой и разведя руками.
В этот момент к нам неожиданно пришла мать. Лиценций же, после непродолжительного молчания, попросил меня снова спросить его о том же (он не знал, что на этот вопрос уже отвечал Тригеций).
— Что, — сказал я, — или зачем мне повторять? Сделанного, говорят, не делай. Поэтому я лучше посоветую тебе прочитать то, что было сказано прежде, если ты слышать того не мог. Я, впрочем, не сердился на твое уклонение от нашей беседы и терпел это достаточно долго, с одной стороны, чтобы не мешать тому, о чем, углубившись в себя и удалившись от нас, ты размышлял, а с другой потому, что продолжение моей речи при помощи этого стиля не могло быть потерянным для тебя. теперь же я спрашиваю о том, чего мы не пытались еще исследовать внимательно. ибо, вслед за тем, как, не знаю в силу какого порядка, возник у нас вопрос о порядке, ты, помнится мне, сказал, что правосудие Божие различает между добрыми и злыми и воздает каждому по заслугам. яснее определить правосудие, насколько я понимаю, нельзя. Но скажи мне, думаешь ли ты, что Бог был некогда неправосуден?
— Никогда, — отвечал он.
— А если, — говорю, — Бог всегда был правосуден, то, значит, добро и зло существовали всегда.
— Другого следствия, по моему мнению, — сказала мать, — и не может быть. В самом деле, когда не было никакого зла, тогда не было и суда Божия; и если когда–нибудь Бог не воздал добрым и злым по их заслугам, то он не мог быть и правосудным.
— Так стало быть, — заметил Лиценций, — по–твоему, надлежит думать, что зло существовало всегда?
— Этого, — ответила она, — я не смею сказать.
— Что же мы скажем? — спросил я. — Если Бог правосуден потому, что творит суд над добрыми и злыми, то он не был правосуден, когда не было зла.
При этом, пока они молчали, я заметил, что в разговор хочет вмешаться Тригеций, и я подал ему знак.
— Бог, — сказал он, — правосуден вообще. Он может различить добро и зло, даже если бы они и не существовали, в силу лишь того, что он правосуден. В самом деле, когда мы говорим, что Цицерон исследовал заговор Катилины благоразумно, проявил умеренность, не запятнав себя никакой корыстью, чтобы пощадить злых, со всей справедливостью предал их высшему наказанию сената, мужественно перенес все стрелы врагов и, как сам выражается, громаду зависти, — неужели, спрашивается, не было бы в нем всех этих добродетелей, если бы Каталина не приготовил для республики столь великой опасности? добродетель и в человеке должна рассматриваться сама по себе, а не по какому–либо делу этого рода, а тем более так должна она рассматриваться в Боге, если, впрочем, при ограниченности понятий и слов, позволительно в этом отношении так или иначе сопоставлять их между собой. Чтобы понять это, скажем так. Поелику Бог всегда был правосуден, то, когда явилось зло, которое надлежало отделить от добра, он тотчас же стал воздавать каждому по заслугам; ибо в этом случае ему не нужно было учиться правосудию, а только приложить к делу то, чем он обладал всегда.
Когда Лиценций и мать одобрили это мнение, я спросил:
— Ну, Лиценций, что ты теперь скажешь? оправдывается ли твое суждение, что «помимо порядка ничего не бывает», — суждение, которое ты так настойчиво защищал? ибо действие, вызвавшее к бытию зло, не есть действие в божественном порядке.
— Я, — сказал он, — удивляюсь и чувствую некоторую неловкость от того, что так неожиданно потерял свое дело. Так вот, теперь я решительно утверждаю, что порядок свое начало получил с того момента, с которого началось зло.
— Итак, появление зла совершилось не в силу порядка, если порядок начался после того, как произошло зло. Но у Бога порядок существовал всегда; и было ли это ничто, которое называется злом, всегда, или оно началось когда–нибудь, — поелику порядок есть или сам добро, или от добра, — без порядка никогда ничего не было и не будет. Есть какое–то и более сильное возражение, но оно, как водится, ускользнуло из памяти, что, по моему мнению, тоже в порядке вещей — соответственно заслугам, или состоянию, или порядку жизни.
— Не знаю, — отвечал он, — каким образом я так необдуманно высказал это суждение, которое я теперь сам отвергаю: ибо я должен был сказать не то, что порядок начался после того, как явилось зло, а то, что как правосудие, о коем рассуждал Тригеций, так и порядок существовали у Бога, но свое применение получили они после того, как появилось зло.
— И опять ты, — сказал я, — спотыкаешься на том же самом: ибо то, чего тебе хочется менее всего, остается неопровержимым. В самом деле, был ли порядок у Бога, или начался с того времени, с которого появилось зло, в любом случае выходит, что зло произошли помимо порядка. Если ты с этим согласишься, то должен будешь признать, что нечто могло произойти помимо порядка, а это подрывает и разбивает защищаемое тобой мнение. Если же не согласишься, в таком случае зло окажется получившим начало из божественного порядка, и ты должен будешь признать Бога виновником зла; а гнуснее подобного богохульства, на мой взгляд, не может быть ничего.
Он или не понимал этого, или притворился, что не понимает: и когда я пояснил ему свою мысль, изменяя и переворачивая ее на разные лады, он не нашелся, что сказать, и замолчал.
— Я, — сказала тогда мать, — не думаю, что вне божественного порядка не могло быть ничего; ибо зло, которое появилось, никоим образом не могло появиться в силу божественного порядка: но божественное правосудие не захотело, чтобы оно оставалось беспорядочным, и обратило и привело его к заслуженному им порядку.
Видя, что все они ищут Бога весьма усердно и каждый в меру своих сил, но при этом никто не обладает составляющим предмет нашего рассуждения порядком, при условии которого возможно достигнуть понимания неизъяснимого величия Божьего, я сказал:
— Если вы, как я вижу, так сильно любите порядок, то давайте не позволять себе быть превратными и беспорядочными. Ибо, хотя сокровеннейший разум и обещает нам доказать, что ничего не бывает помимо божественного порядка, однако, если бы мы услышали какого–нибудь школьного учителя, старающегося обучить читать по складам ребенка, которого раньше никто не учил буквам, то, полагаю, мы сочли бы его достойным не только осмеяния, как учителя неразумного, но и того, чтобы связать его, как бесноватого, поскольку он не соблюдает порядка в обучении. Никто не станет спорить, что людьми простыми делается много такого, что осуждается и осмеивается учеными, а сумасшедшими такого, что осуждается даже глупцами. однако, даже все это, представляющееся нам извращенным, некая возвышенная наука, о существовании которой толпа даже не подозревает, душам, преданным ей и возлюбившим Бога, обещает доказать совершающимся не вне божественного порядка, и доказать с такой ясностью, что самые суммы чисел при сложении не могут быть для нас вернее.
8
Эта наука — сам божественный закон, который, вечно оставаясь у Бога неподвижно и непреложно, как бы воспроизводится в душах мудрых, дабы они могли знать, что живут тем лучше и возвышеннее, чем совершеннее созерцают этот закон в мысли и чем прилежнее исполняют его в жизни. таким образом, наука эта тем, кто желает ее знать, повелевает следовать в одно и то же время двоякому порядку, одна сторона которого касается жизни, другая — занятий науками. Юноши, преданные ей, должны жить, воздерживаясь от любовных похождений, от приманок чрева и горла, от нескромного украшения и убранства тела, от пустых занятий играми, от сна и ленности, от тщеславия, зависти и ненависти, от честолюбия и властолюбия. Любовь к деньгам пусть считают вернейшей отравой всякой надежды. Пусть не делают ничего вяло, но ничего — и рьяно. К ошибкам ближних пусть не питают никакого гнева, или же обуздывают его так, чтобы казалось, будто его нет. Пусть не питают ненависти ни к кому. Ни одного порока пусть не оставляют без внимания. Когда наказывают, пусть берегутся, как бы не быть слишком строгими, когда прощают — слишком мягкотелыми. Пусть не наказывают ничего такого, что не в состоянии быть лучше, не извиняют то, что делается хуже. Пусть считают своими родными всех тех, над коими дана будет им власть. Пусть служат так, чтобы господствовать над ними было стыдно, господствуют так, чтобы приятно было им служить. К чужим ошибкам пусть не будут суровы. Вражды пусть избегают самым тщательным образом, вражду к себе переносят равнодушно, мирятся как можно скорее. В сношениях и обращении с людьми достаточно сохранять одну эту народную поговорку: никому пусть не делают ничего такого, чего не желают себе. Республикой управлять пусть не добивается никто, кроме совершенных. Но совершенными стать пусть стараются в возрасте сенаторском, а, точнее, в самой юности. Но и тот, кто обратится к этому поздно, пусть не думает, что для него не существует никаких правил; в возрасте зрелом он во всех отношениях сохранит их легче. Всю жизнь, на всяком месте, во всякое время пусть имеют или стараются иметь друзей. Людям достойным пусть услуживают, хотя бы они того и не ожидали. На гордых пусть мало обращают внимания и сами гордыми пусть не будут. Пусть живут прилично и пристойно. Пусть чтут Бога, размышляют о Нем, ищут его, укрепляясь верой, надеждой и любовью. Пусть желают спокойствия и твердого порядка, здравого ума и мирной жизни.
9
Теперь мне следует сказать о том, как должны учиться те преданные науке юноши, которые вознамерились жить так, как об этом сказано выше. К изучению наук ведет нас двоякий путь: авторитет и разум. По отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела — разум. Ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, другое же наиболее ценится при достижении. Итак, хотя авторитет людей добрых представляется полезнее для невежественной толпы, а разум приличнее для ученых, однако, так как всякий человек делается образованным из необразованного, а всякий необразованный не может знать того, каким он должен явиться перед своими учителями и посредством какой жизни может стать способным к учению, то для всех желающих учиться великому и сокровенному дверью к этому служит лишь авторитет. Вступивший в эту дверь следует без всякого колебания правилам наилучшей жизни; сделавшись же, благодаря им, способным учиться, он потом узнает, насколько разумно все то, чему он следовал прежде раскрытия разума; и что такое сам этот разум, которому он следует теперь, выйдя из колыбели авторитета крепким и зрелым; и что такое ум, в котором — все, или, лучше сказать, который сам — все; и что, будучи вне всего, служит началом всего. Познать это способны немногие, а сверх того, даже и после настоящей жизни, не может постичь никто. Что касается тех, которые, довольствуясь одним авторитетом, постоянно заботятся лишь о добрых правах и благочестивых объектах, или презирая, или не будучи в состоянии учиться свободным и возвышенным наукам, то я и не знаю, как назвать их блаженными, пока они еще живут среди людей; впрочем, уверен непоколебимо, что они, лишь только покидают свое тело, освобождаются от своего невежества — легче или труднее, смотря по тому, более ли или менее хорошо жили.
Авторитет же бывает частью божественный, частью человеческий; но истинный, прочный и высший авторитет тот, который называется божественным. В отношении его, впрочем, надлежит бояться удивительной лживости тех воздушных существ, которые при помощи некоторых предсказаний о вещах, относящихся к телесным чувствам, и некоторых проявлений своего могущества, привыкли весьма легко обольщать души, жаждущие проникнуть в тайны преходящего счастья, или добивающиеся призрачной власти, или же робеющие перед пустыми чудесами. итак, божественным авторитетом должен быть назван тот, который не только в чувственных знамениях превышает всякую человеческую способность, но, управляя человеком, показывает ему, до какой степени принизился он сам ради него; повелевает ему не поддаваться чувствам, для которых вышеназванные предсказания представляются достойными удивления, а возвышаться до ума; и в то же время проясняет, насколько упомянутая лживость сильна здесь, почему она это делает и как мало заслуживает внимания. Ибо этот авторитет должен своими делами показать свою власть, своим уничижением научить милосердию, своими предписаниями — законам природы; а все это преподается более таинственным и верным образом в той религии, в которую мы посвящаемся, и в которой жизнь добродетельных весьма легко очищается не двусмысленными состязаниями, а авторитетом таинств. Авторитет же человеческий по большей части обманчив; впрочем он, по–видимому, справедливо приписывается тем, которые, насколько может воспринять чувство людей невежественных, умеют прекрасно преподавать и сами живут так, как предписывают жить другим. если же они получают и кое–какие дары фортуны, благодаря которым они кажутся еще более великими, а, презирая таковые, еще более достойными, то в таком случае тот, кто отнесся бы доверчиво к даваемым ими правилам жизни, был бы, пожалуй, прав.
10
— Величественный образ жизни, — сказал Алипий, — и полно, и кратко начертан тобой перед нашим взором; хотя мы и постоянно стремимся к нему, наставляемые твоими ежедневными уроками, однако сегодня ты заставил нас еще более его желать и пламеннее искать. Если бы возможно было достигнуть и держаться его не только нам, но и всем людям, я желал бы, чтобы все это было столь же легким для подражания, сколь было оно удивительным для слуха. Ибо не знаю как (о, если бы мы сами были от этого далеки), но дух человеческий, пока слышит подобное, провозглашает это небесным, божественным и вполне истинным, но при достижении этого ведет себя, увы, совсем иначе. Так что, на мой взгляд, таким образом могут жить или люди божественные, или не без божественной помощи.
— Эти правила жизни, — заметил я, — которые тебе, Алипий, понравились, хотя и выражены моими словами, но изобретены не мной, что тебе, впрочем, прекрасно известно. Ими переполнены книги людей великих и почти божественных; я счел нужным высказать их не ради тебя, а ради этих юношей и с той только целью, чтобы они не имели права ими пренебречь. Ибо я хочу, чтобы мне верили только как учащему и представляющему доказательства; полагаю, что и ты вставил свое слово для большего их возбуждения ввиду величия предмета. В самом деле, не для тебя же должно быть делом трудным следовать тому, что ты схватил с такой жадностью и к чему рванулся с такою стремительностью своей удивительной природы, что я для тебя сделался учителем слова, а ты для меня — учителем дела. Теперь нет ни малейшей причины или, по крайней мере, повода лгать: ты, полагаю, вследствие моей ложной похвалы не сделаешься более преданным науке, наши же мальчики знают нас обоих, да и тот, кому эта книга посылается, знает всех нас.
Число же людей добродетельных и преданных наилучшим нравам, по моему мнению, ты, если думаешь то же, что и говоришь, представляешь себе гораздо меньшим, чем как оно представляется мне; но ведь многие из них совершенно укрываются от тебя. Да и из числа известных, многие скрывают то, что есть в них удивительного; потому что все это находится в душе, которая недоступна для чрств; и весьма часто, желая приноровиться к разговорам людей порочных, человек говорит то, что одобряет или желает только для вида. Многое делает он даже против своего желания, во избежание или ненависти людской, или вздорных сплетен. Отсюда–то так и бывает, что многих мы считаем не такими, каковы они на самом деле и какими их знают друзья. В этом ты можешь убедиться по тем некоторым великим духовным дарам наших друзей, о которых известно только нам одним. Это заблуждение происходит главным образом из–за того, что многие обращаются к добродетельной жизни не вдруг; и пока не сделаются известными какими–либо блестящими делами, считаются такими, какими были. Чтобы не ходить далеко за примером: кто из знавших раньше этих юношей сразу поверит, что они ищут великого с таким усердием и неожиданно в столь раннем возрасте выказали такую вражду к удовольствиям? изгоним же из своей души это мнение: ибо и та божественная помощь, о которой ты благочестиво упомянул в конце своей речи, расточает свою милость на все народы гораздо шире, чем некоторые об этом думают. Но возвратимся опять к порядку нашего состязания, и так как об авторитете сказано довольно, посмотрим, какое значение имеет разум.
11
Разум — это движение мысли, имеющее силу различать и объяснять то, что подлежит изучению. Пользоваться, однако же, его руководством для познания Бога, равно как и самой души, существующей в нем или где бы то ни было, род человеческий может чрезвычайно редко. и это потому, что всякому, вступившему в область этих чувств, трудно возвратиться в самого себя. Поэтому, хотя люди в этих обманчивых условиях и стараются делать все согласно с разумом, они не знают, за исключением весьма немногих, что такое сам разум и каковы его свойства. Это кажется странным, но оно так и есть. В данном случае достаточно этой оговорки, потому что если бы я вздумал сейчас разъяснять вам, как следует понимать этот важный предмет, то был бы так же нелеп, как был бы нагл и высокомерен, если бы заявил, что по крайней мере сам уже понял его. Впрочем, насколько разуму угодно проявляться в вещах, которые кажутся вам известными, мы станем, если будем только в состоянии, отслеживать его в той мере, в какой это нужно для предмета нашей цели.
Во–первых, рассмотрим те случаи, в которых обыкновенно употребляется это слово — разум. В особенности, конечно, мы должны остановить свое внимание на том, что древние мудрецы самого человека определяли так: человек есть животное разумное и смертное. После указания рода, названного словом — животное, мы находим здесь два специфических отличия, которые, по моему мнению, должны напоминать человеку, куда он должен возвращаться и откуда — убегать. Ибо, как выход души есть падение в область смертного, так возвращение ее должно быть в область разума. одним из этих слов, а именно названием — разумное, душа отделяется от животных бессловесных, другим названием — смертное, от божественного. итак, если она не удержит за собою первого, то будет животным бессловесным, а не устранится от последнего — не будет божественной. Но ученейшие мужи имеют обыкновение с остроумием и тонкостью различать субъективно–разумное (rationale) и объективно–разумное (rationabile). Этого различения никоим образом не следует упускать из виду и нам для нашей цели. субъективно–разумным они назвали то, что пользуется или может пользоваться разумом; а объективно–разумным то, что сделано или сказано разумно. Например, объективно–разумными мы можем назвать эти бани и нашу речь; субъективно же разумными или того, кто эти бани построил, или нас, которые здесь говорим. Итак, от субъективно–разумной души разум переходит в объективно–разумное, т. е. в то, что делается или говорится. Итак, я вижу два рода предметов, в которых могущество и сила разума может подпасть наблюдению чувств: это — дела человеческие, подлежащие зрению, и слова, подлежащие слуху. В отношении тех и других душа, по необходимым условиям телесной жизни, пользуется двумя вестниками: один из них — глаза, другой — уши. Поэтому, когда мы видим что–нибудь образованным из частей взаимно соразмерных, мы не без основания говорим, что оно представляется разумным. точно так же, слыша какое–нибудь стройное пение, мы не сомневаемся, что оно звучит разумно. Но мы осмеяли бы всякого, кто сказал бы: разумно пахнет, или разумно на вкус, или разумно на осязание — разве только он употребил бы такое выражение по отношению к чему–либо, специально приготовленному людьми, чтобы оно так пахло, или имело такой вкус, или так согревало, или вызывало иное ощущение. Так, было бы не смешно, если бы кто о месте, из которого изгоняются змеи при помощи веществ, издающих сильный запах, сказал, принимая во внимание причину, по которой это сделано: оно разумно так пахнет; или назвал бы разумно горьким или разумно сладким питье, приготовленное врачом; или в том случае, когда врач велел бы для больного умерить температуру ванны, сказал бы, что она горяча или тепловата разумно. Но никто, войдя в сад и поднеся к носу розу, не решится сказать: как разумно она благоухает–хотя бы и нюхал ее по предписанию врача. Ибо в этом случае разумным может быть лишь указание врача, но отнюдь не сам запах. и это вовсе не потому, что запах розы — естественный, ибо, хотя приготовленное поваром кушанье мы можем назвать приготовленным разумно, однако не принято говорить, что оно разумно действует на вкус, если нет на то никакой особой причины, а еда просто удовлетворяет насущной потребности. Ведь, если спрашивают у того, кому приготовил питье врач, зачем оно должно быть так сладко на вкус, то приводится особая причина, по которой оно таково, а именно — род болезни; а эта причина лежит уже не в самом чувстве сладости, а отдельно от него, в теле. если спросить лакомку, возбужденного аппетитом, почему известное кушанье приятно, он ответит, что оно ему просто нравится или доставляет ему наслаждение. Никто не назовет его лакомство разумно–сладким, разве только доставляемое им удовольствие необходимо для чего–нибудь другого, и то, что он ждет, для того именно так и приготовлено. Остановимся, насколько сможем, на некоторых следах разума в чувствах, а относительно зрения и слуха — и на самом доставляемом ими удовольствии. В отношении других чувств, как было сказано выше, разумное обыкновенно проявляется не в удовольствии, им доставляемом, а в кое–чем ином, то есть в том, что оно вызвано живым разумным существом для какой–либо известной цели. Что же касается зрения, то все, в чем замечается разумная соразмерность частей, обыкновенно называется прекрасным. А что касается слуха, то когда мы находим слово разумным и размеренное пение — гармоничным, получаемое от этого наслаждение называется уже его собственным именем. Но ни в прекрасных вещах мы не имеем обыкновения называть разумным понравившийся нам цвет, ни в удовольствиях слуха самый ясный и чистый звук так не назовем. итак, в удовольствиях, доставляемых этими чувствами, мы признаем относящимся к разуму то, в чем проявляется некоторая стройность и соразмерность. так, в этом самом здании, рассматривая внимательно частности, мы не можем не быть неприятно пораженными тем, что видим одну из дверей поставленной сбоку, а другую почти посредине, и, однако же, не в самой середине. Это потому, что во всяких сооружениях неправильная отмеренность частей, если только она не вызвана никакой особой необходимостью, кажется как бы наносящей некоторое оскорбление самому зрению. А какими привлекательными кажутся нам эти три наружные окна, одно посредине и двое по бокам! Это очевидно само собой. Поэтому и сами архитекторы называют это на своем техническом языке рациональным (ratio), а когда части бывают расположены нестройно, говорят, что это — нерационально. Это же положение распространяется на почти все виды искусства и дела человеческие. да и в стихах, в которых мы также находим разум, имеющий отношение к удовольствию слуха, кто не чувствует, что вся эта приятность доставляется соразмерностью? Но когда пляшет гистрион, то хотя стройные движения его членов доставляют удовольствие глазам также своей соразмерностью, однако, если все его жесты представляются внимательным зрителям знаками тех или иных предметов, его пляска называется разумною потому, что хорошо что–нибудь обозначает или показывает, но с исключением при этом удовольствия чувств. Также верно и то, что если кто–нибудь изобразит Венеру крылатой, а Купидона в епанче, то хотя бы на картине им было придано удивительное по красоте движение и положение, изображение это будет оскорблять не глаза, но через глаза — душу; потому что для глаз было бы оскорблением, если бы не было красоты в движениях. Последнее относилось бы к чувству, в котором душа получает удовольствие благодаря тому, что смешана с телом. Итак, одно дело чувство, и другое — то, что через чувство: чувству доставляет наслаждение прекрасное движение, но душе через чувство — только прекрасный смысл в движении. Еще яснее усматривается это в том, что касается слуха: ибо то, что приятно звучит, доставляет удовольствие и наслаждение самому слуху, но тот смысл, который выражается этим звуком, хотя передается и слухом, но относится исключительно к душе. Так, когда мы слышим известные стихи Вергилия:
Зачем спешат так зимние светила
В пучину вод? и почему столь долги ночи?
Мы хвалим их звучание за одно, а их смысл — за совсем иное; и не в одном и том же смысле говорим: разумно звучит и разумно сказано.
12
Итак, есть три рода предметов, в которых обнаруживается это объективно–разумное. Во–первых, в действиях, направленных к какой–либо цели, во–вторых, — в словах, в–третьих, — в удовольствиях. Первое побуждает нас ничего не делать необдуманно; второе — надлежащим образом передавать мысль посредством слова; последнее — блаженно созерцать. Первое выражается в правах, два последних — в знаниях, о которых у нас и идет речь. Ибо то субъективно–разумное, которое существует в нас, то есть то, что наделено разумом и, в свою очередь, производит разумно–объективное или следует ему, связывается некоторыми общественными узами с теми, с которыми у него этом разум общий. Но так как человек не мог бы установить прочного общения с человеком, если бы они между собой не разговаривали и, таким образом, не сообщали друг другу свои чувства и мысли, то это субъективно–разумное нашло нужным обозначить предметы словами, то есть некоторыми звуковыми символами так, чтобы люди, не способные непосредственно чувствовать свои души, пользовались для установления между ними взаимных отношений как бы с помощью переводчика. Но слышать то, что говорят отсутствующие, никто не смог. Поэтому разум изобрел письмена, обозначив и различив все звуки гортани и языка. Но ничего этого сделать он не смог бы, если бы множество вещей являлось в представлении бесконечным, без некоторых определенных границ. По необходимости обращено было внимание и на пользу счисления. Когда были сделаны эти два открытия, появилась профессия книжников и учетчиков, — как бы некоторое детство грамматики, — которую Варрон называет грамотностью, а как это называется по–гречески, я не припомню.
Продолжая идти вперед, разум заметил, что из тех же самых звуков, которыми мы говорим и которые он уже обозначил письменами, одни образуются в различным образом раскрываемой гортани ровными и чистыми, без всяких столкновений, другие от различного сжатия уст удерживают лишь некоторый звук, третьи же, наконец, не могут явственно выходить из уст, не присоединив к себе первые или вторые. Поэтому он назвал буквы в том порядке, в каком изложены: гласными, полугласными и немыми. Потом он отметил слоги; далее слова были разделены на восемь родов, искусным и тонким образом были отмечены их изменения, правильность, сочетания. Затем уже, не теряя из виду чисел и измерения, он обратил внимание на самое, различным образом замедляемое, произношение слов и слогов и открыл долготу удвоенную и простую, с которой произносились слоги долгие и короткие. И это он отметил, подвел под точные правила.
Грамматика могла бы быть уже законченной; но так как самим своим названием она провозглашает, что обещает письменные рассказы, почему по–латыни и называется литературой, то все, что передавалось письменно, как достойное памяти, стали по необходимости относить к ней. итак, к этой науке присоединилась история, хотя и под одним именем, но предмет беспредельный, многосложный, доставляющий более хлопот, чем приятности или истины, и задающий не столько труда самим историкам, сколько грамматикам. ибо кто скажет, что видел такого невежественного человека, который не слышал бы, что Дедал летал? Но показался ли бы выдумавший это лжецом, поверивший этому — дураком, а спрашивающий об этом — наглецом? или, если бы наши друзья (в подобных случаях я обыкновенно сердечно сожалею о них) не ответили, как называлась мать Евриала, разве не были бы обвинены в невежестве; хотя бы они и имели право самих спрашивающих назвать скорее пустыми и нелепыми, нежели любознательными?
13
Итак, оный разум, закончив и расположив грамматику, пришел к мысли отыскать и исследовать ту самую силу, которая родила искусство. Ибо определением, разделением и приведением ее к сознанию он не только ее упорядочивал и давал известную стройность, но и защищал от всякой примеси и лжи. Да и как он приступил бы к созданию другого, если бы прежде не различил, не обозначил и не привел в порядок эти свои орудия и инструменты и не произвел бы ту самую науку наук, которую называют диалектикой? она учит учить, но она же и учит учиться; в ней обнаруживает себя разум и показывает, что он такое, чего хочет, что может. Она знает знать; она одна не только хочет, но и может делать знающими. Но так как есть очень много глупых людей, которые, будучи убеждаемы к чему–нибудь лишь при условии очевидной им пользы и выгоды, следуют не истине в ее чистом виде, которую понимает редкий ум, а своим собственным чувствам и привычкам, то таких нужно было не только и не столько учить (насколько их вообще можно было чему–нибудь научить), но часто и сильно возбуждать. Ту свою часть, которая делала бы это, наполнив свое лоно забавами для разбрасывания их народу, — часть, содержание которой было более вынуждено обстоятельствами, чем чистое, — она назвала риторикой. Настолько продвинулась в свободных занятиях и науках та сторона разума, которая называется объективно–разумной.
14
После этого разум пожелал устремиться к блаженнейшему созерцанию самих божественных вещей. Но чтобы не упасть с высоты, он позаботился найти опору и проложить себе путь через свои же владения и в определенной последовательности. Он искал красоту, которую мог бы созерцать один и сам по себе, но ему мешали чувства. итак, он вступил в борьбу отчасти с самими чувствами, которые, провозглашая, что в них истина, своей докучливой трескотней отвлекли его, торопившегося идти к иному. Он начал, во–первых, со слуха, который объявлял своей собственностью те самые слова, из которых разум составил уже и грамматику, и диалектику, и риторику. Весьма могущественный в различении, он тотчас усмотрел, какое различие между звуком и тем, знаком чего он служит. он понял, что суждению слуха не подлежит ничего, кроме звука, а этот звук бывает трех родов: один он нашел в голосе существ одушевленных, другой производится посредством дуновений в специальные инструменты, третий же образуется от удара. К первому принадлежат трагедии, комедии, всякого рода хоры и вообще все, что поется и произносится собственным голосом. для второго рода предназначены флейты и подобные им инструменты. Третьему даны цитры, лиры, цимбалы и все, что издает гармонический звук от ударения.
Но он нашел подобный материал самым презренным, если звуки образовывались без точного размера времени и без определенного разнообразия остроты и густоты. В этом он узнал те самые элементы, которые в грамматике, когда занимался внимательно слогами, назвал стопами и ударениями. и так как было легко заметить, что краткость и долгота слогов в словах рассыпана по речи в почти равном количестве, он попробовал означенные стопы располагать и соединять в известные ряды и, следуя прежде всего самому смыслу, выделил небольшие части, которые назвал цезами и членами. А чтобы ряды стоп не удлинялись до такой степени, что могли бы утомлять его внимание, он поставил им предел, от которого они бы возвращались, и от этого самого назвал их стихами. А чему не было установлено определяющего конца, но что выражалось, однако же, разумной последовательностью стоп, то он обозначил именем ритма, которое на латинский язык может быть переведено словом numerus (число). Таким образом он произвел поэтов. Когда же увидел великую важность их произведений не только со стороны звуков, но и со стороны языка и содержания, усвоил им великий почет и предоставил им власть над всякими, какие они пожелают, разумными вымыслами. Но судьями над ними дозволил быть грамматикам, так как происхождение свое они вели от той же науки.
Итак, сделав этот четвертый шаг, он заметил, что и здесь, как в ритмах, так и в самой мерности речи, царствуют и все делают числа. Всмотрелся самым внимательным образом, какого рода они, и нашел их божественными и вечными, особенно потому, что при их помощи он вырабатывал все наиболее возвышенное. И ему становилось уже больно терпеть, что их блеск и ясность затемнились телесной материей звуков. А поскольку то, что созерцается умом, всегда бывает настоящим и признается бессмертным, а таковыми и являются числа, звук же переходит во время прошедшее и запечатлевается в памяти, то разумным поэтическим вымыслом было придумано, что музы — дочери Юпитера и Мемории (Памяти). А посему эта наука, берущая часть свою от чувства, часть — от ума, получила название музыки.
15
Отсюда разум перешел в область зрения и, осматривая землю и небо, почувствовал, что ему нравится не что иное, как красота, а в красоте — образы, в образах — измерения в измерениях — числа. и задал он самому себе вопросы: такова ли там линия, такова ли округлость, таковы ли все другие формы и образы, какие существуют в его понятии. он нашел их гораздо худшими, — нашел, что все, что видят глаза, ни в каком отношении не может быть сравнимо с тем, что усматривает ум. Различив все и упорядочив, он возвел и это в науку и назвал геометрией. Сильное впечатление произвело на него движение неба, заставив тем самым присмотреться к нему повнимательней и исследовать. и там, в постоянном чередовании времен, в точных и определенных течениях звезд, в известных пространствах и расстояниях, он увидел господство того же самого измерения и тех же самых чисел. Сводя подобным же образом, через определение и различение, к порядку и это, он произвел астрологию — предмет крайне важный для суеверных и пытку для любопытных.
Итак, во всех этих науках он встречал все подчиненным числам, но так, однако же, что числа эти яснее выступали в тех измерениях, которые он, размышляя и взвешивая сам про себя, усматривал истеннейшими, а эти, которые подлежат чувствам, скорее напоминали ему лишь тени и следы тех. Это придало ему бодрость и великую решимость: он осмелился доказывать бессмертие души. Исследовал он все внимательно; понял вполне, что он очень многое может сделать, и что может — может посредством чисел. Его пробудило некое чудо и он начал подозревать, что может быть и сам он есть число, то самое число, которым все исчисляется, а если он не был числом, то в числе есть Тот, Которого он стремился достигнуть. Он схватился всеми своими силами за Него, который, — будущий указатель всеобщей истины, тот самый, о котором упомянул Алипий, когда мы рассуждали об академиках, — был уже в руках, как Протей. Ибо ложные образы тех вещей, которые мы исчисляем, отступающие от того таинственнейшего, при помощи чего мы исчисляем, отвлекают на себя мысль и часто дают ускользать ему, уже пойманному.
16
Если же кто не поддается им и все, что пространно и подробно излагается в стольких науках, может привести к некоторому простому единству, истинному и точному, тот, наиболее достойный имени человека ученого, ненапрасно ищет божественное не только для веры, но и для созерцания, для уразумения и для познания. А тот, кто еще раб похотей и страстно ищет вещей гибнущих или, хотя и убегает их и живет чисто, однако не знает, что такое ничто, что такое бесформенная материя, что такое образование бездушное, что — тело, что — пространство, что — время; что существует в пространстве, что — во времени; что такое движение в пространстве, что — движение не в пространстве, что — движение непрерывное, что такое вечность; что значит не быть в пространстве и нигде, а что значит — вне времени и всегда; и что — нигде не быть и нигде не быть, и никогда не быть, и никогда не быть, — итак, кто, не зная всего этого, вздумал бы задаваться вопросами и рассуждать, не говорю о Высочайшем Боге, который лучше познается неведением, а о самой своей душе, он погрешит так много, как только может погрешить; но гораздо легче познает это тот, кто уразумел числа простые и умом постигаемые. Не говорю уже, что самые числа постигает тот, кто достаточно изучает упомянутый ряд наук, располагая для этого известными умственными дарованиями, пользуясь досугом в силу своего возраста или каких–либо счастливых обстоятельств и имея особо горячую ревность к занятиям. Ибо, хотя все эти свободные искусства изучаются частью для житейского употребления, частью для познания и созерцания вещей, приобрести в них опытность весьма трудно, за исключением того, кто, будучи одарен отличными способностями, посвятит себя непрерывным и постоянным занятиям ими с самого детства.
17
А что из этих наук нужно для нашего вопроса, то пусть не пугает тебя, мать, что это некий неизмеримый лес предметов. Ибо из всего будут выбраны весьма немногие, но веские, и хотя для понимания многих трудные, но для тебя, мать (ибо твой ум открывается мне ежедневно все с новых и новых сторон, да и твоя душа в силу ли возраста, или удивительного воздержания чуждая всяких мелочей, глубоко сосредоточена сама в себе), тем более легкие, чем труднее они для малоспособных и проводящих жалкую жизнь. Конечно, я бы грубо солгал, если бы сказал, что ты легко усвоишь речь, чуждую погрешностей в выговоре и языке. Ибо и меня самого, которому было весьма необходимо изучать это, италийцы еще упрекают за произношение многих слов: хотя, в свою очередь, укоряются и мною в том, что касается самого произношения. Ибо одно дело знать язык путем изучения, другое — знать, так сказать, по наследству. Что же касается так называемых солецизмов, то весьма возможно, что какой–нибудь ученый при внимательном наблюдении откроет их в моей речи; был человек, который с большим знанием доказал мне, что и сам Цицерон допускал некоторые погрешности такого рода. Варваризмы же до такой степени распространены в наше время, что варварской кажется даже та речь, которая сохранилась в Риме. Но ты, пренебрегая этими вещами, как ребяческими и тебя не касающимися, так изучила почти божественную силу и природу грамматики, что кажется, будто душу ее удержала у себя, а тело оставила другим.
О прочих этого рода науках я скажу следующее. Если ты в глубине своей души их презираешь, то насколько, как сын, смею и насколько ты позволишь, прошу тебя, сохрани твердо и бережно ту свою веру, которую получила от досточтимых таинств, а затем оставайся твердой и бдительной в этой жизни и нравственности. Но при этом суди осторожно о предметах темных, и в то же время божественных, например: каким образом Бог и ничего злого не творит, и притом всемогущ; откуда столько зла; во имя какого блага Бог сотворил мир, нужды в котором он не имел; всегда ли существовало зло или началось во времени, и если существовало всегда, то существовало ли по установлению Божию, а если существовало оно, то существовал ли всегда этот мир, в котором это зло по божественному порядку господствует; если же мир с некоего времени начал свое существование, то каким образом, прежде чем он стал быть, Божия власть управляла злом; и какая нужда была творить мир, чтобы заключить в него, в наказание душам, зло, которое уже сдерживала власть Божия; а если было время, когда зла под властью Божией не было, то почему вдруг случилось то, чего не случалось в предшествующие вечные времена. Ибо утверждать, что у Бога явилось новое решение, не скажу нечестиво, но — в высшей степени нелепо. Если же мы скажем, что зло было для Бога неудобно и как бы страшно, как думают некоторые, то никакой ученый не удержится от смеха, а всякий неученый рассердится. Ибо какой вред могла причинить Богу эта невесть какая природа зла? Если скажут, что она причинить его не могла, не будет причины для творения мира, а если скажут, что могла, будет непростительным преступлением полагать, что Бог может подвергаться растлению так, по крайней мере, чтобы не предохранил своею силой от повреждения своего собственного существа. Ведь признают же они, что душа при подобных условиях подвергается наказаниям, и в то же время между существом ее и существом Божиим не хотят видеть совершенно никакого различия. Итак, обо всех этих и других такого же рода предметах или должно производить исследование в вышеизложенном порядке научных занятий, или не производить никаких вовсе.
18
А чтобы кто–нибудь не подумал, что требования наши слишком строги, я скажу яснее и короче следующее: никто не должен домогаться познания означенных предметов без оного, как бы двойного знания: умения правильно рассуждать и знания силы чисел. Если же кто считает и это слишком многим, пусть получше изучит одни числа или одну диалектику. А если и это представляется ему безмерным, пусть знает только в совершенстве, что такое единица в числах и какое она имеет значение, не в отношении к высшему закону и высшему порядку всех вещей, но в отношении к нашим обыденным мыслям и действиям. Ибо этот род знания составляет уже предмет самой философии; и философия ищет в нем также единства, но более возвышенного и более божественного. Два вопроса составляют предмет ее исследования: один о душе, другой о Боге. Первый приводит нас к познанию самих себя, другой — к познанию нашего происхождения. Тот приятнее нам, этот дороже, тот делает нас достойными блаженной жизни, а этот — блаженными. Первый — предмет исследования для учащихся, последний — для уже ученых. Таков тот порядок упражнений в мудрости, посредством которого каждый делается способным к пониманию порядка вещей, т. е. к познанию двух миров и самого отца вселенной, о Котором в душе нет другого познания, кроме знания, каким образом она не знает его.
Итак, держась порядка, преданная уже философии душа прежде всего изучает саму себя; и когда это изучение убедит ее, что разум — ее принадлежность, или что она сама есть разум, а в разуме нет ничего лучше и могущественнее чисел, или сам разум есть ничто иное, как число, она скажет тогда сама себе следующее: «По некоторому моему внутреннему и тайному движению я могу то, что подлежит изучению, различать и объединять, и эта моя сила называется разумом. Но что иное может подлежать различению, как не то, что считается одним, но не есть одно, или в действительности не так единично, как считается? с другой стороны, для чего и объединять что–нибудь, если не для того, чтобы оно было по возможности одним? итак, и в различении, и в объединении я желаю единства и люблю единство. Но когда различаю, имею целью очистить, когда объединяю — возвратить к первоначальному виду. В первом случае устраняется чуждое, в последнем — соединяется свое. Чтобы камень был камнем, все части его и вся его природа сплочены в одно. А дерево разве не перестанет быть деревом, если не будет одним? а члены и внутренности какого–либо животного и все, из чего они состоят? — ведь если единство их подвергнется разделению, животное перестанет быть животным. и что такое друзья, как не люди, стремящиеся быть одним? — и чем более они одно, тем более они друзья. Народ составляет одно государство, для которого разномыслие в высшей степени опасно. а что такое разномыслие, как не отсутствие единомыслия? из многих воинов составляется войско, и не всякая ли армия тем грозней, чем более сплачивается в одно? отсюда и самое сплочение в одно названо cuneus, как бы — couneus (соединение). Что такое любовь, как не желание быть единым с тем, кого любишь? и самая страсть тем и доставляет наслаждение, что любящие друг друга тела соединяются в одно. из чего возникает скорбь? из того, что бывшее одним расторгается. Поэтому–то вредно и опасно быть соединенным с тем, что может отделиться.
19
Из множества предметов, прежде хаотично разбросанных, но потом собранных вместе по одному чертежу, я строю дом. Сама я лучше его, поскольку я делаю так, что он получает бытие; я лучше постольку, поскольку я делаю; несомненно поэтому, что я лучше дома. Но поэтому я еще не лучше ласточки или пчелы; ибо и первая мастерски строит гнезда, а последняя — соты; но я потому лучше их, что я животное, одаренное разумом. Но если в правильно проведенных измерениях проявляется разум, то разве то, что птицы строят, соразмерно менее искусно и менее точно?
Расчетов там, пожалуй, даже больше. Итак, я не тем лучше, что делаю такое, что требует расчетов, а тем, что знаю числа. следовательно те, и не зная чисел, могут делать такое, что требует расчетов? Могут вполне. Откуда они этому учатся? а оттуда же, откуда и мы с известной соразмерностью прикладываем язык к зубам и небу, чтобы из наших уст вылетали буквы и слова, и когда говорим, не думаем о том, посредством какого движения рта мы должны это делать. Затем, какой хороший певец, если бы он даже был в музыке несведущ, не соблюдает в пении по памяти ритм и принятую мелодию, руководствуясь при этом естественным чувством? Что может требовать больших расчетов? Неученый не знает этого, и однако же делает, потому что так делает за него природа. Когда же он становится лучшим, когда становится выше скотов? Когда знает, что он делает. Меня возвышает над скотом то, что я животное разумное.
Но почему разум бессмертен, а себя я определяю как нечто в одно и то же время и разумное, и смертное? или и разум не бессмертен? Но отношение одного к двум или двух к четырем есть отношение в высшей степени истинное. И не более оно было истинно вчера, чем сегодня, и не более будет истинно завтра или через год; да если бы погиб и весь этот мир, отношение это не перестанет существовать. Ибо оно таково же всегда; а этот мир ни вчера не имел, ни завтра не будет иметь того, что имеет сегодня; да и в самый сегодняшний день, в промежуток даже одного часа не имеет солнца в одном и том же месте, так что в нем нет ничего пребывающего неизменно, не имеет он ничего в одном и том же виде даже в продолжение незначительного времени. Итак, если разум бессмертен, а я, которая все это различает и объединяет, есмь разум, то не мое то, из–за чего я Называюсь смертной. Или, если душа не есть то же, что и разум, но разумом я, однако же, пользуюсь и благодаря ему возвышаюсь над всем смертным, то следует от худшего стремиться к лучшему, от смертного к бессмертному».
Об этом и о многом другом (чего я перечислять не Хочу, чтобы, желая научить вас порядку, не переступить меры, которая есть мать порядка) говорит сама с собою и размышляет хорошо образованная душа. Так как она тщательно наблюдает силу и могущество чисел, то ей будет казаться крайне недостойным и крайне печальным, если ее знание будет стройно, как прекрасный стих, и благозвучно, как цитра, а ее жизнь и сама она, душа, будет идти путем ложным, и, отдавшись во власть похоти, разделять себя с собою гнусным скрипом пороков.
Когда же она приведет себя в надлежащий вид и порядок и сделается стройной и прекрасной, тогда получит дерзновение видеть Бога, видеть самый источник, из которого истекает всякая истина, видеть самого отца истины. Боже великий, что это будут за глаза, как они будут здоровы, как прекрасны, как зорки, как тверды, как светлы, как блаженны! а что увидят они? Что, спрашиваю? Как представим мы это себе, как оценим, как выразим? Вертятся на языке слова обыденные, и все они загрязнены ничтожнейшими предметами. Скажу одно: они обещают нам такое зрелище красоты, по подражанию которой все остальное — прекрасно, но по сравнению с которою — безобразно. Кто увидит эту красоту (а увидит тот, кто хорошо живет, хорошо молится, хорошо занимается наукой), такого разве поколеблет когда–нибудь то обстоятельство, что один, желая иметь детей, не имеет их, а другой выбрасывает их, потому что имеет слишком много; иной ненавидит и тех, которые только должны родиться, а иной любит родившихся? Не отвергнет ли он всячески мысль, что может что–либо быть такое, что не совершилось бы пред лицом Бога в установленном им для всего необходимом порядке, не исключающем, однако же, действительности молитв к Богу? Да и когда вообще заставят поколебаться мужа праведного какие–либо тяготы, какие–либо дары и подношения фортуны? Ибо в этом чувственном мире необходимо принимать в постоянное соображение время и место: когда что–либо доставляет удовольствие в части места ли, времени ли, то целое, частью которого оно является, должно быть представлено гораздо лучшим; и опять–таки, если что кажется несообразным в части, человеку ученому будет ясно, что оно кажется таковым потому, что не видно целого, с которым эта часть согласуется удивительным образом. В том же умопостигаемом мире всякая часть, как и целое, прекрасна и совершенна. Обо всем этом будет сказано пространнее, если ваши ученые занятия, как я советую и надеюсь, будут идти в упомянутом мною выше или, пожалуй, в другом, более кратком и удобном, но во всяком случае правильном порядке, и будут идти строго и постоянно.
20
Чтобы это было возможно для нас, мы должны особенно позаботиться о доброй нравственности. Ибо иначе Бог наш не может нас услышать. Живущих же хорошо он выслушивает весьма легко. Итак, не будем молиться ни о богатстве, ни о почестях, ни о других того же рода текучих вещах, при всяком с чьей–либо стороны сопротивлении проходящих мимо нас, но будем молиться о том, что сделает нас добрыми и блаженными. а чтобы обеты эти были выполнены самым святым образом, мы привлекаем к этому делу особенно тебя, мать, по молитвам которой, как я несомненно верю и утверждаю, Бог дал мне такое душевное расположение, что я не предпочитаю решительно ничего исследованию истины, ничего другого не желаю, ни о чем не думаю, ничего не люблю. И я не перестану верить, что и это великое благо, которого мы по твоим заслугам пожелали, по твоим о нем же Молитвам и получим. Тебя же, Алипий, зачем бы я стал ободрять или увещевать? если ты не предан делу чрезмерно, то разве что потому, что какая угодно любовь к подобным предметам может, пожалуй, быть названа малой, но чрезмерной по справедливости не может быть названа никогда. На это он сказал:
— Своими ежедневными рассуждениями и тем удивлением, которое ты возбудил в нас к тебе в настоящее время, ты поистине сделал то, что предания об ученейших и великих мужах, казавшиеся некогда невероятными, судя по огромному количеству приписываемых им открытий в области знаний, представляются нам теперь не только не подлежащими сомнению, но и такими, достоверность которых в случае нужды мы могли бы подтвердить клятвой. Ибо что другое раскрыл ты теперь перед нашими глазами, как не досточтимое и почти божественное, каким по праву оно считалось и оказалось на деле, учение Пифагора? и правила жизни, и не столько пути, сколько самые поля и открытые равнины знания, и что особенно высоко чтил этот муж, — самое святилище истины, — где оно находилось, какое оно было, каких поклонников требовало, — все это ты объяснил кратко и так полно, что хотя мы догадываемся и думаем, что тебе известно еще нечто более тайное, однако сочли бы со своей стороны бесстыдством, если бы вздумали выпытывать у тебя что–либо большее. — Приятно слышать это, — отвечал я. — Утешают и поощряют меня, однако, не столько твои слова, ибо они неверны, сколько искреннее чувство. Кстати, это сочинение мы предположили послать тому, кто имеет обыкновение думать о нас лучше, чем мы есть в действительности. Впрочем, если бы прочитали его и другие, я не думаю, чтобы они рассердились на тебя. Ибо кто не извинит с полной благосклонностью ошибки в суждении со стороны человека любящего? Что же касается твоего упоминания о Пифагоре, то, думаю, что оно пришло тебе на ум в силу того же неведомого божественного порядка. Ибо я решительно упустил из виду вещь самую необходимую, которая меня в этом муже (если верить написанному; хотя кто не поверит Варрону) удивляет и которую, как тебе известно, я ежедневно превозношу, а именно: что учение об управлении республикой он преподавал своим слушателям в самую последнюю очередь, когда они были уже учеными, уже совершенными, уже мудрыми, уже блаженными. В этом управлении он видел столько волн, что ввергать в эти волны не хотел никого, кроме мужа, который бы, управляя почти божественным образом, мог бы избежать скал, и если бы изменило ему все, сохранился бы сам в тех волнах, как скала. Ибо о мудром можно с полным основанием сказать словами Вергилия: «Стоит он, как в море скала неподвижная», равно как и прочее, что говорится на ту же тему в прекрасных стихах. На этом состязание завершилось, и мы, радостные и возбужденные, оставили место нашего собрания уже при свете ночной лампы.
О предопределении святых
Первая книга к Просперу и Иларию
Глава 1. Согласие Августина вновь обратится к вопросам, уже достаточно полно рассмотренных им прежде
1. Мы знаем, что апостол сказал в Послании к Филиппийцам: «Писать вам о том же для меня не в тягость, а для вас назидательно» (Фил. 3, 1). Однако он же говорил, когда писал Галатам: «В остальном никто не утруждай меня», — или, как читается во многих кодексах: «Никто не отягощай меня» (Гал.6, 17). Ибо он видел, что достаточно потрудился у них служением своего слова, насколько считал это для них необходимым. Со своей стороны, признаюсь: мне тягостно, что некоторые не покоряются столь многим и очевидным божественным речениям, коими провозглашается благодать Божия (которая совершенно не является таковой, если дается в соответствии с заслугами). Но вы, дражайшие сыны Проспер и Иларий, по своему усердию и братской любви не хотите, чтобы непокоряющиеся продолжали заблуждаться, и потому даже после стольких моих книг и писем на эту тему желаете, чтобы я еще написал вам отсюда. Это ваше усердие я так люблю, что не могу выразить словами; и, однако, не смею сказать, что люблю так, как должен. Посему, вот, пишу вам снова, и хотя я уже не с вами, но через вас продолжаю делать то, что, как думал, уже сделал достаточно.
Смущение у несведущих братий возникает в вопросе о предопределении святых
2. Вы благочестиво заботитесь о братьях, чтобы они не придерживались мнения поэтов, которое гласит: «Каждый — надежда для себя самого» (Вергилий. Энеида, кн. 11, ст. 309), — а прибегли бы к тому, что сказали не поэты, а пророки: «Проклят всякий, надеющийся на человека» (Иерем.17, 5). Так вот, по рассмотрении ваших писем, мне кажется, я знаю, что с этими братьями следует обходиться согласно рассуждению апостола. Ибо он говорит им: «И если что иначе мыслите, это также Бог вам откроет». Пусть вопрос о предопределении святых до сих пор еще для них туманен; но если они мыслят о нем что–либо иное, то все же у них есть нечто, откуда Бог открыл бы им и это, если они будут держаться достигнутого. Поэтому апостол хотя и говорит: «Если что иначе мыслите, это также Бог вам откроет», — тем не менее добавляет: «Впрочем, до чего мы достигли, по тому правилу и должны жить» (Фил. 3, 15, 16). Достигли же эти наши братья, о которых печется ваша благочестивая любовь, того, что веруют вместе с Церковью Христовой: из–за греха первого человека род человеческий рождается виновным, и от этого зла никто не освобождается, кроме как праведностью второго человека. Также достигли того, что соглашаются: человеческая воля предваряется благодатью Божией, и как для начала, так и для свершения любого благого дела никто не может быть самому себе достаточен. Итак, удерживая то, чего достигли, они во многом уводят себя от заблуждения пелагиан. Посему если они в этом будут жить и молиться Тому, Кто дает разум, то пусть даже иначе что–либо мыслят о предопределении, Он Сам им также и это откроет. Но и мы тоже уделим им любовь и словесное служение, по дару Того, Кого упрашиваем, чтобы сказать в этом письме нечто для них подходящее и полезное. Ведь откуда нам знать: не захочет ли Бог наш сотворить это через наше служение, которым служим им свободно в любви Христовой?
Глава 2. Мы должны показать, что вера, делающая нас христианами, — Божий дар
3. Итак, мы должны показать, что вера, из–за которой мы являемся христианами, есть дар Божий, — если только можем сделать это прилежнее, чем показали в стольких томах. Но прежде, думаю, следует ответить тем, кто говорит, будто приведенные нами божественные свидетельства имеют следующий смысл: дескать, саму веру мы имеем от самих себя, а возрастание ее — от Бога. Словно вера нам не даруется от Него, а только возрастает в нас от Него, в соответствии с той заслугой, что началась она от нас самих! Итак, они продолжают держаться того мнения, которое сам Пелагий на епископальном суде в Палестине, как свидетельствует протокол того заседания, был вынужден осудить: «Благодать Божия даруется по нашим заслугам». Ведь, по их мнению, не в том обнаруживается действие Божией благодати, что мы начинаем верить, но скорее в том, что из–за этого нам даруется способность верить полнее и совершеннее. И потому сперва мы отдаем Богу начало нашей веры, чтобы воздалось нам ее прибавление; и так же бывает, если что иное с верностью просим.
Свидетельства Писания о вере
4. Но против сего почему нам скорее не услышать: «Кто прежде дал Ему, и тому воздастся? Ибо все от Него, и Им, и в Нем» (Рим. 11, 35, 36)? И само начало нашей веры от кого существует, как не от Него? Ибо от Него все остальное, не исключая и этого: «Все от Него, и Им, и в Нем». Кто же скажет, что уже начавший верить не заслуживает ничего от Того, в Кого уверовал? Откуда происходит, что уже заслужившему, говорят, остальное прибавляется по божественному воздаянию; и поэтому благодать Божия дается по нашим заслугам? Сам Пелагий, когда ему возразили, осудил это мнение, дабы не быть осужденным. Итак, всякий, кто хочет во всех отношениях избежать этого осуждаемого мнения, воистину да постигнет сказанное апостолом: «Вам даровано ради Христа, не только, чтобы веровать в Него, но также и чтобы страдать за Него» (Фил. 1, 29). Апостол показывает, что и то, и другое суть дар Божий, поскольку и то, и другое даровано. И не говорит: «Чтобы полнее и совершеннее веровать в Него», — но: «Чтобы веровать в Него». И не сказал, что сам он получил милость, чтобы быть более верным, но чтобы быть верным (1 Кор. 7, 25). Ибо он знал, что не прежде дал начало своей веры Богу, а после ему было воздано от Него ее возрастание; но что сам он от Того был соделан верным, от Кого и был соделан апостолом. Ибо написано и о начале его веры (Деян.9), и место это является известнейшим из праздничного церковного чтения. А именно, он, пылая враждой к гонимой им вере и яростно ей противясь, неожиданно был обращен к ней более могучей благодатью. Обращен Тем, Кому предстояло это сделать, по слову пророка: «Ты, обратив, оживишь нас» (Пс.84, 7), — чтобы не только из не хотящего стал желающим веровать, но и чтобы от преследователя претерпеть гонения, защищая ту веру, которую ранее преследовал. Так ему было даровано не только веровать в Него, но и страдать за Него.
Наша способность к началу или совершенству веры — от Бога
5. И потому, повествуя о той благодати, которая не дается по каким–либо заслугам, но производит все заслуги, апостол говорит: «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить что от себя, но способность наша от Бога» (2 Кор. 3, 5). Здесь пусть внемлют и взвесят эти слова те, кто думает, будто от нас происходит начало веры, а от Бога — ее возрастание. Ибо кто не увидит, что прежде, нежели уверовать, надо помыслить? Никто не уверует во что–либо, если прежде не помыслит о том, что в это следует верить. Правда, некоторые помышления пролетают в голове стремительно и мгновенно, а следующее за ними желание поверить возникает настолько быстро, что как бы одновременно сопровождает помышления. И все же необходимо, чтобы все, во что верят, предварялось размышлением для того, чтобы в него верили. Хотя и верить есть не что иное, как мыслить о чем–то с согласием. Ведь не всякий, кто мыслит, верует: многие размышляют для того, чтобы не верить. Но всякий верующий мыслит, причем мыслит, веруя, и верует, размышляя. Следовательно, то же самое относится к религии и благочестию (о чем говорил апостол). Ведь если мы не способны что–либо мыслить как бы от самих себя, но способность наша от Бога, то, очевидно, не способны и верить во что–либо от самих себя (что невозможно без размышления), но способность начать верить происходит от Бога. Итак, если никто не достаточен самому себе для начала и совершения какого–либо благого дела (с каковой истиной эти братья, судя по вашему посланию, уже согласны), если во всяком благом деле, как начатом, так и совершенном, наша способность происходит от Бога, то и для начала веры, и для совершения ее тоже никто не достаточен самому себе, но способность наша от Бога. Ибо веры нет без размышления, а мы не способны мыслить что–либо от самих себя, но способность наша происходит от Бога.
Бог, Который силен исполнить обещанное, производит веру у язычников
6. Следует опасаться, возлюбленные Богом братья, чтобы человек не превозносился перед Богом, говоря, что он сам сделал обещанное Богом. Разве вера язычников не была обещана Аврааму, и тот, воздав славу Богу, не уверовал в это совершенно — «ибо, что обещал, силен и исполнить» (Рим. 4, 20, 21)? Итак, Он Сам творит веру в язычниках — Тот, Кто силен исполнить обещанное. Далее, если Бог производит нашу веру, удивительным образом действуя в сердцах наших, чтобы мы уверовали, то неужели следует опасаться, будто Он не сумеет сотворить все полностью? Неужели человек поэтому должен присваивать себе начатки, дабы заслужить от Него последующее? Смотрите, что получается из этого: не то ли, что благодать некоторым образом дается по нашим заслугам и, значит, не является уже благодатью? Ибо в этом случае воздается должное, а не дается даром: верующему полагается, чтобы Господь увеличил его веру, и возросшая вера является наградой веры начатой. И не обращают внимания, говоря это, что не по благодати, а по долгу данная награда вменяется верующим. Не понимаю: почему бы тогда не приписать человеку все — чтобы сумевший приобрести то, чего не имел, сам же и увеличивал бы приобретенное? Разве что потому, что невозможно противиться божественным речениям, где и сама вера, от которой берется начало благочестия, предстает как дар Божий. К сему относится и то, что «каждому Бог уделил меру веры» (Рим. 12, 3); и то, что «мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа» (Еф.6, 23), и другое подобное. Итак, не имея охоты противиться этим столь ясным свидетельствам, но в то же время желая приписать обретение веры самому себе, человек выставляет себя соработником Бога: и себе часть веры присваивает, и Богу часть оставляет — более того, первую часть берет сам, а последующую дает Ему. И в том, что, по его словам, происходит от обоих, упреждающим делает себя, а последующим Бога.
Глава 3. Августин и сам прежде полагал, что начало веры происходит от самого человека. Фрагменты из Пересмотров
7. Не так мудрствовал тот благочестивый и смиренный учитель, — я говорю о блаженнейшем Киприане, — который сказал: «Ни в чем не следует хвалиться, поскольку ничто не является нашим» (К Квирину, кн. 3, гл. 4). Чтобы доказать это, он представил в свидетельство слова апостола: «Что имеешь, чего бы не получил? Если же получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4, 7). Это свидетельство в особенности обличает мое заблуждение, когда я считал, что вера, которой мы веруем в Бога, не является даром Божиим, но существует в нас от нас самих, и через нее нам даруются от Бога дары, с помощью которых мы жили бы умеренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Я и не думал, что вера предваряется Божией благодатью, дабы через нее нам было дано все, что мы просили бы на пользу, — кроме как в том смысле, что мы не могли бы верить, если бы прежде не была провозглашена истина. Но то, что после проповеди Евангелия мы соглашаемся с ней, — это, я считал, принадлежит нам самим и происходит от нас. Некоторые из моих собственных сочинений, написанных до епископата, достаточно ясно показывают это заблуждение. К этим сочинениям принадлежит и то упомянутое в вашем письме (В послании Илария, н. 3, вверху, кол. 955–956), где излагаются некоторые утверждения из послания к Римлянам. Наконец, когда я пересматривал все мои сочинения, внося в них поправки, — и уже завершил две книги из этого труда, прежде чем получил более обширное ваше послание, — то, перейдя к пересмотру данной книги в первом томе, я сказал себе: «Рассуждая таким образом, чту избрал Бог в еще не родившемся, которому, как он сказал, будет служить старший? И чту в том же старшем, тоже еще не рожденном, отверг?» О них по этой причине приводится пророческое свидетельство, хотя и высказанное много позже: «Иакова Я возлюбил, Исава же возненавидел» (Рим. 9, 13; Малах. 1, 3). Далее я стал рассуждать следующим образом: итак, Бог избрал не дела каждого в предузнании того, какие Он Сам даст совершить; но избрал веру в предузнании, что того, кому предстоит уверовать в Него, выбрал Он Сам. Ему и дал Он Святого Духа, чтобы, делая добро, он получил также жизнь вечную. Тогда я еще не исследовал более внимательно вопрос о том, каковым является избрание благодати. О нем тот же апостол говорит: «Остаток сохранился по избранию благодати» (Рим. 11, 5). А благодать, безусловно, не является благодатью, если ей предшествуют какие–либо заслуги: ведь данное скорее по заслугам, нежели дарованное, воздавалось бы не по благодати, а по долгу. Апостол говорит: «Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12, 6). Но нигде не говорится, что Бог вверяет все во всех. Поэтому я, следуя слову апостола, добавил: итак, то, что веруем, принадлежит нам; то же, что делаем добро, принадлежит Тому, Кто верующим дает Святого Духа. Очевидно, я бы этого не сказал, если бы уже знал, что сама вера также находится среди даров Божиих, ниспосылаемых тем же Духом. Итак, и то и другое является нашим из–за суждения воли — и, однако, и то и другое дано Духом веры и любви. Ибо не одна только любовь дана, но, как написано, «Любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа» (Еф.6, 23). И сказанное мною немного после: «Ибо нам принадлежит верить и желать; Ему же давать верующим и желающим возможность делать добро через Святого Духа, Коим любовь изливается в сердца наши», — является истинным, но разуметься должно по тому же правилу: и то и другое принадлежит Ему, поскольку Он приготовляет волю; и одновременно принадлежит нам, поскольку совершается только по нашей воле. И поэтому сказанное мною также после: «Поскольку мы не можем хотеть, если не будем призваны; и когда после призвания восхотим, не достаточна наша воля и наше стремление, кроме как если Бог и силы даст стремящимся, и приведет туда, куда призывает», — и затем добавленное: «Итак, ясно, что не от желающего, не от подвизающегося, но от милующего Бога (Рим. 9, 16) происходит то, что мы делаем добро», — все это сказано совершенно верно. Однако мало я тогда рассматривал само призвание — то, которое происходит согласно намерению Божию: ибо оно, это призвание, является таковым не для всех званых, а только для избранных. Также сказанное немного после: «Ибо как в тех, кого Бог избрал, не дела, но вера служит началом той заслуги, чтобы по дару Божию они затем творили добро, так и в тех, кого Он осуждает, неверность и неблагочестие начинают заслуживать кару, чтобы также из–за этой кары делали зло», — все это сказано наивернейшим образом. Но является ли заслуга веры сама даром Божиим — этого я и не думал исследовать, и не сказал об этом. И в другом месте: «Ибо кого милует, заставляет делать добро; а кого ожесточает (Там же, 18), оставляет на то, чтобы делал зло: но и то милосердие присваивается предыдущей заслуге веры, и это ожесточение предшествующей неправедности», — это, конечно, является истинным. Но еще остается выяснить, приходит ли и заслуга веры от милосердия Божьего, то есть влагается ли это милосердие в человека, потому что он верен, или же для того, чтобы он стал верным. Ибо читаем у апостола: «Милость получил я, чтобы быть мне верным» (1 Кор. 7, 25). Он не говорит: «Поскольку я был верным». Итак, милость дается верному — но дается также для того, чтобы он стал верным. Таким образом, весьма правильно я сказал в другом месте той же книги: «Ибо если не от дел, но по милосердию Божиему и призываемся, чтобы веровать, и, верующим, нам даруется, чтобы мы творили добро, то этому милосердию не должны завидовать язычники». Хотя там я менее старательно рассмотрел вопрос о том призвании, которое совершается по Божиему намерению (Пересм. Кн. 1, гл. 23, н. 3, 4).
Глава 4. Сам Бог открыл Августину решение этого вопроса
8. Итак, вы ясно видите, что я тогда думал о вере и делах, хотя и испытывал трудности, повествуя о благодати. И вижу я, что эти наши братья придерживаются того же мнения, что и я тогда, поскольку не старались ни прочесть мои книги, ни идти в них со мною вперед. Ведь если бы постарались, то нашли бы, что этот вопрос разрешен на основании истины божественных писаний в первой из двух книг, которые я написал в самом начале моего епископата Симплициану, блаженной памяти епископу Медиоланской Церкви, преемнику святого Амвросия. Хотя, может быть, они не знают об этих книгах; если это так, сделайте, чтобы узнали. Об этой первой из двух книг я впервые упомянул во второй книге Пересмотров таким образом: «Из тех книг, которые я написал, будучи епископом, первые две адресованы Симплициану, предстоятелю Медиоланской Церкви, заступившему на место блаженнейшего Амвросия. В них говорится о различных вопросах, из коих два, взятые из послания апостола Павла к Римлянам, я собрал в первой книге. Из этих вопросов первый относится к словам: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак», — вплоть до того места, где апостол говорит: «Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодать Божия через Иисуса Христа Господа нашего» (Рим. 7, 7–25)». В этой книге слова апостола: «Закон духовен, я же плотян» (Там же 14) — и другие, показывающие, что плоть воюет с духом, я изложил таким образом, словно человек, о котором там идет речь, находится еще под законом, а не под благодатью. Только много позже я понял, что слова эти могут принадлежать и духовному человеку (и с большей вероятностью). Дальнейшее исследование в этой книге продолжается с того места, где апостол говорит: «И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время от Исаака», — вплоть до слов: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом, и были бы подобны Гоморре» (Там же, 10–29). В разрешении этого вопроса возникли затруднения, связанные со свободой воли человека. Но победила благодать Божия, и нельзя было не понять прозрачнейшую истину, сказанную апостолом: «Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чего бы не получил? Если же получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4, 7). А мученик Киприан, желая показать это, выразил эту мысль в одном заглавии: «Ни в чем не следует хвалиться, поскольку ничто не является нашим» (К Квирину, кн. 3, гл. 4). Вот почему я ранее сказал, что этим свидетельством апостола также и я был обличен, когда я, как я сказал в письме к епископу Симплициану, мудрствовал об этом деле иначе, нежели открыл мне Бог. Итак, свидетельство апостола, сказавшего для смирения человеческой гордости: «Что имеешь, чего бы не получил?», — не позволяет кому–либо из верных сказать: «Имею веру, которую не получил», — ибо спесивость этого ответа совершенно подавляется апостольскими словами. Но нельзя сказать и так: «Хотя не имею совершенной веры, однако имею ее начало, коим сперва уверовал во Христа». Ибо и на это будет сказано: «Что имеешь, чего бы не получил? Если же получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4, 7).
Глава 5. Намерение апостола в том, чтобы никто не хвалился перед Богом
9. Некоторые думают, что о вере потому нельзя сказать: «Что имеешь, чего бы не получил?», — что она остается способностью той самой природы, которая прежде была дарована здоровой и совершенной, хотя ныне испорчена (В письме Илария, н. 4, вверху, кол. 955–956). Но данное место нельзя понимать в том смысле, в каком они хотят, если мы размыслим о том, почему апостол это сказал. Ибо он стремился, чтобы никто не хвалился человеком. Ведь среди коринфских христиан возникли разногласия, так что один говорил «Я — Павлов; другой же, я — Аполлосов; третий, я — Кифин». И поэтому ему пришлось сказать: «Немудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Здесь апостол достаточно ясно выступает против человеческой гордости, а именно, чтобы никто не хвалился человеком, а тем самым и самим собой. Наконец, он говорит: «Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом», — и дабы показать, чем человек должен хвалиться, тут же добавляет: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением: чтобы, как написано, хвалящийся хвалился Господом» (1 Кор. 1, 12, 27–31). Отсюда он переходит к сказанному далее: «Вы еще плотские. Ибо если между вами споры и раздоры, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли поступаете? Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, но все Бог возращающий». Видите ли вы, что апостол ни о чем другом не заботится, кроме как о том, чтобы человек был уничижен, и один только Бог возвышен? Ведь для насаждаемых и орошаемых даже насаждающий и орошающий, по его словам, не значат ничего, но лишь Бог, Который взращивает. Да и то, что тот насаждал, а этот орошал, он приписывает не им самим, а Богу, говоря: «Насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполлос поливал». Отсюда, имея то же устремление, апостол пришел к тому, что произнес: «Итак, никто не хвались человеком» (Там же, 3, 2–7, 21). Ибо он сказал уже: «Чтобы, как написано, хвалящийся хвалился Господом». После этого и некоторых других мест, с ним связанных, это же устремление апостола приводит его к словам: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чего бы не получил? Если же получил, что хвалишься, как будто не получил?» (Там же, 4, 6, 7).
Блага, отличающие одного человека от другого, — это дары Божии
10. Толковать эти наиочевиднейшие слова апостола против человеческой гордости, что никто не должен хвалиться человеком, но только Господом, подозревая, будто апостол имеет в виду природные дары Божии — саму ли целостную и совершенную природу, каковая была при первом его сотворении дарована человеку, или какие–то остатки природы испорченной, — это я почитаю крайне абсурдным. Ибо неужели теми дарами, кои являются общими для людей, одни люди отличаются от других? Сказал же он здесь прежде: «Ибо кто отличает тебя?», — а затем добавил: «Что имеешь, чего бы не получил?». Человек, превозносящийся над другим, мог бы сказать: меня отличает вера моя, праведность моя или еще что другое. Опережая подобные мысли, благой учитель говорит: «Что имеешь, чего бы не получил?». От кого ты имеешь это? Разве не от Того, Кто отличил тебя от другого, не даровав ему того, что даровал тебе? «Если же получил, что хвалишься, как будто не получил?». Неужели, спрашиваю я, хочет он чего–нибудь другого, кроме как того, чтобы всякий хвалящийся хвалился Господом? Ничто так не противоположно этому смыслу, как то, чтобы каждый так хвалился своими заслугами, словно он сам их для себя соделал, а не благодать Божия, — но та благодать, которая отличает добрых от злых, а не та, которая обща для добрых и злых. Итак, существует благодать, приданная природе, согласно коей мы являемся разумными животными и отличаемся от скотов; и есть также приданная природе благодать, коей среди самих людей красивые отличаются от безобразных, а талантливые от тупоумных, и все другое, к этому относящееся. Но тот, кого обличал апостол, не над скотом превозносился, не над другим человеком в каких–либо природных дарах, каковые могут быть и у худших. Но превозносящийся приписывал себе, а не Богу, нечто такое, что относилось к благой жизни. За то и заслужил услышать от апостола: «Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чего бы не получил?» Природе принадлежит способность иметь веру, но разве принадлежит ей само обладание этой верой? «Ибо не у всех вера» (2 Фес.3, 2), хотя возможность иметь веру принадлежит всем. Апостол же не говорит: «Что ты можешь иметь, чего бы не получил, чтобы ты смог это иметь?», — но говорит: «Что имеешь, чего бы не получил?» Посему то, что человек может иметь веру, как может иметь и любовь, принадлежит его природе; иметь же веру, как и иметь любовь, принадлежит благодати верных. Итак, та природа, среди даров которой нам была дана возможность иметь веру, не отличает одного человека от другого; сама же вера отличает верного от неверного. И поэтому сказано: «Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чего бы не получил?». А всякий дерзнувший сказать, будто имеет от себя самого веру, потому что не получил ее, открыто противоречит этой очевидной истине: не потому, что верить или не верить не принадлежит свободной воле человека, но потому, что в избранных воля уготовляется Господом (Прит. 8, по Септ.). Поэтому также к самой вере, которая принадлежит воле, относится сказанное: «Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чего бы не получил?»
Глава 6. Веруют лишь те, кто желает этого, но само желание — от Господа
11. «Многие слышат слово истины: но одни веруют, а другие противоречат: Следовательно, эти хотят веровать, а те — нет». Кто не знает об этом? Кто отрицает это? Но поскольку у одних приготовляется воля от Господа, а у других нет, следует, конечно, различать, что происходит от Его милосердия, а что от суда. «Чего искал Израиль, — говорит апостол, — того не достиг; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Вот милосердие и суд: милосердие для избранных, которые получили праведность Божию; суд же для остальных, которые были ослеплены. И, однако, и эти уверовали, поскольку хотели; и те не уверовали, ибо не желали. Итак, милосердие и суд вершатся в самой человеческой воле. Избрание же имеется в виду то, которое принадлежит благодати, а не то, конечно, которое от заслуг. Ибо выше апостол сказал: «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать уже не благодать» (Рим. 11, 5–10). Итак, даром получили избранные то, что получили: не предшествовало у них ничего такого, что они дали бы прежде, и им бы воздалось: за ничто спас Он их. Остальным же, ослепленным, сие было сотворено в возмездие, о чем там тоже было сказано. «Все пути Господни милость и истина» (Пс. 24, 10); «Неисследимы» же «пути Его» (Рим. 11, 33). Итак, неисследимы и милосердие, по которому Он даром избавляет, и истина, по которой праведно судит.
Глава 7. Апостол говорит, что человек оправдывается верою, а не делами, поскольку вера дается прежде дел
12. Но, может быть, мне скажут: апостол различает дела и веру, благодать же называет происходящей не от дел; но не говорит, что она не происходит от веры. И это верно. Но Иисус также саму веру зовет делом Божиим и повелевает нам ее созидать. Ибо иудеи сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6, 28, 29). Итак, апостол различает веру и дела подобно тому, как в двух царствах Иудейских Иуда отличается от Израиля, хотя и сам является Израилем. И оправдывается человек от веры, а не от дел (Гал.2, 16) потому, что она дается первой, а уже исходя из нее даруется все остальное — то, что в собственном смысле зовется делами, коими человек живет праведно. Ибо сам апостол говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, но Божий дар», — то есть и то, что я сказал «через веру», не от вас, но и сама вера тоже есть Дар Божий. «Не от дел, — говорит, — чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8, 9). Ведь обычно говорят, что потому, дескать, он заслужил уверовать, что был благим мужем и прежде, нежели уверовал. Так можно сказать о Корнилии, чьи милостыни были приняты и молитвы услышаны прежде, чем он уверовал во Христа (Деян. 10, 4). И, однако, он не давал милостыню и не молился совсем без какой–либо веры. Ибо как бы он призывал Того, в Кого не уверовал (Рим. 10, 14)? Но если бы мог без веры Христовой спастись, то не был бы для его созидания послан строитель апостол Петр; хотя верно и то, что «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 26, 1). А нам говорят: вера от нас, остальное же от Господа, относящееся к делам праведности. Словно вера, говорю я, не относится к созиданию; словно фундамент не относится к строению! А если она все–таки относится, и притом наипервейшим и наибольшим образом, то напрасно трудится, проповедуя, созидающий веру, если Господь по милости не созиждет ее изнутри. Итак, все благое, что Корнилий сделал и прежде, чем уверовал во Христа, и когда уверовал, и после уверования, — все это он должен отдать Богу, чтобы никто не хвалился.
Глава 8. Отец дарует уверовать в Сына
13. Посему Сам единый Учитель и Господь, сказав: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», — в той же самой речи немного позже произнес: «Но Я сказал вам, что вы и видели Меня и не уверовали. Все, что дает Мне Отец, ко мне придет». Что же значит «ко мне придет», как не «уверует в Меня»? Но чтобы это произошло, дает Отец. Также немного ниже: «Не ропщите между собой. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне» (Ин. 6, 29, 36, 37, 43–45). Что значит «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне», как не то, что «нет никого, кто бы услышал от Отца и научился и ко Мне не пришел»? Потому что, если всякий слышавший от Отца и научившийся приходит, то, очевидно, всякий не пришедший не услышал от Отца и не научился. Ведь если бы услышал и научился, то пришел бы. Потому что нет такого, кто бы услышал и научился и не пришел; но всякий, говорит Истина, слышавший от Отца и научившийся, приходит. Сильно удалена от чувств плоти эта школа, где слышат и научаются от Отца, чтобы прийти к Сыну. Там пребывает и Сам Сын, ибо Он есть Слово Его, Коим Отец обучает таким образом. И делает это не через плотский слух, но через слух сердца. И там же есть Дух Отца и Сына; ибо Он не является неучащим или учащим отдельно от Них: ведь мы утверждаем, что дела Троицы нераздельны. И Он, конечно, есть Тот Святой Дух, о Котором апостол говорит: «Имея того же Духа веры» (2 Кор. 4, 13). Но Отцу дело сие присваивается в большей степени потому, что от Него рожден Сын и от Него исходит Святой Дух: о чем рассуждать подробнее слишком длинно; и я думаю, что наш труд в пятнадцати книгах, посвященный Троице, Которая есть Бог, уже дошел до вас. Сильно, говорю, удалена от чувств плоти эта школа, где слышат и научаются от Отца. Многих мы видим приходящими к Сыну, ибо многих видим верующими во Христа; но где и каким образом от Отца сие услышали и научились, того мы не видим. Чрезвычайно таинственна благодать сия; в том же, что это благодать, кто усомнится? Итак, сия благодать, даруемая тайно сердцам человеческим по божественной щедрости, никаким жестоким сердцем не отвергается. Ибо она для того и дается, чтобы сперва было снято ожесточение сердца. Итак, когда Отец изнутри слышим и научает прийти к Сыну, то Он вынимает сердце каменное и дает сердце плотяное, как обещал через проповедь пророка (Иез.11, 19). Так творит Он сынов обетования и сосуды милосердия, кои прежде уготовил ко славе.
Почему Бог не всех научает, чтобы все пришли ко Христу
14. Итак, почему Он не учит всех, чтобы пришли к Сыну? Не потому ли только, что всех, кого учит, учит из милосердия, а кого не учит, не учит по суду? Ибо «кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает»; но милует тем, что дарует благо; ожесточает же тем, что воздает должное. Но, может быть, эти слова, как думают некоторые, принадлежат тому, к кому обращается апостол, говоря: «Ты скажешь мне…», так что «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает» сказаны тем же лицом, а также и сказанное дальше, а именно: «За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» Неужели ответ апостола таков: О человек, ложно то, что ты сказал? Нет! Вот его ответ: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси», — и далее все, что вы отлично знаете. И, однако, в некотором смысле Отец всех учит приходить к Своему Сыну. Ибо не напрасно написано у пророков: «И будут все научены Богом». Иисус же, предпослав сие свидетельство, добавил: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Стало быть, как мы правильно говорим о каком–нибудь учителе грамматики, который один в городе, что он всех учит грамоте, — не потому, что все учатся, а потому, что все те, кто учится грамоте, учится только у него, — так же, значит, правильно говорим и то, что Бог всех учит прийти ко Христу, — не потому, что все приходят, а потому, что никто не приходит иначе. А почему Он не всех учит, апостол открыл, насколько посчитал это нужным: потому, что желал «показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые приготовил ко славе» (Рим. 9, 18–23). Отсюда происходит то, что «слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Всех таковых Бог учит придти ко Христу, потому что хочет, чтобы все они спаслись и пришли к познанию истины (1 Тим. 2, 4). Ибо если и тех восхотел бы научить, для которых слово о кресте юродство есть, чтобы они пришли ко Христу, то без сомнения пришли бы и они. Потому что не обманывает и не обманывается говорящий: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Итак, да не будет, чтобы кто–нибудь, слышавший от Отца и научившийся, не пришел.
Научает ли Бог нежелающих учиться?
15. Почему, спрашивают, не всех учит? Если мы скажем, что те, которых Он не учит, не хотят учиться, нам ответят: а где же то, что сказано Ему: «Боже, Ты, обратив, оживишь нас» (Пс.84, 7)? Если же Бог не творит желающих из нехотящих, зачем Церковь молится по заповеди Господней за своих преследователей (Мат. 5, 44)? Ибо святой Киприан так хотел понимать даже вот эти слова: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе» (Мат. 6, 10), — то есть, как среди уже уверовавших, которые словно небо, так и среди неверующих, которые из–за этого еще земля. Итак, почему мы молимся за не хотящих уверовать, кроме как из–за того, что Бог в них производит и само желание (Фил. 2, 13)? Об иудеях определенно молится апостол: «Братия, желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасение» (Рим. 10, 1). Так зачем он молится за неверующих, если не затем, чтобы уверовали? Ибо иначе не получают спасения. Итак, если вера молящихся предваряет благодать Божию, то неужели вера тех, за которых молятся, чтобы они уверовали, тоже предваряет Божию благодать? Ведь за них именно для того и молятся, чтобы им, неверующим, то есть не имеющим веры, вера была дарована. Значит, когда провозглашается Евангелие, некоторые веруют, некоторые же нет; но верующие вместе с голосом проповедника, который приходит извне, изнутри слышат Отца и научаются; неверующие же извне слышат, изнутри же не слышат и не научаются. Ибо «никто», говорит Иисус, «не приходит ко Мне, если Отец, пославший Меня, не привлечет его». О чем яснее сказано после. Спустя некоторое время, когда Иисус говорил о поедании Своей плоти и питии Своей крови, даже некоторые из учеников Его сказали: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на это, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» И немного после: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие». И тут же Евангелист добавляет: «Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того–то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Ин. 6, 44–66). Итак, быть привлеченным Отцом к Сыну, и услышать, и научиться от Отца, чтобы прийти к Сыну, есть не что иное, как получить от Отца дар, через который человек веровал бы в Сына. Потому что не между слышащими и не слышащими Евангелие, а между верующими и не верующими провел различение Сказавший: «Никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего».
Вывод: и начало веры, и ее совершенство — одинаково дар Божий
16. Итак, вера — и начавшаяся, и совершенная — есть дар Божий; и в том, что этот дар одним дается, а другим не дается, пусть не усомнится никто, не желающий противостать яснейшим местам Священного Писания. Почему же дается не всем, это не должно волновать верного, который верует, что от одного человека все пошли в осуждение, без сомнения справедливейшее: так что не было бы никакого упрека Богу, даже если бы никто оттуда не был бы избавлен. Откуда явствует, что велика благодать, состоящая в том, что многие избавляются и узнают о том, что им бы полагалось, наблюдая за теми, кто не избавлен: так, чтобы хвалящийся хвалился не своими заслугами, которые у него равны с заслугами осужденных, но лишь Господом. Почему же Он скорее избавляет того, нежели этого? Непостижимы суды Его и неисследимы пути Его (Рим. 11, 35). Ибо нам лучше и здесь услышать или сказать: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9, 20), — нежели дерзнуть говорить так, будто мы знаем оставшееся сокрытым по желанию Бога. А ведь Он не мог хотеть чего–либо неправедного.
Глава 9. Почему Христос пришел не сразу после грехопадения человека
17. Теперь о том, что, как вы помните, я сказал в каком–то сочинении против Порфирия, озаглавленном «О времени христианской религии». Я сказал так специально, чтобы избежать более тщательного и трудоемкого рассуждения о благодати — в частности, потому, что не хотел там говорить о ней то, что могло бы быть сказано в другом месте или другими людьми. Ибо среди прочего, отвечая на вопрос о том, почему Христос пришел спустя столь долгое время, я сказал: «Потому же, почему Христу не ставят в упрек, что не все следуют Его учению (ибо чувствуют и сами, что сие никак не может быть справедливо брошено в упрек мудрости философов или даже велению их богов). Что они ответят, если, не говоря о той высоте премудрости и знания Божьего, где, может быть, скрыт какой–то другой более тайный замысел, без предубеждения также к другим причинам, кои могут быть исследованы мудрыми, только то из–за краткости скажем мы в обсуждение этого вопроса, что Христос пожелал явиться людям и проповедовать среди них Свое учение там и тогда, где и когда, как Он знал, будут жить те, кто в Него уверует? Ибо относительно тех времен и мест, в которых Его Евангелие не проповедовалось, Он предузнал, что все там будут такими, какими хотя и не все, но многие были во время Его телесного присутствия: ведь они не пожелали уверовать в Него, даже когда Он воскрешал мертвых. Таковыми и сейчас видим многих: когда с такой очевидностью исполняются пророческие свидетельства о Нем, они до сих пор не хотят верить и более желают противостоять с человеческим упрямством, нежели уступить божественному авторитету, настолько ясному и прозрачному, возвышенному и прославленному, насколько разум человека мал и немощен проникнуть в божественную истину. Итак, что удивительного, если Христос знал, что мир в прежние века настолько заполнен неверными, что заслуженно не хотел им являться и проповедовать, ибо заранее знал, что ни через слова, ни через чудеса они не уверуют? Нет ничего невероятного в том, что такими были тогда все, коль скоро их многочисленности мы удивляемся от Его пришествия до нынешнего времени. И тем не менее от начала человеческого рода, от Адама до Моисея, здесь более тайно, там более явно, как с божественной точки зрения лучше соответствовало времени, не прекращали пророчествовать о нем, и не переводились те, которые в Него верили — и в самом Израильском народе, который неким таинственным образом был пророческим народом, и в других народах до Его пришествия во плоти. Ибо если уже со времени Авраама упоминаются в Священных Еврейских Книгах некоторые из них, которые ни от порождения его плоти, ни от народа Израильского, ни от пришельцев, вступивших в сообщество с Израильским народом, но которые, однако, были участниками данного таинства, то почему нам не верить, что также и в других народах — то тут, то там, в разных местах — были разного рода верующие люди, хотя они не упомянуты в тех же книгах? Таким образом, спасение этой единственно верной религии, которое неложно обещается через нее, ни у кого никогда не отнималось, кто был бы достоин; а у кого было отнято, тот не был достоин. И от начала умножения человечества вплоть до конца некоторым оно проповедуется в награду, а некоторым — в суд. А потому те, кому оно совсем не было возвещено, были предузнаны как неверующие. Те будущие неверующие, которым оно проповедовалось, служили примером первых неверующих; а те будущие верующие, коим оно провозглашалось, приготовлялись к Небесному Царству и сообществу святых ангелов» (Послание 102, нн. 14, 15).
Почему в сочинении «Против Порфирия» не сказано о предопределении
18. Не видите ли, что я без предубеждения против скрытого Божьего замысла и других причин хотел сказать о предузнании Христовом то, что кажется достаточным для обличения неверности язычников, ставящих этот вопрос? Но от самих ли себя должны они были иметь веру после того, как им проповедовали Христа, или должны были получить ее по дару Божьему — то есть, только ли предузнал их Бог, или также предопределил, — это исследовать и обсуждать я тогда не посчитал необходимым. Поэтому сказанное мною: «Там и тогда восхотел Христос явиться людям и среди них проповедовать Свое учение, где и когда, как Он знал, будут жить те, которые в Него уверуют», — можно перефразировать так: «Там и тогда восхотел Христос явиться людям и среди них проповедовать Свое учение, где и когда, как Он знал, будут жить те, которые были избраны в Нем до сотворения мира» (Еф.1, 4). Но если бы я сказал так, это устремило бы читателя к исследованию тех вопросов, которые ныне следует обсудить полнее и тщательнее с целью опровергнуть заблуждения Пелагия. Поэтому мне показалось, что тогда было достаточно сказать об этом кратко, не затрагивая, как уже было отмечено, высоты Божьей премудрости и знания, и без предубеждения к другим причинам, о которых я посчитал лучшим сказать в другое время.
Глава 10. В чем различие между благодатью и предопределением
19. Итак, я сказал, что спасение этой единственно верной религии, которое неложно обещается через нее, ни у кого никогда не отнималось, кто был бы достоин; и тот, у кого было отнято, достоин не был. Если доискиваться причины того, почему тот или иной оказывается достойным, то не переведутся утверждающие, будто таковой причиной является человеческая воля. Мы же говорим, что это совершается по благодати или предопределению Божьему. Ведь между благодатью и предопределением единственное различие состоит в том, что предопределение приготовляет благодать, а благодать уже есть само дарование. Итак, когда апостол говорит: «Не от дел, чтобы никто не хвалился: ибо мы Его творение, созданы во Иисусе Христе на добрые дела» — это благодать; а то, что следует: «Которые прежде уготовал Бог, чтобы мы в них ходили» (Еф.9, 10), — это предопределение, которое не может быть без предузнания, хотя предузнание без предопределения существовать может. Ведь Бог по предопределению предузнает то, что Сам собирается сделать. Поэтому сказано: «Сотворивший будущее» (Исаия, 45, по Септ.). Однако предузнать Он может также то, что Сам не делает, как, например, любые грехи. Ибо если и существуют некоторые грехи, которые являются одновременно и наказанием за грех, как сказано: «Предал их Бог превратному уму — делать непотребное» (Рим. 1, 28), — то здесь не грех принадлежит Богу, а суд. Поэтому предопределение Божие, относящееся ко благу, является, как я сказал, приготовлением благодати: благодать же есть следствие самого предопределения. Следовательно, когда Бог обещал Аврааму в семени его веру язычников: «Отцом многих народов поставил тебя», — из–за чего апостол говорит: «Потому по вере, чтобы по милости обетование всему семени было непреложным» (Быт. 17, 4, 5), — то Он обещал это не по причине нашей воли, а по причине своего предопределения. Ибо обещал то, что Сам собирался сделать, а не то, что собирались сделать люди. Ведь люди если и делают добро, относящееся к почитанию Бога, то не они делают так, чтобы Он исполнил обещанное, а Он Сам делает так, чтобы они творили заповеданное. Иначе не в Божией власти, а во власти людей будет исполнить обещанное Богом, и от них Аврааму даровалось бы то, что было обетовано от Господа. Не так, однако, уверовал Авраам, но «уверовал, воздав славу Богу, что Он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4, 16–21). Он не говорит: предсказать; не говорит: предузнать — ибо и чужие дела Он может предсказывать и предузнавать, — но сказал: «силен и исполнить», — значит, не чужие дела, но Свои.
Сынами Авраама не могут быть люди, не имеющие веры, потому что Бог дает также и веру
20. Но может быть, благие дела язычников Бог обещал Аврааму в его семени так, что Сам исполнил обещанное, а относительно веры, которую люди сами себе творят, предузнал, что ее сотворят люди, а потому и ее обещал от Самого Себя? Не так говорит об этом апостол. Ведь Бог обещал Аврааму сыновей, которые последуют по стопам его веры; но поскольку не существует благих дел, кроме как от веры («Праведник верою будет жить» (Аввак. 2, 4); и «Все, что не по вере, грех» (Рим. 14, 23); и «Без веры невозможно угодить Богу» (Евр. 11, 6)), все равно исполнение обещанного Богом остается во власти людей. Ибо если человек без дара Божьего не сделает того, что от него требуется, то и Сам Бог не сотворит того, что собирается даровать. Иначе говоря, если человек не поимеет веры от себя самого, то и Бог не исполнит обещания дать дела праведности. И потому не от Бога зависит, сможет ли Он исполнить Свое обетование, а от людей. Если же истина и благочестие запрещают нам верить в это, да уверуем с Авраамом, что Он силен и исполнить обещанное. Обещал же сыновей Аврааму, которых не было бы без веры: значит, Сам Он дарует и веру.
Глава 11. Человек может надеяться на сильную волю Божию, а не на слабую свою
21. И когда апостол говорит: «Потому по вере, чтобы по милости обетование было непреложным», — удивляюсь я людям, которые предпочитают полагаться скорее на свою немощь, нежели на непреложность обетования Божия. «Но неясна для меня, — скажет кто–то, — воля Божья обо мне самом». И что же? А твоя собственная воля о тебе самом ясна ли для тебя, и не боишься ли предостережения: «Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10, 12)? Итак, поскольку и та и другая не определены, почему же человек не вверяет скорее свою веру, надежду и любовь более прочной воле, нежели более немощной?
Как следует понимать слова: «Если будешь веровать, то спасешься»
22. «Но когда говорится, — ответят нам, — что «если уверуешь, спасешься» (Рим. 10, 9), — то одна из этих вещей требуется, другая же предлагается. И то, что требуется, находится во власти человека, а что предлагается, — во власти Божьей» (выше, в письме Илария, н. 2, кол. 947–948). Почему же не все находится во власти Божьей: и то, что Он приказывает, и то, что предлагает? Ибо просят у Него, чтобы дал то, что повелевает: просят верующие, чтобы возросла в них вера; просят за неверующих, чтобы вера была им дарована. Итак, и в своем начале, и в приросте вера есть дар Божий. Говорится же: «Если уверуешь, спасешься», — в том же самом смысле, что и другое: «Если будете Духом умерщвлять дела плоти, то будете жить». Ибо и здесь одно из двух требуется, а другое предлагается: «Если Духом, говорит, будете умерщвлять дела плоти, то будете жить». Итак, требуется, чтобы духом умерщвляли дела плоти, предлагается же, чтобы мы жили. Неужели, однако, угодно нам сказать, что умерщвление дел плоти не является даром Божиим — и потому только, что слышим, что за исполнение этого предлагается нам награда жизни? Да не будет, чтобы сие угодно было причастникам и защитникам благодати. Это есть достойное осуждения заблуждение пелагиан, уста которых апостол тут же затворяет, прибавляя: «Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8, 13, 14), — чтобы не считали мы, будто дела плоти умерщвляются не Духом Божиим, а нашим духом. Об этом Духе Божием он также говорит в другом месте: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12, 11). Между этим всем, как вы знаете, он назвал и веру. Итак, подобно тому как умерщвление дел плоти есть дар Божий и в то же время оно требуется от нас с предложением награды вечной жизни, так и вера есть дар Божий и в то же время обращенное к нам требование, когда говорится: «Если уверуешь, спасешься», — и наградой веры является спасение. Ибо для того это нам заповедуется и в то же время показывается как дар Божий, чтобы мы поняли: и мы сами это делаем, и Бог делает так, чтобы мы делали. О том Он Сам яснейшим образом сказал через пророка Иезекииля. Ибо что более ясно, чем слова: «Я сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих» (Иез. 36, 27)? Внемлите этому месту Писания, и вы увидите, что Бог обещал сделать, чтобы они творили именно то, что Он Сам повелевает. Очевидно, Он не молчит здесь об их заслугах, но об их злых делах. И Он показывает, что воздает им доброе за злое, — именно тем, что дает им отныне иметь добрые дела. Ибо Он Сам делает так, чтобы они соблюдали Его заповеди.
Глава 12. Во младенцах и в самом Посреднике Иисусе Христе не обнаруживается никаких предшествующих заслуг
23. Все это доказательство служит обоснованию того, что благодать Божия, даруемая через Иисуса Христа, воистину является благодатью, то есть не по заслугам нашим дается, хотя очевиднейшим образом утверждается на божественном свидетельстве. Однако есть люди, которые признают что–либо своим лишь тогда, когда сперва дают, а затем принимают нечто как воздаяние. Вот они–то испытывают некоторые трудности, ибо в противном случае считают себя совершенно оторванными от усердия в благочестии. Эти трудности возникают, прежде всего, в отношении взрослых, уже пользующихся суждением воли. Но когда речь заходит о детях и о Самом Посреднике между Богом и людьми — человеке Иисусе Христе (1 Тим. 2, 5), — устраняется всяческое утверждение о предшествующих благодати человеческих заслугах. Ибо ни те не отличаются от прочих людей какими–либо благими предшествующими заслугами, в силу которых они принадлежали бы Избавителю; ни Сам Он, ибо и Сам является человеком, сделавшись Избавителем людей.
Умершие младенцы не могут быть судимы за те дела, которые могли бы совершить, если бы продолжали жить
24. Ибо кто будет слушать, что говорят о младенцах, будто они крещены во младенчестве по своим будущим заслугам и сразу ушли из жизни? И что другие потому умирают некрещеными в том же самом возрасте, что их будущие дела тоже были предузнаны, но дела злые? Ведь тогда, значит, Бог вознаграждает или осуждает не за хорошую или плохую жизнь, а вообще ни за что (выше в Письме Проспера, н. 5, кол. 951–952). Так и апостол положил предел, который не должно переходить — как бы помягче выразиться? — неосторожное человеческое любопытство. Ибо он говорит: «Все мы предстанем перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10). Он сказал: «делал»; и не прибавил после этого: «Или что собирался сделать». Не знаю, откуда пришло в голову таким мужам, будто младенцы караются или вознаграждаются за будущие заслуги, которые не являются будущими. Почему тогда сказано, что человек будет судим соответственно тому, что он делал, живя в теле? Ведь многое делается в одной только душе, без участия тела или какого–нибудь телесного органа; и в большинстве случаев делается столь многое, что таковым помыслам полагается справедливейшее наказание — как, например, то, что «сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс.13, 1). Итак, в каком смысле сказано: «Делал в теле», — если не в том, что «сделал в то время, когда был в теле»? Причем под телом мы разумеем время телесной жизни? Ведь после этого времени никто не будет в теле, кроме как при последнем воскресении, да и тогда не для приготовления каких–либо заслуг, а для получения награды за добрые дела и наказания за злые. А в промежутке между совлечением тела и облечением в него души либо мучаются, либо покоятся, в зависимости от того, что они делали во время телесной жизни. К этому времени относится также то, что пелагиане отрицают, а Церковь Христова исповедует, — а именно, первородный грех. Так что когда дети умирают, то, смотря по тому, разрешен ли грех Божьей благодатью или не разрешен по Божьему суду, либо по заслуге возрождения переходят от зла ко благу, либо по заслуге происхождения переходят от зла ко злу. Сие ведает католическая вера; с этим даже некоторые еретики без возражений соглашаются. Что же касается того, будто кто–то судится не по заслугам, которые поимел, когда был в теле, а по заслугам, которые поимел бы, если бы дольше жил в теле, — то не могу понять: как могли помыслить такое люди, чей талант не следует презирать, как о том свидетельствуют ваши письма? Так что дивлюсь и изумляюсь, и не дерзнул бы поверить этому, если бы в противном случае не дерзнул не поверить вам. Но надеюсь, что с Божьей помощью они после увещевания быстро поймут: если так называемые будущие грехи могут по Божьему суду караться в некрещеных, то по Божьей благодати они также могут быть отпущены крещеным. Ибо всякий, кто говорит, будто будущие грехи могут только караться по Божьему суду, а быть отпущены по Его милосердию не могут, должен размыслить над тем, какую несправедливость он совершает по отношению к Богу и Его благодати. Словно будущий грех Он может предузнать, а простить не может! Но поскольку это абсурдно, то умирающим во младенчестве будущим грешникам, какими они стали бы, если бы жили долго, тем более следовало бы помочь омовением грехов.
Глава 13. Верно ли, что Бог не допускает младенцев к крещению, поскольку знает, что в будущем они не принесли бы покаяния?
25. На это, может быть, скажут, что грехи отпускаются кающимся; и те умершие дети не были крещены во младенчестве, поскольку о них было предузнано, что, если бы они жили дольше, все равно бы не покаялись. О тех же детях, которые крещеными вышли из тела, Бог предузнал, что они сотворили бы покаяние, если бы выжили. Пусть утверждающие это внемлют и увидят, что в таком случае младенцам, умирающим без крещения, воздается уже не за первородный грех, но за их собственные будущие грехи, которые они совершили бы, если бы жили дольше. Равным образом и крещеным тогда отпускались бы их будущие грехи, а не первородный, поскольку они не могут грешить, не достигнув зрелого возраста. Но так как одни были предузнаны кающимися, а другие не были, то поэтому, дескать, одни ушли из этой жизни, приняв крещение, а другие без крещения. Если бы это услышали пелагиане, то отрицая первородный грех, уже не затруднились бы подыскать младенцам вне Царства Божьего сам не знаю какое такое место блаженства. И легче всего они сделали бы это тогда, когда говорят, что младенцы не могут иметь вечной жизни, поскольку не ели плоти и не пили крови Христовой (Ин. 6, 54): ведь для тех, кто не имеет совершенно никакого греха, крещение во оставление грехов является ложным. Они бы на это ответили, что нет никакого первородного греха, но умирающие младенцы крещаются или не крещаются за свои будущие заслуги; и за эти свои будущие заслуги или принимают, или не принимают тела и крови Христовой, без которых, очевидно, жизни иметь не могут; и что они крещаются в истинное оставление грехов, хотя и не наследовали ничего от Адама, потому что им отпускаются грехи, о которых Бог предузнал, что они сотворят покаяние. И таким образом пелагиане очень просто провели бы и осуществили свое дело, отрицая, что есть первородный грех, и уверяя, что благодать Божия дается не иначе, как за наши заслуги. Но поскольку будущие дела людей, которые на самом деле не состоятся, без сомнения не являются заслугами (и видеть это очень легко), постольку и пелагиане не могли этому учить; и тем более те, о которых идет сейчас речь, не должны были говорить так. Ибо невозможно сказать, как мне тягостно: ведь то, что пелагиане разглядели как ложное и абсурднейшее, того не увидели люди, осуждающие вместе с нами как католики заблуждение этих еретиков.
Глава 14. Свидетельство блаженного Киприана, цитирующего книгу «Премудрости Соломоновой»
26. Киприан написал книгу о Смертности, многим или почти всем любящим церковные сочинения похвально известную. В ней он говорит, что смерть для верных не только безвредна, но даже и полезна, потому что изымает человека от опасности греха и дает ему спокойствие безгрешности. Но что толку, если также будущие грехи, которые не были совершены, подлежат наказанию? Однако Киприан старательно и наилучшим образом обосновывает, что опасность согрешить не отсутствует в этой жизни и не присутствует в будущей. В подтверждение он приводит свидетельство из книги Премудрости: «Восхищен был, чтобы злоба не изменила разума его». Данное место, мною также приведенное, эти братья, по вашим словам, отвергли как взятое из неканонической книги: словно и без свидетельства сей книги предмет, который мы хотели прояснить, не ясен. Ибо какой христианин дерзнет отрицать, что праведник, застигнутый смертью, будет находиться в покоище (Прем. 4, 11, 7)? Какой человек здравой веры посчитает нужным противоречить этому утверждению? Или тому, что если праведник отойдет от праведности, в которой жил, и умрет в неправедности, в которой не то что год — один лишь день прожил, то примет кару, полагающуюся неправедным, так что ничем не поможет ему его прошлая праведность (Иез. 18, 24)? Кто из верных будет возражать против этой прозрачной истины? Далее, если у нас спросят, обрел ли бы праведник наказание или покой, если бы тогда умер, когда еще был праведен, — то неужели усомнимся ответить, что покой? Вот и вся причина, почему сказано, кем бы ни было сказано: «Восхищен был, чтобы злоба не изменила разума его». Ибо сие сказано в отношении опасностей настоящей жизни, а не в отношении предузнания Бога, Который предузнал будущее, а не то, чего не будет. А именно, предузнал то, что Он дарует праведнику преждевременную смерть, чтобы тот был изъят из неопределенности искушений; а не то, что согрешил бы тот, кто не мог быть искушаем, поскольку был восхищен из жизни. Об этой жизни мы читаем у Иова: «Неужели не искушение жизнь человека на земле?» (Иов 7, 1, по Септ.). Но почему одним даруется, чтобы они были изъяты от опасностей сей жизни, когда они еще праведны, а другие праведники удерживаются среди тех же самых опасностей, пока не отпадут от праведности, — так ведь кто познал ум Господень? (Рим. 11, 34). И однако отсюда дается понять, что даже те праведники, которые сохраняют благие и благочестивые нравы вплоть до старости и последнего дня этой жизни, должны хвалиться не своими заслугами, а Господом: ибо Тот, Кто через краткость жизни исхитил праведника, дабы злоба не изменила разума его, Он же Сам на протяжении сколь угодно долгой жизни сохраняет праведника так, что злоба не меняет его разума. А почему Он удерживает в жизни того праведника, которого мог бы унести до того, как тот пал, — то поистине праведны, однако неисследимы суды Его.
Свидетельство книги «Премудрости» предпочтительнее, чем мнение церковных писателей, не занимавшихся специально данным вопросом
27. Поскольку это так, то не следует отвергать суждения книги Премудрости, заслужившей в Церкви Христовой столь долгие годы быть произносимой с амвона ее чтецами и с уважением к божественному авторитету выслушиваться всеми христианами, от епископов до самых последних верных мирян, кающихся и оглашенных. Допустим, что я вывел бы из толкований Божественных Писаний, бывших до нас, защиту данного мнения, которое ныне мы вынуждены более тщательно и старательно защищать против нового заблуждения пелагиан — а именно, что благодать Божья даруется не по заслугам нашим, и кому дается, дается даром, ибо не от желающего, не от подвизающегося, но от милующего Бога; а кому не дается, по праведному суду не дается, ибо у Бога нет несправедливости (Там же 9, 16, 14). Итак, если бы защиту данного мнения я вывел из божественных речений предшествующих нам католических толкователей, то, очевидно, эти братья, о которых вы ныне заботитесь, успокоились бы, как вы и дали понять в вашем послании. Почему так важно, чтобы мы исследовали труды тех, которые прежде, нежели эта ересь возникла, не имели необходимости заниматься разрешением этого сложного вопроса? А ведь они без сомнения сделали бы это, если бы вынуждены были отвечать. Посему произошло так, что они вопрос о Божьей благодати кратко затронули в некоторых местах своих писаний. Особенное внимание они уделяли тому, чту отстаивали против врагов Церкви, и призывам к некоторым добродетелям, коими служат живому и истинному Богу ради достижения вечной жизни и истинного блаженства. Частотою же молитв ясно показывается, что могла бы произвести благодать Божья: ибо не просили бы у Бога того, чему Он заповедует быть, если бы не давалось от Него, чтобы это произошло.
Свидетельство блаженного Киприана
28. Но те, кто желает быть наученным мнениями толкователей, должны предпочесть всем толкованиям эту книгу Премудрости, где сказано: «Восхищен был, чтобы злоба не изменила разума его». Ибо ее предпочитали даже самые близкие по времени к апостолам толкователи, которые, приводя ее в свидетели, думали, что приводят именно божественное свидетельство. И твердо установлено, что блаженнейший Киприан, проповедуя о благодеянии скорой смерти, считал, что заканчивающие сию жизнь, во время которой можно грешить, исхищены от опасности греха. В той же самой книге он говорит среди прочего: «Почему не принимаешь того, что будешь со Христом, и не уверен в обещании Господнем, что призываешься ко Христу, и почему не благодаришь, что избавлен от диавола?» И в другом месте: «Младенцы избегают опасности склонного ко греху возраста». Также и в другом месте: «Почему мы не спешим и не бежим, чтобы могли увидеть наше отечество и приветствовать наших родителей? Велико поджидающее нас там собрание дорогих родителей, братьев, сыновей; густая и многочисленная толпа желает нас, уже уверенная в своей безопасности, и о нашем спасении еще беспокоящаяся». Этими и другими словами сей учитель в яснейшем свете католической веры, открыто и достаточно свидетельствует, что вплоть до выхода из тела следует бояться опасности согрешить и искушений; после же никто не испытывает ничего подобного. Но даже если бы он не сказал так, какой христианин усомнился бы в этом? Итак, падшему человеку, закончившему в этом падении свою жизнь и идущему на полагающуюся таковым кару, — этому человеку принесло бы наибольшую пользу, если бы он был исхищен смертью из сего места искушений, прежде чем пал бы.
Ложность и нелепость отстаиваемого заблуждающимися мнения
29. А потому если отсутствует чрезвычайно необдуманное любопрение, то исчерпан весь вопрос о том, кто «восхищен был, чтобы злоба не изменила разума его». И поэтому книга Премудрости, заслужившая столь долгие годы читаться в Церкви Христовой, где читается и это самое место, не должна терпеть несправедливости из–за того, что она противится заблуждающимся насчет человеческих заслуг и идущим против очевиднейшей благодати Божьей. Благодать эта в наибольшей степени является во младенцах. Так как из них одни достигают предела этой жизни крещеными, другие же некрещеными, то они тем самым достаточно говорят о милосердии и суде — причем милосердии незаслуженном, суде же заслуженном. Ибо если бы люди судились не по тем заслугам своей жизни, которые имели перед смертью, но по тем, которые имели бы, если бы жили дольше, то никакой пользы не было бы тому, кто восхищен был, чтобы злоба не изменила разума его; и никакой пользы не было бы умереть раньше тем, кто умирает после падения. Но этого не посмеет сказать ни один христианин. Посему не должны наши братья, которые вместе с нами воюют за католическую веру с погибелью пелагианского заблуждения, так потворствовать этому пелагианскому мнению, согласно которому полагают, будто благодать Божия дается по нашим заслугам. Ведь этим разрушилось бы истинное и древнее христианское утверждение: «Восхищен был, чтобы злоба не изменила разума его», — чего сами пелагиане не могли допустить. И при этом они выдумывают такое, что, как мы полагаем, не только не может прийти на ум, но даже не может и присниться. А именно, что всякий умерший подвергается суду на основании того, что он сделал бы, если бы жил дольше. Ибо столь очевидна неопровержимость сказанного нами о том, что благодать Божья не по заслугам нашим дается, что противоречащие этому изобретательные люди не могут сказать ничего иного, как только подлежащее отвержению от слуха и помышления всех христиан.
Глава 15. Яснейший Свет предопределения и благодати — Сам Спаситель
30. Сам Спаситель, посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос, также является яснейшим светом предопределения и благодати. Ибо какими предшествующими заслугами дел или веры Его человеческая природа заслужила сие? Пусть ответят: откуда этот человек заслужил быть Сыном Божиим, будучи принят как совечное Отцу Слово в единство лица? Какое благое дело этому предшествовало? Что Он сделал прежде того? Во что уверовал? Что просил, чтобы достичь такого неизреченного преимущества? Неужели, будучи сотворенным и воспринятым Словом, сам человек с того самого момента, когда начал существовать, не начал быть единородным Сыном Божиим? Неужели не единородного Сына Божия зачала та женщина, полная благодати? Неужели не от Святого Духа и Девы Марии родился единородный Сын Божий — не по вожделению плоти, но по отдельному дару Божьему? Неужели следовало бояться, что, достигнув зрелого возраста, этот человек согрешил бы по свободной воле? Или воля в Нем была несвободна, и тем несвободнее, чем сильнее была для Него невозможность служить греху? Напротив, все это, достойное особого восхищения, как и все остальное, что только может быть названо Его собственным, особым образом восприняла в Нем человеческая — то есть наша — природа без всяких предшествующих заслуг. Пусть здесь человек спорит с Богом и скажет, если посмеет: Почему не я тоже? И если услышит: «А ты кто такой, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9, 20), — то не будет сдерживать бесстыдства, но, наоборот, увеличит его, и скажет: Что я слышу? «А ты кто такой, человек?». Ведь и Он является тем же, чем и я являюсь, то есть человеком! Почему же тогда я не такой, как Он? А если по благодати Он является таковым, то почему там, где одинакова природа, различна благодать? Ведь у Бога нет лицеприятия (Кол. 3, 25)! Какой же — не скажу христианин, но скорее сумасшедший — сказал бы это?
Источник благодати — в нашей Главе Иисусе Христе. Все это — безвозмездные дары Божии
31. Итак, в Главе нашем открывается для нас источник благодати, откуда она передается всем членам тела по мере каждого. И каждый христианин от начала своей веры является таковым по той же самой благодати, по которой тот человек от начала своей жизни сделался Христом; и этот возрожден от Того же Самого Духа, от Которого рожден и Тот; и Тем же самым Духом происходит в нас отпущение грехов, Которым было соделано так, чтобы Тот не имел никакого греха. Бог, очевидно, предузнал, что сотворит сие. Итак, это и есть то самое предопределение святых, которое в наибольшей степени проявилось в самом Святом из всех святых. И кто из правильно разумеющих речения истины может отрицать сие? Ибо мы научаемся, что и Сам Господь славы, человек, соделавшийся Сыном Божиим, является предопределенным. В начале одного их своих посланий учитель народов восклицает: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти, предопределен Сыном Божиим в силе, по Духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим. 1, 1–4). Итак, предопределен Иисус, чтобы тот, кто был по плоти сыном Давида, был и Сыном Божиим в силе по Духу святыни, поскольку рожден был от Духа Святого и Марии Девы. Ибо неизреченно и неповторимо Бог–Слово воспринял человека так, что называется Он истинным и собственным образом одновременно и Сыном Божиим, и Сыном Человеческим: Сыном Человеческим — как человек, воспринятый Богом; а Сыном Божиим — как единородный Бог, воспринимающий человека. И это для того, чтобы мы верили не в четверицу, а в Троицу. Так было предопределено это великое и несравненное вознесение человеческой природы, что нельзя было бы вознестись выше. Равным образом и божество не могло бы ради нас снизойти ниже, чем тогда, когда оно, восприняв человеческую природу с немощами плоти, пошло на крестную смерть. И как Тот был предопределен быть нашим Главой, так же и многие из нас были предопределены быть членами тела Его. Здесь пусть смолкнут заслуги человеческие, погубленные в Адаме, и да царствует царствующая благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего, единородного Сына Божия, единого Господа. И всякий нашедший в Главе нашем заслуги, предшествующие Его неповторимому рождению, пусть ищет и в нас, членах тела Его, заслуги, предшествующие нашему возрождению. Ибо Христу не воздано было сие рождение, а даровано, чтобы чуждый всякого греха рожден был от Духа и Девы. Так и нам, чтобы родились мы от воды и Духа, не воздается за какую–то заслугу, а даром даруется. И если вера ведет нас к бане пакибытия, мы не должны из–за этого думать, будто прежде что–то дали, дабы получить в награду спасительное возрождение. Ибо Тот же сотворил в нас веру во Христа, Кто сотворил для нас Христа, в Которого мы веруем; Тот же творит в людях начало и усовершение веры в Иисуса, Кто сотворил Самого Иисуса начальником и совершителем веры — ибо именно так Он назван, как вы знаете, в послании к Евреям (Евр. 12, 2).
Глава 16. Призывание относится к тем, кто призваны по намерению Божию
32. Ибо когда Бог призывает своих многочисленных предопределенных сынов, чтобы сделать их членами предопределенного единородного Сына Своего, Он призывает их не тем призванием, коим призываются и не пожелавшие прийти на свадьбу (Лук. 14, 16–20). Этим призванием призваны как иудеи, для которых Христос распятый является соблазном, так и язычники, для которых Он юродство. Нет, Он призывает их тем призванием, которое выделяет апостол, говоря, что для самих же призванных иудеев и язычников он проповедует Христа, Божию силу и Божию премудрость. Для того он говорит: «Самим же призванным» (1 Кор. 1, 23, 24), — чтобы других показать непризванными. Ибо он знает, что есть некоторое твердое призвание тех, которые по намерению Божию призваны, — тех, которых Он прежде предузнал и предопределил быть подобными образу Сына Своего (Рим. 8, 28, 29). Имея в виду это призвание, апостол говорит: «Не от дел, но от призывающего сказано было ей, что больший будет служить меньшему» (Там же 12, 13). Разве он сказал: «Не от дел, но от верующего»? Очевидно, что он и это отбирает у человека, чтобы все дать Богу. Итак, сказал: «Но от призывающего», — не каким угодно призванием, но таким, из–за которого становятся верующими.
Что значит: «Непреложны дары и призывание Божие»
33. Это же призвание имел в виду апостол, сказав: «Непреложны дары и призвание Божие». И обратите внимание, что именно он здесь говорит. Сказано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока не войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». И сразу апостол добавляет то, что следует тщательно уразуметь: «В отношении к Благовестию они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов» (Рим. 11, 25–29). Что значит: «В отношении к Благовестию они враги ради вас»? Не то ли, что их враждебность, из–за которой они убили Христа, без сомнения, как мы видим, пошла на пользу Благовестию? И сие он показал происходящим из установления Бога, Который знает, как даже злом пользоваться во благо: не так, чтобы Ему были полезны сосуды гнева, а так, чтобы они сами, хорошо Им использованные, пошли на пользу сосудам милосердия. Ибо что может быть сказано более ясно, чем это: «В отношении к Благовестию они враги ради вас»? Итак, грешить находится во власти злых: то же, чтобы, согрешая по своей злобе, делали то или это, сие не есть в их власти, но во власти Бога, разделяющего тьму и упорядочивающего ее. Так что даже если что творят против воли Бога, не исполняется ничего, кроме воли Божией. В Деяниях Апостольских читаем: когда апостолы, отпущенные иудеями, пришли к своим и рассказали, что наговорили им священники и старейшины, те единодушно вознесли глас к Господу и сказали: «Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой» (Деян. 4, 24–28). Вот почему сказано: «В отношении к Благовестию враги ради вас». Ибо рука Божия и совет Его предопределили, чтобы столько врагами иудеями было соделано, сколько было необходимо Благовестию ради нас. Но почему за этим следует: «В отношении же избрания возлюбленные Божии ради отцов»? Неужели те враги из этого народа, которые погибли в своей вражде, противясь Христу, до сих пор погибают? И они же являются возлюбленными Божиими? Да не будет: ибо кто, даже наиглупейший, скажет сие? Но и то, и другое, хотя и противоположное друг другу — то есть враги и возлюбленные, — встречается пусть не в одних и тех же людях, однако в одном и том же Иудейском народе, среди тех, кто принадлежит одному и тому же семени Израилеву. Так что одни относятся к проклятию, а другие к благословению самого Израиля. Этот смысл апостол яснее выразил выше, когда сказал: «Что искал Израиль, того не достиг: избрание же достигло, а прочие ожесточились» (Рим. 11, 7). И в том, и в другом случае говорится об одном и том же Израиле. Следовательно, когда мы слышим: «Израиль не достиг», или «прочие ожесточились», — здесь следует разуметь «врагов ради вас»; когда же слышим: «Избрание же достигло», — здесь подразумеваются «возлюбленные Божии ради отцов». Ибо отцам были сделаны эти обетования: «Аврааму даны были обетования и семени его» (Гал. 3, 16). Поэтому к маслине иудеев была привита ветвь дикой маслины язычников. Далее должен уже апостол перейти к избранию, которое дается по благодати, а не по долгу, поскольку «остаток сохранился по избранию благодати» (Рим. 11, 17, 5). Сие избрание осуществилось, когда прочие ожесточились. Через это избрание израильтяне являются возлюбленными Божиими ради отцов. Ибо не тем призванием призваны, о котором сказано: «Много званых» (Мат, 20, 16), но тем, которым призываются избранные. Поэтому и апостол после того, как сказал: «В отношении избрания же возлюбленные Божии ради отцов», — сразу добавил то, о чем ведем речь: «Ибо непреложны дары и призвание Божие», — то есть без изменения и твердо установлено. Все, кто относится к этому призванию, научены Богом. И не может кто–нибудь из них сказать: Я уверовал, чтобы так быть призванным, — ибо предварило его милосердие Божие: тем и был призван, что уверовал. Потому что все наученные Богом приходят ко Христу — постольку, поскольку слышали и научились от Отца через Сына, ясно сказавшего: «Всякий слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Из этих же никто не погибает, поскольку из всего, что дал Ему Отец, Он не погубит ничего (Ин. 6, 45, 39). Итак, всякий, кто оттуда, определенно не погибает; и не был оттуда тот, кто погиб. Вследствие чего сказано: «Они вышли от нас, но не были нашими; ибо, если бы были нашими, то остались бы с нами» (1 Ин. 2, 19).
Глава 17. Истинное призывание — то, благодаря которому становятся избранными
34. Итак, уразумеем призвание, коим становятся избранными: не те, кто избирается, потому что уверовал, но кто избирается, чтобы уверовать. Ибо сие призвание Господь достаточно открывает, когда говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15, 16). Ведь если были избраны потому, что уверовали, то сами бы прежде избрали, веруя в Него, дабы заслужить быть избранными. Все это совершенно отнимает Сказавший: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Ведь и сами они без сомнения избрали Его, когда уверовали в Него. Посему не по какой другой причине Он сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал», — кроме как потому, что не они избрали Его, чтобы Он избрал их, а Он избрал их, чтобы они избрали Его. Ибо милосердие Его предварило их (Пс. 58, 11) по благодати, а не по долгу. Итак, избрал Он их от мира, когда здесь жил во плоти, — но тех, кто уже был избран в Нем прежде создания мира. Такова непоколебимая истина предопределения и благодати. Ибо почему апостол говорит: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. 1, 4)? Может быть, это сказано потому, что Бог предузнал их веру, а не потому, что собирался сделать их верующими? Но Сын выступает против этого предузнания, когда говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». В этом случае Бог скорее предузнал, что они Его изберут, чтобы заслужить быть избранными Им. Итак, они были избраны до сотворения мира тем предопределением, которым Бог предузнал Свои будущие дела; избраны же были от мира тем призванием, коим Бог исполнил то, что предопределил. Ибо кого предопределил, тех и призвал, и тем именно призванием, которое согласно с намерением. Итак, не иных, а тех, которых предопределил, их же самих и призвал; не иных, а тех, которых так призвал, их же и оправдал; не иных, а тех, которых предопределил, призвал и оправдал, — их же и прославил (Рим. 8, 30) с той целью, которая в свою очередь не имеет цели. Итак, избрал Бог верных — но так, чтобы они стали верными, а не потому, что уже были таковыми. Апостол Иаков говорит: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его» (Иак. 2, 5)? Итак, избирая, Он творит людей богатыми верою и наследниками Царствия. Правильно говорится, что Он избрал в них то, что Сам сотворил, для чего и избрал их. Я спрашиваю: кто, слыша слова Господни: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал», — дерзнет сказать, что люди веруют, дабы быть избранными? Ведь они скорее избираются, чтобы веровать, чтобы, вопреки истине, не оказались прежде избравшими Христа те, которым Христос говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал»!
Глава 18. По предопределению Бог избрал во Христе Его члены прежде создания мира
35. Кто, слушая слова апостола: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодетельствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, будучи предопределены к тому по определению Совершающего все по намерению воли Своей, дабы нам послужить к похвале славы Его» (Еф.1, 3–12), — кто, говорю я, слушая сие внимательно и с пониманием, дерзнет сомневаться в истине, которую защищаем? Избрал Бог во Христе прежде создания мира членов тела Его. Но как бы избрал тех, которые еще не существовали, кроме как по предопределению? Итак, избрал нас, предопределяя. И неужели избрал нечестивых и нечистых? Потому что, если будет спрошено, избрал ли тех, о которых мы сказали выше, или скорее святых и непорочных, то никто не усомнится ответить и сразу же подаст голос за святых и непорочных.
Бог избрал нас не поскольку мы были святыми, но чтобы мы были святыми
36. «Следовательно, Он предузнал, — говорит пелагианин, — кто будет святым и непорочным по своей свободной воле, и поэтому избрал их прежде создания мира по Своему предузнанию, коим предузнал, что такими будут. Итак, Он избрал их прежде их бытия, предопределив в сыновья тех, которых предузнал святыми и непорочными; и конечно, не Сам Он соделал так и не собирался делать, но предузнал, что они такими будут». Итак, рассмотрим слова апостола и увидим, избрал ли Он нас прежде создания мира, потому что мы собирались быть святыми и непорочными, или же для того, чтобы мы были такими. «Благословен, — говорит апостол, — Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны». Следовательно, не потому, что мы собирались быть, но для того, чтобы были. Как это определенно и как ясно: потому именно мы такими будем, что Он Сам нас избрал, предопределив, чтобы мы были такими по благодати Его. И таким образом «Он благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа». Затем, обратите внимание, что добавляет апостол: «по благоволению воли Своей», — чтобы в таковом благодеянии благодати не хвалились мы нашей волей, «которою Он облагодетельствовал нас в Возлюбленном», то есть Своей волей облагодетельствовал нас. Ибо слово «облагодетельствовал» происходит от слова «благодать», как и «оправдывать» от «праведность». «В Котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению». В сей тайне воли Своей положил богатства благодати Своей, по благоволению воли Своей, а не нашей, которая не могла бы быть благой, если бы Он Сам по Своему благоволению не помог бы ей стать такой. Сказав же: «По Своему благоволению», — он добавил: «Которое Он прежде положил в Нем». То есть в возлюбленном Своем Сыне, «в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, будучи предопределены к тому по определению Совершающего все по намерению воли Своей, дабы нам послужить к похвале славы Его».
Апостольские свидетельства защищают ту благодать, против которой выступает учение пелагиан о заслуге
37. Чрезвычайно долго будет разбирать отдельные места. Но вы чувствуете, без сомнения чувствуете, с какой ясностью апостольских речений защищается сия благодать, против которой превозносятся человеческие заслуги, — будто человек что–то прежде дает, чтобы ему было воздано. Итак, Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, предопределив усыновить нас. Избрал не потому, что мы сами по себе собирались быть святыми и непорочными, но избрал и предопределил, чтобы мы были. Сотворил же сие по благоволению воли Своей, чтобы никто на хвалился своей волей, но Божией волей в отношении себя; сотворил сие по богатству благодати Своей, по благоволению Своему, которое прежде положил в возлюбленном Сыне Своем, в Котором и мы сделались наследниками, будучи предопределены к тому по намерению: не нашему, но Того, Кто все совершает, вплоть до того, что совершает в нас и само хотение (Фил. 2, 13). Совершает же по совету воли Своей, чтобы мы были к похвале славы Его. Потому–то мы и призываем, чтобы «никто не хвалился человеком» (1 Кор. 3, 21), а, значит, и самим собой; но «хвалящийся пусть хвалится Господом» (Там же, 1, 31), чтобы нам быть к похвале славы Его. Ибо Он Сам совершает по Своему намерению, чтобы мы были святыми и непорочными, к похвале славы Его, ради чего и призвал нас, предопределив прежде создания мира. Из этого Его намерения происходит само призвание верных в собственном смысле слова, которым все содействует ко благу. Ибо они призваны по намерению (Рим. 8, 28), а дары и призвание Божие непреложны.
Глава 19. Не предузнал ли Бог одну только будущую веру, чтобы за это дать благодать
38. Но те, о ком вы печетесь, может быть, скажут, что пелагиане возражают на свидетельство апостола, где он говорит, что мы потому избраны во Христе и предопределены до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним в любви. Ибо они считают, что, «получив заповеди, мы уже сами по свободной воле становимся святыми и непорочными перед Ним в любви: что Бог, поскольку предузнал будущее, постольку и избрал и предопределил нас во Христе прежде создания мира». Но апостол говорит: Не потому, что предузнал нас такими, но чтобы такими были через само избрание благодати Его, которой облагодетельствовал нас в возлюбленном Сыне Своем. Итак, предопределив нас, Он предузнал Свое дело, посредством которого Он делает нас святыми и непорочными. Поэтому правильно изобличается заблуждение пелагиан этим свидетельством. «Мы говорим, — утверждают они, — что Бог не предузнал ничего, кроме нашей веры, которой начали верить, и потому избрал нас прежде создания мира и предопределил, чтобы мы были также святыми и непорочными по Его делу и благодати». Но пусть послушают и то свидетельство, где апостол говорит: «Мы сделались наследниками, будучи предопределенными к тому по намерению Совершающего все». Следовательно, Тот, Кто совершает все, совершает и то, что бы мы начали веровать. Ибо это призвание — то, о котором сказано: «Непреложны дары и призвание Божие» (Рим. 11, 29); и в другом месте: «Не от дел, но от Призывающего» (Там же 9, 12), — хотя Апостол мог бы сказать: Но от верующего, — и есть призвание, которое имел в виду Господь, сказав: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15, 16), — призвание, которое не опережает даже вера. Ибо Он избрал нас не потому, что мы уверовали, но чтобы мы уверовали; дабы не назывались мы первыми в избрании Его. Ведь тогда ложным будет сказанное: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал», чего да не будет. Призываемся мы не потому, что уверовали, но чтобы уверовали; и тем самым призванием, которое непреложно, производится наша вера. Однако не следует здесь повторять всего, что мы сказали о столь пространном вопросе.
Начало веры — также дар Божий. Свидетельство апостола Павла
39. Наконец, в следующих за этим свидетельством местах апостол благодарит Бога за уверовавших — не потому, конечно, что им возвещено было Евангелие, а потому, что они уверовали. Ибо говорит: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христе Иисусе и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога» (Еф.1, 13–16). Вера их была совсем недавней и свежей после проповеди Евангелия, и, услышав об этой вере, апостол благодарит за них Бога. Если бы он благодарил человека и при этом полагал бы или знал, что тот не дал того, за что он его благодарит, то сие называлось бы скорее лестью или насмешкой, а не благодарением. «Не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает» (Гал.6, 7), — ибо даром является также и начавшаяся вера, чтобы благодарение апостола не было осуждено по заслуге как ложное или лживое. Что же? Неужели начало веры не проявилось среди фессалоникийцев, за что тот же апостол, однако, благодарит Бога: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2, 13)? По какой же причине благодарит апостол? Ведь суетно и тщетно благодарит, если Тот, Кого благодарит, не сделал того, за что благодарит. Но, поскольку сие не суетно и не тщетно, то, конечно, Бог, Которого он за это благодарит, Сам и сделал, чтобы, приняв от апостола слово Божие, они приняли его не как слово человеческое, но как истинное слово Божие. Итак, Бог, действуя в людских сердцах посредством того согласного с намерением призвания, о котором мы уже многое сказали, дает им не впустую слушать Благую Весть, но, чтобы услышав, обратились и уверовали. Ибо они принимают сие не как слово человеческое, а как истинное слово Божие.
Глава 20. Бог отверзает сердечную дверь, чтобы люди уверовали
40. В послании к Колоссянам апостол наставляет нас, что само начало веры является даром Божиим. Он говорит так: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать» (Кол. 4, 2–4). Каким же образом открывается дверь для слова, если не тем, что отверзается ум слушающего, дабы он верил, а уверовав, принял то, что проповедуется как относящееся к устроению спасительного учения? И чтобы с закрытым сердцем неверного не отвергал и не отталкивал того, что ему говорится? Посему в послании к Коринфянам сказано: «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1 Кор. 16, 8–9). Что иное можно понимать под этим, кроме того, что после его начальной проповеди Евангелия многие уверовали, а многие стали противниками той же самой веры, по слову Господа: «Никто не приходит ко Мне, если это не дано ему будет от Отца Моего» (Ин. 6, 66). И в другом месте: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, им же не дано» (Мат. 13, 11). Итак, дверь отверста у тех, которым дано; многие же противники относятся к тем, которым не дано.
Еще одно апостольское свидетельство
41. Также и во втором послании к Коринфянам апостол говорит: «Придя в Троаду для благовестия о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но простившись с ними, я пошел в Македонию». С кем он попрощался, если не с теми, кто уверовал, в сердцах которых была отверста дверь для благовестника? Обратите внимание на то, что он добавляет после: «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Вот почему благодарит храбрейший воин и непобедимый защитник благодати: потому благодарит, что Христовым благоуханием являются апостолы для Бога — и в тех, кто спасается по благодати Его, и в тех, кто погибает по суду Его. Но чтобы меньше соблазнять тех, кто плохо разумеет сие, сам апостол наставляет, прибавляя и говоря: «И кто способен к сему» (2 Кор.2,12–16)? Вернемся же к отверзанию двери, которым апостол означил начало веры. Что значит: «Молитесь так же и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова»? Не яснейшее ли доказательство того, что и начало веры является даром Божиим? Ибо не просили бы Его в молитве, если бы не верили, что Он его дарует. Сей дар небесной благодати сошел на ту торговку багряницею, которой, как говорит Писание в Деяниях Апостольских, «Бог отверз сердце внимать тому, что говорил Павел» (Деян. 16, 14). Потому что она так была призвана, чтобы уверовать. Ибо в сердцах человеческих делает Бог, что хочет, помогая ли, осуждая ли, чтобы также через них исполнилось то, чему предопределили быть рука и совет Его (Там же 4, 28).
Относится ли к разбираемому вопросу рассуждение о том, как Бог склоняет воления людей в угодную Ему сторону
42. Итак, напрасно говорят, что к обсуждаемому нами вопросу не относится также доказанное свидетельством книг Царей и Паралипоменон. А именно: когда Бог хочет, чтобы произошло то, что не может произойти иначе, кроме как по человеческому желанию, то сердца людей склоняются к желанию этого (1 Цар. 10, 26; 1 Пар. 12, 18). Причем склоняет их Тот, кто дивным образом производит и желание и совершение (см. выше, в письме Илария, н. 7). Что значит ничего не говорить и однако противоречить? Не то ли, что они не объяснили вам, почему им так показалось, а вы предпочли умолчать об этом в вашем послании. Но каким может быть это объяснение, не знаю. А может быть, их смущает, что мы показали, чту Бог произвел в человеческих сердцах и как привел волю тех, которых хотел привести, к тому, чтобы царем был поставлен Саул или Давид? И они полагают, что данные примеры потому не подходят к этому вопросу, что временно царствовать в нынешнем веке и вечно царствовать с Богом — не одно и то же? И потому считают, что Бог приклоняет сердца для овладения земным царством, а для овладения Царством Небесным Он не приклоняет сердец, угодных Ему? Но я думаю, что ради Небесного Царства, а не ради земного сказано: «Приклони сердце мое к откровениям твоим» (Пс.118, 36). Или: «Господом направляются стопы человека, и Он желает путь его» (Пс.36, 23). Или: «Приготовляется воля Господом» (Прит. 8, по Септ.). Или: «Да будет Господь наш с нами, как был с отцами нашими: да не оставляет нас и не отвращает нас от Себя; да приклонит сердца наши к Себе, чтобы ходили мы всеми путями Его» (3 Цар. 8, 57–58). Или: «Дам им сердце, чтобы познали Меня, и уши слышащие» (Варух, 2, 31). Или: «Дам им сердце новое, и дух новый вложу в них, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях Моих, и суды Мои соблюдать будете и творить» (Там же 36, 27). Пусть услышат они слова: «От Господа направляются стопы мужа, смертный же как постигнет пути свои?» (Прит. 20, 24). И еще: «Всякий кажется праведным самому себе, управляет же сердцами Господь» (Там же 21, 2). И еще: «И уверовали все, предназначенные к жизни вечной» (Деян. 13, 48). Пусть услышат сие и все остальное, о чем не сказано и чем доказывается, что Бог также и для Царства Небесного, и для вечной жизни готовит и обращает волю людей. Размыслите над тем, на что это будет похоже, если поверим, будто для установления земных царств Бог воздействует на волю человеческую, а для приобретения Царства Небесного не воздействует.
Глава 21. Заключение. Начало веры — дар Божий
43. Многое мы сказали, и, может быть, давно смогли убедить в том, в чем хотели, и еще продолжаем говорить, обращаясь к столь славным умам, словно к тупицам, для которых и слишком многого недостаточно. Но да простят, ибо новый вопрос подтолкнул нас к этому. Ибо, доказав достаточными свидетельствами в прежних сочинениях, что даром Божиим является также и вера, я обнаружил, что мне могли бы возразить по поводу этих свидетельств. Дескать, прирост веры есть дар Божий; начало же веры, которым мы сперва веруем во Христа, происходит от самого человека и не есть дар Божий; но Бог требует сего, чтобы, когда это предшествует, остальные дары Божии были получены словно за эту заслугу. И так ни один из них не дается даром — и в то же время в них проповедуется благодать Божия, которая не бывает заслуженной. Вы видите, сколь абсурдно сие, и сего ради мы воспряли, насколько могли, чтобы показать, что и само начало веры является даром Божиим. И если мы делали это дольше, чем, возможно, желали те, ради которых это делали, то мы готовы к упрекам. Но пусть признают, что, хотя за много большее время, чем они хотели бы, и с большей скукой и однообразием для разумеющих, мы все таки исполнили то, что задумали, то есть научили тому, что даже начало веры, как и воздержание, терпение, праведность, благочестие и остальное, о чем с ними нет никаких разногласий, является даром Божиим. Итак, здесь да будет конец этой книги, чтобы не раздражала ее чрезвычайная пространность.
О граде Божьем
КНИГА ПЕРВАЯ
Предисловие
В этом сочинении, любезнейший сын мой Марцеллин, тобою задуманном, а для меня, в силу данного мною обещания, обязательном, я поставил своей задачей защитить град Божий, славнейший как в этом течении времени, когда странствует он между нечестивыми, «живя верою» (Аввак. II, 4), так и в той вечной жизни, которую сейчас он «ожидает в терпении» (Рим. VIII, 25), веря, что «суд возвратится к правде» (Пс. XCIII, 15), и которую он обретет в силу несомненного ее превосходства, защитить против тех, которые ставят своих богов выше его Основателя. Велик и тяжел этот труд; но «Бог нам прибежище» (Пс. LXI, 9).
Знаю, каше нужны силы для того, чтобы убедить гордых, как велика доблесть смирения, благодаря которой все земные величия, колеблющиеся от непостоянства времени, превосходит не присвоенная себе человеческой спесью высота, а та, которая даруется божественною благодатью. Ибо Царь и Основатель этого града, о котором мы задумали говорить, открыл в Писании Своем народам определение божественного закона, в котором сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. IV, 6; I Пет. V, 5). Но то, что принадлежит одному только Богу, старается присвоить себе и надменный дух гордой души, и любит, чтобы ему вменяли в славу
Щадить покорных, низлагая гордых
Virg. Aeneld VI, v. 853.
Блаженный Августин 4
Поэтому, насколько того требует предпринятый мною труд и насколько это представляется возможным, нельзя обойти молчанием и земного града, который, стремясь к господству, сам находится под властью этой страсти господствовать, хотя ему и поклоняются народы.
ГЛАВА I
Из этого–то града и выходят враги, от которых нам надлежит защищать град Божий. Многие из них, впрочем, исправив заблуждение нечестивости, становятся вполне приличными гражданами града, но многие до такой степени воспламеняются ненавистью к нему и до такой степени оказываются неблагодарными к очевидным благодеяниям его Искупителя, что поднимают против него в настоящее время языки свои даже потому, что, избегая вражеского меча, спасли жизнь, которою гордятся, в его священных местах*.
Разве враждебными имени Христову оказываются не именно те римляне, которых варвары пощадили ради Христа? Об этом свидетельствуют места мучеников и базилики апостолов, которые во время опустошения Рима уберегли в себе и своих, и чужих. До их порога свирепствовал кровожадный неприятель; там останавливалась ярость убийцы; туда сострадательные враги приводили тех, кого щадили вне этих мест, чтобы не набросились на них другие, которые подобного сострадания не имели. Даже у тех из них, которые убивали и свирепствовали по обычаю врагов в других местах, и у тех, после того как прихо -
* Здесь и далее речь идет о взятии и разграблении Рима вестготами под предводительством Алариха в 410 г. Будучи в большинстве своем христианами, вестготы не тронули христианских святынь и пощадили укрывшихся там горожан.
О граде Божием 5
дили они туда, где запрещено было то, что в других местах по праву войны дозволялось, вся свирепость укрощалась и пропадала жадность к военной добыче. Таким–то образом уцелели многие, унижающие теперь времена христианские и обвиняющие Христа за все те бедствия, которые испытал их град, а те блага жизни, что даны были им в честь Христа, приписывают не нашему Христу, а своему фатуму.
А между тем, если бы было у них хоть сколько–нибудь здравого смысла, они должны были бы все то, что претерпели от врагов сурового и жестокого, приписать божественному провидению, которое обычно исправляет и сглаживает войнами испорченные нравы людей, справедливую же и похвальную жизнь смертных в то же самое время этими поражениями упражняет и после испытания или переносит их в лучший мир, или удерживает на этой земле ради пользы других. А то, что кровожадные варвары, вопреки обычаю войны, пощадили их ради имени Христова в местах, посвященных имени Христову, — это им следовало приписать временам христианским, И за это они должны были благодарить Бога, и, чтобы избежать наказания вечным огнем, искренне прибегнуть к имени Его, имени, которое многие употребили ложно, чтобы избежать неминуемой гибели. Ведь среди тех, которых ты видишь так дерзко и нагло издевающимися над рабами Христовыми, весьма много таких, которые не избежали бы этой гибели и истребления, если бы не выдали себя ложно за рабов Христа. И вот, в неблагодарной своей гордыне и по нечестивейшему безумию, чтобы получить наказание вечным мраком, восстают они извращенным сердцем своим против имени Его, имени, к которому прибегли лукавыми устами своими, чтобы пользоваться временным светом!
БлаженныйАвгустин 6
ГЛАВА II
Описано немало войн, которые велись как до основания Рима, так и после, в том числе и во времена империи: пусть прочитают и скажут, был ли какой–либо город взят иноплеменниками так, чтобы враги, взявшие его, пощадили тех, кого нашли укрывшимися в храмах своих богов; или чтобы какой–либо предводитель варваров повелел, ворвавшись в город, не убивать никого, кто убежал бы в тот или иной храм? Разве не видел Эней, как Приам на жертвеннике ибо после того
Кровью своей осквернил им огонь освященный*? Или это не Диомед и Улисс
Стражей священного храма убивши, украли Образ святейший; руками, залитыми кровью, Чистых повязок богини коснуться дерзнули**?
И, однако же, то было неправда, о чем говорится далее:
После того, пошатнувшись, ослабла надежда ахейцев,
ибо после того они победили; после того они разрушили Трою огнем и мечом; после того обезглавили Приама, искавшего убежища у жертвенников. Что же тогда потеряла перед этим сама Минерва, что погибла? Не стражей ли своих? Действительно, она могла быть унесена только после их умерщвления. Ведь не статуя охраняла людей, а люди — статую. Зачем же тогда ей молились, чтобы она охраняла отчизну и граждан, если она не имела сил сохранить даже стражей своих?
О граде Божием 7
ГЛАВА III
И римляне утешались, что таким богам вверили для охраны свой город! О, какое жалкое заблуждение! И при этом на нас обижаются за то, что мы говорим подобные вещи об их богах, а на своих писателей — нет; более того, за изучение их назначили награду, а самих учителей, сверх того, сочли достойными и общественного жалования, и высокого сана. А между тем, у Вергилия, которого малые дети читают потому, что он–де величайший из поэтов, самый знаменитый и лучший, и надо его поэтому изучать в нежном возрасте, поскольку усвоенное юными душами запоминается крепче, о чем говорит и Гораций в своем известном изречении:
Глиняный новый сосуд долго удерживать сможет Запах налитого*,
— у этого самого Вергилия Юнона, ненавидящая троянцев, представлена говорящею Эолу, царю ветров, следующие слова, направленные на то, чтобы возбудить его гнев против них:
Род мне враждебный плывет по Тирренскому морю, Трои сыны, что везут побежденных пенатов**.
Этим ли побежденным пенатам мудрые люди должны были вверить Рим, чтобы сделать его непобедимым? Но Юнона–де, возразят нам, говорила это, как раздраженная женщина, которая не знает, что говорит. А сам Эней, названный во всех отношениях благочестивым, не рассказывает ли так:
Вот и Пантей Отриад, храма и Феба служитель
Тащит рукою священной богов побежденных и внука
Малого; путь потеряв, направляется к дому***?
БлаженныйАвгустин 8
Не богов ли, которых не сомневается назвать побежденными, представляет он скорее вверенными ему, чем себя — им, когда к нему обращаются с такою речью:
Вверяет тебе Илион и пенатов своих, и святыню'?
Итак, если Вергилий говорит, что боги таковы, что они были побеждены, что были вверены человеку, чтобы, как побежденные, могли каким бы то ни было образом уйти, то сколь же безумно считать мудростью то, что Рим был вверен таким охранителям: как будто он не мог бы подвергнуться опустошению, если бы их не оставил? Да и поклоняться побежденным богам, как правителям и защитникам, не значит ли, вместо добрых надежд на божество, становиться под дурные предзнаменования? Гораздо разумнее верить не тому, что Рим не дошел бы до такого бедствия, если бы не погибли прежде они, а тому, что они погибли бы давным давно, если бы их не охранял, насколько мог, сам Рим. Ибо кто, вникнув в суть дела, не поймет, как легкомысленно составилось предубеждение, будто Рим не мог быть побежден под защитою побежденных и потому погиб, что потерял своих стражей–богов, когда достаточной причиной гибели могло быть даже одно то, что он захотел иметь стражей, которым угрожала гибель. Итак, когда вышеприведенное писалось и воспевалось о богах, то это не был вымысел поэтов: это вынуждала говорить разумных людей сама истина. Но об этом более обстоятельно мы поговорим в другом месте.
В настоящем же случае я поподробнее остановлюсь на поведении тех неблагодарных людей, которые зло, терпимое ими заслуженно вследствие развращенности их нравов, богохульно вменяют в вину Христу, а на то, что им, даже и таким, дана была по щада
О граде Божием 9
ради Христа, не удостаивают обратить своего внимания; в безумии святотатственной дерзости упражняют они свои языки, хуля имя Христово, языки, которыми лживо произносили это святое имя, чтобы остаться в живых, или, по крайней мере, удерживали их в посвященных Ему местах, чтобы там, где ради Него враги оставляли их неприкосновенными, быть в безопасности под Его защитой; но как только опасность миновала, они поспешили убраться оттуда и выступить с враждебной против Него клеветой.
ГЛАВА IV
Как сказал я, сама Троя, мать римского народа, не могла в священных местах своих богов оградить горожан от огня и меча греков; хотя греки почитали тех же богов. Потому что в убежище Юноны
Феникс и лютый Улисс охраняли ахейцев добычу,
Стоя на страже: туда отовсюду из Трои сносились
С храмов зажженных погибшего града святыни:
Тризны богов, из массивного золота чаши,
Горы одежд драгоценных — копий врага достоянье;
Малые дети и матери их, замирая от страха,
Рядом стояли вокруг'.
Очевидно, что священное место такой великой богини избрано было не для того, чтобы оттуда не разрешалось забирать в плен, а для того, чтобы туда можно было заключать пленных. Теперь сравни это убежище, священное место не какого–нибудь рядового бога или одного из толпы низших богов, а сестры и супруги самого Юпитера и царицы всех богов, — сравни с местами, посвященными памяти наших апостолов. В то убежище сносилась добыча,
БлаженныйАвгустин 10
награбленная из зажженных храмов и у богов, сносилась не для того, чтобы ее возвратить побежденным, а для того, чтобы поделить между победителями; здесь же и то, что было взято в другом месте, но оказалось принадлежавшим этим местам, было возвращено им с честью и благоговейным уважением. Там свобода терялась; здесь она сохранялась. Там сберегалось отнятое; здесь запрещено было брать. Туда владычествующий враг сгонял для обращения в рабство; сюда сострадательные враги приводили для освобождения. Наконец, тот храм Юноны избрала для себя жадность и гордость легкомысленных греков, а эти базилики Христовы — милосердие и смирение самых необузданных варваров. Но, возможно, на самом деле греки во время этой своей победы пощадили храмы общих и им богов и не решились убивать и забирать в плен убежавших туда несчастных побежденных троянцев, а Вергилий, как это нередко бывает у поэтов, выдумал все вышеприведенное? Но ведь он описал обычай врагов, разрушающих города.
ГЛАВА V
Даже Цезарь (как пишет о том Саллюстий, историк, известный своею правдивостью) не преминул в своей речи, которую произносил в сенате относительно заговорщиков, упомянуть об этом обычае: «Похищать девиц и отроков; вырывать детей из объятий родителей; матерей семейств заставлять терпеть все, что заблагорассудится победителям; храмы и дома грабить; производить убийства и пожары; наполнять, наконец, все звоном оружия, трупами, кровью и воплем»*.
Если бы он умолчал в этом случае о храмах, мы бы еще могли подумать, что враги имели обычай щадить
О граде Божием 11
местопребывания богов. И опасность такого рода угрожала римским храмам не со стороны чужеземных врагов, а со стороны Катилины и его союзников, благороднейших сенаторов и римских граждан. Но это–де люди потерянные и отцеубийцы отчизны…
ГААВА VI
Но зачем нам перебирать множество народов, ведших между собою войны и никогда не дававших пощады побежденным в храмах их богов? Посмотрим на самих римлян; вспомним, говорю, и пересмотрим этих самых римлян, которые в особую славу себе вменяли
Щадить покорных, низлагая гордых,
и которые якобы предпочитали прощать полученные оскорбления, а не мстить за них. Для распространения своего владычества они разрушили столько и таких больших, взятых силою оружия, городов. Пусть же прочитают нам, какие храмы они имели обычай выделять, чтобы освобождать всякого, кто бы в них укрылся? Или они делали это, но историки о том умолчали? Неужели историки, специально выискивавшие такое, что могли бы хвалить, обходили молчанием подобные, по их же мнению, самые блистательные доказательства благочестия?
О знаменитом римлянине Марке Марцелле, взявшем славный город Сиракузы, рассказывают, что он перед штурмом плакал об угрожавшем городу разрушении. Позаботился он и об охране целомудрия, даже и в отношении врага. Ибо прежде чем, как победитель, повелел вторгнуться в город, предписал эдиктом, чтобы никто не чинил насилия над свободным телом. Тем не менее город был разрушен по обычаю войны, и мы нигде не прочтем, чтобы такой целомудренный и милостивый полководец дал приказ оставлять неприкосновенным
БлаженныйАвгустин 12
того, кто убежал бы в тот или иной храм. А это никоим образом не было бы обойдено молчанием, нашли возможным умолчать ни о его плаче, ни об изданном им запрещении оскорблять целомудрие. Фабия, разрушителя Тарен–та, хвалят за то, что он не захотел обратить в военную добычу кумиров. Когда писец спросил у него, как он прикажет поступить со статуями богов, которых было набрано множество, он прикрыл умеренность свою шуткой. Он спросил, каковы они, и когда ему ответили, что многие из них не только велики, но и вооружены, он сказал: «Оставим гневливых богов та–рентинцам». Итак, если плач того и смех этого, целомудренное сострадание первого и шутливо выраженное благородство последнего не были обойдены молчанием римскими историками, то как могло бы быть ими опущено, если бы они оказали каким–нибудь людям пощаду в честь какого–либо из их богов в том смысле, что запретили бы в каком–нибудь храме совершать убийства и грабежи5
ГЛАВА VII
Итак, все эти опустошения, убийства, грабежи, пожары, страдания, совершившиеся во время последнего римского поражения, — все это породил обычай войны. А то, что совершилось по новому обычаю: что варварская необузданность оказалась кроткой непривычным для войны образом; что в качестве убежища народу, который должен был получить пощаду, были выбраны и указаны обширнейшие базилики, где никого не убивали, откуда никого не брали в плен, куда сострадательные враги приводили многих для освобождения, откуда не уводили в плен никого даже самые жестокие из них, — все это следует приписать имени Христа; все это следует приписать времени
О граде Божием 13
христианскому. Кто этого не видит, тот слеп. Кто же видит, но не хвалит, тот неблагодарен. А кто возражает хвалящему, тот безумен. Человек благоразумный ни в коем случае не станет объяснять этого варварством врагов. Кровожадные и жестокие души Тот устрашил, Тот обуздал, Тот удивительнейшим образом умерил, Кто задолго до этого предсказал через пророка: «Посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не отниму от него» (Пс. ЬХХХУШ, 33, 34).
ГЛАВА VIII
Кто–нибудь скажет: так почему же это божественное милосердие простерлось и на нечестивых и неблагодарных? А потому, полагаю, что его оказал Тот, Который ежедневно «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. V, 45). Хотя некоторые из них, размышляя об этом, исправляются от своей нечестивости покаянием, а некоторые, как говорит апостол, презирая богатство благости и долготерпения Божия, по жестокости своей и непокаянному сердцу, собирают себе «гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его» (Рим. II, 4—6); однако терпение Божие призывает к покаянию злых, как бич Божий учит терпению добрых. Так же точно терпение Божие обнимает своим покровительством добрых, как божественная строгость стережет для наказания злых. Ибо такие блага справедливым, которыми бы не пользовались несправедливые, и такие бедствия нечестивым, от которых бы не страдали добрые, божественному провидению угодно уготовить в жизни будущей. А эти временные блага и бедствия оно пожелало сделать общими для тех и других. Это для того, чтобы не было слишком жадного стремления к
БлаженныйАвгустин 14
благам, которые оказываются в распоряжении и людей злых, и нравственного отвращения от бедствий, от которых очень часто страдают и люди добрые.
Но есть довольно большое различие в том, как пользуются люди тем, что называется счастьем, или тем, что — несчастьем. Ибо добрый ни временными благами не превозносится, ни временным злом не сокрушается; а злой потому и казнится этого рода несчастьем, что от счастья портится. Впрочем, Бог часто обнаруживает с большей очевидностью действие Свое в распределении и этого рода предметов. Ибо, если бы всякий грех был в настоящее время наказуем очевидным образом, можно было бы подумать, что для последнего суда не остается ничего; и наоборот, если бы Божество в жизни не наказывало открыто никакого греха, подумали бы, что божественного провидения нет вовсе. Так же точно и в отношении к счастью: если бы Бог с очевиднейшей щедростью не давал его некоторым просящим, мы сказали бы, что оно зависит не от Него; а если бы давал всем просящим, подумали бы, что Ему только из–за таких наград и следует служить; служение же такое сделало бы нас не благочестивыми, а корыстолюбивыми и жадными.
Если это так, и если какие–нибудь добрые и злые одинаково подвергаются бедствиям, — из того, что не различено, что терпят те и другие, отнюдь не следует, чтобы между ними самими не было никакого различия. Различие между терпящими остается даже при сходстве того, что они терпят; и под одним и тем же орудием пытки добродетель и порок не делаются одним и тем же. Как в одном и том же огне золото блестит, а солома — дымит; и в одной и той же молотилке стебли изламываются, а зерна — очищаются; и отстой масляный не смешивается с маслом только потому, что выдавливается одной и той же тяжестью пресса: так одна и та же обрушивающаяся бедствиями сила добрых испытывает, очищает, отцеживает, а
О граде Божием 15
злых обнаруживает, опустошает и искореняет. Поэтому, терпя одно и то же бедствие, злые клянут и хулят Бога, а добрые молятся Ему и хвалят Его. Важно не то, каково испытание, а только то, каков испытуемый, ибо одинаковым движением взболтанные — навоз невыносимо смердит, а благовоние — благоухает.
ГЛАВА IX
Да и что в этом общественном бедствии претерпели христиане такого, что при более верном взгляде на дело не послужило бы к их усовершенствованию? Во–первых, смиренно размышляя о самих грехах, разгневавшись на которые Бог наполнил мир такими бедствиями, они (хотя и далеко отстоят от злодеев, людей распутных и нечестивых) не настолько признают себя чуждыми разного рода проступков, чтобы всерьез полагать, что им не за что подвергаться за них временным лишениям. Не говорю о том, что каждый, даже если он вел и похвальную жизнь, в некоторых случаях поддается плотской наклонности: если и не к безмерным злодеяниям, не к крайнему распутству и не к мерзости нечестивости, то, по крайней мере, к некоторым грехам, или редким, или столь же частым, сколь и малозначительным; об этом я не говорю. Но легко ли найти такого человека, который бы к этим самым лицам, из–за отвратительной гордости, распущенности и жадности, из–за омерзительных неправд и нечестия которых Бог, как и предсказал с угрозой, стирает земли (Ис. XXIV и др.), относился бы так, как следует к ним относиться, жил с ними так, как с такими следует жить? От того, чтобы их научить, усовестить, а иногда обличить и известным образом наказать, по большей части неуместно воздерживаются: то труд такой кажется тяжелым, то мы стесняемся оскорбить их в лицо, то избегаем вражды, чтобы они не помешали и не повредили нам
БлаженныйАвгустин 16
в этих временных вещах, к приобретению которых еще стремится наша жадность, или потери которых боится наша слабость. Таким образом, хотя добрым и не нравится жизнь злых, и они не подвергнутся с последними тому осуждению, которое тем уготовано после этой жизни, однако, так как они щадят достойные осуждения грехи их, хотя за свои, даже легкие и извинительные, боятся, то по справедливости подвергаются вместе с ними и временным наказаниям, хотя в вечности наказаны не будут. Терпя вместе с ними божественные наказания, они по справедливости вкушают горечь этой жизни, так как, любя сладость ее, не захотели сделать ее горькой для упомянутых грешников.
Конечно, если кто–либо воздерживается от обличения и обуздания поступающих дурно или потому, что ищет более удобного для этого времени, или потому, что боится за них же самих, чтобы они не стали от этого еще хуже или чтобы не воспрепятствовали научить доброй и справедливой жизни других, более слабых, не оказали на них дурного влияния и не отвратили от веры, то в этом обнаруживается не жадность, а мудрое правило любви. Грешно, когда ведущие жизнь добрую и отворачивающиеся от дел людей плохих снисходительно относятся к чужим грехам, от которых должны были бы отучать или которые должны были бы обличать, — относятся снисходительно потому, что боятся оскорблений со стороны дурных людей, боятся вреда в тех вещах, которыми они сами, как добрые и невинные, пользуются дозволительным образом, но с большей жадностью, чем следовало бы это тем, которые странствуют в этом мире, уповая при этом на горнее отечество.
Действительно, не одни только слабейшие, ведущие супружескую жизнь, имеющие или желающие иметь детей, владеющие домами и хозяйствами (к таким апостол обращает речь свою в церквях, когда учит и убеждает, как должны жить жены с мужьями,
О граде Божием 17
мужья с женами, дети с родителями, родители с детьми, слуги с господами и господа со слугами) приобретают с охотой и теряют с огорчением многое временное и земное, а потому и не решаются оскорблять людей, чья развратная и полная злодеяний жизнь возбуждает у них отвращение; но и те, которые ведут высший род жизни, не связаны узами супружества, довольствуются малым в пище и одежде, — и те, слишком заботясь о своем добром имени и безопасности, боясь коварства и нападок со стороны людей дурных, воздерживаются от обличений. Хотя они и не настолько боятся последних, чтобы, уступая каким–либо их угрозам и непотребствам, и самим поступать подобным же образом, однако по большей части не хотят порицать того, чего вместе с ними не делают, хотя своим обличением, быть может, и исправили бы некоторых. Они боятся, чтобы в случае неудачи не пострадали их собственное благосостояние и доброе имя; и боятся этого не потому, что доброе имя свое и благосостояние считают необходимыми для пользы людей, требующих наставления, а скорее по той слабости, которая любит ласкающий язык и человеческий день, страшится суда черни, истязания и умерщвления плоти, т. е. по причине некоторых уз вожделения, а не по обязанностям любви.
Итак, я вижу в этом достаточную причину того, почему вместе со злыми подвергаются бедствиям и добрые, когда Богу бывает угодно поразить временными казнями развращенные нравы. Подвергаются наказаниям вместе не потому, что совместно вели дурную жизнь, а потому, что совместно (хотя и неравномерно, но, однако же, совместно) любили жизнь временную, которую добрые должны были бы презирать, чтобы дурные, будучи обличены и исправлены, наследовали жизнь вечную (а если бы не захотели быть в наследовании ее союзниками, пусть бы были терпимы и любимы как враги: ибо пока живут всегда остается надежда, что они изменят свою волю
БлаженныйАвгустин 18
к лучшему). В этом деле они несут не одинаковую, а гораздо большую ответственность, чем те, которым сказано через пророка: «Сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража» (Иезек. XXXIII, 6). Для того и установлены стражи народов, т. е. предстоятели в церквях, чтобы они не щадили своими обличениями грехов. Но при этом не чужд вины подобного рода и тот, кто, хотя он и не предстоятель, но в тех лицах, с которыми связан необходимыми условиями этой жизни, видит многое, заслуживающее предостережения и укора, но оставляет это без внимания, избегая ненависти ради того, чем в этой жизни пользуется, как должным, но услаждается более, чем должно. Затем, есть и иная причина, по которой добрые подвергаются временным бедствиям, — такая, какая имела место в отношении Иова: чтобы душа человеческая испытывала саму себя и, наконец, осознала, насколько она, в силу одного только благочестия, бескорыстно любит Бога.
ГЛАВАХ
Рассмотрев и обсудив сказанное надлежащим образом, обрати внимание на то, случается ли с верными и благочестивыми какое–либо зло, которое не обратилось бы для них в добро? Разве только признать пустыми словами известное изречение апостола, в котором он говорит: «Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу» (Рим. VIII, 28)…
Потеряли они все, что имели? Неужто и веру? Не–ужто и благочестие? Неужто и благо внутреннего человека, богатого перед Богом (I Пет. III, 4)? Все это — богатства христианина, обладающий которыми апостол говорил: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А
О граде Божием 19
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (I Тим. VI, 6—10).
Итак, те, у кого во время этого разорения погибли земные богатства, если смотрели они на эти богатства так, как учил этот внешне бедный, а внутренне богатый человек, могли сказать, как сказал и Иов, тяжко испытанный, но непобежденный: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно!» (Иов. I, 21). Добрый раб, он считал величайшим своим богатством исполнять волю Господа, следуя которой богател умом, и не огорчился, потеряв при жизни те вещи, которые должен был бы потерять вместе со смертью. Те же слабейшие, которые, хотя и не предпочитали этих земных благ Христу, были, однако же, с некоторой страстностью привязаны к ним, те, теряя их, почувствовали, насколько, любя их, грешили. Ибо они пострадали настолько, насколько подвергли сами себя скорбям, как сказано об этом в вышеупомянутых словах апостола. Им нужно было прибавить урок опыта, так как они долго пренебрегали уроком словесным. Ибо, когда апостол говорил: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры…» и т. д., то осуждал, конечно, пристрастие к богатству, а не само богатство, потому что в другом месте он дает такое повеление: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения: чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (I Тим. VI, 17—19).
БлаженныйАвгустин 20
Кто употреблял свое богатство так, те ничтожные убытки свои покрыли великими прибылями; и были более обрадованы тем, что, охотно раздавая, вернее сохранили, чем опечалены тем, что, боязливо сберегая, легче потеряли. То могло погибнуть на земле, что было жаль на земле передавать. Приняв же совет Господа своего, говорящего: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкопывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. VI, 19—21), они в годину бедствия на опыте убедились, как благоразумно поступили, что не пренебрегли советом правдивейшего Наставника и вернейшего и непобедимейшего Стража их сокровища. Если многие радовались, что имели богатства свои в таких местах, куда не случилось дойти неприятелю, то не тем ли вернее и беззаботнее могли радоваться они, перенеся по совету Божию свои богатства туда, куда враг вовсе не может проникнуть?
Поэтому наш Павлин, епископ Нолы, добровольно ставший из богатого беднейшим, но изобильнейшим святостью, когда варвары опустошили Нолу, задержанный ими, молился (как узнали мы потом от него самого) в сердце своем так: «Да не истязают меня, Господи, выпытывая, где золото и серебро: Тебе ведомо, где». Все свое он имел там, куда убеждал его скрывать и копить Тот, Кто предсказал и эти бедствия, ныне постигнувшие мир. Поэтому, кто послушал увещания Господа своего относительно того, куда и как должно собирать сокровища, тот не потерял при нашествии варваров и самих земных богатств; а кому пришлось раскаяться, что не послушал, тот, если не из предшествующего указания мудрости, то из последующего опыта научился, как с подобными вещами следует поступать.
Но, говорят, некоторых и добрых–де христиан подвергли пыткам, чтобы они выдали врагам свои
О граде Божием 21
имущества. Но они не могли ни выдать, ни потерять того добра, которое их самих делало добрыми. А если захотели лучше подвергнуться пыткам, чем выдать маммону неправды, то не были добрыми. Потерпевшие же столько из–за золота получили урок, сколько должны они претерпевать за Христа. Они научились, что следует любить Того, Кто пострадавших за Него обогатит вечным блаженством, а не золото и серебро, страдать ради которого было глупо, скрыть которое можно было только прибегнув ко лжи, но которое приходилось выдать, если говорить правду. Ибо в пытках никто не потерял Христа через исповедание Его, а золото никто не сохранил иначе, как только через его отрицание. Поэтому пытки могли быть весьма полезны: они учили любить благо нетленное вместо тех благ, из–за любви к которым их владельцы подвергались истязаниям безо всякой для себя пользы.
Но некоторые–де, говорят, даже не имевшие ничего, что могли бы выдать, были подвергнуты пыткам из–за недоверия к ним. Но не исключено, что эти желали иметь и были бедны не по своей воле. Таким следовало показать, что не имущество, а пристрастие к нему достойно таких истязаний. Если же возлагая надежды на лучшую жизнь они не имели здесь скрытого золота и серебра, — хотя я и не знаю, случилось ли кому–либо из таких быть подвергнутым пыткам, но если и случилось, — то несомненно, что исповедавшие в пытках святую нищету исповедали Христа. Поэтому, если кто–то из них и не заслужил у врагов доверия, он не мог, однако же, как исповедник святой нищеты, терпеть истязания без небесной награды.
Говорят также, что многие христиане были истощены долговременным голодом. Но и это добрые верные, перенося благочестиво, обратили себе на пользу. Ибо кого голод умертвил, того он освободил от зол этой жизни, как освобождает телесная болезнь; а кого не умертвил, того научил жить умереннее и подольше поститься.
БлаженныйАвгустин 22
ГЛАВА XI
Но (возразят нам) много христиан было и убито, много истреблено разными видами ужасных смертей. Об этом, возможно, и следует скорбеть, но ведь это — общий удел всех, которые родились для этой жизни. Я знаю одно, что не умер никто, кто рано или поздно не должен был умереть. А конец жизни один: как жизни долгой, так и короткой. Одно не лучше, а другое не хуже, или: одно не больше, а другое не меньше, коль скоро то и другое в равной мере уже не существует. И что за важность, каким видом смерти оканчивается эта жизнь, коль скоро тот, для кого она оканчивается, не вынужден будет умирать снова? А если каждому из смертных, при ежедневных случайностях этой жизни, угрожают некоторым образом бесчисленные виды смерти, пока остается неизвестным — какой именно из них постигнет его: то, скажи на милость, не лучше ли испытать один из них, умерши, чем бояться всех, продолжая жить? Знаю, что наши чувства предпочитают лучше долго жить под страхом стольких смертей, чем, умерши раз, не бояться потом ни одной. Но одно дело то, чего избегает по слабости боязливое плотское чувство, и совсем другое — то, в чем убеждает тщательно проверенное указание разума. Та смерть не должна считаться злой, которой предшествовала жизнь добрая. Смерть делает злым только то, что следует за смертью. Поэтому, кому предстоит умереть, те не должны много заботиться о том, что именно с ними произойдет, от чего они умрут, а должны заботиться о том, куда, умирая, они вынуждены будут идти. Итак, если христианам известно, что смерть благочестивого бедняка под языками собак, лижущих его струпья, была гораздо лучше, чем смерть нечестивого богача в порфире и виссоне (Лук. XVI, 19—26), то какой вред причинили эти ужасные виды смерти тем, кто жил хорошо?
О граде Божием 23
ГЛАВА XII
Но при такой–де массе трупов их не могли и похоронить! И этого благочестивая вера особенно не страшится, помня предсказание, что и звери, пожирающие трупы, не помешают воскресению тел, с головы которых не погибнет и волос (Лук. XXI, 18). Истина не сказала бы: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. X, 28), если бы будущей жизни могло принести какой–либо вред то, что вздумали бы делать враги над телами убитых. Разве что кто–нибудь будет до такой степени глуп, что станет утверждать, будто убивающих тело не следует бояться до смерти, чтобы не убили тела, а надо бояться после смерти, чтобы не запретили похоронить убитое тело. Что же, ложно то, что говорит Христос: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать» (Лук. XII, 4), коль скоро убийцы могут что–нибудь сотворить с трупом? Да не будет: сказанное Истиной не может быть ложью. Так сказано потому, что в живом теле, т. е. до его убийства, есть чувства; после же убийства в теле никаких чувств нет.
Итак, земле не были преданы многие тела христиан, но из–за этого никто не отлучит их от неба и земли, которые наполняет своим присутствием Тот, Кто знает, откуда воскресить сотворенное Им. Правда, в псалме говорится: «Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих — зверям земным; пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их» (Пс. ЬХХУШ, 2, 3), но говорится это для того, чтобы подчеркнуть жестокость сотворивших это, а не для того, чтобы увеличить жалость к потерпевшим. Хотя в глазах людей все это и кажется чем–то ужасным, но «дорога в очах Господних смерть святых Его» (Пс. СХУ, б). Поэтому все такое: омытие и наряжение тела, обряд похорон, пышность проводов, — все это скорее утешение живых, чем помощь умершим. Если бы дорогостоящее погребение могло принести пользу нечестивому при
БлаженныйАвгустин 24
жизни покойнику, то бедное или вообще никакое погребение могло бы повредить праведнику. Но мы помним: облеченному в пурпур богачу многочисленная челядь его сделала, по суждению толпы, пышные проводы, а, между тем, на взгляд Господа, гораздо лучшие были сделаны покрытому язвами бедняку служением ангелов, которые выносили его не в мраморный склеп, а перенесли на лоно Авраамово.
Те, от нападок которых мы вознамерились защищать град Божий, смеются над этим. Но ведь и их собственные философы пренебрегали заботами о погребении Нередко и целые войска, умирая за земное свое отечество, не заботились о том, где они будут лежать потом или каким зверям послужат пищей. И поэты весьма часто отзывались о таких с похвалой:
Тем, кто не в урнах лежит, небосвод весь — надгробье '.
Насколько же меньше у них оснований смеяться над погребением тел христиан, которым обещано со временем не только преобразование из земли их плоти со всеми ее членами, но и возвращение и восстановление их из лона других стихий, в которые обратились разложившиеся трупы!
ГЛАВА XIII
Из сказанного, однако, не следует делать вывод, будто телами умерших нужно пренебрегать, оставляя их где придется, особенно если речь идет о телах праведников, которые были как бы сосудами Духа Святого, предназначенными для всяких добрых дел. Если отцовские одежды, кольца и иные какие–то вещи тем дороже детям, чем сильнее они любили его, то тем более не должны презираться и тела, бывшие,
О граде Божием 25
конечно, куда ближе и дороже покойным, нежели их одежды. Они ведь — не предметы роскоши или вещи, созданные для удобства, но принадлежат самой человеческой природе. Поэтому в том, как омываются и обряжаются тела праведников, как совершаются их торжественные выносы, сколь заботливо обставляются погребения, следует усматривать не что иное, как исполнение долга любви Иные из них и при жизни давали распоряжения сыновьям относительно погребения и даже перенесения их тел (Быт. ХЪУП, 30; Ь, 2, 25). И Товия, как свидетельствует о том ангел, заслужил благоволение Божие погребением мертвых (Тов. XII, 12). Да и сам Господь, который должен был воскреснуть на третий день, называет добрым поступок благочестивой женщины, возлившей на члены Его драгоценное миро, тем подготовив Его к погребению (Мф. XXVI, 10). Также с похвалой упоминаются в Евангелии те, которые позаботились снять с креста, с честью покрыть и похоронить тело Его (Иоан. XIX, 38,39).
Все эти свидетельства не дают, конечно, указаний на то, что трупам присущи какие бы то ни было чувства, но показывают, что провидение Божие, которому угодны дела благочестия, печется и о телах умерших ради укрепления веры в воскресение. Из этих же свидетельств душеспасительно усматривается и то, как велико может быть воздаяние за милостыни, которые мы оказываем живым и чувствующим, если пред Богом не погибнет и то, что оказывается по долгу и любви безжизненным человеческим телам.
Есть, впрочем, и нечто иное, что желали дать уразуметь святые патриархи своими изречениями и пророчествами относительно погребения и перенесения своих тел. Но останавливаться на рассмотрении этого сейчас неуместно: достаточно и сказанного. Но если даже отсутствие таких необходимых для поддержания жизни вещей, как пища и одежда, хотя и причиняет страдания, но не уничтожает в добрых силы терпеть и переносить лишения и не вырывает из душ их
БлаженныйАвгустин 26
благочестия, а, напротив, делает его еще более плодовитым, то тем более отсутствие всего того, что делается обычно при погребении, не может сделать несчастными уже упокоившихся в тайных обителях праведных. Поэтому, если всех этих обрядов не было совершено над трупами христиан при известном опустошении столицы или других городов, то это и не вина живых, которые сделать этого не могли, и не наказание для мертвых, которые лишены уже всяческих чувств.
ГЛАВА XIV
Но многие христиане, говорят они, были уведены в плен. Действительно, было бы большим несчастьем, если бы они были уведены в какое–нибудь такое место, где не могли бы найти Господа своего! На случай же плена есть в Святых Писаниях наших великие утешения. Были в плену три отрока, был Даниил, были и другие пророки, и всегда с ними был Бог–утешитель. Не оставит верных Своих под господством народа, варварского, но человеколюбивого, Тот, Кто не оставил пророка Своего даже во чреве китовом. Те, которым мы говорим это, расположены скорее смеяться над этим, чем верить. Однако же в своих сочинениях они „ верят, что Орион Метимней, благороднейший игрок на цитре, когда был сброшен за борт корабля, был принят на спину дельфином и вынесен им на землю. Но наше–де сказание о пророке Ионе невероятней! Действительно, невероятней, ибо чудесней; а чудеснее потому, что говорит оно о большем могуществе.
ГЛАВА XV
В истории своих знаменитых мужей они имеют благороднейший пример того, что ради веры следует переносить плен даже добровольно. Марк Аттилий Регул, полководец
О граде Божием 27
римского народа, был в плену у карфагенян. Последние, желая обменять этих пленных на соотечественников, взятых в плен римлянами, послали с этим предложением в Рим своих послов в сопровождении Регула, предварительно взяв с него клятву возвратиться в Карфаген, если он не добьется исполнения их желания. Он поехал, но в сенате настоял на противоположном, ибо обмен пленными считал невыгодным для римской республики. Соотечественники, убедившись в этом, не принуждали его возвращаться к врагам, но он сам добровольно исполнил то, в чем поклялся. А те умертвили его неслыханными и ужасными истязаниями: заключив его в узком деревянном пространстве, в котором он вынужден был стоять, и набив со всех сторон острейшие гвозди, чтобы он не мог прислониться, они умертвили его бессонницей. Проявленную им доблесть, конечно, хвалят заслуженно. А между тем, он клялся теми богами, вследствие запрещения культа которых, полагают, мир поражен настоящими бедствиями. Но если их почитали для того, чтобы они сделали эту жизнь счастливой, то, пожелав или допустив подвергнуть таким казням клявшегося в истине, что более тяжкого могли они, разгневанные, сделать клятвопреступнику?
Впрочем, почему бы мне не сделать из этого двойного вывода? Он действительно чтил богов до такой степени, что ради исполнения клятвы не остался в отечестве и не ушел из него в какое–либо другое место, а, ни секунды не колеблясь, возвратился к своим жесточайшим врагам. Если он считал это полезным для настоящей жизни, которую окончил столь ужасно, то он, без всякого сомнения, ошибался. Своим собственным примером он доказал, что боги не приносят никакой пользы своим поклонникам для этого временного счастья: потому что сам он, преданный их культу, был побежден, взят в плен, и за то, что не хотел поступить иначе, чем так, как им клялся, был умерщвлен истязаниями казни нового, до того времени неслыханного
БлаженныйАвгустин 28
и до крайности ужасного рода Если же культ богов дает счастье в виде награды после этой жизни, то зачем возводят клевету на времена христианские, утверждая, что настоящее бедствие постигло Рим потому, что он перестал почитать своих богов, если мог быть несчастным и такой усерднейший их почитатель, каким был Регул? Разве что какое–то чудовищно слепое безумие вооружится против очевиднейшей истины до такой степени, что осмелится утверждать, будто целое гражданское общество, чтущее богов, несчастным быть не может, а один–де человек — может; т. е что могущество богов их скорее способно охранять многих, чем отдельно взятых, хотя множество слагается из единиц.
Но они, пожалуй, скажут, что Регул и в плену, и в самих истязаниях телесных мог быть счастлив душевной добродетелью. В таком случае прежде всего следует заботиться о добродетели, которая может сделать счастливым и гражданское общество. Ведь не одним же счастливо общество, и совсем другим — человек: потому что общество есть не что иное, как соединение множества людей. Ввиду этого я не вхожу пока в рассмотрение того, какая была в Регуле добродетель. На этот раз мне достаточно, что этот благороднейший пример вынуждает их признать, что богов следует почитать не ради телесных благ или таких вещей, которые достаются человеку извне: потому что Регул пожелал лучше лишиться всего этого, чем оскорбить богов, которыми клялся. Но что поделаешь с людьми, которые хвалятся, что имели такого гражданина, каким боятся иметь целое гражданское общество? Ведь если бы они не боялись, они согласились бы, что то, что случилось с Регулом, могло случиться и с государством, так же как и Регул, усердно почитающим богов, и не возводили бы хулу на христианские времена. Но так как вопрос поднят о тех христианах, которые уведены в плен, то бес-
О граде Божием 29
стыдно и бессмысленно смеющиеся над спасительной религией пусть умолкнут, обратив внимание на следующее: если их богам не было стыдно, что усерднейший их почитатель, сохраняя верность данной им клятве, потерял отечество, не имея другого, и в плену у врагов принял мучительную смерть от вновь изобретенной жестокой казни, то тем менее следует ставить в вину христианству плен его святых, которые, с нелживой верой ожидая вышней отчизны, признают себя странниками даже в постоянных местах своего жительства.
ГЛАВА XVI
Думают, что укоряют христиан в великом преступлении, когда, преувеличивая бедствия плена, присоединяют и то, что были насильственно осквернены не только чужие жены и незамужние девицы, но и некоторые монахини. На самом же деле этим ставится в щекотливое положение не вера, не благочестие и не та добродетель, которая называется целомудрием, а само рассуждение наше, имеющее перед собою, с одной стороны, стыдливость, с другой — разум. И мы заботимся в этом случае не столько о том, чтобы дать ответ чужим, сколько о том, чтобы доставить утешение своим. Можно, конечно, прежде всего признать несомненным и доказанным, что добродетель, которая делает жизнь справедливой, повелевает телесными членами, сама пребывая в душе, и что тело бывает свято от руководства им святой волей, при неизменности и твердости которой, что бы кто другой ни сделал с телом или в теле, будет вне вины потерпевшего, если избежать того он не мог без греха со своей стороны. Но так как над чужим телом можно совершить не только такое, что причиняет болезнь, но и такое, что относится к сладострастному наслаждению, то, когда что–нибудь подобное бывает сделано,
БлаженныйАвгустин 30
оно хотя и не уничтожает целомудрия, удерживаемого твердым постоянством души, но потрясает чувство стыдливости; могут ведь подумать, что случилось не без некоторого соизволения мысли такое, что, быть может, и не могло совершиться без некоторого плотского удовольствия.
ГЛАВА XVII
Поэтому какое человеческое чувство откажется извинить тех, которые убивали себя, чтобы не претерпеть чего–либо в этом роде? Но если некоторые не захотели убить себя для того, чтобы своим преступлением избежать чужого над собой злодейства, то тот, кто поставил бы им это в вину, не избежал бы сам обвинения в неразумности. Ведь если вообще не позволительно частному лицу своею властью убивать человека, хотя бы и совершающего преступления (никакой закон не дает права на подобное убийство), то и убивающий самого себя, несомненно, человекоубийца; и когда убивает себя, бывает тем преступнее, чем он невиннее в том деле, из–за которого считает нужным убить себя. Мы по справедливости гнушаемся поступком Иуды, и по суду истины он скорее увеличил, чем искупил преступление своего злодейского предательства тем, что удавился: потому что, отчаиваясь в Божьем милосердии, он в чувстве пагубного раскаяния не оставил себе никакого места для спасительного покаяния. Но не тем ли более должен воздерживаться от самоубийства тот, кто не имеет в себе ничего, что заслуживало бы подобного наказания? Когда убил себя Иуда, он убил человека, запятнанного злодейством, и все же окончил эту жизнь как виновный не только в смерти Христа, но и в своей собственной, потому что был убит хотя и за свое злодейство, но посредством своего же другого злодеяния. С какой же стати человеку, который не сделал
О граде Божием 31
никакого зла, совершать злодеяние над самим собою и, убивая себя, убивать человека невинного единственно для того, чтобы не допустить другого стать виновным? Зачем совершать над собою грех самому только для того, чтобы над нами не был совершен грех чужой?
ГЛАВА XVIII
Не из опасения ли, чтобы не осквернило чужое сладострастие? Не осквернит оно, если будет чужое; а если осквернит, то не будет чужое. Если целомудрие составляет душевную добродетель и имеет спутником своим мужество, которое ставит своим правилом скорее переносить какое бы то ни было зло, чем злу сочувствовать; и если никто мужественный и целомудренный не имеет в своей власти того, что делается над его телом, а имеет лишь то, что соизволяет или что отрицает своею мыслью, то кто, сохраняя ту же чистоту мысли, сочтет себя потерявшим целомудрие, если случится, что над его плотью, лишенной свободы и обессиленной, станет упражняться и искать для себя удовлетворения не его сладострастие? Если бы целомудрие погибало таким образом, целомудрие отнюдь не было бы душевной добродетелью и не относилось бы к тем благам, из которых слагается добрая жизнь, а считалось бы одним из благ телесных, каковы: сила, красота, крепкое и неповрежденное здоровье и прочие такого же рода. Подобные блага, если и подвергаются убыли, нисколько не убавляют доброй и справедливой жизни. Если целомудрие есть нечто такое же, то зачем, чтобы не потерять его, хлопотать из–за него даже с риском для жизни? А если оно есть благо душевное, то его нельзя лишиться и в том случае, если тело будет обессилено. Напротив, благо святого воздержания, коль скоро оно не поддается нечистоте плотских желаний, освящает и
БлаженныйАвгустин 32
само тело; и потому, когда продолжает не поддаваться им с неизменным постоянством, святость не отнимается и у самого тела; ибо остается расположение воли пользоваться им свято, остается даже, насколько от него зависит, и возможность этого.
Не тем свято тело, что не повреждены члены его, и не тем, что не загрязнены они никакими прикосновениями. Они могут подвергаться насильственным повреждениям в разных случаях; а бывает, что и врачи, стараясь восстановить здоровье, делают над нами такое, что кажется на первый взгляд ужасным. Повивальная бабка, производя рукою исследование невинности одной девицы, по злому ли умыслу, или по невежеству, или по случайности, уничтожила во время осмотра целость ее. Не думаю, чтобы кто–нибудь был настолько глуп, что подумал бы, будто девица потеряла что–нибудь даже в смысле святости самого тела, хотя целость известного члена и была погублена. Поэтому, пока остается неизменным душевный обет, благодаря которому получило освящение и тело, насилие чужого сладострастия и у самого тела не отнимает святости, которую сохраняет твердая решимость воздержания. И наоборот, если какая–нибудь поврежденная умом женщина, нарушив обет, который дала Богу, льнет ради преступления к своему обольстителю, — скажем ли мы, что она продолжает быть святою телом, коль скоро она потеряла и уничтожила ту душевную святость, которою святится и тело? Сохрани нас Бог от такого заблуждения; лучше убедимся на примере этого, что при сохранении святости душевной не теряется и святость телесная, хотя бы тело и претерпело насилие; при нарушении же святости душевной теряется и святость телесная, хотя бы тело оставалось неприкосновенным. Поэтому женщина, безо всякого со своей стороны соизволения насильственно схваченная и обращенная в орудие чужого греха, не имеет в себе ничего, что могла бы наказывать добровольною
О граде Божием 33
смертью. А еще менее имеет это прежде, чем такое с нею случится; в последнем случае она совершила бы верное человекоубийство в то время, когда злодейство, притом чужое, еще оставалось под сомнением.
ГЛАВА XIX
Когда мы говорим, что в случае совершенного над телом насилия, если обет чистоты не нарушается никаким желанием зла, злодеяние совершается только тем, кто насилует, а не тою, которая, подвергшись насилию, ничем при этом не содействует насильнику, — этому совершенно ясному положению, возможно, дерзнут противоречить те, против которых мы защищаем не только помыслы христианок, подвергшихся в плену насилию, но и саму святость их тел? Действительно, они всячески превозносят целомудрие Лукреции, благородной древнеримской матроны. Когда сын царя Тарквиния совершил насилие над ее телом, удовлетворив этим свое сладострастие, она объявила о злодействе развратного юноши супругу своему Каллатину и родственнику Бруту, мужам храбрым и знаменитым, и призвала их к мести. А потом, страдая душою и не будучи в силах перенести позора, умертвила себя. Что мы скажем на это? Считать ли ее виновною в прелюбодеянии или целомудренной? Кто стал бы спорить об этом? Некто совершенно справедливо заметил по этому поводу: «Удивительно, было их двое, но прелюбодействовал один!» Видя в совокуплении этих двух сквернейшее сладострастие и волю только одного из них и принимая во внимание не то, что делалось совокуплением членов, а то, что происходило от различия душ, он говорит: «Было их двое, но прелюбодействовал один».
Но почему же более жестокое наказание постигает ту, которая прелюбодеяния не совершила? Ведь тот вместе с отцом был только изгнан из отечества, а
БлаженныйАвгустин 34
эта претерпела смертную казнь? Если невольно терпеть насилие — не распутство, то в чем же тогда справедливость, когда она, целомудренная, наказывается? К вам обращаюсь, законы и судьи римские. Вы и после действительно совершенного преступления не дозволяете безнаказанно убивать злодея, пока он не будет осужден. Итак, если бы это преступление было передано кем–нибудь на ваш суд и вы бы нашли, что убита женщина не только не осужденная, но и чистая и невинная, — неужели вы не подвергли бы соответствующему строгому наказанию того, кто это сделал? А сделала это Лукреция, она сама, прославленная Лукреция, невинную, чистую, претерпевшую насилие Лукрецию вдобавок ко всему еще и умертвила! Произносите ваш приговор. Если не можете произнести его потому, что нет налицо того, кого вы могли бы наказать, то зачем же вы с такою похвалой отзываетесь об убийце этой невинной и чистой женщины? Перед подземными судьями, даже такими, какими изображают их в стихах ваши поэты, вы не защитите ее, конечно, никакими резонами, потому что она стоит, разумеется, в ряду тех,
Что невинными будучи,
Сами себя умертвили, прервав в одночасье
Жизни свои, ибо свет им всем стал ненавистным'.
И когда у кого–либо из таких появляется желание вернуться на свет,
Судьба на него восстает, крепко держат на месте Непроходимые волны печального моря».
Возможно, она совсем не там, ибо умертвила себя, хотя и будучи невинной, но чувствующей за собой
О граде Божием 35
преступление? Что, если она (что могло быть известно только ей самой), увлеченная сладострастием юноши, сочувствовала ему, хотя он и употребил против нее насилие; и не прощая себя за это, сокрушалась до такой степени, что полагала возможным искупить свое преступление только смертью? Хотя и в этом случае она не должна была убивать себя, если бы могла с пользой приносить покаяние перед ложными богами. Но если это действительно так, и ложно то, что их было двое, но прелюбодействовал один, а напротив — совершили прелюбодеяние оба, один с употреблением явной силы, другая — с тайным соизволением: то она убила себя не невинную. В этом случае ученые защитники ее могут сказать, что она не находится в преисподней среди тех,
Что невинными будучи, Сами себя умертвили.
Таким образом, дело сводится к тому, что отрицанием человекоубийства утверждается прелюбодеяние, а оправданием в прелюбодеянии возводится обвинение в человекоубийстве. Выхода решительно нет, коль скоро вопрос ставится так: «Если она прелюбодействовала, то за что ее хвалят; а если осталась целомудренной, то за что она убита?»
Но для нас при опровержении тех, которые, будучи чуждыми всякого помышления о святости, смеются над христианскими женщинами, потерпевшими в плену насилие, — для нас в примере этой благородной женщины достаточно и того, что так прекрасно сказано в ее похвалу: «Было их двое, но прелюбодействовал один». Ведь именно так обычно представляют себе Лукрецию: что она не могла осквернить себя никаким соучастием в прелюбодействе. А что она, и не совершив прелюбодеяния, убила себя за то, что сделалась орудием прелюбодеяния, в этом выразилась не любовь к целомудрию, а болезненное чувство
БлаженныйАвгустин 36
стыдливости. Стыдно ей было, что над нею совершилось чужое непотребство, хотя и без ее участия; и римская женщина, до крайности жаждавшая доброго о себе мнения, побоялась, чтобы о ней не подумали, будто бы то, что она претерпела через насилие, она претерпела добровольно. И вот, не будучи в состоянии показать людям своей совести, она решила представить их глазам эту казнь, как свидетеля своих помыслов. Она краснела при мысли, что ее могут счесть сообщницей проступка, если она терпеливо снесет то, что сделал над нею другой.
Этого не сделали христианские женщины, которые, снеся подобное, продолжают жить. Они не наказали себя за чужое преступление, чтобы к чужим злодействам не добавить своих; а это так бы и было, если бы по той причине, что враги, отдавшись страсти, обесчестили их, они из стыда совершили бы над собою человекоубийство. У них есть внутренняя слава целомудрия, свидетельство совести. Они имеют ее пред лицом Бога своего и не ищут большего там, где нет большего, что они могли бы сделать по совести, — не ищут, чтобы ради избежания оскорблений со стороны людской подозрительности не уклониться от предписаний божественного закона.
ГЛАВА XX
В самом деле, не случайно же в священных канонических книгах нельзя найти божественного предписания или дозволения на то, чтобы мы причиняли смерть самим себе даже ради приобретения бессмертия или ради избежания и освобождения от зла. Когда закон говорит: «Не убивай», надлежит понимать, что он воспрещает и самоубийство, ибо, сказав это, он не прибавляет «ближнего твоего», подобно тому, как, воспрещая ложное свидетельство, он говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего
О граде Божием 37
твоего» (Исх. XX, 13,16). Впрочем, и тот, кто дал ложное показание против самого себя, не должен считать себя свободным от этого преступления. Потому что правило любить ближнего любящий должен как бы примерять на себя, ибо написано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. XXII, 39). Если же тот, кто делает ложное показание о самом себе, виновен в лжесвидетельстве не меньше, чем если бы он дал его против ближнего (хотя в заповеди, возбраняющей ложное свидетельство, возбраняется ложное свидетельство именно против ближнего, и людям недостаточно рассудительным может показаться, что ею не воспрещается лжесвидетельствовать против самого себя), то насколько же очевиднее выражена мысль, что человеку непозволительно убивать самого себя, коль скоро в заповеди «не убивай», к которой не сделано никакого дальнейшего добавления, никто не представляется исключением, даже и сам тот, кому это заповедуется?
Некоторые стараются распространить эту заповедь даже на животных, считая непозволительным убивать никого из них. Но в таком случае почему не распространять ее и на травы, и на все, что только питается и произрастает из земли? Ведь и этого рода предметы, хотя и не обладают чувствами, называются живыми, а потому могут умирать, — могут, следовательно, быть и убиты, коль скоро употребляется по отношению к ним насилие. Поэтому апостол, говоря о семенах их, пишет: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» (I Кор. XV, 36). И в псалме написано: «Виноград их побил градом» (Пс. ЬХХУП, 47)*.
Неужели же, слыша заповедь «не убивай», мы станем считать преступлением выкорчевывание куста и согласимся с заблуждениями манихеев? Итак, если мы, отвергнув эти бредни, читая заповедь: «Не убивай»,
* В переводах, которыми пользовался Августин, написано: «Виноград их убил градом».
БлаженныйАвгустин 38
согласимся, что в ней идет речь не о растениях, ибо ни одно из них не обладает чувствами, и не о неразумных животных, летающих, плавающих, ходящих или ползающих, ибо они не могут входить в общение с нами по разуму, который им не дано иметь наравне с нами, почему их жизнь и смерть, по правосуднейшему распоряжению Творца, служат к нашей пользе, то заповедь «не убивай» остается понимать в приложении к человеку: не убивай ни другого, ни самого себя. Ибо кто убивает себя, убивает именно человека.
ГЛАВА XXI
Впрочем, тот же самый божественный авторитет допускает и некоторые исключения из запрета убивать человека. Но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог, или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч служит орудием тому, кто им пользуется. И поэтому заповеди «не убивай» отнюдь не преступают те, которые ведут войны по велению Божию или, будучи в силу Его законов, т. е. в силу самого разумного и справедливого распоряжения, представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью. И Авраам не только не укоряется в жестокости, а напротив, восхваляется за благочестие потому, что хотел убить сына своего не как злодей, а повинуясь воле Божией (Быт. XXII). Справедливо также ставится вопрос, не следует ли считать божественным повелением то, что Иеффай убил вышедшую ему навстречу дочь, так как он дал обет принести в жертву Богу то, что первым выйдет ему навстречу из ворот дома его, когда он будет возвращаться победителем с войны (Суд. XI). И Самсон оправдывается в том, что похоронил себя с гостями
О граде Божием 39
под развалинами дома именно потому, что сделать так повелел ему тайно Дух, который творил через него чудеса (Суд. XVI). Итак, за исключением тех, кому повелевает убивать или правосудный закон, или непосредственно сам Бог, источник правосудия, всякий, кто убивает себя ли самого, или кого иного, становится повинным в человекоубийстве.
ГЛАВА XXII
И если совершившие это над самими собой могут порою вызывать удивление величием своего духа, то их никак нельзя при этом похвалить за благоразумие. Хотя, если всмотреться в дело внимательнее, окажется, что и величие духа не стоит усматривать в том, когда кто–либо убивает себя лишь потому, что не в состоянии перенести или какие–нибудь житейские трудности, или чужие грехи. В самом деле, если наиболее слабым считается тот ум, который бывает не в силах перенести или грубого рабства, которому подвергается его тело, или невежественного мнения толпы, то наиболее великим по справедливости должен быть назван тот дух, который в состоянии скорее вынести бедственную жизнь, чем бежать от нее, и который, пребывая в чистоте и безупречности совести, презирает людское мнение, в особенности же мнение толпы, как правило, превратное. Поэтому если бы величие духа можно было усмотреть в том, что человек причиняет смерть самому себе, то это величие прежде всего было бы видно в Клеомброте; говорят, что, прочитав сочинение Платона, в котором рассуждается о бессмертии души, он бросился со стены и таким образом перешел из этой жизни в ту, которую счел лучшей. В самом деле, его не удручало ни что–либо бедственное, ни преступное, истинное или ложное, чего он не мог бы перенести и потому вынужден был себя умертвить; но в принятии им смерти и в разрушении сладких оков
БлаженныйАвгустин 40
настоящей жизни проявилось только величие его духа. Тем не менее, о том, что поступок его был скорее великим, чем добрым, свидетельствует сам Платон, которого он читал: вне всякого сомнения, Платон сам или поступил бы таким же образом, или, по крайней мере, предписал бы поступать так, если бы не придерживался того мнения, что с точки зрения ума, созерцающего бессмертие души, так делать не следует, и даже более того, следует воспрещать подобное.
Говорят, что многие–де умерщвляли себя, чтобы не попасть в руки врагов. Но мы рассуждаем не о том, почему это делалось, а о том, следует ли так делать. Ибо здравый разум предпочтительнее сотни примеров. Впрочем, с ним согласны и примеры, но только такие, которые куда более достойны подражания, ибо выше по благочестию. Не делали так ни патриархи, ни пророки, ни апостолы. И сам Христос, Господь наш, заповедуя апостолам в случае гонения на них в одном городе бежать в другой (Мф. X, 23), мог повелеть, чтобы они предавали себя смерти, дабы не попасть в руки преследователей. Но так как Он не заповедовал, чтобы таким образом переселялись к Нему из этой жизни те, коим Он обещал обители вечные (Иоан. XIV, 2), то какие бы примеры люди, не верующие в Бога, нам ни противопоставляли, ясно, что чтущим единого истинного Бога делать так непозволительно.
ГЛАВА XXIII
Впрочем, и им, кроме Лукреции, о которой, как кажется, выше мы сказали достаточно, нелегко указать на человека, авторитет которого предписывал бы (самоубийство), за исключением разве умертвившего себя в Утике Катона; это не потому, что он один поступил так, а потому, что считался человеком мудрым и добрым настолько, что были все основания думать:
О граде Божием 41
такой человек не мог поступить неправильно. Что прежде всего сказать о его поступке, как не то, что его друзья, среди которых было немало людей ученых, благоразумно уговаривали его не делать этого, считая его поступок проявлением духа скорее слабого, чем сильного, ибо он являл собою не столько утверждение чести, избегающей бесчестного, а слабость, не способную перенести несчастье. Это доказал и сам Катон на примере своего любимого сына. Ведь если было бесчестьем жить под властью победившего Цезаря, то зачем отец сделал соучастником этого бесчестья сына, внушив ему положиться во всем на благосклонность Цезаря? Почему он не принудил и его умереть вместе с собою?
Если Торкват поступил похвально, умертвив сына, который вопреки приказу сразился с неприятелем и даже победил его, то почему же побежденный Катон, не пощадив себя, пощадил побежденного сына? Ужели быть победителем, вопреки распоряжению, более бесчестно, чем терпеть победившего неприятеля? Таким образом, Катон отнюдь не считал бесчестным жить под властью победившего Цезаря; иначе он освободил бы своего сына от этого бесчестия отцовским мечом. Итак, что же значит его поступок, как не то, что насколько он любил сына, пощады которому он желал и ждал от Цезаря, настолько же завидовал славе самого Цезаря, опасаясь, чтобы тот не пощадил и его самого, как сказал об этом, говорят, сам Цезарь; или же (чтобы сказать более снисходительно) он стыдился этой славы.
ГЛАВА XXIV
Те, против кого направлена наша речь, не хотят, чтобы мы Катону предпочитали праведного мужа Иова, который счел лучшим смиренно терпеть столь ужасные страдания,
БлаженныйАвгустин 42
чем разом избавиться от них, приняв насильственную смерть, или других святых, о которых говорят наши облеченные высшим авторитетом и заслуживающие абсолютного доверия священные книги, — которые мужественно сносили плен и владычество врагов и не кончали жизнь самоубийством. Из тех же мужей, которые описаны в их творениях, этому самому Марку Катону мы предпочитаем Марка Регула. Катон никогда не побеждал Цезаря, которому не захотел покориться, и, чтобы не покориться, решился себя умертвить. Между тем Регул побеждал карфагенян, и римскому государству как римский полководец доставил победу не над согражданами, такая победа заслуживала бы скорби, а над врагами его; но потом, побежденный ими, захотел лучше терпеть их, перенося рабство, нежели освободиться от них при помощи смерти. Поэтому, находясь под владычеством карфагенян, он сохранил терпение и неизменность своей любви к Риму, оставляя свое побежденное тело врагам, а непобедимый дух — гражданам. Если он не захотел умертвить себя, то сделал это не из любви к жизни. Это он доказал, когда ради исполнения данной им клятвы возвратился к тем же врагам, которым он гораздо более нанес вреда в сенате словами, нежели в сражении оружием. Итак, если этот до такой степени не дороживший жизнью человек предпочел лучше окончить ее среди свирепых врагов в каких угодно казнях, чем умертвить самого себя, то он, несомненно, считал самоубийство великим злодеянием.
Среди всех своих достохвальных и знаменитых мужей римляне не укажут лучшего, которого ни счастье не испортило, ибо при всех своих великих победах он остался человеком бедным, ни несчастье не сломило, ибо он бесстрашно пошел навстречу столь великим бедствиям. Если же самые знаменитые и мужественные защитники земного отечества и почитатели пускай и ложных богов, но почитатели неложные и верные блюстители своих клятв,
О граде Божием 43
имея право по*1 обычаю войны убивать себя в случае поражения и при этом нисколько не боясь смерти, предпочитали лучше терпеть господство победителей, чем совершать самоубийство; то насколько же более должны воздерживаться от этого злодеяния христиане, чтущие истинного Бога и вздыхающие о небесном отечестве, если божественная воля, ради ли испытания, или исправления, подвергнет их временно власти врагов, — христиане, которых в этом уничижении не оставит Тот, Кто, будучи Высочайшим, явился ради них в таком уничижении, — которых притом никакие распоряжения военной власти или права войны не принуждают убивать даже и побежденного врага? Итак, какое пагубное заблуждение заставляет человека убивать себя только потому, что против него согрешил или не согрешил враг, когда самого этого врага, уже согрешившего или еще только собирающегося согрешить, он не смеет убивать?
ГЛАВА XXV
Но следует–де остерегаться и бояться, чтобы тело, сделавшееся предметом вражеского сладострастия, не вызвало в духе соизволения на грех, приманив его к этому прелестью удовольствия. Поэтому, говорят, человек должен убить себя прежде, чем кто–нибудь над ним это сделает: не по причине чужого греха, а чтобы не совершить собственный. Конечно, дух, более преданный Богу и мудрости Его, нежели телесным желаниям, никоим образом не позволит себе откликнуться на похоть своей плоти, возбужденной чужою похотью. Однако же, если очевидная истина полагает преступлением гнусным и злодеянием достойным осуждения, когда человек убивает самого себя, то кто будет настолько безумен, чтобы сказать: «Лучше согрешить теперь, дабы не согрешить после; лучше теперь совершить человекоубийство, чтобы потом
БлаженныйАвгустин 44
не впасть, не приведи Господь, в прелюбодеяние». Если же неправда царствует до такой степени, что приходится делать выбор не между невинностью и грехом, а между грехом и грехом, то и в этом случае возможное в будущем прелюбодеяние лучше, чем несомненное убийство в настоящем. Неужто же совершить такой грех, который может быть заглажен последующим покаянием, хуже, чем совершить такое злодеяние, после которого нет уже места спасительному покаянию?
Говорю это для тех мужчин и женщин, по мнению которых следует предавать себя насильственной смерти, чтобы избежать не чужого, а своего собственного греха из опасения, как бы под влиянием похоти другого не предаться похоти собственной плоти. Впрочем, не думаю, чтобы христианский ум, который верует Господу своему и, возложив на Него свое упование, надеется на Его помощь, — не думаю, говорю, чтобы такой ум на удовольствия своей или чужой плоти откликался непристойным соизволением. А если то непослушание похоти, которое обитает в смертных членах, движется помимо закона нашей воли, как бы по своему собственному закону, то, будучи извинительным в теле спящего человека, не гораздо ли более извинительно оно в теле не откликающегося на него соизволением?
ГЛАВА XXVI
Но, говорят, многие святые женщины, избегая во время гонений преследователей своего целомудрия, бросались в реку с тем, чтобы она унесла их и утопила; и хотя они умирали таким образом, их мученичество, однако, весьма почитается католической церковью. Не осмеливаюсь судить об этом необдуманно. Веление ли то божественного авторитета, чтобы церковь чтила
О граде Божием 45
подобным образом их память, не знаю; может быть — и так. Что если женщины эти поступили таким образом не по ошибке, а во имя исполнения божественного повеления, не заблуждаясь, а повинуясь, подобно тому, как должны мы думать о Самсоне? А когда велит Бог и не оставляет никаких сомнений относительно того, что Он велит, кто сочтет послушание преступлением? Кто обвинит благочестивую покорность? Но отсюда не следует, что всякий, кто решился бы принести своего сына в жертву Богу, не совершил бы преступления только потому, что подобным образом поступил и Авраам. Ибо и солдат, когда убивает человека, повинуясь поставленной над ним законной власти, не становится по законам своего государства виновным в убийстве; напротив, если бы он не сделал этого, был бы виновен в ослушании и пренебрежении властью. Но если бы он сделал это самовольно, то совершил бы преступление. Таким образом, в одном случае он будет наказан за то, что совершил это без приказа, в другом — за то, что не совершил того же, получив приказ совершить. А если бывает так, когда приказывает полководец, то во сколько раз больше должно быть так, когда велит Творец?
Итак, кто слышит, что убивать себя непозволительно, пусть убивает, коль скоро ему повелел Тот, приказаний Которого нельзя не исполнять, пусть смотрит только, действительно ли имеет он на это несомненное божественное повеление. Мы судим о совести на основании того, что слышим; права судить о сокровенном совести на себя не берем. Никто не знает того, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем самом (I Кор. II, 11). Мы одно говорим, одно утверждаем, одно всячески доказываем: что самовольно никто не должен причинять себе смерти ни для избежания временной скорби, потому что иначе подвергается скорби вечной; ни из–за чужих грехов, потому что иначе, не оскверненный еще
БлаженныйАвгустин 46
чужим грехом, он совершит собственный, причем самый тяжкий грех; ни из–за своих прежних грехов, ради которых настоящая жизнь особенно необходима, чтобы можно было исцелить их покаянием; ни из–за желания лучшей жизни, приобрести которую надеется после смерти: потому что для виновных в собственной смерти нет лучшей жизни и после смерти.
ГЛАВА XXVII
Остается еще один повод, — о нем я уже сказал пару слов, — по которому считается полезным, чтобы каждый лишал себя жизни, а именно: опасение, как бы не впасть в грех под влиянием или обольстительного сладострастия, или невыносимо тяжкой скорби. Но если допустить этот повод, то при дальнейшем рассуждении он приведет к тому, что людям следует советовать убивать себя в то время, когда они, будучи омыты банею возрождения, получают отпущение всех своих грехов. Именно тогда — самое вре–мя страшиться будущих грехов, ибо все прежние прощены. Если добровольная смерть — дело хорошее, то почему ей не случиться именно тогда? Зачем, в таком случае, продолжать жить крестившемуся? Зачем оправданному подвергать себя снова стольким опасностям этой жизни, когда он имеет возможность избежать их путем самоубийства, тем более что известно: любящий опасность подвергается ей (Сир. III, 23)? Зачем же любить, или, если не любить, то по крайней мере рисковать подвергнуться стольким и таким опасностям, продолжая эту жизнь, когда позволительно прекратить ее? Или же бессмысленный разврат до такой степени испортил сердца и до такой степени лишил их чувства истины, что в ту пору, когда каждый должен был бы убить себя из опасения, как бы ему не впасть в грех, этот самый каждый, тем не менее, думает, что ему следует жить, чтобы переносить этот мир, полный ежечасных испытаний,
О граде Божием 47
без которых не проходит ни одна христианская жизнь? Итак, зачем же мы тратим время на увещания, посредством которых стараемся расположить крестившихся или к девственной чистоте, или к вдовствующему воздержанию, или даже к верности супружеского ложа, коль скоро у нас есть лучшие и устраняющие всякую опасность греха средства: ведь мы могли бы привести к Господу более чистыми и более здравыми всех, кого только смогли бы убедить подвергнуть себя добровольной смерти вслед за только что полученным прощением грехов!
Но если бы кто–нибудь действительно полагал, что именно так и следует поступать, я назвал бы такого даже не глупым, а помешанным. Сколько, в самом деле, нужно бесстыдства, чтобы сказать человеку: «Умертви себя, чтобы, живя под властью распущенного варвара, не присоединить тебе к своим малым грехам грехов тягчайших» Кто иначе, как только с самой преступной мыслью, может сказать: «Умертви себя, чтобы по разрешении всех твоих грехов ты не совершил таких же или еще худших, если останешься жить в мире, в котором обольщает столько нечистых удовольствий, неистовствует столько возмутительных жестокостей, бытует столько заблуждений и ужасов». Если так сказать — преступно, то преступно, конечно, и убивать себя. Ибо, если бы могла быть какая–нибудь законная причина убивать себя добровольно, то, во всяком случае, она была бы не законнее той, которую мы сейчас разбираем. Но поелику эта последняя таковою не является, то, значит, никакой законной нет вообще.
ГЛАВА XXVIII
Итак, верные Христовы, пусть ваша жизнь не будет вам в тягость, если ваша непорочность подверглась поруганию врагов. Если совесть ваша чиста, вы
БлаженныйАвгустин 48
имеете великое и истинное утешение в том, что у вас не было соизволения на грех тех, которым было дозволено согрешить над вами. А если спросите, почему дозволено, то знайте, что есть некое высшее провидение Творца и Промыслителя мира, и «непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его» (Рим. XI, 33). Тем не менее, спросите чистосердечно вашу душу, не слишком ли возгордились вы благом вашей чистоты, воздержания или целомудрия и, увлекшись человеческими похвалами, не позавидовали ли некоторым даже и в этом? Не обвиняю в том, чего не знаю, и не слышу, что на ваш вопрос отвечают вам сердца ваши. Однако если бы они ответили, что это так, то не удивляйтесь, что вы утратили то, чем думали нравиться людям, и остались при том, чего людям показать нельзя. Если желания грешить у вас не было, в таком случае вам была ниспослана божественная помощь, чтобы вы не утратили божественной благодати; но вы подверглись человеческому поруганию, чтобы не любили человеческой славы. Утешьтесь, малодушные, и тем и другим: в одном испытанные, от другого очищенные; в том оправданные, в этом исправленные. Те же из вас, сердца которых ответят, что они никогда не превозносились благом или девства, или вдовства, или супружеской верности, но «последовали смиренным» (Рим. XXII, 16); дару Божию радовались со страхом, не завидовали чьему–либо превосходству в той же чистоте и святости, но, презирая человеческую похвалу, обыкновенно тем более расточаемую, чем менее желают того, что заслуживает похвалы, — и те, которые таковы, если подверглись насилию варварского сладострастия, пусть не нарекают на то, что так дозволено; пусть не думают, что Бог не придает этому значения, если дозволяет такое, чего никто не делает безнаказанно.
Есть, так сказать, своего рода грузы злых вожделе–ний, которые нынешним тайным божественным судом оставляются безнаказанными и откладываютс
О граде Божием 49
до суда последнего, явного. Но весьма возможно, что такие, хорошо сознающие, что их сердца никогда надменно не превозносились благом чистоты, и тем не менее испытавшие на своей плоти враждебное насилие, имели некоторую тайную сладость, которая могла бы перейти в горделивое высокомерие, если бы они при опустошении Рима избежали этого унижения. И вот, как некоторые восхищаются смертью, чтобы злоба не изменила ум их (Прем. IV, II), так и у этих похищается нечто насилием, чтобы их смирения не изменило счастье. Таким образом, и те и другие, и уже гордившиеся, что не испытали ничьего постыдного прикосновения к своей плоти, и те, которые могли возгордиться, если бы не подверглись враждебному насилию, — и те и другие не чистоты лишились, а научились смирению; первые освободились от уже существовавшей гордости, последние — от гордости угрожавшей.
Впрочем, не следует обойти молчанием и того, что некоторым из потерпевших могло казаться, что благо воздержания — это благо телесное и что оно остается только в том случае, если тело не испытывает прикосновения ничьей похоти, а не заключается единственно в силе воли, подкрепляемой божественной помощью так, чтобы святыми были вместе и тело, и дух, будучи при этом таким благом, которое может быть утрачено именно из–за вожделения духа. Возможно, что исправлено это заблуждение. Ибо, принимая во внимание чувство, с каким они служили Богу, несомненно при этом веруя, что Бог служащих Ему и призывающих Его с чистой совестью никогда не мог оставить, наконец, не сомневаясь относительно того, насколько угодна Ему чистота, они должны видеть и то, что отсюда следует, а именно: что Бог никогда не дозволил бы случиться этому с Его святыми, если бы святость, которую Он сообщил им и которую Он любит в них, могла погибать подобным образом.
БлаженныйАвгустин 50
ГЛАВА XXIX
Итак, чада высочайшего и истинного Бога имеют свое утешение — утешение неложное, состоящее в надежде не на предметы, колеблющиеся и преходящие; саму земную жизнь, в которой они воспитываются для жизни небесной, отнюдь не находят они достойной сожаления, и благами земными пользуются, как странники, не пленяясь ими; злом же или испытываются, или исправляются. Те же, которые над их испытаниями смеются, и когда случается, что кто–либо из них подвергается каким–нибудь временным несчастьям, говорят такому: «Где Бог твой?» (Пс. ХЫ, 11), те пусть скажут сами, где их боги, когда они претерпевают такие же несчастья, ради избежания которых этих богов и почитают, или утверждают, что ради этого их следует почитать. Первые ответят: «Наш Бог присутствует везде и всюду неделимо и нигде и ни в чем не заключен; Он может тайно присутствовать и отсутствовать, не удалившись; когда Он подвергает нас несчастьям, то или заслуги испытывает, или грехи очищает, и при этом готовит заранее нам вечную награду за благочестиво перенесенные нами временные несчастья. А вы кто такие, чтобы с вами стоило говорить о ваших богах, а тем более о нашем Боге, который «страшен паче всех богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс. ХСУ, 4, 5).
ГЛАВА XXX
Если бы жив был еще ваш знаменитый Сципион, бывший некогда первосвященником, которого выбрал весь сенат, когда искал самого достойного мужа для отправления фригийского культа* в ужасное время пунической войны, которому вы не посмели бы,
* Имеется в виду культ Кибелы — Великой Матери.
О граде Божием 51
пожалуй, взглянуть и в глаза, — он сам удержал бы вас от этого бесстыдства. Ибо почему, будучи угнетаемы несчастьями, жалуетесь вы на христианские времена, как не потому, что желали бы спокойно наслаждаться своею роскошью и предаваться распущенности развращенных нравов, не тревожась ничем неприятным? Ведь не для того же желаете вы сохранения мира и изобилия богатств всякого рода, чтобы этими благами пользоваться честно, т. е. скромно, трезво, умеренно и благочестиво, а для того, чтобы изведать бесконечное разнообразие наслаждений ценою безумной расточительности, из–за чего в нравах ваших с^еди благополучия возникло бы такое зло, которое было бы гораздо хуже самых свирепых врагов.
А Сципион тот, ваш великий первосвященник, муж, по мнению целого сената, самый достойный, страшась подобного рода бедствий, не хотел, чтобы был разрушен Карфаген, тогдашний соперник римского государства, и возражал Катону, требовавшему его разрушения, ибо опасался беспечности, этого извечного врага слабых душ, полагая при этом, что страх так же необходим для граждан, как опекун для сирот. И мнение его оказалось верным: история показала, что он говорил правду. Ибо, когда Карфаген был разрушен, т. е. когда великая гроза римского государства была рассеяна и уничтожена, то за этим немедленно последовало столько возникших из благополучия зол, что сперва жестокими и кровавыми мятежами, потом сплетением несчастных обстоятельств и даже междоусобными войнами было произведено столько убийств, пролито столько крови, порождено столько жестокой жадности к конфискации имуществ и грабежам, что те самые римляне, которые страшились при неиспорченной жизни зла от врагов, с утратою этой неиспорченности потерпели от сограждан зло гораздо худшее. И сама та страсть господствовать, которая более других пороков человеческого рода присуща была всему
БлаженныйАвгустин 52
римскому народу, одержав победу в лице немногих сильнейших, придавила игом рабства и остальных, изнемогших от усилий и изнурения.
ГЛАВА XXXI
Разве эта страсть успокаивалась когда–нибудь в душах в высшей степени гордых, пока непрерывным рядом почестей не достигала царской власти? Но этого непрерывного перехода к новым и новым почестям не существовало бы, если бы честолюбие не перевешивало всего. Честолюбие же перевешивает только в народе, испорченном сребролюбием и роскошью. А сребролюбивым и склонным к роскоши народ стал вследствие того благополучия, которое Сципион весьма предусмотрительно считал опасным, когда не хотел, чтобы разрушен был весьма обширный, укрепленный и богатый неприятельский город, чтобы похоть обуздывалась страхом, и, обузданная, не развивала роскоши, и с устранением роскоши не появлялось сребролюбия; при устранении этих пороков процветала бы и возрастала полезная для государства добродетель и существовала бы сообразная с добродетелью свобода.
Исходя из той же предусмотрительной любви к отечеству, этот великий ваш первосвященник, единогласно избранный сенатом того времени, как наилучший из мужей, удержал сенат, когда тот хотел построить театральный партер, и своей строгой речью убедил не дозволять греческой роскоши проникать в мужественные нравы отечества и не сочувствовать чужеземной распущенности, которая привела бы к расслаблению и упадку доблести римской. Авторитет его был настолько велик, что сенат, воодушевленный его словами, запретил с тех пор даже ставить скамьи, которыми граждане начали было пользоваться в театре, внос
О граде Божием 53
их на время представлений. С каким бы усердием изгнал он из Рима и сами театральные зрелища, если бы осмелился воспротивиться тем, кого считал богами! Но он еще не понимал, что боги эти — демоны, или же, если и понимал, то думал, что их надобно скорее умилостивлять, чем презирать. В то время не было еще открыто язычникам небесное учение, которое, очищая сердце к исканию небесных и пренебесных предметов, изменило бы страстные движения человеческого чувства в смиренное благочестие и освободило бы от господства гордых демонов.
ГЛАВА XXXII
Да, вы, еще не знающие или делающие вид, что не знаете, знайте, и ропщущие на Освободителя от таких господ, имейте в виду, что сценические игры, непотребные зрелища и суетные разгулы учреждены в Риме не благодаря порокам людей, а по велению ваших богов. Лучше бы вы воздавали божеские почести Сципиону, чем почитали подобного рода богов; ибо эти боги были куда хуже своего первосвященника. Если только ум ваш, так долго упивавшийся заблуждениями, может позволить вам понять что–нибудь здраво, обратите внимание на следующее. Боги, для прекращения телесной заразы, повелели давать им сценические игры; между тем как Сципион, для устранения заразы душевной, запрещал строить и саму сцену. Если у вас достанет здравого смысла предпочесть душу телу, то вы сами поймете, кого скорее следует почитать. Ведь и та телесная зараза прекратилась не потому, что в воинственный и привыкший только к цирковым играм народ проникло утонченное безумие сценических игр; но лукавство злых духов, предвидя, что эта зараза прекратится в определенный срок сама собою, постаралось по это-
БлаженныйАвгустин 54
му поводу напустить — и на этот раз уже не на тела, а на нравы — другую заразу, гораздо худшую, которою оно тешится более всего. Эта последняя ослепила бедные души таким мраком, довела их до такого безобразия, что (нашим потомкам это, пожалуй, покажется невероятным) в то время, как Рим был опустошен, те, которыми она овладела и которые, бежав из него, успели достигнуть Карфагена, ежедневно в театрах исступленно соперничали друг с другом в качестве комедиантов.
ГЛАВА XXXIII
Умы безумные! Что же это за такое, не заблуждение, а сумасбродство, что вы в то время, как восточные народы, как мы слышали, оплакивают ваше бедствие, и величайшие города отдаленнейших стран налагают на себя публичный траур, — вы заняты театрами, ходите в них и предаетесь гораздо большему безумию, чем прежде? Этой–то душевной язвы и заразы, этой–то потери в вас совести и чести и боялся Сципион, когда запрещал строить театры, когда думал, что благополучие легко может испортить и развратить вас, когда не хотел, чтобы вы были безопасны от врагов. Он не думал, что государство может быть счастливым, если его стены будут стоять, а нравы — падут. Но для вас гораздо большее значение имеет то, чем прельстили вас бесчестные демоны, нежели то, относительно чего предостерегали вас предусмотрительные люди. Поэтому зло, которое вы совершаете, вы не хотите ставить себе в вину, и зло, которое терпите, вы ставите в вину временам христианским. В безопасности вашей вы ищете не мира для государства, а безнаказанности для своей распущенности; будучи испорчены счастьем, вы не могли исправиться и бедствиями. Сципион хотел держать вас в страхе перед врагом, чтобы вы не предались
О граде Божием 55
распущенности; а вы, и сокрушенные врагом, не обуздали себя. Вам бедствие не принесло пользы; вы сделались и самыми несчастными, и, в то же время, остались и самыми дурными.
ГЛАВА XXXIV
И, однако, то, что вы живете, есть дело Божие. Это Он своею милостью убеждает вас, чтобы вы исправлялись через покаяние; это Он дал ее вам, неблагодарным, чтобы вы избежали неприятельских рук или под именем Его рабов, или в местах Его мучеников. Рассказывают, что Ромул и Рем, стараясь увеличить население закладываемого ими города, учредили убежище, дабы каждый, прибегавший туда, освобождался от всякого наказания. Но удивительный пример этого в честь Христа куда превосходней. Разрушители Рима учредили то, что прежде не было учреждено его строителями, ибо последние сделали это, чтобы увеличить число своих граждан, а первые — чтобы пощадить великое множество своих врагов.
ГЛАВА XXXV
Все это и подобное этому, если может отвечать пространнее и лучше, пусть отвечает своим врагам искупленная семья Господа Христа и странствующий * град Царя Христа. Пусть только помнит она, что и среди врагов скрываются будущие граждане, и не считает бесполезным для них того, к чему они, пока не сделались исповедниками, относятся враждебно; так же точно и град Божий: пока он странствует в этом мире, имеет врагов, соединенных с ним общением таинств, но не имеющих возможности наследовать жребия святых; среди них есть враги тайные, а есть и явные; последние не колеблются даже роптать на
БлаженныйАвгустин 56
Бога, которому клялись, наполняя вместе с другими врагами театры, а с нами — церкви. Но в исправлении и некоторых из них отнюдь не следует отчаиваться, коль скоро и среди самых отъявленных врагов скрываются подчас предопределенные друзья, еще неведомые даже для себя самих. Ибо эти два града переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке, пока не будут разделены на последнем суде Об их происхождении, преуспеянии и конечных судьбах я постараюсь, с помощью Божией, сказать, что, по моему мнению, следует сказать, ради славы града Божия, которая при сравнении с тем, что ей противостоит, выступит в более ясном свете.
ГЛАВА XXXVI
Но мне нужно сказать еще нечто против тех, которые падение римского государства приписывают нашей религии, возбраняющей им приносить жертвы их богам Прежде всего следует им напомнить, как много можно было бы указать несчастий, которые римское государство и принадлежащие ему провинции перенесли прежде, чем были запрещены им их жертвоприношения: все эти бедствия они, несомненно, приписали бы нам, если бы наша религия была им известна уже тогда или если бы она уже тогда возбраняла им их святотатственные священнодействия. Затем следует показать, за какие их нравы и по какой причине Бог, во власти Которого находятся все царства, благоволил, содействовать увеличению их власти, и как те, которых они называют богами, ни в чем им не помогли, а, вернее, даже во многом им повредили, обольщая и обманывая. Наконец, будет сказано против тех, которые, будучи опровергнуты и обличены на основании самых очевидных документов, стараются утверждать, что богов должно почитать не ввиду выгод настоящей жизни, а ради жизни, которая наступит после смерти.
О граде Божием 57
Если не ошибаюсь, этот вопрос будет и гораздо труднее, и достойнее более возвышенного исследования, ибо придется говорить и против их философов, и не каких–нибудь, а таких, которые пользуются у них превосходнейшей славой и которые согласны с нами относительно многих пунктов, например, относительно бессмертия души и того, что Бог создал мир, и относительно Его провидения, которым Он управляет всем сотворенным. Но так как и их следует опровергнуть в том, в чем они держатся противоположных с нами воззрений, то мы не должны уклоняться и от этой обязанности, чтобы, отразив нечестивые возражения по мере сообщенных нам Богом сил, защитить град Божий, истинное благочестие и богопочтение, которое одно неложно обещает вечное блаженство. Итак, закончим на этом настоящую книгу, дабы то, о чем мы вознамерились говорить, изложить в следующей.
БлаженныйАвгустин 58
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА I
Если бы свойственное человеку слабое разумение не осмеливалось противиться очевидной истине, а подчиняло свою немощь спасительному учению, как врачеванию, пока не исцелит его божественная помощь, получаемая от благочестивой веры, то людям здравомыслящим и выражающим свои мнения с достаточной ясностью не было бы нужды тратить много слов для того, чтобы доказать ошибочность того или иного ложно составившегося представления. Но наиболее распространенная и отвратительная болезнь глупых душ в настоящее время состоит в том, что свои неразумные движения они защищают так, как будто они — сам разум и сама истина, даже если им кто–либо и представит вполне ясное доказательство их ошибочности, насколько таковое может быть представлено одним человеком другому, — защищают или по крайней слепоте, вследствие которой не видят очевидного, или по крайнему своему упрямству, вследствие которого не признают и того, что видят. Поэтому приходится говорить пространно и о самых очевидных вещах: не для того, чтобы представить их зрячим, а для того, чтобы дать их осязать ощупывающим и зажмурившимся.
Тем не менее, где был бы конец нашим рассуждениям и мера нашим словам, если бы мы думали, что на всякое возражение нужно давать новый ответ? Ибо те, которые или не могут понять того, что говорится, или настолько упрямы, что, хотя и понимают, согласиться не хотят, те, как написано, «изрыгают дерзкие речи» (Пс. ХС1 П, 4) и лживы неутомимо. Если бы
О граде Божием 59
мы взялись опровергать их возражения всякий раз, как только они задаются упрямым намерением, не заботясь о том, что скажут, так или иначе противоречить нашим рассуждениям, то ты видишь сам, насколько бы это было делом и бесконечным, и тяжелым, и бесполезным. Поэтому я желал бы, чтобы ни сам ты, сын мой Марцеллин, ни другие, кому мой настоящий труд послужит к пользе и даст благородное занятие в любви Христовой, не были такими судьями моего сочинения, которые желают получать все новые и новые ответы, слыша, что есть какое–либо возражение против того, что они читают; иначе будут они подобны тем женщинам, о которых упоминает апостол: «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (II Тим. III, 7).
ГЛАВА II
Итак, в предыдущей книге, когда я начал говорить о граде Божием, которому, с помощью Божией, решил посвятить весь этот труд, я счел необходимым прежде всего дать ответ тем, которые войны, опустошающие наш мир, в особенности же недавний разгром Рима, приписывают христианской религии, возбраняющей служение мерзким демонам; между тем, они скорее должны были бы приписать Христу то, что варвары ради имени Его, вопреки правилам и обычаю войны, предоставили им для убежища священные и самые обширные места, и не только действительным рабам Христовым, но во многих случаях и самозванцам оказывали такое почтение, что и дозволенное по отношению к ним правом войны считали для себя непозволительным. Отсюда возник вопрос: почему таких божественных милостей удостоены были и люди нечестивые и неблагодарные и, наоборот, почему те жестокости, которые совершались неприятелем, обрушились не только на людей нечестивых, но и на благочестивых?
БлаженныйАвгустин 60
Над разрешением этого вопроса, которым задаются многие ввиду того, что все вообще обыденное, как дары Божий, так и человеческие скорби, по большей части одинаково и безразлично выпадают и на долю людей добродетельных, и на долю порочных, я остановился несколько более, чем было нужно в интересах предпринятого труда; это было сделано главным образом ради утешения святых и благочестиво непорочных женщин, над которыми враги совершили нечто такое, что оскорбило их стыдливость, хотя и не отняло у них самого целомудрия: чтобы не тяготились жизнью те, которые не имеют повода упрекать себя в непотребстве.
Потом я сказал несколько слов против тех, которые с бесстыдной наглостью позорят христиан, подвергшихся упомянутым несчастьям, в особенности же претерпевших насилие чистых и святых женщин; между тем как сами эти клеветники — люди в высшей степени непотребные и не заслуживающие никакого уважения, выродившиеся потомки тех римлян, чьи славные дела часто вспоминаются и прославляются историей. Они позорят славу своих предков, ибо этот Рим, основанный и возвеличенный трудами древних, они обезобразили гораздо более при его внешне благополучном существовании, чем обезобразило его разрушение; при разрушении его падали камни и бревна, а в их жизни, когда сердца их пылали пагубнейшими вожделениями, будто кровли города — огнем, пали всякие твердыни и украшения не стен, а нравов.
На этом я закончил первую книгу. Затем я думал говорить о том, какие несчастья претерпел этот город с самого своего основания как у себя дома, так и в принадлежащих ему провинциях, — несчастья, которые были бы приписаны христианской религии, если бы уже и тогда гремело евангельское учение с его смелым свидетельством против их ложных и лживых богов.
О граде Божием 61
ГЛАВА III
Не забудь, впрочем, что, говоря все это, я имел дело еще с людьми необразованными, невежество которых породило и известную расхожую пословицу: «нет дождя, причина — христиане» Но есть между ними и люди образованные, любящие историю, из которой прекрасно знают все это, но притворяются незнающими, чтобы возбудить против нас враждебные толпы невежд. Они стараются распространить в народе мнение, что те бедствия, которым то там, то здесь время от времени подвергается род человеческий, случаются по вине христианской религии, которая назло их богам распространяется повсюду с такой великой славою и с таким блеском. Пусть же они пересмотрят вместе с нами, каким частым и разнообразным бедствиям подвергалось римское государство, прежде чем Христос явился во плоти, прежде чем прославилось в народах имя Его, которому они завидуют; и пусть после этого защищают, если смогут, своих богов, коль скоро почитают их ради того, чтобы их последователи не претерпевали этих несчастий. Если они испытывают что–нибудь подобное теперь, то утверждают, что винить в этом следует нас. Так почему же эти боги допустили, чтобы с поклонниками их случилось то, о чем я намерен говорить, и в то время, когда проповедь о Христе еще не досаждала им и не возбраняла их жертвоприношений?
ГЛАВА IV
Во–первых, почему их боги не позаботились о том, чтобы их нравы не были до крайности развращенными? Бог истинный заслуженно оставил своим попечением тех, которые не чтили Его: но почему же те боги, на запрещение культа которых жалуются эти неблагодарные люди, не попечительствовали добродетельной жизни своих поклонников никакими законами?
БлаженныйАвгустин 62
Справедливость требовала, |чтобы как люди заботились так или иначе о культе своих богов, так и эти боги заботились о поведении людей. Но, говорят, каждый человек бывает дурен по собственной воле. Никто этого не отрицает. Тем не менее, делом богов–советников было не утаивать от чтущего их народа заповеди добродетельной жизни, а предлагать их в публичной проповеди, вразумляя и сдерживая грешащих через пророков, поступающим дурно грозя наказаниями, живущим же добродетельно обещая награды. Разве когда–нибудь раздавался в их храмах сильный и всепокрывающий голос богов о чем–либо подобном?
Некогда, в дни юности, хаживали и мы на святотатственные зрелища, смотрели на беснующихся, слушали певцов, забавлялись гнуснейшими играми, которые давались в честь богов и богинь, в честь небесной девы и матери всех Верекинфии*. Перед ложем этой последней, в праздник ее омовения, непотребными актерами публично распевалось такое, что не подобало бы слушать не только матери богов, но и матерям каких–нибудь сенаторов или вообще каких–нибудь честных мужей, даже матерям самих этих актеров. Есть в отношении к родителям некоторая человеческая стыдливость, которой не может истребить даже непотребство. Сами же актеры на домашних репетициях стыдились исполнять перед своими матерями это гнусное месиво из мерзких слов и действий; а публично, перед матерью богов, в присутствии многочисленного собрания людей обоего пола, исполняли. Если множество отовсюду собравшегося народа приходило, привлеченное любопытством, на эти действа, оно должно было бы немедля уйти в смущении, с оскорбленным чувством целомудрия. Что после этого назовем святотатством, если
О граде Божием 63
это — священнослужение, или что будет осквернением, если это — омовение? И это называлось феркулами, точно совершалось некое пиршество, на котором как бы питали нечестивых демонов их же пищей. Ибо кто не понимает, какого рода духи услаждаются подобными мерзостями? — разве что тот, кто или совсем не знает, что существуют некоторые нечестивые духи, обольщающие под именем богов, или же проводит такую жизнь, в которой ждет милости и страшится гнева этих духов более, чем милости и гнева истинного Цога.
ГЛАВА V
Судьею в этом деле я никоим образом не желал бы иметь кого–нибудь из тех, которые стараются скорее сами услаждаться безнравственностью позорнейшего обычая, чем бороться против нее, а хотел бы иметь в качестве такового того же Сципиона Назику, который был объявлен сенатом наилучшим из мужей и руками которого идол этого демона был принят и " перевезен в Рим. Пусть он скажет нам, пожелал ли бы он, чтобы его мать оказала государству такие великие заслуги, чтобы ей были установлены божеские почести подобно тому, как у греков, у римлян и у других народов установлены они некоторым смертным, благодеяния которых эти народы ценили весьма высоко и которых они считали сделавшимися бессмертными и принятыми в число богов? Без всякого сомнения, он пожелал бы своей матери такого счастья.
Затем, если бы мы его спросили, согласился ли бы он, чтобы в числе божеских почестей ей совершались и эти мерзости, то разве не воскликнул бы он, что желал бы лучше, чтобы мать его лежала мертвою без всякого чувства, чем жила богинею для того, чтобы иметь удовольствие слушать подобные вещи? Нет, этот римский сенатор, одаренный такой проницательностью
БлаженныйАвгустин 64
ума, что запретил строить театр в городе мужественного народа, не захотел бы, чтобы мать его почитали таким образом, чтобы для умилостивления богини совершались такие вещи, сама только речь о которых была бы оскорблением для благородной женщины. Он никогда бы не поверил, чтобы стыдливость достохвальной матроны через усвоение ею божественности до такой степени изменилась, что ее поклонники смогли бы призывать ее такими похвалами, от которых, если бы они были брошены в упрек какой–нибудь женщине, еще живущей среди людей, покраснели бы за нее и родственники, и муж, и дети, если бы не заткнули ушей и не ушли.
Такая мать богов, какую постыдился бы иметь матерью даже самый дурной человек, намереваясь овладеть римскими умами, требовала себе наилучшего мужа, — не такого, которого она сделала бы наилучшим обучением лучшему, а такого, которого обольстила бы обманом (она похожа на ту, о которой написано: «Жена уловляет дорогую душу» (Притч. VI, 26)), — требовала для того, чтобы богато наделенный природными дарованиями дух, возвысившись этим как бы божественным свидетельством в собственных глазах и считая себя действительно наилучшим, не искал истинного благочестия и религии, без которой самые достохвальные дарования исчезаю и приходят в упадок. Ибо с какою другой, как не этой коварной целью желала эта богиня себе наилучшего мужа, если в своем культе требовала таких вещей, каких наилучшие мужи, гнушаясь подобного, не допускают на своих пирах?
ГЛАВА VI
Поэтому–то эти божества и не заботились о жизни и нравах городов и народов, у которых почитались: безо всяких запрещений, которые внушали бы страх, они дозволяли им становитьс
О граде Божием 65
худшими и терпеть большие и отвратительные убытки, убытки не в смысле имений и виноградников, не в деньгах и хозяйстве, не в тех, наконец, делах, которые находятся в подчинении ума, а в самой душе — правительнице тела. Но, может быть, они запрещали? В таком случае пусть нам покажут это яснее, пусть докажут. Пусть не шепчут нам на ухо о каких–то под видом якобы тайной религии передаваемых вещах, в которых излагается–де ученее о добродетельной жизни и чистоте; пусть покажут нам или напомнят, где те места, посвященные таким собраниям, где совершались бы не игры с бесстыдным пением и плясками гистрионов, где праздновались бы не фугалии*, дающие полный простор всякому непотребству (это поистине фугалии (изгнание), но фугалии стыдливости и чести), но такие, где народы слышали бы, что повелевают боги относительно умерения жадности, уничтожения жульничества, обуздания роскоши; где учились бы несчастные тому, чему советовал им учиться Персей, говоря:
Учитесь, несчастные, корни вещей прозревайте:
Кто мы такие, зачем в этой жизни рождаемся;
Что за порядок повсюду; где, почему и какие
В жизненном беге стоят поворотные вехи;
Меру ищите во всем, что полезно вам
или желательно;
Что есть хорошего в деньгах, насколько к отчизне
и милым
Щедрыми быть вам прилично; какими велел вам Бог пребывать; каковы пред людьми обязательства».
Пусть скажут, в каких местах существовал у них обычай провозглашать такие заповеди богов–наставников, подобно тому, как указываем мы на церкви, установленные для этого
* Праздник, посвященный изгнанию царей.
БлаженныйАвгустин 66
повсюду, где распространена христианская вера.
ГЛАВА VII
Пожалуй, они напомнят нам о школах и рассуждениях философов. Но, во–первых, все это не римское, а греческое; а если оно потому и римское, что Греция сделалась римской провинцией, то все же это не заповеди богов, а откровения людей, которые, будучи одарены проницательнейшим умом, старались так или иначе путем умозаключений исследовать, что скрывалось в природе вещей, чего следует желать в здешней жизни и чего избегать, что в самих правилах умозаключения дается как прямой вывод, а в чем обнаруживается непоследовательность или даже противоречие. Некоторые из них, насколько пользовались божественной помощью, открыли нечто великое, но насколько встречали препятствие в человеческой немощи, впали в заблуждение. Божественное провидение вполне справедливо воспротивилось их гордости, чтобы в противоположность им указать начало пути к небесному в смирении. Но обо всем этом мы, если будет на то воля истинного Господа Бога, порассуждаем и поговорим в другом месте.
Однако же если философы отрыли нечто такое, что могло быть достаточным для добродетельной жизни и для приобретения блаженства, то не гораздо ли справедливее было бы установить божественные почести именно им? Не гораздо ли лучше и честнее в храме Платона читать его книги, чем в храмах демонов оскоплять галлов, дабы затем их, сделавшихся женоподобными, торжественно посвящать, сумасбродствующих заставлять истязать себя и совершать многое другое или жестокое, или постыдное, или постыдно–жестокое, или жестоко–постыдное, что совершается обыкновенно в храмах таких богов? Не гораздо ли полезнее было бы, дл
О граде Божием 67
научения юношества справедливости, провозглашать публично законы богов, чем попустохвалиться законами и установлениями предков? Ведь все почитатели таких богов, едва ими овладеет похоть, подправленная, как говорит Персей, жгучим ядом*, скорее смотрят на то, что делал Юпитер, чем на то чему учил Платон или что думал Катон. Так, Теренций изобразил молодого повесу, который, увидев некую фреску, на которой было изображено, как Юпитер некогда обманул Данаю пролив на лоно ее золотой дождь, тут же усмотрел здесь оправдание своему бесчестному делу, гордясь, что в этом отношении подражает богу:
Великий бог, небесный храм сотрясший громом! Ну, как не совершить мне то же, человеку малому»?
ГЛАВА VIII
Но всему–де подобному учат не культы богов, а басни поэтов. Я не утверждаю, что принадлежности таинств постыднее принадлежностей зрелищ. Я утверждаю одно (и отрицающих это уличит история), что сами эти игры, главное содержание которых составляют вымыслы поэтов, не римляне из невежественной угодливости ввели в культ своих богов, а сами боги сурово потребовали и некоторым образом вымучили, чтобы эти игры проводились и посвящались в их честь. Я упомянул об этом еще в первой книге. Ибо с самого начала сценические игры в Риме были установлены по определению понтификов во время моровой язвы. Кто же после этого не придет к мысли, что в образе жизни своей он должен скорее следовать тому, что представляется на зрелищах, установленных по божественному приговору, чем тому, что пишется в законах, учрежденных человеческой мудростью? Ведь если бы поэты лживо
БлаженныйАвгустин 68
выставили Юпитера прелюбодеем, то непорочные боги должны были бы разгневаться и отомстить за то, что подобное оскорбление божеству измышлено человеческими играми, а не за то, что эти игры не проводятся. А между тем, таковы самые умеренные из сценических игр, т. е. комедии и трагедии, басни поэтов; написанные для представления на зрелищах, они хотя и весьма бесстыдны по содержанию, но не бесстыдны, по крайней мере, как многие другие, по изложению. Люди пожилые даже принуждают отроков читать и изучать их в числе тех наук, которые называются честными и свободными.
ГЛАВА IX
О том, что думали об этом древние римляне, свидетельствует Цицерон в книгах, написанных им о республике: там Сципион, рассуждая, говорит так: «Комедии никогда не могли бы показывать в театрах своих мерзостей, если бы не дозволяли того нравы». Древнейшие греки на этот раз проводили даже с некоторой последовательностью свой испорченный образ мыслей: у них было дозволено законом говорить в комедии что угодно и о ком угодно, называя даже по имени. «И потому, — продолжает (Сципион) Африканский, — кого комедия не коснулась, кого не оскорбила, кого пощадила? Пусть бы она опозорила людей негодных, заискивавших перед народом, производивших мятежи в государстве: Клеона, Клеофонта, Гипербола. Мы примирились бы с этим, хотя было бы лучше, если бы и этого рода граждан клеймил позором цензор, а не поэт: но позорить в стихах Перикла, после того как он в продолжение многих лет держал в руках верховную власть в мирное и военное время, и разыгрывать их на сцене так же неприлично, как если бы наш Плавт или Невий вздумали бесславить Публия и Гнея Сципионов,
О граде Божием 69
или Цецилий — Марка Катона». И несколько далее прибавляет: «Наши Двенадцать таблиц, напротив того, назначив уголовные наказания за весьма немногие преступления, к числу этих преступлений нашли справедливым отнести и то, если бы кто пропел или сочинил стихи, бесславящие или позорящие другого. И это прекрасно. Жизнь наша должна принадлежать суду магистратов и законному разбирательству, а не фантазии поэтов; и слышать о себе позорные вещи мы должны не иначе, как при условии, что можем отвечать и защищаться в судебном порядке».
Я нашел нужным извлечь эти цитаты из четвертой книги Цицерона о республике, опустив и немножко изменив кое–что для большей ясности. Ибо это непосредственно относится к тому вопросу, который я взялся, насколько смогу, разъяснить. Он говорит далее и многое другое и заканчивает это место тем, что древние римляне, по его словам, не дозволяли никого из живущих ни восхвалять, ни порицать на сцене. Но греки, как я сказал, показывая в данном отношении хотя и меньше стыда, но больше последовательности, дозволяли это, ибо полагали, что их богам угодны и приятны рассказываемые в сценических баснях вещи, позорящие не только людей, но и самих богов (вымышлены ли были эти вещи поэтами, или же в театрах воспоминались и представлялись действительные их распутства, — о если бы их поклонники находили все это достойным только смеха, а не подражания!). Ибо было бы крайней гордостью щадить доброе имя государственных властей и граждан там, где боги не желали щадить своей чести.
ГЛАВАХ
Именно то, что приводится в оправдание: что, дескать, все, рассказываемое о богах, не истинно, а вымышленно и ложно, если это рассматривать с точки зрени
БлаженныйАвгустин 70
религиозного благочестия, представляется еще более преступным, а если принять во внимание лукавство демонов, в высшей степени хитрым и рассчитанным на обольщение. Ведь если позорные вещи рассказываются о верховном правителе отечества, правителе добром и полезном, не тем ли более они отвратительны, чем более далеки от истины и чужды его жизни? Какие же наказания могут быть достаточными, если такого рода беззаконие, если такое величайшее оскорбление дозволяется в отношении к Богу? Но злые духи, которых они считают богами, желают, чтобы о них рассказывались и такие постыдные вещи, которых они не делали, чтобы представлениями такого рода опутывать, как сетями, умы человеческие и приводить вместе с собою к предназначенному наказанию. Совершили ли эти постыдные вещи люди, которые считаются богами к удовольствию (демонов), радующихся человеческим заблуждениям, вместо которых посредством тысячи вредных и коварных уловок они выставляют для почитания самих себя, или преступления эти в действительности не были совершены никем из людей, — коварнейшие духи охотно допускают измышлять их о божествах, чтобы для совершения злодеяний и мерзостей был подан на землю как бы с самого неба ободряющий пример. Поэтому греки, считая себя рабами таких божеств, полагали, что поэты не должны щадить и их самих, коль скоро столько и так бесчестили в театрах богов. Они или желали через это уподобляться своим богам, или боялись возбудить их гнев, если бы вдруг их имя оказалось более честным и, таким образом, они стали бы лучше их.
ГЛАВА XI
Сообразно с этим и разыгрывавших эти басни актеров они считали людьми, достойными немалой гражданской чести. Так, — об этом упоминается и в книге о республике, — афинянин Эсхин, муж красноречивейший, управлял делами государства, хотя, будучи юношей, разыгрывал
О граде Божием 71
трагедии; равным образом Аристодема, тоже трагического актера, афиняне часто посылали послом к Филиппу по весьма важным делам, как мирным, так и военным. Действительно, если они видели, что само искусство и театральные игры были угодны богам, то смотреть на тех, которые их разыгрывают, как на людей бесславных, было бы логически несообразно. Это было, конечно, постыдно для греков, но совершенно последовательно в отношении к их богам: они не отваживались защищать жизнь граждан от язвительного языка поэтов и гистрионов, коль скоро им было известно, что эти позорили и жизнь богов; и раз уж эти люди представляли в театрах такое, что, по их понятиям, приятно божествам, которым они были покорны, то и самих этих людей греки считали не только не заслуживающими ни малейшего презрения в государстве, но и достойными величайшей чести.
В самом деле, на каком бы основании они, почитая жрецов за то, что через них приносятся приятные богам жертвы, считали бы людьми презренными актеров, через которых они получили возможность, по указанию самих же богов, доставлять удовольствие и честь богам, которые того требовали и гневались, если этого не делалось? И это — в особенности после того, как Лабеон, которого считают великим знатоком в вещах подобного рода, отличил богов добрых и злых различным культом, ибо злые божества, как утверждал он, умилосгивляются–де кровавыми жертвами и скорбными молениями, а добрые — веселым и шутливым почитанием, например играми, пиршествами и лектистерниями*.
Каково все это, об этом, даст Бог, подробнее скажем потом. Что же касается настоящего предмета, то всем ли богам оказывается одинаковое почитание, как богам добрым (поскольку богам неприлично
* Лектистерний — пир в честь того или иного божества, причем идол этого божества сажался вместе со всеми за стол.
БлаженныйАвгустин 72
быть злыми, хотя, вернее, все они — боги злые, так как они — нечистые духи), или же с известным различием: одним — одно, другим — другое, как этого требовал Лабеон, — во всяком случае греки поступали логично, считая одинаково достойными чести как жрецов, которые совершают жертвоприношения, так и актеров, которые исполняют театральные игры. Их нельзя упрекнуть в том, что они обижали своих богов, — всем ли то, если игры и всем им приятны, или, что было бы еще хуже, тем, которых считают добрыми, если игры любят только лишь эти последние.
ГЛАВА XII
Между тем римляне, — чем в том же сочинении о республике так гордится Сципион, — не желали, чтобы их жизнь и доброе имя подвергались порицанию и оскорблению со стороны поэтов, постановив законом подвергать уголовному наказанию того, кто осмелился бы сочинять стихи подобного содержания. Этим постановлением они выразили довольно уважительное мнение о самих себе, но по отношению к их богам оно высокомерно и неблагочестиво. Если они знали, что боги принимают оскорбления и злословия со стороны поэтов не только терпеливо, но и охотно, то, значит, они считали себя менее заслуживающими этих оскорблений, чем боги, и себя оградили от них законом, а оскорблениям богов дали место на священных празднествах. Неужели, Сципион, ты хвалишь римлян за то, что они воспретили поэтам свободу поражать насмешкой кого–либо из граждан, когда |видишь, что с их стороны не было пощады никому из ]ваших богов? Неужели, по твоему мнению, больше следует уважать вашу курию, чем капитолий, один Рим, чем целое небо, так что граждане твои защищены от злословия поэтов законами, а твоих богов поэты спокойно осыпают оскорблениями: и ни один сенатор, ни один цензор, ни один сановник, ни один понтифик не воспрещает им этого!
О граде Божием 73
Плавту или Невию злословить Публия и Гнея Сципиона, или Цецилию — Марка Катона было неприлично, а вашему Теренцию подстрекать юношей к распутству описанием злодеяний всеблагого и верховного Юпитера — прилично?
ГЛАВА XIII
Но, будь Сципион жив, он, возможно, возразил бы мне так: «Каким образом мы стали бы преследовать наказанием такое, что священно по воле самих богов? Ибо театральные игры, в которых все это рассказывается и представляется, в римские нравы ввели сами боги и повелели, чтобы это посвящалось и совершалось в их честь». Но почему же, в таком случае, римляне не поняли из этого, что эти боги — боги не истинные и совершенно не заслуживают того, чтобы республика воздавала им божеские почести? Ведь если бы они потребовали себе игр, позорящих самих римлян, их было бы неприлично и не следовало почитать: каким же образом, спрашиваю, их сочли достойными поклонения божествами, а не гнусными духами, если из желания ввести в обман они потребовали, чтобы под видом поклонения им прославлялись их злодеяния?
Нужно заметить, что римляне, хотя и были подвержены вредному суеверию, состоявшему в почитании богов, требовавших, чтобы им посвящались театральные мерзости, тем не менее не забывали своего достоинства и чувства стыда: они не питали, подобно грекам, никакого уважения к сочинителям этих басен, но, как говорит у Цицерона тот же Сципион, «считая все сценическое и театральное искусство целиком позорным, постановили: этот род людей не только лишать чести, принадлежащей остальным гражданам, но даже исключать из триб по распоряжению цензора». Мудрость замечательная и вполне заслуживающая быть отнесенной к римским достоинствам; но
БлаженныйАвгустин 74
желал бы, чтобы она была последовательна и верна самой себе. То правильно, что каждый, кто из римских граждан захотел бы быть актером, не только теряет всякое право на уважение, но к тому же по цензорскому распоряжению изгоняется из своей трибы. Это ты, ревнивый к гражданской чести, настоящий римский дух! Но пусть ответят мне, на каком основании актеры всецело лишаются чести, а театральные игры относятся к действиям, совершаемым в честь богов? Долгое время римская доблесть не знала театральных искусств. Если бы их ввели для услаждения человеческой похоти, они вредным образом подействовали бы на человеческие нравы. Это боги потребовали, чтобы они давались им. Каким же образом считается презренным актер, через которого чтится бог? На каком основании актер, разыгрывающий театральную мерзость, подвергается презрению, если потребовавший ее бог пользуется почитанием?
В отношении к этому предмету греки и римляне расходятся между собою. По мнению греков, они правильно уважают актеров, так как через актеров почитаются боги, изобретатели театральных игр; по мнению же римлян, актеры обесчестили бы даже плебейскую трибу, тем более сенаторскую курию. Сущность вопроса в этом разногласии разрешается следующим силлогизмом. Греки говорят: «Если следует почитать подобного рода богов, то должно уважать, конечно, и людей подобного рода». Римляне прибавляют вторую посылку: «Но людей подобного рода уважать не должно». Христиане же заключают: «Следовательно, не должно почитать и подобного рода богов».
ГЛАВА XIV
Спросим далее, почему не считаются презренными, подобно актерам, и поэты, составители подобного рода басен, которым законом Двенадцати таблиц
О граде Божием 75
запрещено оскорблять доброе имя граждан, но которые, между тем, осыпают богов столь оскорбительными насмешками? На каком основании актеры, разыгрывающие измышления стихотворцев и изображающие позорных богов, считаются презренными, а сами авторы пользуются уважением? Не следует ли скорее отдать преимущество греческому Платону, который, изображая идеальное государство, полагал, что из него должны быть изгнаны поэты, как враги истины? С одной стороны, он с негодованием смотрел на оскорбления богов, с другой — не хотел, чтобы и дух граждан развращали и искажали вымыслами.
Сравни же теперь человечность Платона, изгоняющего поэтов из государства ради предупреждения развращения граждан, с божественностью богов, в честь себя требующих театральных игр. Платон своими рассуждениями если не убедил, то, по крайней мере, посоветовал легкомысленным и распущенным нравственно грекам, чтобы произведения подобного рода даже и не писались; напротив, боги настоятельно потребовали от солидных и умеренных римлян, чтобы такие произведения разыгрывались и на сцене, и не только разыгрывались, но посвящались и торжественно исполнялись в их честь. Кому же, спрашивается, государство должно воздавать божеские почести с большей торжественностью — Платону ли, возбраняющему всякого рода мерзости и непотребства, или же демонам, находящим удовольствие в подобном обмане людей, которых Платон не смог убедить в истине? Лабеон полагал, что Платона следует считать полубогом, как Геркулеса и Ромула; полубогов же он ставил выше героев, хотя и тех и других относил к божествам. Но я думаю, что того, кого он называет полубогом, следует ставить выше не только героев, но и самих богов. С воззрениями Платона сходны и римские законы в том отношении, что Платон осуждает всякого рода поэтические вымыслы, а римские законы запрещают поэтам оскорбительно отзываться о
БлаженныйАвгустин 76
людях; Платон изгоняет из государства поэтов, римские же законы лишают права гражданства актеров, разыгрывающих поэтические басни, и, пожалуй, изгнали бы их из государства совсем, если бы не боялись богов, требовавших себе театральных игр.
Итак, римляне не могли ни в коем случае получить или ждать от богов законов, направленных к воспитанию нравов добрых и исправлению дурных, ибо сами превосходили их своими законами: боги требуют в честь себя театральных игр, а римляне устраняют актеров от всяких должностей, соединенных с честью; боги повелевают, чтобы позорные дела их прославлялись поэтическими вымыслами, а римляне не дозволяют бесстыдству поэтов позорить и людей. Полубог же Платон восстает и против распутства подобных богов, и показывает, что должен был бы сделать присущий римлянам здравый смысл: он решительно не допускает, чтобы в благоустроенном государстве жили поэты, которые или бессовестно лгут, или предлагают для подражания бедным людям отвратительнейшие дела так называемых богов. Мы не считаем Платона ни богом, ни полубогом; не сравниваем его ни со святым ангелом всевышнего Бога, ни с истинным пророком, ни с кем–либо из апостолов, ни с каким–нибудь мучеником Христовым, ни с каким угодно христианином. Почему это так, мы, с помощью Божией, объясним в надлежащем месте.
Тем не менее, ввиду того, что они сами почитают его полубогом, мы думаем, что его следует предпочитать если не Ромулу и Геркулесу (хотя никто из историков и поэтов не говорил о Платоне, что он убил брата или совершил какое–либо иное преступление), то, по крайней мере, Приапу, или некоему Кинокефалу, или, наконец, Лихорадке — божествам, которых римляне отчасти заимствовали со стороны, отчасти же обоготворили сами.
О граде Божием 77
Итак, каким бы образом стали устранять добрыми заповедями и законами угрожавшее душе и нравам страшное зло или заботиться об уничтожении укоренившегося уже зла такие боги, которые, напротив, сами старались сеять и умножать беззакония, желая, чтобы посредством театральных представлений народ узнавал о таких божественных делах, что непотребнейшая человеческая похоть разжигалась сама собою, как бы опираясь на божественный авторитет? Цицерон напрасно указывал на это, говоря о поэтах: «В то время, как доносится до них одобрительный крик народа, точно какого–то великого и мудрого учителя, какой напускают они мрак! Каких нагоняют страхов! Как разжигают они самые дурные страсти!»
ГЛАВА XV
Да и при самом избрании ложных богов, чем другим руководствовались они по преимуществу, как не лестью? Платона, которого считают полубогом, за столь многие исследования его, направленные на защиту нравов от порчи духовным злом, которого особенно надлежит бояться, они не удостоили даже небольшого храма; а своего Ромула поставили выше многих богов, хотя, по тайной доктрине, и его считают скорее полубогом, чем богом. Ибо ему установили даже и фламина, каковой род жречества в культе римлян пользовался (как это показывает и шапка фламинов) таким превосходством, что фламинов было только три, установленных трем богам: фламин юпитеровский — Юпитеру, марсовский — Марсу и квиринальский — Ромулу (ибо последнего, как бы по благосклонности граждан принятого в число небесных богов, они потом назвали Квирином). Таким образом, он предпочтен был Нептуну и Плутону, братьям Юпитера, и даже Сатурну, их отцу, так что тот
БлаженныйАвгустин 78
самый род жречества, который присущ Юпитеру, присущ был и ему, а Марсу, вероятно, уже благодаря Ромулу, отцом которого тот считался.
ГЛАВА XVI
Затем, если бы римляне могли получить от своих богов законы для жизни, то не заимствовали бы они, через несколько лет после основания Рима, у афинян законов Солона; и притом содержали эти законы не в том виде, в каком приняли, а старались улучшить и исправить. Хотя Ликург и похвалялся, будто законы для лакедемонян он составил по велению Аполлона, однако римляне благоразумно не поверили этому и приняли законы не оттуда. Рассказывают, что преемник Ромула, Нума Помпилий, издал некоторые, хотя и решительно недостаточные для управления государством, законы, которыми установил многие свя–щеннослужения; но никто же не говорит, что эти законы он получил от богов. Таким образом, боги римлян нисколько не заботились о том, чтобы отвратить от своих поклонников душевное зло, зло жизни и нравов, которое так велико, что их ученейшие мужи утверждают, что от него погибают республики и при целости городов; а, напротив, всячески старались, чтобы, как о том было сказано выше, это зло еще более увеличивалось.
ГЛАВА XVII
Но, быть может, боги не предписывали римскому народу законов потому, что у него, как говорит Саллюстий, «чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам»*.
О граде Божием 79
Полагаю, что под влиянием именно этого чувства правды и добра были похищены сабинянки… В самом деле, что может быть справедливее и лучше, чем похищение силой чужих дочерей, заманенных в ловушку под предлогом зрелища? Ибо если несправедливо поступили сабиняне, не захотев выдать замуж дочерей, которых у них просили, то во сколько раз несправедливее было похитить тех, которых не выдали? Было бы справедливее воевать с народом, который не хотел выдавать соседям своих дочерей, когда их о том просили, чем воевать с народом, который требовал возвращения похищенных женщин. Было бы лучше, если бы Марс помог своему сыну отомстить вооруженной рукою за нанесенную обиду и таким образом предоставил бы ему возможность получить женщин, которых он искал. В таком случае он, пожалуй, по некоторому праву войны, справедливо отнял бы тех, в которых ему было отказано несправедливо; но он не имел никаких оснований и прав в мирное время похищать девиц и вести несправедливую войну с их справедливо разгневанными родителями. Последующее было полезнее и удачнее: хотя в память об этом обмане установлено было цирковое зрелище, однако сам поступок не был поставлен в пример для подражания ни народом, ни правительством; и римляне, зачислив Ромула после этой несправедливости в число богов, сделали более легкую ошибку, чем если бы дозволили подражать ему в похищении женщин каким–либо законом или обычаем.
Под влиянием, далее, этого самого чувства правды и добра, после изгнания с детьми царя Тарквиния, сын которого совершил насилие над Лукрецией, консул Юний Брут принудил отказаться от должности и выслал из государства Тарквиния Коллатина, мужа Лукреции, своего товарища, человека доброго и невинного, за то лишь одно, что тот носил имя Тарквиниев и приходился им родственником. Это злодейство Брут совершил с согласия или по допущению
БлаженныйАвгустин 80
народа, от которого Коллатин, как и сам Брут, получил консульство.
Под влиянием этого же чувства правды и добра достойно обошлись и с Марком Камиллом: этот благородный человек, после десятилетней войны с жесточайшими врагами римского народа вейетами, — войны, в продолжение которой несчастные сражения истощили римское войско до крайности и сам Рим уже отчаялся и опасался за свое будущее, — одержал над этими врагами победу и овладел их богатейшим городом; но из–за завистников, порицавших его доблести, и бесстыдства народных трибунов он был отдан под суд и освобожденное им государство нашел до такой степени неблагодарным, что, уверенный в своем осуждении, добровольно удалился в ссылку и в отсутствии был присужден к штрафу в десять тысяч ассов. И подобным образом поступили с человеком, который вскоре после этого отомстил за неблагодарное отечество галлам! Не хочется даже вспоминать о тех бесчисленных мерзостях и несправедливостях, которые волновали римское государство в то время, когда сильные старались подчинить себе народ, а народ не хотел им подчиниться, и когда защитники той и другой стороны старались лишь о победе, нисколько не заботясь при этом о правде и добре.
ГЛАВА XVIII
Итак, не буду говорить от себя и обращусь к свидетельству Саллюстия. Хотя вышеприведенные слова: «чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам» Саллюстий высказал в похвалу римлян, относя эту похвалу собственно к тому времени, когда, по изгнании царей, республика за короткий период достигла невероятно высокого расцвета; тем не менее, в самом начале первой же книги своей истории
О граде Божием 81
Саллюстий признается, что через самый малый промежуток времени, после того как республикой вместо царей начали управлять консулы, в Риме начались притеснения со стороны сильнейших, а в результате этого — распри народа с патрициями и всевозможные волнения. Ибо, упомянув, что римский народ в период времени между второй и последней пуническими войнами отличался превосходными нравами и величайшим согласием, и сказав, что причиною этого была не любовь к правде, а страх, который порождало сознание ненадежности мира при существовании Карфагена (почему Сципион, заботясь об устранении распущенности и сохранении этих превосходных нравов, и не хотел разрушать Карфаген, дабы пороки обуздывались страхом), Саллюстий продолжает так: «Но после разрушения Карфагена усилились раздоры, возросло корыстолюбие, честолюбие и другие виды зла, появляющиеся обычно среди благополучия». Этим он дает понять, что все это имело место и прежде.
Далее, поясняя, почему он так сказал, Саллюстий говорит: «Ибо уже с самого начала появились обиды со стороны сильнейших и, вследствие того, раздоры плебеев с патрициями и другие домашние несогласия; справедливость и беспристрастность соблюдались лишь до тех пор, пока, по изгнании царей, боялись Тарквиния, и пока не окончилась жестокая война с Этрурией». Заметь, что и за тот короткий промежуток времени, когда, по изгнании царей, соблюдались справедливость и беспристрастность, причиной этого, по словам Саллюстия, был страх: потому что римляне боялись войны, которую изгнанный из государства и лишенный престола Тарквиний вел против них в союзе с этрусками. Теперь послушай, что говорит Саллюстий далее: «Потом патриции начали порабощать народ, распоряжаться его жизнью и добром с поистине царской властью, лишать его полей и управлять государством одни, с устранением
БлаженныйАвгустин 82
от участия в том остальных. Выведенные из терпения этими жестокостями и особенно долгами, когда беспрерывные войны требовали и податей, и отправления военной службы, вооруженный народ удалился на священный авентинский холм и там выбрал себе народных трибунов и учредил другие права. Конец этим раздорам и усобицам положила вторая Пуническая война». Видишь, когда, т. е. спустя совсем немного времени после изгнания царей, и какими стали римляне, о которых Саллюстий говорит, что у них «чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам»!
Если такими оказываются те времена, когда римская республика, как говорят, была в превосходнейшем и наилучшем состоянии, то что же должны мы говорить и думать о последующем времени, когда она, выражаясь словами того же историка, «мало–помалу изменяясь, из прекраснейшей и наилучшей стала самой развращенной и распущенной», именно — о времени после разрушения Карфагена? В каких словах изображает и описывает эти времена Саллюстий, на какие виды нравственного зла, явившиеся среди благополучия, указывает он, как на причину, породившую даже междоусобные войны, — об этом можно прочесть в его истории. «С этого времени, — говорит он, — нравы предков ухудшались не постепенно, как прежде, а были сокрушены как бы какой–то лавиной: молодежь развратилась до такой степени роскошью и корыстолюбием, что появились люди, которые не могли ни сами иметь хозяйства, ни терпеть, чтобы его имели другие». Затем Саллюстий весьма много говорит о пороках Суллы и других мерзостях времен республики; говорят об этом и другие писатели, хотя далеко не с таким красноречием.
Теперь, полагаю, ты видишь (да и всякий, кто обратит на это внимание, поймет весьма легко), в какую глубокую пропасть нравственного развращения повергнуто было римское
О граде Божием 83
государство до пришествия всевышнего нашего Царя. Ибо все это происходило не только до того, как Христос начал учить, явившись во плоти, но и прежде, чем Он родился от Девы. Итак, если столь великое зло, раньше еще терпимое, а после разрушения Карфагена нестерпимое и ужасное, они не осмеливаются приписывать своим богам, с злоехидной хитростью укоренявшим в человеческие умы верования, из которых произросли такого рода пороки, то почему же настоящее зло они приписывают Христу, Который своим спасительнейшим учением воспрещает почитание ложных и лживых богов и, осуждая с божественною властью вредные и мерзкие человеческие страсти, от тлеющего и во зле лежащего мира мало–помалу возносит Свою семью и создает из нее вечный и по суду истины, а не по суетному одобрению, славнейший град?
ГЛАВА XIX
Итак, римская республика «мало–помалу изменяясь, из прекраснейшей и наилучшей стала самой развращенной и распущенной» (это не я говорю, а гораздо раньше пришествия Христа говорили так их авторы, которые научили нас тому за деньги). Так, раньше пришествия Христа, вскоре после разрушения Карфагена «нравы предков ухудшались не постепенно, как прежде, а были сокрушены как бы какой–то лавиной: молодежь развратилась… роскошью и корыстолюбием». Пусть прочтут нам предписания против роскоши и корыстолюбия, данные римскому народу его богами. О, если бы они только скрывали от него требования чистоты и умеренности, но нет: они еще и навязывали ему предписания позорные и бесчестные, сообщая им пагубный авторитет своею мнимой божественностью! Пусть прочтут теперь наши столь
БлаженныйАвгустин 84
многие предписания против роскоши и корыстолюбия, преподанные и пророками, и святыми евангелиями, и деяниями апостольскими, и посланиями, — предписания, которые так чудно и так божественно гремят и раздаются повсюду, где только собираются для этого чтения народы, и слышатся они не как из философских пререканий, а как бы из облаков и оракулов Божиих. И, однако же, того, что их республика вследствие роскоши и корыстолюбия, вследствие грубых и гнусных нравов еще раньше пришествия Христа сделалась самою развращенною и распущенною, они не приписывают своим богам, а всякое неблагополучие ее в настоящее время, коль скоро оно затрагивает их гордость и изнеженность, ставят в вину христианской религии!
Между тем, если бы предписываемых этой религией заповедей одинаково слушались и старались их исполнять «все цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки» (Пс, СХЬУШ, 11,12), каждый пол и возраст и даже мытари и воины, о которых упоминает Иоанн Креститель (Лук. III, 12—14), подобное государство и в настоящей жизни даровало бы счастье своим подданным, и в будущем блаженнейшем царстве вечной жизни заняло бы наивысшее место. Но поскольку эти заповеди один слушает, а другой презирает и большая часть людей любит более пороки с их соблазнами, чем добродетель с ее полезной суровостью, то слугам Христа, цари ли они или князья, судьи или воины, жители ли провинций, богатые или бедные, свободные или рабы, того или другого пола, повелевается терпеть, коль скоро это необходимо, даже и самую развращенную и распущенную республику, и этим терпением приуготовлять себе светлейшее место в святейшем и священном сенате ангельском и в небесном царстве, где законом служит воля Божия.
О граде Божием 85
ГЛАВА XX
Но эти почитатели и поклонники богов, с удовольствием подражающие им в злодеяниях и непотребствах, нисколько не беспокоятся, что их республика — самая развращенная и распущенная. «Лишь бы, — говорят они, — она процветала, наполняясь богатствами и прославляясь победами, или, что еще лучше, наслаждалась миром. Чего еще нам желать? Все, что мы хотим, — это чтобы все богатели, чтобы всегда хватало и на житейские нужды, и на порабощение слабых. Пусть бедные служат богатым, получая за это на пропитание, а последние пусть проводят жизнь в праздности и неге. Пусть народы рукоплещут не тем, кто дает им добрые советы, а тем, кто доставляет им разного рода удовольствия. Пусть трудное не предписывается, нечистое не запрещается. Цари пусть заботятся не о том, чтобы подданные их были добры, а о том, чтобы были покорны. Провинции пусть служат царям не как блюстителям нравов, а как обладателям наибольших утех, не чтут их сердечно, а рабски боятся. Пусть законы следят, чтобы не вредили чужим виноградникам, а не собственной жизни. К суду пусть привлекают только тех, которые вредят чужому имуществу или здоровью, но если на то нет ничьего несогласия, пусть делают, что хотят. Пусть множатся лупанарии, дабы никому из любителей блуда не было отказа. Пусть строятся обширнейшие поместья, задаются пышные пиры; пусть днем и ночью устраиваются игры до полного пресыщения, попойки до рвоты. Пусть наполняются театры, пусть разыгрываются в них любые, даже самые скотские зрелища. И пусть того считают врагом общества, кому не нравится такого рода благополучие; пусть не слушают таких, пусть гонят с глаз долой, стирают с лица земли. Пусть почитаются те боги, которые предписывают все эти удовольствия, пусть требуют они каких угодно игр, пусть предоставляется им все, что они
БлаженныйАвгустин 86
пожелают, лишь бы только эта счастливая жизнь никогда и ничем не омрачалась: ни страхом перед неприятелем, ни какой–либо заразой, ни чем бы то ни было еще».
Какой здравомыслящий человек не сравнит подобную республику, не скажу с римской империей, а с домом Сарданапала, который, будучи некогда царем, был до такой степени предан удовольствиям, что на своей гробнице приказал сделать надпись, что теперь он, мертвый, имеет только то, что при жизни расточило его сладострастие? Если бы у них был такой снисходительный ко всякой распущенности царь, они посвятили бы ему храм и фламина охотней, чем древние римляне — Ромулу.
ГЛАВА XXI
Но если они не желают слушать тех, кто называет римскую республику самой развращенной и позорной, нисколько не заботясь о том, какой язве нравственной распущенности она подвержена и какому бесчестью, а лишь о том, чтобы она оставалась целой и могущественной, то пусть они послушают не Сал–люстия, а Цицерона, во времена которого она уже совершенно погибла. Цицерон вводит в свои рассуждения Сципиона, того самого, который разрушил Карфаген, вкладывая в его уста мысли о республике, в то время как Цицерону уже было очевидно, что республика вот–вот рухнет из–за той ее порочности, о которой говорил Саллюстий. Ибо Цицерон приступил к своей работе тогда, когда один из Гракхов, с которого, по Саллюстию, начались сильнейшие возмущения, был уже убит.
В конце второй книги Сципион говорит о том, что как при игре на различных инструментах, равно как и при пении, должно соблюдаться определенное соотношение между высокими, средними и низкими
О граде Божием 87
звуками и интервалами между ними, из чего образуется их гармоническое сочетание и определенный строй, так же и из разумного сочетания разных слоев населения, их прав и обязанностей составляется гражданское общество; и то, что у музыкантов называется гармонией, то в государстве — согласием, которое суть прочное и наилучшее во всякой республике основание для благополучия и справедливости. Затем Сципион подробно останавливается на том, сколь полезна для государства справедливость и сколь пагубно ее отсутствие. В это время в разговор вступает некто Фил, требуя, чтобы была рассмотрена сама справедливость, ибо существует мнение, что республикой нельзя управлять без некоторой толики неправды. На это Сципион отвечает, что ни сказанное им о республике ранее, ни то, что он еще намеревается сказать, не имеет никакого смысла, если не признать истинности той мысли, что хорошо управлять республикой — значит управлять справедливо. На этом вторая книга заканчивается, и продолжение диспута изложено уже в третьей книге.
Фил берется защищать мнение сторонников неправды, заранее предупредив, что сам это мнение не разделяет. Его оппонентом, по просьбе собравшихся, выступает Лелий. Когда обе стороны обстоятельно исследуют все аргументы сторон, Сципион возвращается к своей прерванной речи, предлагая принять то определение республики, по которому она — народное дело. Народом же он называет не некую толпу, а совокупность людей, объединенных согласием в смысле определения прав и взаимной пользы. Затем, показав, какую пользу в состязаниях имеют определения, он, на основе своих определений, выводит, что республика, т. е. народное дело, существует тогда, когда управляется справедливо, хотя формы управления могут быть разными, а именно: царской, аристократической или всенародной. Если же царь несправедлив (такого царя он называет на
БлаженныйАвгустин 88
греческий манер «тираном»), или несправедливы вельможи (их соглашение он называет «заговор»), или, наконец, несправедлив сам народ (тут он не находит подобающего названия, предлагая считать «тираном» народ), то, как следует из предложенных ранее определений, республику даже нельзя назвать несправедливой: она попросту исчезает. Действительно, она уже никоим образом не может считаться народным делом, если власть в ней злоумышленно захвачена тираном или заговорщиками, и если даже тираном выступает сам народ, то и тут он перестает быть сообществом людей, объединенных согласием, т. е. он перестает быть народом.
Итак, если республика была такой, какой ее описывает Саллюстий, то она была уже не самой развращенной и распущенной из всех республик, а просто не была уже республикой. Так утверждает и сам Туллий (Цицерон), причем уже не от лица Сципиона, а от своего собственного. В начале пятой книги, процитировав стих Энния:
Римлян республика древними нравами держится, Доблестью славных мужей,
он говорит: «Этот стих по своей краткости и истинности напоминает мне изречение оракула. Ибо ни мужи, если бы не было государства с такими нравами, ни нравы, если бы не управляли государством такие мужи, не могли бы ни основать, ни так долго сохранять столь обширной и столь правосудно повелевающей республики. Итак, как отеческие нравы рождали славных мужей, так и славные мужи поддерживали древние нравы и установления предков. Наш же век, унаследовав прекрасную, но несколько как бы полинявшую и выцветшую республику, не постарался хотя бы сохранить то, что получил. Ибо что ныне осталось от тех древних нравов? Их не только не придерживаются, но даже и вовсе о них позабыли.
О граде Божием 89
О мужах же и говорить нечего, ибо и нравы погибли из–за недостатка мужей. За все это мы не только должны дать строгий отчет, но и предстать перед судом, как уголовные преступники. Именно вследствие наших пороков мы сохраняем нашу республику лишь на словах, на деле же давно ее потеряли».
Так говорит Цицерон, говорит много позже смерти Сципиона, которого выводит состязающимся в своей книге, но все же еще до пришествия Христа. Но если бы все они даже жили во времена христианские, кто из них вздумал бы обвинять в этом упадке христиан? Почему же их боги не позаботились о сохранении республики, которую так горько оплакивает Цицерон еще задолго до воплощения Христова? Тот же, кто хвалит ее такой, какой она была в древние времена, также может, присмотревшись, увидеть, что была она и тогда не столько живою нравственно, сколько просто разукрашенной и принаряженной. Это, всячески ее превознося, неосознанно отметил и сам Цицерон. Но мы поговорим об этом в другом месте. Тогда, на основании кратких определений самого Цицерона о том, что такое республика и что такое народ (им ли высказанных, или тех, которые он вложил в уста своих героев), я постараюсь показать, что римская республика никогда не была республикой, ибо там никогда не было справедливости. По более же точным определениям она все же была в своем роде республикой, управляясь древними куда лучше, чем нынешними. Но истинной справедливости нет нигде, кроме той республики, Основатель и Правитель которой — Христос, если эту последнюю угодно будет называть республикой, так как нельзя отрицать, что она — народное дело. Но поскольку в нашем случае это название может показаться несколько необычным, то скажем так: истинная справедливость существует только в том граде, о котором Писание говорит: «Славное возвещается о тебе, град Божий» (Пс. ЕХХХУТ, 6).
БлаженныйАвгустин 90
ГЛАВА XXII
Что же касается настоящего вопроса, то, как бы ни хвалили древнюю республику их авторы, все они признают, что задолго до пришествия Христа она стала самою распущенною и развращенною; или что даже ее не стало вовсе, ибо она погибла от испорченных нравов. Тем более ее боги–хранители должны бы были позаботиться о том, чтобы дать предписания о нравах и образе жизни этому народу, воздвигнувшему в их честь столько храмов, назначившему столько жрецов, приносившему столько жертв и установившему столько празднеств и пышных игр. Но эти демоны заботились только о себе, почитателей же своих всячески развращали. Если же дело обстояло иначе, то пусть объявят нам их добрые наставления, пусть прочтут те божественные законы, которые преступили Гракхи, сея вокруг беспорядок и произвол, которые, далее, нарушили Марий, Цинна и Карбон, развязавшие междоусобные войны, которые велись с неслыханной жестокостью, которыми, наконец, пренебрег Сулла, жизнь, деяния и нравы которого, описанные Саллюстием и многими другими историками, наводят на всех ужас. Кому не ясно, что республика погибла еще в те времена?
Но, возможно, в защиту своих богов они осмелятся сослаться на то место у Вергилия, в котором говорится, что по причине падения нравов граждан
Храмы оставивши и алтари, удалились Боги, которыми царство держалось?
Но если это так, то, во–первых, нет никаких оснований жаловаться на христианскую религию, что, дескать, боги удалились, ибо были оскорблены ею, поскольку прогнали их, многочисленных и мелких,
О граде Божием 91
как мухи, испорченные нравы предков. Однако тут следует спросить, где были эти боги тогда, когда нравы еще не были испорчены, а между тем Рим был захвачен и сожжен галлами? Или они присутствовали, но проспали? Ибо в то время, как город уже был взят неприятелем, у римлян остался лишь капитолийский холм, да и он бы погиб, если бы тогда, когда спали боги, заснули бы и гуси. Установив же праздник в честь гусей, римляне в своем суеверии уподобились египтянам, чтившим зверей и птиц. Впрочем, обо всех этих не касающихся души телесных невзгодах я пока что говорить не намерен. Теперь наша речь — об упадке нравов, сокрушившем республику в то время, когда стены ее городов были еще крепки. Боги же, пожалуй, имели бы право оставить храмы и удалиться, если бы граждане нарушили данные им этими богами предписания о добродетельной жизни и справедливости. Но в нашем случае уместно спросить, каковы были эти боги, которые не захотели жить с почитавшим их народом, которого они, когда он начал жить порочно, не научили жить добродетельно?
ГЛАВА XXIII
Ну, а что если они даже содействовали удовлетворению их страстей, вместо того, чтобы их обуздывать? Ибо кто помог Марию, этому выскочке–плебею, кровожадному зачинщику и виновнику междоусобных войн? Кто помог ему семь раз быть консулом, умереть стариком во время седьмого консульства и не попасть в руки Суллы, в конце концов оказавшегося победителем? Если же во всем этом боги ему не помогали, то из этого следует весьма любопытный вывод: человек, даже когда боги к нему неблагосклонны, вполне может достигнуть желанного ему, столь великого временного благополучия; и люди, подобные Марию, могут, несмотря на гнев богов, наслаждаться здоровьем, силой, богатством, почестями
БлаженныйАвгустин 92
и долголетием; напротив, люди, подобные Регулу, несмотря на любовь к ним богов, могут томиться и умирать в плену, в рабстве, в нищете, в бессоннице и тяжких муках. Если они согласятся, что это так, то вынуждены будут также признать, что пользы от их богов нет никакой и почитаются они напрасно.
В самом деле, если по отношению к душевным добродетелям и доброй жизни, награды за которые следует ожидать после смерти, боги распорядились так, чтобы народ учился скорее противоположному; если, далее, и в отношении преходящих, временных благ они или нисколько не вредят тем, кого ненавидят, или ничем не помогают тем, кого любят, то в чем тогда смысл почитания этих богов? Зачем обращаться к ним с таким усердием? Зачем во время трудностей и лихолетья роптать на то, что они удалились, и из–за этого самым недостойным образом поносить христианство? Если же в области этих благ они способны делать добро или зло, то почему тогда Марию, человеку необычайно дурному, они покровительствовали, а наидостойнейшему Регулу такового покровительства не оказали? Или этим они хотели показать, что сами в высшей степени несправедливы и злы? Но если допустить, что именно вследствие этого их следует бояться и почитать, то на поверку окажется, что и это не так. Ибо Регул почитал их не менее, чем Марий. Но и из того, что Марию они покровительствовали более, чем Регулу, также не следует, что нужно предпочитать жизнь самую дурную. Ибо Метелл, самый достохвальный из римлян, имевший пятерых сыновей консулами, был счастлив во временных благах; а Катилина, человек самый порочный, удрученный бедностью и в своей злодейской войне потерпевший поражение, напротив, был несчастен. Истинным же и прочным счастьем наслаждаются добродетельные почитатели Бога, Который один только может даровать его.
О граде Божием 93
Итак, когда Римская республика погибала от развращения нравов, боги не сделали ничего для их исправления и улучшения, дабы спасти ее от гибели; напротив, они всячески содействовали развращению и ухудшению нравов, чтобы она погибла. Пусть же они не прикидываются добрыми в том смысле, что якобы они удалились, оскорбленные порочностью граждан. Нет, они были на месте; присутствие их вполне обнаруживается: хотя они не пришли на помощь с наставлениями, но и не смогли скрыть себя молчанием. Не говорю о том, как Марий был отведен в рощу, посвященную богине Марике, и был поручен ее покровительству сжалившимися минтурнинцами, и как, счастливо избежав грозившей ему опасности, этот подлый человек повел на Рим свое свирепое войско. Насколько кровава, насколько бесчеловечна, насколько лютее любой неприятельской была его победа, пусть, кто интересуется, прочтет об этом у историков. Я, как сказал, обхожу это молчанием, и кровавое счастье Мария приписываю не какой–то Марике, а таинственному провидению Божию, которое пожелало заградить их уста и освободить от заблуждений тех, кто может беспристрастно и благоразумно исследовать подобные явления. Ибо если демоны и имеют некоторую силу в области подобных предметов, то лишь настолько, насколько дозволяет им это сокровенная воля Всемогущего, чтобы мы не гордились земным счастьем, которое весьма часто предоставляется и людям злым, подобным Марию; но в то же время и не считали само это счастье чем–нибудь злым, видя, что им, наперекор демонам, пользуются и многие благочестивые и добродетельные почитатели единого Бога; и не думали, что ради этих земных благ или зол следует умилостивлять или бояться нечистых духов. Как злые люди, так и злые духи могут делать не все, что хотят, а лишь то, что им дозволяется распоряжением Того, судеб Которого никто не может ни постигнуть, ни справедливо укорить.
БлаженныйАвгустин 94
ГЛАВА XXIV
Времена Суллы были таковы, что заставили всех с тоской вспоминать времена предшествовавшие, за которые он являлся мстителем. А между тем, по свидетельству Ливия, когда Сулла готовился к первому походу на Рим против Мария, он получил при жертвоприношении такие счастливые предзнаменования, что гаруспик Постумий, исследовавший внутренности жертвенных животных, предложил взять себя под стражу и казнить в том случае, если замыслы Суллы не осуществятся при столь явном содействии богов. Итак, боги не удалились, покинув храмы и алтари, если предсказывали Сулле о благополучном исходе его дела, но не постарались при этом исправить его самого. Обещали они ему великое счастье, но ничем не пытались при этом обуздать его злые страсти. Затем, когда Сулла вел в Азии войну с Митридатом, Юпитер через Люция Тиция велел сообщить ему, что он одержит долгожданную победу, что и случилось. После этого, когда Сулла собирался возвратиться в Рим и отомстить за причиненные ему обиды, обильно пролив при этом кровь сограждан, тот же Юпитер через некоего солдата шестого легиона вновь обещал ему победу и власть. Когда Сулла расспросил, как выглядел тот, кто явился солдату, выяснилось, что это был тот же самый, что являлся и Люцию и предсказывал победу над Митридатом. Опять же спрашивается: почему боги спешили сообщать о таких якобы благополучиях, ничем при этом не содействуя исправлению самого Суллы, который своими злодейскими междоусобными войнами причинил столько зла, не только осквернившего, но и совершенно уничтожившего республику? Поистине, то были демоны, как я уже не раз говорил и о чем ясно свидетельствуют божественные Писания, и сами дела их явствуют, что единственной их целью было добиться того, чтобы их почитали как богов и совершали в их честь такие вещи, за которые совершавшие
О граде Божием 95
их вместе с ними получили бы одинаковое наказание на суде Божием.
Потом, когда Сулла прибыл в Тарент и приносил там жертву, он увидел в верхней части телячьей печени подобие золотой короны. Тот же гаруспик Постумий сказал, что это предзнаменование предвещает Сулле славную победу, и велел ему одному съесть все внутренности. Немного спустя раб какого–то Люция Понтия прокричал в пророческом исступлении: «Я иду вестником от Беллоны; Сулла, победа твоя!» Затем он прибавил, что Капитолий сгорит. Капитолий действительно сгорел. Конечно, демону не составляло труда предусмотреть это и тотчас возвестить. Но обрати внимание на то, под властью каких богов хотелось бы жить тем, которые хулят Спасителя, избавляющего верных от владычества демонов. Человек прокричал: «Сулла, победа твоя», и чтобы поверили, что он кричит по внушению божественного духа, возвестил и нечто такое, что должно было вскоре совершиться и действительно совершилось. Но, однако же, он не прокричал: «Сулла, удержись от злодеяний», от тех ужасных злодеяний, которые, одержав победу, совершил тот, кому в телячьей печени привиделась золотая корона.
Если бы подобные знаки подавали справедливые боги, а не нечестивые демоны, они скорее бы указали на какое–нибудь гнусное и вредное для самого Суллы будущее зло. Ибо победа эта не столько возвысила его достоинство, сколько погубила: она была причиной того, что, возгордившись и предавшись удовлетворению своих неумеренных желаний, он в большей степени нравственно погиб сам, чем телесно уничтожил своих врагов. Об этих поистине печальных и плачевных вещах их боги не возвещали ни во внутренностях жертвенных животных, ни через авгуров, ни во сне или пророчестве. Ибо они больше боялись того, как бы он не исправился, нежели того,
БлаженныйАвгустин 96
как бы он не остался побежденным. Они даже специально старались, чтобы, став торжествующим победителем сограждан, но побежденный и плененный гнусными пороками, он через это еще более рабски подчинился нечистым демонам.
ГЛАВА XXV
Кто не поймет, кто не усмотрит (кроме того, конечно, кто предпочитает подражать именно таким богам вместо того, чтобы постараться с помощью благодати Божией устраниться от общения с ними), до какой степени эти лукавые духи стараются своим примером дать как бы божественные полномочия на совершение злодейств, когда на одной обширной равнине Кампании, где вскоре после описанных событий разгорелась жестокая битва гражданской войны, они еще до сражения сами вступили в битву друг с другом? Сперва на том месте был слышен страшный гул, а затем, как рассказывали многие очевидцы, в течение нескольких дней там как бы сражались два войска. А когда сражение прекратилось, там остались следы множества людей и лошадей. Итак, если божества действительно сражались между собою, то этим они как бы вполне извиняли и оправдывали гражданские войны.
Но заслуживает внимания коварство и ничтожность таких богов. Представляясь сражающимися, они делали это лишь для того, чтобы римляне, ведя междоусобную войну, не казались сами себе совершающими преступление. Ибо гражданские войны тогда уже начались и произошло уже несколько святотатственных кровопролитий в достойных проклятия битвах. Многие были потрясены и ужаснулись, когда один воин, обирая труп убитого им врага, обнаружил, что это был его брат, и тогда он, прокляв гражданские войны, тут же умертвил себя. И вот, чтобы подобное
О граде Божием 97
зло впредь не вызывало отвращения, а напротив того, жажда к злодейским кровопролитиям час от часу все сильнее разгоралась, демоны, которых они почитали и которым поклонялись, как богам, решили явиться людям в виде как бы сражающихся друг с другом, дабы человеческое злодейство находило извинение себе в этом якобы божественном примере. С таким же лукавством некогда злые духи повелели ввести в состав религиозных действий и посвятить им гнусные игры, — о чем я говорил уже выше, — игры, в которых подобные злодеяния богов прославлялись театральными песнями и драматическими действиями, так что всякий, независимо от того, верил ли он, или нет, что боги совершали подобные злодеяния, видел, однако же, что они желали, чтобы им показывали такие вещи и, таким образом, как бы их одобряли. А чтобы кто–нибудь не подумал, будто поэты, упоминая о том, что боги сражались друг с другом, скорее возводили на них хулу, чем приписывали им нечто достойное, они с целью обольщения подтвердили сказания, представив глазам людей свои битвы не только на сцене, но и самолично в открытом поле.
Мы вынуждены были указать на это, ибо их же собственные писатели отнюдь не стеснялись говорить, что Римская республика вследствие крайне испорченных нравов граждан погибла еще прежде и не сохранилась до пришествия Господа Иисуса Христа. Эту погибель ее они не ставят в вину своим богам, а зло преходящее, от которого добрые, живут ли они, или умирают, погибнуть не могут, они ставят в вину нашему Христу! Между тем, Христос дал многочисленные заповеди в пользу наилучших нравов и против разврата, а их боги никакими заповедями чтившему их народу не сделали ничего, что могло бы предотвратить гибель республики; более того, своим примером они усугубляли порчу, содействуя этой гибели. Думаю, никто не осмелится утверждать, что она погибла в то время потому, что
БлаженныйАвгустин 98
Храмы оставивши и алтари, удалились Боги,
как друзья, мол, добродетелей, оскорбленные людскими пороками. Что боги были налицо, это доказывается множеством бывших тогда предзнаменований во внутренностях животных, в полете птиц, в прорицаниях, в которых они с великим удовольствием выставляли себя предузнающими будущее и помощниками в сраженьях. Не будь всего этого, собственные страсти римлян не возбудили бы последних к гражданским войнам до такой степени, как демонские подстрекательства.
ГЛАВА XXVI
Если это так, если явно выставлялись безобразия, соединенные с жестокостью, позорные дела и преступления божеств, действительные или вымышленные, выставлялись по их же требованию и под угрозой гнева в случае невыполнения этого требования, — даже в определенные ими и установленные дни праздников, посвященных им; если все это совершалось для ведома и на глазах всех, как предлагаемое для подражания, то какое значение имело при этом то, что эти же самые демоны, выдававшие себя во всем этом, как нечистых духов, — какое значение имело то, что те же самые демоны внутри своих святилищ и в недоступных для народа тайниках давали некоторые добрые наставления относительно нравов какому–либо из посвященных им лиц, как бы людям избранным? Если все происходило именно так, то это еще более свидетельствует об их коварстве. Ибо сила добра и нравственной чистоты такова, что все или почти все люди относятся к ней с уважением и мало кто доходит до такой степени нравственной испорченности, чтобы потерять всякое чувство благопристойности.
О граде Божием 99
Поэтому коварство демонов преуспевает в обмане не иначе, как если они прикидываются время от времени ангелами света (II Кор. XI, 14), как о том мы знаем из своих Писаний.
И вот, вне храмов торжественно и громко народам проповедуется грязное беззаконие, а внутри притворно нашептывается немногим чистота; для срама отводятся публичные места, для похвальных дел — укромные тайники; приличие скрыто, безобразие открыто; что делается дурного, делается для всех, что говорится доброго, говорится для немногих: этим как бы дается понять, что честного следует стыдиться, а бесчестным — хвалиться. Где такое возможно, как не в храмах демонов? Где, как не в пристанище лжи? И одно делается для того, чтобы обольстить честнейших, которых немного, а другое — для того, чтобы большинство бесчестных не исправилось.
Где и когда служители Целесты слышали заповеди о чистоте, мы того не знаем. Но перед самим капищем, где водружен этот идол, мы, стекаясь из разных мест, могли наблюдать совершавшиеся игры, и, переводя взор, видели в одном месте торжество распутства, в другом — богиню–девственницу; ее коленопреклоненно чтили, и перед нею же совершали непотребство. При этом мы не встречали там ни сколько–нибудь застенчивого мима, ни хоть немного скромной актрисы: все положенные непристойности исполнялись с заслуживающей лучшего применения тщательностью. Таким образом, как бы давалось понять, чего хотело девственное божество и что вразумленная этим матрона должна была вынести с собою домой из храма! Некоторые, более застенчивые, отворачивали лица от гадких телодвижений, представлявшихся на сцене, украдкой изучая искусство бесстыдства. Стыдясь окружающих, они не осмеливались прямо смотреть на совершаемое похабство, однако и не осуждали культ той, которую
БлаженныйАвгустин 100
почитали своим чистым сердцем. В храме открыто преподавалось то, что в домах совершалось тайно, приводя в крайнее смущение тем, что людям было запрещено явно удовлетворять свои бесстыдные желания, которым они должны были с благоговением учиться у богов, причем они знали, что боги разгневаются, если все это не будет выставлено напоказ. Какой иной дух, как не самый нечистый, возбуждает порочные помыслы, подстрекает к прелюбодеяниям и находит удовольствие в подобных религиозных установлениях, водружая в храмах образы демонов, в играх же выводя образы пороков? Втайне он нашептывает о справедливости, чтобы обольстить немногих добрых, а открыто расставляет силки распутства, чтобы держать в своей власти многих дурных.
ГЛАВА XXVII
Муж добрый, хотя и плохой философ, Туллий, будучи эдилом, жаловался согражданам, что в числе других обязанностей он должен умилостивлять играми богиню Флору; а эти игры, следует заметить, совершались с чем большею надобностью, тем и с большим бесстыдством. В другом месте он, будучи уже консулом, говорит, что при крайне опасных для государства обстоятельствах игры проводились в течение десяти дней и не было забыто ничего, что относилось к умилостивлению богов»: как будто не полезнее было разозлить таких богов воздержанностью, чем умилостивить неумеренностью; вызвать вражду благопристойностью, чем смягчить таким безобразием! Месть их меньше повредила бы людям, чем та испорченность нравов, которую вызывали и поддерживали эти игры. Чтобы отвратить то, чем враг
О граде Божием 101
угрожал телам, милость богов привлекалась такими средствами, которыми уничтожалась добродетель в душах. Такое умилостивление подобных божеств, полное необузданности, мерзостей, бесстыдства, нелепостей и нечистоты, исполнителей которого врожденное римлянам чувство доблести лишило прав на почетные должности, удалило из триб и признало позорными и бесчестными, — такое, говорю, позорное и противное истинному религиозному чувству умилостивление подобных божеств, — эти соблазнительные и непотребные басни о преступлениях, подлостях, злодействах и гнусных помыслах богов, — все это глазами и ушами публично изучало целое государство: видело, что все это нравится богам, и потому верило, что именно это — пример для подражания, а отнюдь не то, что говорилось (если оно вообще говорилось) немногим и столь секретно.
ГЛАВА XXVIII
И они еще жалуются, что имя Христово освободило людей от тартарского ига этих нечистых властей и преступного сообщества с ними, и от этой ночи гибельного бесчестья привело к свету спасительного благочестия! И ропщут, несправедливые и неблагодарные, на то, что народы стекаются в церкви, где слушают, как хорошо они должны проводить эту временную жизнь, чтобы заслужить после нее блаженную и вечную, где с возвышенного места и открыто для всех провозглашается Священное Писание и учение о справедливости, которое те, кто его исполняет, слушают с пользой, а кто не исполняет — с осуждением. Если и появляются там насмешники над подобными заповедями, их дерзость или исчезает вследствие неожиданной в них перемены, или подавляется страхом или стыдом. Ничего дурного или постыдного им не предлагается дл
БлаженныйАвгустин 102
созерцания и подражания там, где внушаются заповеди истинного Бога, где повествуется о чудесах Его, где восхваляются Его дары или испрашиваются милости.
ГЛАВА XXIX
Обратись же к этому, столь богато одаренный природой римский народ, потомство Регулов, Сцевол, Сципионов, Фабрициев! Обратись и предпочти это гнусной пустоте и коварной злонамеренности демонов. Если даровано тебе природой что–либо прекрасное, оно очистится и усовершенствуется посредством истинного благочестия; бесчестие же его погубит, навлечет на него наказание. Так выбирай же теперь, чему следовать, чтобы слава твоя имела опору не в тебе самом, а в истинном Боге. Тебе была некогда присуща такая слава, но истинной религии у тебя не было. Пробудись, ибо настал день: пробудись, как пробудились уже лучшие из твоих сынов, чьи доблесть, страдания и даже смерть за истинную веру приобрели нам настоящее отечество. В это отечество мы зовем и тебя и убеждаем присоединиться к числу его граждан. Не слушай своих вырожденцев, отвлекающих тебя от Христа и жалующихся на якобы дурные времена: они желают таких времен, которые не столько обеспечивали бы спокойствие жизни, сколько безопасность их распутства. Но ты ведь сам никогда не одобрял этого и в земном своем отечестве. Теперь же овладевай небесным, потрудись для него и будешь царствовать в нем истинно и вечно. Там уже не очаг Весты, не камень Капитолия, а единый и истинный Бог «не укажет границ власти, не положит предела времени, но даст господство без конца»*.
О граде Божием 103
Не ищи более своих ложных и лживых богов, брось их и иди к нам, чтобы обрести истинную свободу. Они не боги, а злые духи, для которых твое вечное блаженство — казнь. Не столько Юнона завидовала троянцам, от которых ты выводишь свое плотское происхождение, сколько эти демоны, которых ты считаешь богами, завидуют всему роду человеческому в его вечных обителях. Ты и сам осудил их, когда, умилостивляя их играми, совершавших эти игры отнес к разряду бесчестных. Докажи же свою свободу от этих бесчестных духов, наложивших на тебя обязанность посвящать им и праздновать их позорные дела. Прекрасно, что ты по собственному усмотрению не захотел признать гражданских прав за гистрионами и лицедеями; отрезви свою мысль еще более: божественное величие никоим образом не может умилостивляться такими искусствами, которые оскорбляют человеческое достоинство. Каким же образом ты можешь думать, что в числе небесных Властей могут быть подобные боги? Вышний град, где победа — истина, где достоинство — святость, где мир — блаженство, где жизнь — вечность, несравненно знатнее тебя. Тем более он не может иметь в своей среде таких богов, если ты постыдился иметь у себя таких граждан. Поэтому если хочешь достигнуть блаженного града, избегай сообщества демонов. Позорно честным людям почитать тех, которые умилостивляются людьми бесчестными. Пусть христианское очищение так же удалит их от твоего благочестия, как отстранила от тебя последних цензорская отметка.
О благах же телесных, которыми одними желают наслаждаться дурные люди, и о зле телесном, которого одного не желали бы они терпеть, о том, что и в отношении этого демоны не имеют той власти, которая им приписывается (хоть, впрочем, если бы они ее и имели, мы должны были бы скорее презирать все это, чем ради этого почитать их, и,
БлаженныйАвгустин 104
почитая, лишаться возможности достигнуть того, в чем они нам завидуют), — об этом мы поговорим после, чтобы сейчас закончить настоящую книгу.
О граде Божием 105
КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА I
Думаю, что относительно зла нравственного и духовного, которого особенно следует остерегаться, мною сказано уже достаточно: ложные боги нисколько не старались помочь почитавшему их народу освободиться от массы зол этого рода, но, напротив, заботились о том, чтобы масса эта давила его как можно более. Теперь нахожу нужным сказать о тех бедствиях, которых они ни при каких обстоятельствах не желают терпеть, каковыми являются: голод, болезни, войны, потеря имущества, плен, насильственная смерть и другие подобного же рода, о которых мы вскользь упомянули в первой книге. Ибо только эти бедствия, которые не делают людей злыми, злые единственно и считают злом; и при наличии тех благ, которые они полагают благами, сами они не стыдятся оставаться злыми; более того, они скорее бывают недовольны плохою удачей, чем дурною жизнью. Как будто величайшее благо для человека состоит в том, чтобы иметь все хорошее, за исключением себя самого! Но и от этого рода зол, которых они единственно страшатся, не охранили их боги в то время, когда были открыто почитаемы ими.
Когда в разные времена и в различных местах до пришествия нашего Искупителя род человеческий стирался с лица земли бесчисленными и иногда даже невероятными бедствиями, разве других, а не этих богов чтил мир, за исключением одного народа, еврейского, и некоторых отдельных лиц вне этого народа, которых божественная благодать и таинствен-
БлаженныйАвгустин 106
ный и справедливый суд Божий находил где–либо того достойными? Чтобы не заходить слишком далеко, умолчу даже о наиболее тяжких бедствиях других народов. Буду говорить лишь о том, что касается Рима и Римской империи, т. е. о том, что претерпел до пришествия Христова собственно сам город и те области, которые были соединены с ним в качестве союзных или покоренных силой оружия и входили как бы в тело его республики.
ГЛАВА II
Во–первых, из–за чего была побеждена, взята и разрушена греками сама Троя, или Илион, откуда выводит свое происхождение римский народ, — Троя, имевшая и чтившая тех же самых богов (не нахожу возможным обойти молчанием то, чего коснулся уже в первой книге)? Говорят, что Приам понес наказание за клятвопреступление своего отца Лаомедонта*. В таком случае верно то, что Аполлон и Нептун служили у того самого Лаомедонта по найму. Ибо рассказывают, что он обещал им щедро оплатить их работу и обманул. Удивляюсь, каким образом Аполлон, названный предсказателем, столько работал, не зная, что Лаомедонт откажется исполнить обещанное. Впрочем, и самому Нептуну, дяде его, брату Юпитера и царю морей, не к лицу было не знать будущего. Ведь представляет же его Гомер предсказывающим нечто великое относительно поколения Энея, потомками которого построен Рим, хотя поэт жил, как говорят, до основания Рима»; Нептун даже уносит в облаке этого Энея, чтобы, как сам же говорит, он не был убит Ахиллом, в то время как Нептун желал ниспровергнуть построенные его же руками
О граде Божием 107
стены клятвопреступной Трои. Об этом рассказывается у Вергилия*.
Итак, такие боги, как Нептун и Аполлон, вольно или невольно строили троянские стены, не зная, что Лаомедонт откажется заплатить им. Пусть же вникнут, не более ли тяжкий грех веровать в таких богов, чем нарушить клятву, данную таким богам? Сам Гомер не особенно верил последнему: потому что, представляя Нептуна сражающимся против троянцев, он Аполлона выводит сражающимся за троянцев; хотя басня рассказывает, что они оба были оскорблены клятвопреступлением. Итак, если они этим басням верят, пусть стыдятся иметь таких богов; а если не верят, пусть не ссылаются на троянское клятвопреступление; или пусть объяснят ту странность, что боги троянские клятвопреступления наказывали, а римские — любили. Ибо откуда бы иначе заговор Каталины приобрел в таком обширном и столь развращенном городе такую массу сторонников, «руки и язык которых питали клятвопреступлением и кровью сограждан»**. А столько сенаторов, судивших не по совести, а весь народ на выборах и в других делах, которые решались на его собраниях, чем другим они согрешили, как не клятвопреступлением? При крайнем развращении нравов древний обычай клятвы сохранялся не для того, чтобы удерживать от злодейства страхом религии, а для того, чтобы к другим злодействам прибавлять и клятвопреступления.
ГЛАВА III
Итак, если боги, которыми, как говорят, держалось то государство, оказываются побежденными более сильными греками, то нет причины представлять их
БлаженныйАвгустин 108
разгневанными клятвопреступлением троянцев. Не рассердило их и до такой степени, что они могли оставить Трою, и прелюбодеяние Париса, как стараются нам представить некоторые их защитники. Ибо они привыкли быть пособниками и учителями грехов, а не мстителями за них. «Город Рим, как я слышал, — говорит Саллюстий, — основали и удерживали за собою первоначально троянцы, которые, бежав под предводительством Энея, бродили туда и сюда без определенного пристанища»*. Поэтому, если бы боги считали нужным отомстить за прелюбодеяние Париса, божественная кара скорее всего обнаружилась бы на римлянах или, по крайней мере, в том числе и на римлянах, ибо прелюбодеяние совершила и мать Энея. Действительно, на каком основании они отнеслись бы немилостиво к постыдному делу того (Париса), если относились милостиво к прелюбодеянию своей подруги Венеры, совершенному ею (не говоря о других) с Анхизом, от которого она родила Энея? Уж не на том ли, что первое было совершено при негодовании на него со стороны Менелая, а последнее — с согласия Вулкана? Боги, полагаю, не ревнуют своих жен до такой степени, что считают приличным делить их благосклонность даже с людьми.
Но, пожалуй, подумают, что я смеюсь над баснями, а не рассуждаю серьезно о предмете такой важности. Итак, не будем, если угодно, верить тому, что Эней был сыном Венеры. Я сделаю эту уступку, если и Ромул не был сыном Марса. Если одно, то почему бы и не другое? Или богам дозволительно вступать в связь со смертными женщинами, а мужчинам с богинями — не дозволено? Условие неприятное или, скорее, невероятное: что с соизволения Венеры было можно Марсу, того нельзя было самой Венере. Но то и другое одинаково подтверждается римскими документами. Позднейший Цезарь так же
О граде Божием 109
верил тому, что его бабкой была Венера, как и древнейший Ромул тому, что отцом его был Марс.
ГЛАВА IV
Кто–нибудь скажет: «Неужели ты этому веришь? Лично я этому не верю». Действительно, и ученейший муж их Варрон, хотя и не решительно и не с полной уверенностью, но все же признает все это ложным. Однако он считает полезным для государства, чтобы выдающиеся люди считали себя рожденными от богов, даже если это было и ложью: чтобы в силу этого дух человеческий, питая, так сказать, самоуверенность божественного отпрыска, смелее приступал к совершению великих дел, с большей горячностью вел их и счастливее, в силу самой уверенности, выполнял. Видишь сам, какое обширное место открывает лжи это мнение Варрона, которое я, как сумел, высказал своими словами. Поймем же, что очень многое священное и как бы религиозное могло быть вымышлено там, где ложь о самих богах считалась полезной для граждан.
ГЛАВА V
Вопрос о том, могла ли Венера от совокупления с Анхизом родить Энея или Марс от совокупления с дочерью Нумитора родить Ромула, оставим открытым. Такой же почти вопрос возникает и при чтении наших Писаний. Спрашивают: не преступные ли ангелы смешались с дочерьми человеческими (Быт. VI, 4), и рожденными от этого гигантами, т. е. людьми чрезвычайного роста и силы, в известное время наполнилась земля? Наше рассуждение может одинаково относиться к тому и другому.
Итак, если верно то, что у них написано относительно матери Энея и отца Ромула, то почему бы богам могли не нравиться прелюбодеяния человеческие, когда себе самим они их дозволяли?
БлаженныйАвгустин 110
А если ложно, то и в таком случае не могут приходить в гнев от действительных человеческих прелюбодеяний те, которые услаждаются своими, пусть даже и вымышленными. Кроме того, если одно невероятно относительно Марса, как другое — относительно Венеры, то преступление матери Ромула не находит себе оправдания ни в каком божественном совокуплении. Ведь Сильвия была жрицею Весты, и потому боги за ее святотатственное преступление должны были бы отомстить римлянам гораздо строже, чем мстили троянцам за прелюбодеяние Париса. Сами древние римляне обличенных в прелюбодеянии жриц Весты зарывали в землю даже живыми, между тем как прелюбодействовавших женщин, хотя и наказывали известным образом, смертной казни не подвергали; до такой степени они строже охраняли неприкосновенность божественной святыни по сравнению с неприкосновенностью ложа человеческого.
ГЛАВА VI
Прибавлю еще следующее: если эти боги были до такой степени недовольны человеческими преступлениями, что, оскорбившись поступком Париса, предали оставленную ими Трою огню и мечу, то убитый брат Ромула должен был бы еще более вооружить их против римлян, чем оскорбленный греческий супруг вооружил против троянцев; братоубийство рождающегося государства должно было бы разгневать более, чем прелюбодеяние бывшего уже в силе. Для вопроса, которым мы занимаемся в данном случае, не имеет особой важности — велел ли Ромул сделать это, или сделал сам; что многие с бесстыдством отрицают, многие из чувства стыда подвергают сомнению, многие же из чувства сожаления обходят молчанием.
Мы не будем останавливаться на более тщательном расследовании проверенных уже свидетельств об этом предмете многих писателей. Несомненно, что брат Ромула был убит, и убит
О граде Божием 111
не врагами, не чужеземцами. Совершил ли, или только приказал это совершить Ромул, во всяком случае, он был в большей степени главою римлян, чем Парис — троянцев. Почему же тот похититель чужой жены навлек на троянцев гнев богов, а этот убийца своего брата привлек римлян под покровительство тех же самых богов? Если же и делом, и повелением Ромул был чужд этого злодейства, то, поелику оно все равно должно было быть отмщено, его совершил весь этот город, так как весь город не обратил на него внимания; и убил он уже не брата, но что еще преступнее — отца. Ибо тот и другой были основателями города, в котором одному из них злодейски причиненная смерть не дозволила царствовать. По моему мнению, нельзя указать ничего такого дурного, в результате чего Троя заслужила бы, чтобы боги оставили ее и она подверглась вследствие этого разрушению, и ничего такого доброго, чем заслужил бы Рим, чтобы боги в нем обитали и он вследствие того возвышался, кроме разве того, что боги от тех убежали, будучи побеждены, и перебрались к этим, чтобы и их также точно обольстить. Впрочем, они остались и там, чтобы по обычаю своему обольщать тех, которые снова населили те самые области; и здесь, придав своему искусству обмана куда больший блеск, приобрели еще больший почет.
ГЛАВА VII
Затем, что дурного сделал Илион уже во время гражданских войн, что был разрушен Фимбрием, негодней–шим человеком из сторонников Мария, — разрушен с куда большим зверством и жестокостью, чем в древнее время греками' Тогда ведь многие ушли из него, а многие, попав в плен, остались, по крайней мере, живы, хотя и были обращены в рабство. Фимбрий же начал с обнародования эдикта, которым предписывал не щадить никого, и сжег весь город и всех людей в нем. Этим отплатили Илиону не греки, которых он вывел из терпения своей несправедливостью,
БлаженныйАвгустин 112
а римляне, ради усиления которых он жертвовал своим благосостоянием, и общие боги ничем не помогли, а вернее, ничем не могли помочь для предотвращения этого. Неужели и тогда боги, которыми держался этот город после восстановления его после нашествия древних греков из пепла и развалин, ушли, оставив храмы и алтари? Если действительно ушли, ищу на то причины; и нахожу, что граждане настолько же поступили со своей стороны лучше, насколько боги — хуже. Те закрыли ворота перед Фимбрием, чтобы удержать город во власти Суллы: за это Фимбрий, разгневавшись, истребил, или, точнее, совершенно стер их с лица земли. А Сулла в то время стоял еще во главе лучшей части граждан, прилагал старание еще к восстановлению республики силой оружия: благим начинаниям своим он не давал еще дурного исхода. Могли ли граждане этого города поступить лучше, честнее, добросовестнее и достойнее своего родства с римлянами, чем поступили они, сохраняя город для лучшей части римлян и запирая ворота перед убийцей Римской республики?
Пусть же защитники богов обратят внимание на то, как послужило это к их гибели. Пусть боги оставили прелюбодеев и предоставили Илион огню греков, чтобы из пепла его родился более целомудренный Рим, но зачем же они потом оставили тот же самый город, когда он был родственным римлянам, не восставал против благородного детища своего, Рима, а сохранял с величайшим постоянством и добросовестностью верность честнейшей его части, и дозволили разрушить его не храбрым греческим мужам, а подлейшему человеку из римлян? Или богам не нравилось дело сторонников Суллы, для которого несчастные хотели сохранить город, закрыв ворота? Но в таком случае зачем же они обещали и предсказывали тому же самому Сулле столько доброго? Или и в этом случае они показывают себя скорее льстецами счастливым, чем защитниками несчастных? Ибо и в это время Илион не потому был
О граде Божием 113
разрушен, что был ими оставлен. Демоны, в высшей степени старательные во всем, что касается обольщения, сделали со своей стороны все, что могли. В ту пору, когда все статуи богов были разрушены и сожжены вместе с городом, одна статуя Минервы, как пишет Ливии, оказалась стоящей в неповрежденном виде под развалинами ее храма. Не для того, конечно, случилось это, чтобы к чести их можно было сказать, что они–де боги отеческие, под покровительством которых Троя находится всегда, а для того, чтобы нельзя было сказать в их защиту: «Оставив–де храмы и алтари, ушли все боги». Им дана была возможность сделать не то, что могло бы служить доказательством их могущества, а то, что послужило доказательством их присутствия.
ГЛАВА VIII
На каком же разумном основании, после опыта несчастной Трои, вверен был богам илионским на сохранение Рим? Кто–нибудь скажет, что они уже обитали в Риме в то время, когда Фимбрий, овладев Илионом, разрушил его. В таком случае почему устояла статуя Минервы? Затем, если они были в Риме в то время, когда Фимбрий разрушил Илион, то, вероятно, они были в Илионе в то время, когда сам Рим был взят и сожжен галлами; но так как они владеют весьма острым слухом и быстротою движений, то быстро на крик гусей вернулись назад, чтобы сохранить, по крайней мере, Капитолий, который остался целым; для того же, чтобы защитить прочее, их уведомили поздновато.
ГЛАВА IX
Думают, будто благодаря их помощи Нума Помпилий, преемник Ромула, пользовался миром во все время своего царствования и закрыл двери храма Януса, стоявшие обычно
БлаженныйАвгустин 114
открытыми во время войн; и это якобы в награду за то, что он установил для римлян многие священные обряды. Человек этот заслуживал бы благодарности за подобный мир, если бы сумел воспользоваться им для дел полезных и, оставив пытливость вреднейшего свойства, с истинным благочестием искал Бога истинного. При данных же условиях не боги дали ему этот покой; но возможно, что они успели бы менее обольстить его, если бы нашли его менее спокойным. Чем менее нашли они его занятым, тем более успели занять его сами. Варрон сообщает о том, что было им сделано и с помощью каких средств он сумел вступить в общение с подобными богами сам и вовлечь в это общение весь город. Если Господу будет угодно, мы поговорим об этом подробнее в своем месте.
В настоящем же случае, так как речь идет о их благодеяниях, заметим, что мир — это действительно великое благодеяние, но по большей части, как и солнце, как дожди, как и другие полезные для жизни вещи, благодеяние Бога истинного неблагодарным и негодным. Если же это великое благо доставили Риму или Помпилию те боги, то почему они потом никогда не доставляли его государству Римскому, причем даже в более заслуживавшие похвал времена? Или священные обряды более были полезны в то время, когда устанавливались, чем в то, когда совершались? Но ведь тогда их еще не было, они только вводились для того, чтобы были; потом же они уже были и соблюдались, чтобы приносить пользу. Что же это значит, что те сорок три года, или, по другим источникам, тридцать девять лет царствования Нумы были проведены в таком продолжительном мире, я потом, когда священные обряды были установлены и сами боги, привлеченные именно этими обрядами, явились защитниками и хранителями, — потом, в течение долгого периода времени от основания Рима до Августа, едва упоминается, как великое чудо, один год после первой
О граде Божием 115
Пунической войны, в который римляне смогли закрыть двери храма Януса.
ГЛАВАХ
Ответят разве, что государство–де Римское не могло бы разрастись так широко и приобрести такую огромную славу, если бы не вело постоянных, непрерывно следовавших одна за другою войн? Нечего сказать, уважительная причина! Зачем же государству, чтобы стать великим, не иметь покоя? Разве в том, что касается тела человеческого, не лучше иметь средний рост в придачу к здоровью, чем достигнуть каких–либо гигантских размеров посредством постоянных мучений, и по достижении не успокоиться, а подвергаться тем большим бедствиям, чем громаднее будут члены? Неужели было бы плохо, если бы продолжались те времена, которые очертил Саллюстий, говоря: «Итак, вначале цари (ибо таково сперва было название земных властей), придерживаясь различных мнений, одни давали образование уму, другие — телу: в то время люди жили, еще не увлекаясь страстью корыстолюбия, и всякий был доволен своим»*?
Неужели для такого расширения государства следовало быть тому, что проклинает Вергилий, говоря:
Но постепенно сменило их время худое, Бешенство войн, неуемная жажда наживы»?
Правда, учиняя и ведя такое множество войн, римляне имели достаточное оправдание в том, что, когда на них нагло нападали враги, их вынуждала сопротивляться не жадность к славе, а необходимость охраны собственного благосостояния и свободы.
БлаженныйАвгустин 116
Пусть это и так; «ибо, — как пишет тот же Саллюстий, — когда государство их, ставшее сильнее благодаря законам, нравам и расширению владений, казалось достаточно счастливым и достаточно могущественным, благосостояние его, как это по большей части бывает у людей, возбудило зависть. И вот соседние цари и народы стали враждебно нападать на них, а из друзей немногие подавали им помощь. Остальные, поддавшись страху, устранялись от опасностей. Но римляне, одинаково преданные делам внутренним и военным, не теряли времени, вооружались, воодушевляли друг друга и шли навстречу врагам, защищая оружием свободу, отчизну и родителей. Потом, когда своею доблестью они устранили угрожавшие им опасности, они помогали своим союзникам и друзьям и снискали дружбу не столько получая сами, сколько оказывая благодеяния другим»*.
При таком образе действий возвышение Рима было вполне заслуженным. Но в царствование Нумы, когда так долго продолжался мир, нападали ли на него и вызывали ли его на войну недобросовестные соседи; или ничего такого не было, и потому мир этот не нарушался? Ведь если на Рим нападали и в то время, но оружию не было противопоставлено оружие же, то как делалось тогда, что враги останавливались, не будучи побеждены ни в одном сражении, не будучи устрашены никаким воинственным натиском, так же точно могло делаться и всегда, и всегда Рим царствовал бы при закрытых дверях Януса. Если же это было невозможно, то Рим пользовался миром не до тех пор, пока того хотели его боги, а до тех, пока того хотели окружавшие его с той или иной стороны люди, которые не вызывали его на войну; или боги этого рода дерзнут представлять человеку как идущее от них и то, чего желает или не желает другой человек?
О граде Божием 117
То, пожалуй, верно, что демонам дозволяется устрашать или возбуждать злые души; но важно то, насколько это дозволяется. Если бы они всегда могли это делать, и высшая таинственная сила не делала многого вопреки их усилиям, они имели бы всегда в своей власти и мир, и военные успехи, так как последние почти всегда зависят от возбуждения человеческих душ; но что по большей части они бывали вопреки их воле, об этом говорят не только басни, рассказывающие много ложного и совсем немного истинного, но и сама римская история.
ГЛАВА XI
Ведь не по другой какой–либо причине плакал, как рассказывают, в продолжение четырех дней известный Аполлон Кумский во время войны против ахеян и царя Аристоника. Встревоженные этим необыкновенным явлением гаруспики полагали, что статую следовало бросить в море; но вмешались в дело старики и сообщили, что подобное же явление было замечено и во время войны Антиоха и Персея, и так как дело окончилось счастливо для римлян, то по определению сената, говорили они, этому же самому Аполлону были присланы дары. Тогда вновь призванные, якобы более сведущие гаруспики ответили, что плач Аполлона — счастливое предзнаменование для римлян: потому что кумская колония — колония греческая, и плач Аполлона указывает на бедствие и поражение тем родным ему странам, откуда он принесен, т. е. самой Греции. Вслед затем была получена весть, что царь Аристоник был побежден и взят в плен; хотя Аполлон отнюдь не желал, чтобы он был побежден, скорбел о том и выказывал это даже слезами, которые текли из его камня. Поэтому не кажутся нелепыми обычаи демонов, которые описываются в стихах поэтов, хотя и сказочных, но похожих на истину. У Вергилия, например, Диана скорбит о Камилле и Геркулес оплакивает смерть Палланта.
БлаженныйАвгустин 118
Поэтому, быть может, и Нума Помпилий, наслаждаясь миром, но не зная и не доискиваясь, кому этим миром обязан, когда размышлял на досуге о том, каким богам вверить на сохранение римское благосостояние и царство, — и с одной стороны не думал, чтобы Бог высочайший, истинный и всемогущий помышлял об этих земных вещах, а с другой — припоминал, что троянские боги, привезенные Энеем, не смогли надолго сохранить ни царства Троянского, ни Лавинийского, основанного самим Энеем, — пришел к заключению, что следует запастись другими, присоединив их к прежним (перешли ли они в Рим вместе с Ромулом, или могли перейти в него потом, когда была разрушена Альба) или в качестве стражей, как к способным бежать при первой же опасности, или в качестве помощников, как к слабосильным.
ГЛАВА XII
Рим, однако же, не нашел возможным довольствоваться и этими святынями, которых немало установил ему Помпилий. Так, он не имел еще важнейшего из храмов, храма Юпитера. Капитолий построил в нем царь Тарквиний. А из Епидавра привлек к себе сердца Рима Эскулап, чтобы в качестве наиболее сведущего врача заниматься в знаменитейшем городе своим искусством с большею славой. Явилась из какого–то Пессинунта и мать богов. Ибо неприлично же было, чтобы в то время, когда сын ее управлял уже капитолийским небом, сама она скрывалась бы в столь незначительном месте. Будучи же матерью всех богов, она не только пришла в Рим вслед за некоторыми из своих сыновей, но и шла впереди других, которые вскоре последовали за нею. Желал бы я только знать, она ли родила Кинокефала, который уже гораздо позже пришел из Египта? От нее ли родилась и богиня Лихорадка — это пусть решит правнук ее, Эскулап. Но от кого бы они ни родилась, думаю, что чужеземные боги не осмелятся назвать ее низкой по
О граде Божием 119
происхождению, ее — богиню и римскую гражданку!
Поставленный под охрану стольких богов (богов, которых и пересчитать нельзя: туземных и чужеземных, небесных, земных, подземных, морских, родниковых, речных и, как говорит Варрон, известных и неизвестных; богов разного рода, как животных, так и мужчин и женщин), — поставленный, говорю, под охрану стольких богов, Рим не должен был бы претерпеть и выстрадать столько великих и ужасных бедствий, из множества которых я напомню лишь некоторые. Высоко поднимавшимся дымом своих курений, как бы нарочито поданным знаком, он собрал для своей охраны чрезвычайное множество богов: но устанавливая им храмы, алтари, жертвоприношения и священство, он оскорблял высочайшего и истинного Бога, Которому одному должны были принадлежать эти обряды религиозного почитания. И хотя при меньшем количестве богов он жил счастливее, однако решил, что насколько он увеличился сам, настолько же ему нужно увеличить и количество их, как матросов на корабле. Полагаю, что он не понадеялся, чтобы малое их число, при котором он в сравнительно худших условиях жил лучше, было достаточным для поддержания его величия. Но уже и при самих царях, за исключением Пумы Помпилия, о котором я говорил выше, до какой степени достигло зло враждебного разногласия, если довело до убийства брата Ромула?
ГЛАВА XIII
Каким же образом ни Юнона, принявшая впоследствии вместе с Юпитером под свое покровительство
Римлян, вселенной хозяев, тоги носящий народ»,
БлаженныйАвгустин 120
ни даже Венера, родная потомству Энея, не были в состоянии помочь римлянам получить жен честным и мирным путем, и они оказались в таком затруднительном положении, что похитили их коварным образом и вслед за тем вынуждены были сражаться с тестями; так что несчастные женщины, не успевшие еще привязаться к мужьям, совершившим над ними насилие, получили от них в качестве брачного дара кровь родителей? Но римляне–де в этом столкновении победили своих соседей. А скольких и каких ран и смертей стоили той и другой стороне подобные победы родных над родными и соседей над соседями? Из–за одного только тестя, Цезаря, и одного зятя, Помпея, когда дочери Цезаря и жены Помпея уже не было в живых, с какою глубокой и справедливой скорбью восклицает Лукан:
Мы пишем о войнах, что были печальней гражданских,
Когда на полях эмафийских злодейство не знало
границ'.
Да, римляне победили, чтобы с обагренными кровью тестей руками обрести жалкие объятия их дочерей! И последние не смели оплакивать убитых отцов, чтобы не оскорбить победителей–супругов. Даже когда те сражались, они не знали, кому из них желать победы. Такими браками наградила римлян не Венера, а Беллона; или, может быть, Алекто, известная адская фурия, в то время, когда Юнона уже покровительствовала им, имела большую возможность им вредить, чем тогда, когда Юнона возбуждала ее против Энея своими просьбами**?
Плен Андромахи был счастливее, чем эти римские браки: после объятий ее, хотя и рабских, Пирр не убил никого из троянцев. Римляне же предавали в сражениях смерти отцов после
О граде Божием 121
того, как заключили уже в свои объятия на брачном ложе их дочерей. Та, подпав под власть победителя, могла оплакивать уже умерших родных и не бояться за живых; а эти, связанные узами сожительства со сражающимися, боялись смерти своих отцов, когда мужья выступали в поход, оплакивали ее, когда они возвращались, и не могли свободно выражать ни опасений своих, ни скорби. Им приходилось или по чувству родственной любви сокрушаться о гибели сограждан, родственников, братьев, отцов, или, подавив в себе жалость, радоваться победам мужей.
К этому присоединилось и то, что некоторые из них потеряли мужей от оружия отцов, а некоторые — одновременно и отцов, и мужей. Ибо немалым опасностям такого рода подвергались и римляне. Дело дошло до осады Рима, и римляне защищались, закрыв ворота. Когда последние с помощью обмана были открыты и враги проникли за стены, между тестями и зятьями произошло преступное и крайне жестокое сражение на самой городской площади. И вот похитители эти начинали даже терпеть поражение, и, во множестве прячась по своим домам, покрывали еще большим позором свои вчерашние победы, и без того постыдные и достойные сожаления. В это время Ромул, не надеясь уже на храбрость своих, попросил Юпитера, чтобы они остановились: после этого события Юпитер и получил имя Статора. Но великому бедствию этому не было бы конца, если бы похищенные женщины не выскочили с распущенными волосами и, припав к ногам отцов, не смягчили их в высшей степени справедливый гнев не победным оружием, а умоляющей любовью. После этого Ромул, не выносивший совместного участия в правлении родного брата, вынужден был принять в соправители царя сабинян, Тита Тация; но мог ли долго терпеть его тот, кто не пожелал терпеть брата и близнеца? Поэтому, умертвив и этого для большего божеского
БлаженныйАвгустин 122
достоинства, он стал царствовать один. Что это за брачное право? что за побуждения к войнам? что за основания для родства, свойства, сообщества, обожания? Что, наконец, за государственная жизнь под покровительством стольких богов? Видишь сам, сколько всего могло бы быть сказано по этому поводу, если бы наше внимание не устремлялось к тому, что остается впереди, и речь не спешила перейти к другому.
ГЛАВА XIV
А что потом, после Нумы, при других царях? С каким великим бедствием не только для себя, но и для римлян, были вызваны на войну альбанцы, — вызваны потому, что слишком долгий мир при Нуме потерял свою цену? Какие частые поражения терпели войска римские и альбанские и до какого бессилия дошли оба государства? Та Альба, которую построил Асканий, сын Энея, и которая была матерью Риму более близкой, чем сама Троя, начала войну, будучи вызвана царем Туллом Гостилием; но, вступив в борьбу, она то была отражена, то отражала сама, пока это бессмысленное и ни к чему не приведшее множество сражений не наскучило обеим сторонам. Тогда решили покончить войну сражением трех братьев–близнецов от каждой из сторон. Со стороны римлян выступили три Горация, со стороны альбанцев — три Куриация. Три Куриация победили и умертвили двух Горациев; но один Гораций победил и убил трех Куриациев. Итак, Рим оказался победителем в последнем сражении, причем из шести живых возвратился домой только один. Кто потерпел урон с обеих сторон? Кому было горе, как не роду Энея, потомкам Аскания, племени Венеры, правнукам Юпитера? Ведь и эта война была более печальной, чем война гражданская: сражались между собою города, бывшие по отношению друг к другу как дочь и мать.
О граде Божием 123
К последнему сражению трех братьев–близнецов присоединилось и другое жестокое и ужасное зло. Так как оба народа прежде были дружественными (ибо были соседями и родственниками), то с одним из Куриациев была помолвлена сестра Горациев. Когда последняя увидела у брата–победителя отнятое у убитого жениха оружие, то была убита этим же братом и сама за то, что заплакала.
На мой взгляд, чувство одной этой женщины было куда человечнее, чем чувство всего римского народа. Думаю, что ее слезы не были преступны, оплакивала ли она мужа, которого согласно данному слову уже считала своим, или скорбела о брате, который убил его. У самого же Вергилия благочестивый Эней высказывает похвальное чувство скорби о враге, убитом его же собственной рукою. И Марцелл оплакивал Сиракузы, припоминая незадолго перед тем уничтоженное его руками величие их и славу и размышляя о судьбе. Пусть же человеческое чувство не считает преступлением то, что женщина оплакивала своего жениха, убитого ее братом, если для мужчин похвальным было то, что они оплакивали даже врагов, ими побежденных. Итак, когда упомянутая женщина оплакивала смерть жениха, убитого ее братом, в то самое время Рим торжествовал, что нанес такое страшное поражение городу–матери и одержал победу с таким пролитием родственной крови с той и другой стороны.
Зачем выставляют мне на вид так называемую славу и блеск победы? Устранив это прикрытие бессмысленной славой, рассмотрите, взвесьте, обсудите голые факты. Пусть будет указана вина Альбы, как выставлялось на вид прелюбодеяние Трои. Ничего такого, ничего подобного не оказывается; а выставляется лишь одно: что Туллу нужно было призвать к оружию «обленившихся мужей и отвыкшие от триумфов войска»*.
БлаженныйАвгустин 124
Итак, злодейство гражданской и родственной войны совершилось благодаря тому пороку, которого мимоходом касается Саллюстий. Упомянув с похвалою в нескольких словах древнейшие времена, когда люди проводили жизнь без жадности и каждый был вполне доволен своим собственным, он говорит: «После же, когда в Азии Кир, а в Греции лакедемоняне и афиняне начали покорять города и народы, имея побуждением к войне страсть к господству и считая величайшей славой величайшую власть…»* и так далее, соответственно ходу его речи. Мне достаточно остановиться на этих его словах. Эта страсть к господству терзает и губит род человеческий великими бедствиями. Побежденный этой страстью, Рим считал в то время торжеством для себя, что он победил Альбу и рассказы о своем злодействе называл славой. «Ибо нечестивый, — говорит наше Писание, — хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя» (Пс. IX, 24).
Итак, пусть снимутся с вещей ложные покровы и обманчивые прикрасы, чтобы подвергнуть их беспристрастному суду. Пусть никто не говорит мне, что такой–то и такой–то великий–де человек, потому что сражался с тем–то и тем–то и победил. Сражаются и гладиаторы, и они побеждают; и бесчеловечность этого рода вознаграждается похвалами. Но, по моему мнению, лучше кому бы то ни было понести наказание за бездеятельность, чем добиваться славы их подвигов. И однако же, если бы выступили на арену с целью сразиться между собою такие гладиаторы, из которых один был бы отец, а другой — сын, кто бы это стерпел? кто не возмутился бы? Каким же после этого образом могла быть славной вооруженная борьба между государствами, из которых одно было матерью, а другое — дочерью? Уж не в том ли была разница, что арена была другая, и куда более обширные пол
О граде Божием 125
были покрыты трупами не двух гладиаторов, а множества людей из среды двух народов, и что эти битвы происходили не в стенах амфитеатра, а на глазах всего мира, и нечестивое зрелище давалось и современникам, и потомкам, до которых дошел о нем слух?
Несмотря на это, боги–покровители римской власти допустили жестокость поединка и оставались как бы театральными зрителями подобных сражений до тех пор, пока за трех убитых Куриациев не была братним мечом добавлена к двум братьям третьей с другой стороны сестра Горациев; это, наверное, для того, чтобы и Рим, который победил, имел не менее мертвых. Затем в виде выгоды, доставленной победой, была разрушена Альба, где после Илиона, разрушенного греками, и после Лавиния, в котором Эней основал было временное и переходное царство, уже в третьем месте обитали пресловутые троянские боги. Но, может быть, они по обычаю своему уже перекочевали оттуда, и потому Альба была разрушена?
Храмы оставивши и алтари, удалились Боги, которыми царство держалось»?
В таком случае они удалились уже в третий раз, чтобы получить от предусмотрительных людей под свою охрану четвертый город, Рим. Альба, в которой царствовал Амулий, изгнавший брата, им не понравилась; но Рим, в котором царствовал Ромул, убивший брата, понравился. Но, говорят, прежде чем Альба была разрушена, население ее было переведено в Рим, чтобы из двух городов образовался один. Пусть так. Но все же царственный город Аскания и третье местожительство троянских богов был разрушен дочерним ему городом. А чтобы после войны остатки двух народов свернулись в один жалкий творог,
БлаженныйАвгустин 126
нужно было прежде пролить много крови каждого из них. Я не буду входить в подробности того, сколько раз при последующих царях возобновлялись те самые войны, которые казались оконченными победами, и как, завершившись новыми и новыми кровопролитиями, после договоров и мира между зятьями и тестями и между их поколением и потомством, они повторялись снова и снова. Ясным признаком этого бедствия было то, что ни один из этих царей не затворил дверей войны. Ни один из них, следовательно, не царствовал мирно при стольких богах охранителях.
ГЛАВА XV
А какова была кончина этих царей? О Ромуле рассказывает баснословная лесть, будто он был взят на небо. Рассказывают (о его кончине) и некоторые из писателей, но они утверждают, что он был рассечен на части сенатом за жестокость и что какому–то Юлию Прокулу было поручено распустить слух, будто он явился ему и велел через него римскому народу почитать его в качестве божества; и таким образом народ, начинавший было негодовать на сенат, был остановлен и успокоен. К тому же случилось солнечное затмение. Невежественная чернь, не зная, что оно имело определенную причину в солнечном движении, приписало его заслугам Ромула. Между тем, если бы это затмение было сетованием солнца, по поводу его следовало бы скорее прийти к убеждению, что Ромул убит и что факт злодейства доказывается тем, что дневное светило отвернулось. Так было в действительности в то время, когда был распят Господь из–за жестокости и бесчестья иудеев. Что в последнем случае солнечное затмение случилось не в силу правильного течения планет, достаточно видно из того, что в то время была иудейская Пасха; последняя празднуется в полнолуние, а обыкновенное солнечное
О граде Божием 127
затмение бывает только при ущербе луны. Это принятие Ромула в число богов и Цицерон довольно ясно изображает скорее как предполагаемое, чем как действительное, когда, давая в целом похвальный отзыв о Ромуле, говорит в книгах о республике устами Сципиона: «Он достиг столь много, что, когда после солнечного затмения его неожиданно не оказалось, пришли к заключению, что он перемещен в число богов: подобного мнения о себе никто из смертных никогда не мог внушить другим, если не украшался чрезвычайными добродетелями»*.
В том месте, где Цицерон говорит, что его неожиданно не оказалось, разумеется, конечно, или неистовство бури, или тайное убийство, тайное злодеяние. Ибо другие из их писателей приурочивают к солнечному затмению и неожиданную бурю, которая, несомненно, или дала возможность совершить злодеяние, или сама погубила Ромула.
А о Тулле Гостилие, который был после Ромула третьим царем и был убит молнией, тот же Цицерон и в тех же книгах говорит: «О нем не составилось мнения, что таким родом смерти он был принят в число богов; это вероятно потому, что римляне не хотели делать обыкновенным, т. е. незначительным то, в чем успели убедить относительно Ромула: что случилось бы, если бы они то же самое охотно приписали и другому». В обличительных же речах он говорит открыто: «Мы возвели Ромула в ранг бессмертных богов по благорасположению к нему и по доброму о нем мнению»**, чтобы показать этим, что этого не было в действительности, а рассказывалось и разглашалось так из благорасположения к нему и ради его доблести. В «Гортензии» же, говоря о подлежащих точным вычислениям затмениях, он замечает: «Темнота бывает такая же, какая произошла во время убийства Ромула,
БлаженныйАвгустин 128
которое совершилось во время солнечного затмения». На этот раз он не побоялся говорить об убийстве потому, что занимался серьезным исследованием вопроса, а не похвалами.
А остальные цари римского народа, за исключением Нумы Помпилия и Анка Марция, умерших от болезни, какой они имели ужасный конец! Тулл Гостилий, победитель и разрушитель Альбы, был, как я сказал выше, со всем своим домом сожжен молнией. Приск Тарквиний был убит детьми своего предшественника. Сервий Туллий погиб от гнусного злодейства своего зятя Тарквиния Гордого, наследовавшего после него царство. И после такого отцеубийства, жертвою которого стал лучший царь этого народа, не ушли же, оставив храмы и алтари, эти боги, о которых говорят, что они поступили так с несчастной Троей, предоставив ее на разрушение Парису! Напротив того, Тарквиний же и наследовал умерщвленному им тестю. Боги не отступили от этого гнусного преступника, который царствовал благодаря убийству тестя, прославился сверх того многими войнами и победами и построил из военной добычи Капитолий, а, напротив того, охраняли все и наблюдали за всем и допустили царя своего Юпитера стать во главе и повелевать собою из этого величайшего храма, т. е. из здания, воздвигнутого отцеубийцей. Ибо дело обстояло не так, что он еще прежде, когда был невинным, построил Капитолий, а потом за преступления был изгнан из Рима; но так, что само царство, в котором построен Капитолий, он получил посредством своего зверского злодеяния.
А что римляне впоследствии лишили его царства и удалили его из стен города, так это за бесчестие, нанесенное Лукреции не им самим, а его сыном, причем не только без его ведома, но даже в его отсутствие. Он осаждал в то время город Ардею и вел войну за римский народ. Что сделал бы он, если бы о
О граде Божием 129
мерзком поступке его сына было доведено до его сведения, мы не знаем. Не спросив его мнения и не попробовав обратиться к его суду, народ отнял у него власть, отобрал войско, из которого ему велено было удалиться, и затворил потом ворота, не дозволив ему войти в город, когда он возвращался. Тем не менее он, — после жесточайших войн, которыми, возбудив соседние народы, истощил этих самых римлян, и после того, как, оставленный всеми, на чью помощь надеялся, оказался не в силах возвратить царство, — прожил, как рассказывают, в соседнем Риму городе Тускуле четырнадцать лет в качестве частного лица в полном покое; вместе с женою он достиг старости и умер, вероятно, более желанной смертью, чем его тесть, погибший от злодеяния своего зятя и не без ведома, как прибавляют, своей дочери. Римляне, однако же, назвали этого Тарквиния не Жестоким или Злодеем, а Гордым; вероятно, потому, что его царственной гордости они не выносили по высокомерию другого рода. На убийство же им своего тестя, лучшего из царей их, обратили так мало внимания, что сделали его своим царем: не было ли еще большим злодейством давать такую награду за такое злодейство?
И, однако же, не ушли, оставив храмы и алтари, боги. Разве кто–нибудь станет, пожалуй, защищать их в том смысле, что они для того и остались в Риме, чтобы иметь возможность не столько оказывать благодеяния римлянам, сколько наказать их тем, что увлекли их пустыми победами и истребляли тяжкими войнами. Такова была жизнь римлян при царях в тот достохвальный период государственной жизни, который продолжался почти двести сорок три года, до изгнания Тарквиния Гордого; период, в течение которого все те победы, купленные ценою такого множества крови и столь великих бедствий, едва раздвинули границы государства на двадцать миль от города — пространство, с которым нельзя в настоящее время сравнить даже территорию любого маленького города гетов!
БлаженныйАвгустин 130
ГЛАВА XVI
Присоединим к этому периоду и то время, когда, по словам Саллюстия, соблюдались еще справедливость и беспристрастность, когда еще боялись Тарквиния и велась жестокая война с Этрурией. Ибо пока этруски помогали Тарквинию в его усилиях возвратить царство, жестокая война потрясала Рим. Поэтому–то, говорит Саллюстий, в государственном управлении соблюдались справедливость и беспристрастность, — соблюдались под давлением страха, а не по внушению чувства справедливости.
Но и в этот короткий промежуток времени, каким печальным годом был тот, в который поставлены были, по отмене царской власти, первые консулы! Не прожили они и года, на который были избраны, как Юний Брут изгнал из Рима лишенного сана товарища своего Люция Тарквиния Коллатина; а вслед затем пал в сражении от ран, которыми обменялся с врагом, убив предварительно сам же своих сыновей и братьев своей жены, потому что узнал, что они составили заговор с целью восстановления Тарквиния. Хотя Вергилий и отзывается с похвалою об этом поступке, однако высказывает вслед за тем и некоторый ужас. Ибо, сказав:
„ детей, возбуждающих новые войны, Предал смерти отец, защищающий благо свободы,
он тотчас же восклицает. —
Как бы потомство о том не судило — несчастный!
Пусть, говорит он, потомство как угодно судит о подобных действиях, т. е. пусть их оправдывает и превозносит, но убивший своих детей — несчастен. И затем, как бы утешая несчастного, прибавляет:
О граде Божием 131
Так победила к отчизне любовь и жажда безмерная славы.
Не очевидно ли, что на этом Бруте, который убил собственных сыновей и, будучи поражен тем, кого поразил сам, не пережил своего врага, сына Тарквиния, но был пережит этим же Тарквинием, отомщена была невинность товарища его Коллатина, который, будучи добрым гражданином, претерпел по изгнании Тарквиния то же, что и сам Тарквиний? Ведь и тот же самый Брут, как говорят, был родственником Тарквиния. А между тем Коллатина погубило только сходство имени: он назывался также и Тарквинием. В таком случае пусть бы принудили его переменить имя, но не отчизну. Пусть бы, наконец, в имени его не было этого названия; пусть бы он просто звался Люций Коллатин. Но его не лишили того, чего он мог лишиться безо всякого для себя ущерба, чтобы заставить, как первого консула, потерять сына, а как доброго гражданина — гражданство. Не эта ли отвратительная и во всех отношениях бесполезная для республики суровость и составляет славу Юния Брута? Не ради ли осуществления ее и
~ победила к отчизне любовь и жажда безмерная славы?
Люций Тарквиний Коллатин, муж Лукреции, во всяком случае был поставлен консулом вместе с Брутом тотчас же по изгнании тирана Тарквиния. До какой степени справедливо относился к делу народ, обращавший в гражданине внимание на нрав его, а не на имя? И до какой степени несправедливо лишил отечества и власти Брут своего товарища по этой первой и новой власти, когда мог лишить его только имени, если имя его оскорбляло? Такие злые дела делались, такие случались бедствия, когда в этой республике соблюдались
БлаженныйАвгустин 132
справедливость и беспристрастность. Так же точно и Лукреций, избранный на место Брута, умер от болезни прежде, чем окончился тот год. После уже Валерий, бывший преемником Коллатина, и Гораций, избранный на место умершего Лукреция, закончили этот похоронный и адский год, имевший пять консулов, — год, в который римская республика впервые установила новый сан и власть самого консульства.
ГЛАВА XVII
Потом, когда страх несколько уменьшился, — не потому, что утихли войны, а потому, что не давили уже такой великой тяжестью, — по окончании того, так сказать, времени, в которое соблюдались беспристрастность и справедливость, последовало то, о чем вкратце рассказывает сам же Саллюстий: «Потом патриции начали порабощать народ, распоряжаться его жизнью и добром с поистине царской властью, лишать его полей и управлять государством одни, с устранением от участия в том остальных. Выведенные из терпения этими жестокостями и особенно долгами, когда беспрерывные войны требовали и податей, и отправления военной службы, вооруженный народ удалился на священный авентинский холм и там выбрал себе народных трибунов и учредил другие права. Конец этим раздорам и усобицам положила вторая Пуническая война»*.
Итак, зачем мне вдаваться в такие длинные описания и останавливать на них внимание своих читателей? До какой степени была несчастна республика в столь продолжительный период, в течение стольких лет до второй Пунической войны, когда извне не переставали
О граде Божием 133
беспокоить ее войны, а внутри — раздоры и мятежи, об этом сказал Саллюстий. Поэтому знаменитые победы Рима были не истинной радостью людей вполне довольных, а суетным утешением несчастных и обманчивым побуждением к перенесению новых бесполезных страданий для людей беспокойных. Добрые и благоразумные римляне пусть не сердятся на нас за то, что мы говорим подобные вещи; хотя об этом их не следовало бы ни просить, ни в этом убеждать, так как, несомненно, они не будут сердиться. Ибо мы высказываемся не более жестко и не более жестокие вещи, чем высказывают их же писатели, далеко превосходящие нас красноречием и подробностью изложения; а между тем, они и сами трудились над изучением их, и заставляют над этим трудиться своих детей. А те, которые сердятся, выслушают ли меня спокойно, если я скажу только то, что говорит Саллюстий? «Возникли весьма частые беспорядки, восстания и, наконец, гражданские войны, когда немногие сильные, которым очень многие старались угождать, под благовидным предлогом защиты интересов патрициев или плебеев стали стремиться к господству; и добрыми и дурными гражданами стали называться не за заслуги перед республикой, — так как все одинаково были испорчены, — а добрым считался тот, кто был наиболее богат и мог сильнее наносить обиды, коль скоро защищал данное положение дел»*.
Далее, если упомянутые историки считали, что истинная свобода не должна молчать о болезнях своего государства, которое во многих отношениях они поневоле превозносили в похвалах, ибо для них не существовало другого, более истинного государства, которое должно составляться из вечных граждан, то как прилично поступать нам, которые, чем лучшую и вернейшую надежду имеем в Боге, тем большую
БлаженныйАвгустин 134
должны иметь свободу, когда нашему Христу вменяют в вину болезни настоящего времени, чтобы более слабые и более простые умы заставить отказаться от того государства, в котором одном возможна жизнь непрерывная и блаженная? Да мы и не говорим о богах их более ужасных вещей, чем те, что то и дело говорят их же писатели, которых они читают и восхваляют. То, что мы говорим, мы берем именно у этих самых писателей, и при этом отнюдь не в состоянии высказать все (что сказано ими) с такою же силой.
Итак, где же были эти боги, которых полагают нужным почитать ради короткого и обманчивого счастья в этом мире, — где были они, когда такие бедствия обрушивались на римлян, которым они с коварной ложью выставляли себя для почитания? Где были они, когда был убит консул Валерий, мужественно защищавший Капитолий, подожженный ссыльными рабами? Скорее он сам мог принести пользу храму Юпитера, чем в состоянии была помочь ему толпа стольких божеств с величайшим и верховным царем своим, храм которого он отстаивал. Где были они, когда измученный непрерывными мятежами и несколько успокоившийся в ожидании послов, отправленных в Афины для заимствования законов, город был опустошен тяжким голодом и моровою язвой? Где были они, когда народ, снова страдавший от голода, поставил первого префекта хлебных запасов; и когда, при усилении голода, был обвинен в домогательстве царской власти Спурий Мелий, раздававший хлеб голодавшей черни, и по настоянию того же самого префекта и распоряжению одряхлевшего от старости диктатора Квинтия был убит Квинтом Сервилием, магистром всадников, при величайшем и опаснейшем смятении города?
Где были они, когда с появлением страшной моровой язвы народ, долго и беспомощно страдавший, пришел к мысли устроить бесполезным для него богам новые лектистернии, чего прежде никогда не делал?
О граде Божием 135
Постилались в честь богов ложа отсюда получил свое название и сам религиозный обряд или, вернее, — святотатство. Где были они, когда римское войско, безуспешно сражаясь, терпело под Вейями в течение десяти лет постоянные и страшные поражения, пока наконец не помог ему Фурий Камилл, которого потом осудили неблагодарные граждане? Где были они, когда Рим взяли, разграбили, сожгли и наполнили трупами галлы? Где были они, когда произвела величайшее опустошение та необыкновенная язва, от которой погиб и этот Фурий Камилл, защищавший неблагодарную республику от вейенцев, а потом освободивший от галлов? Это была та самая язва, во время которой сценические игры принесли новую язву уже не в тела римлян, но, что гораздо губительнее, в их нравы.
Где были они, когда появилась другая страшная язва от употребления, как полагают, ядов матронами, нравы которых, причем весьма многих и из самых благородных фамилий, оказались ужаснее всякой язвы? Или когда оба консула с войском, осажденные самнитянами в кавдинских ущельях, вынуждены были заключить постыдный договор; так что, оставив заложниками шестьсот римских всадников, остальные, сложив оружие и лишенные врагами всех своих доспехов, должны были в одном платье пройти сквозь строй врагов? Или когда при страдании других от тяжелых и заразных болезней многие в войске погибли от ударов молнии? Или когда, также во время другой невыносимой язвы, Рим вынужден был вызвать из Епидавра и принять в число богов Эскулапа в качестве бога–врача, ибо царю всех богов, Юпитеру, уже давно сидевшему в Капитолии, сладострастие, которому он предавался с юности, не дозволило, очевидно, изучить медицину? Или в то время, как вступившие однажды в заговор враги: луканы, бруттии, самнитяне, этруски и галлы — сперва убили послов, а потом разбили предводительствуемое претором войско, причем погибло семь трибунов и тринадцать тысяч
БлаженныйАвгустин 136
воинов? Или когда, после жестоких и продолжительных раздоров в Риме, в результате которых народ от свойственного врагам грабежа удалился на Яникул, бедствие приняло такой грозный характер, что ради этого, как делалось обыкновенно при крайних опасностях, был поставлен диктатором Гортензий; и когда этот Гортензий, возвратив народ, умер во время отправления своей должности, чего прежде не случалось ни с одним диктатором и что служило для этих богов тем более тяжким укором, что случилось уже в присутствии Эскулапа?
После этого разные войны усилились до такой степени, что из–за недостатка воинов на военную службу стали набирать и пролетариев, которые потому и получили свое имя, что, не будучи в состоянии по бедности нести военную службу, освобождались от нее для рождения детей. Врагом римлян сделался и призванный тарентинцами Пирр, царь греческий (эпирский), пользовавшийся в то время чрезвычайною славой. Между прочим, когда он спрашивал о возможном исходе своего предприятия, Аполлон довольно остроумно дал ему такое двусмысленное предсказание, что мог оставаться вещуном, что бы затем ни случилось. Он сказал: «В1со 1е, Руггпе, утсеге ро55е Когшпоз». Поэтому, Пирр ли победил бы римлян, или римляне — Пирра, предсказатель судеб мог спокойно ждать какого угодно исхода. Какие тогда и до какой степени ужасные последовали поражения войск той и другой стороны? Иногда казался победителем Пирр, так что мог бы уже истолковывать предсказание Аполлона в свою пользу; но вслед за тем из другого сражения выходили победителями римляне. При такой гибели людей от войн появилась и сильная моровая язва у женщин. Они умирали беременные прежде, чем наступал срок разрешения от беременности. Думаю, что Эскулап на этот раз извинял
О граде Божием 137
себя тем, что он состоял в должности врача, а не повивальной бабки. Подобным же образом погибал и скот, так что опасались даже исчезновения животного рода. А что сказали бы они, если бы в наше время случилась та достопамятная зима, до такой невероятной степени суровая, что ужасной глубины снег даже на форуме лежал в продолжение сорока дней, а Тибр был скован льдом? И та также страшная язва, которая так долго свирепствовала, столь многих погубила?
Когда эта язва продолжилась и на другой год, приняв еще более ужасные размеры, то, ввиду бесполезности присутствия Эскулапа, обратились к Сивиллиным книгам. В предсказаниях этого рода, как упоминает Цицерон в книгах о гадании, верили обычно больше толкователям, которые высказывали свои предположения о вещах сомнительных как могли или как хотели. Тогда сказано было, что при-, чина язвы заключается в том, что многие, захватив значительное число священных зданий, держат их в частном владении. Эскулап, таким образом, был оправдан от тяжелого обвинения в невежестве или бездействии. Но почему многие овладели упомянутыми храмами, не встречая ни с чьей стороны препятствия, как не потому, что долго молились такой толпе богов без всякой пользы; и поэтому постепенно места эти оставлялись почитателями, так что могли, не вызывая неудовольствия ни с чьей стороны, ибо были пусты, использоваться для нужд людей. Ведь если бы и эти, возвращенные и восстановленные в то время якобы для прекращения язвы храмы, не были в дальнейшем таким же образом забыты, как заброшенные и перешедшие в частное владение, то в заслугу Варрону отнюдь не поставили бы того, что в сочинении о священных зданиях он упоминает так много неизвестных. Впрочем, в то время забота была не об удачном прекращении язвы, а об искусном оправдании богов.
БлаженныйАвгустин 138
ГЛАВА XVIII
А во время пунических войн, — когда победа долго оставалась сомнительной и колебалась между тем и другим государством, когда два наиболее сильные народа направляли друг на друга самые мужественные и самые могущественные удары, — сколько было стерто с лица земли мелких царств? Сколько разрушено обширных и знаменитых городов? Сколько пострадало, сколько погибло гражданских обществ? На каких громадных расстояниях произведены были опустошения стольких стран и областей? Сколько раз побежденные сперва были победителями после? Сколько истреблено было людей как из среды сражавшихся воинов, так и из среды народов, не поднимавших оружия? Какое множество кораблей частью было истреблено в морских сражениях, частью же погибло от бурь? Если бы мы вздумали все это рассказывать или припоминать, то вынуждены были бы стать историком.
Встревоженный сильными опасениями, Рим прибег в то время к суетным и смешным средствам. По указанию Сивиллиных книг были восстановлены столетние игры. Празднование их было установлено через сто лет; но при более счастливых обстоятельствах оно прекратилось, ибо попросту забылось. Возобновили понтифики и священные игры в честь умерших, которые также вышли из употребления в предшествовавшие лучшие времена. Конечно, в то время, когда они были возобновлены, царству мертвых, которое обогащалось таким количеством умирающих, было приятно позабавиться: но несчастные люди и без того давали великие игры в честь демонов и приносили богатые жертвы подземному царству, ведя эти бешеные войны, выказывая кровавую храбрость и празднуя там и здесь убийственные победы. Но ничего более достойного сожаления не случилось во время первой Пунической войны, как то
О граде Божием 139
поражение римлян, вследствие которого попал в плен даже известный Регул, упоминавшийся нами в первой и второй книгах, муж действительно великий, бывший перед этим победителем и покорителем карфагенян. Он завершил бы и саму первую Пуническую войну, если бы из–за чрезмерного желания славы не предписал обессиленным войною карфагенянам условий более суровых, чем те, какие они могли принять. И неожиданный плен этого мужа, и в высшей степени возмутительное его рабство, равно как его верность клятве и крайне лютая смерть, — все это если не заставляет богов краснеть, то разве что потому, что они воздушны и крови не имеют.
Не было в то время недостатка в тяжких бедствиях и внутри стен Рима. От необыкновенно сильного разлива реки Тибр разрушились почти все одноэтажные дома в городе; одни — не выдержав стремительного напора волн, другие же — размокнув и рассыпавшись от продолжительного стояния в воде. За бедствием от воды последовало еще более губительное бедствие от огня, который, охватив некоторые великолепнейшие здания возле Форума, не пощадил и наиболее близкого к нему храма Весты, где ему обыкновенно как бы давали вечную жизнь старательной подкладкой дров не столько почтенные, сколько приговоренные к своего рода наказанию девы. Но в то время огонь здесь не жил, а бешенствовал. Приведенные в ужас его стремительностью, девы не в состоянии были спасти эти роковые святыни, которые погубили уже три города, в которых находились. За ними, рискуя жизнью, бросился и вытащил их понтифик Метелл, до половины опаленный. Или огонь не узнал его, или там уже не оставалось ни одного бога, который бы еще не бежал, если был.
Итак, человек мог принести больше пользы святыне Весты, чем она — человеку. Если же она не могла предохранить саму себя от огня, то чем могла помочь она против воды и огня городу, благосостояние ко-
БлаженныйАвгустин 140
торого, как думали, она охраняла? Само дело показало с полной ясностью, что она решительно ничем не могла помочь. Мы не выдвинули бы со своей стороны никакого возражения, если бы они сказали, что эта святыня была установлена не для охранения настоящих временных благ, а для обозначения благ вечных, и поэтому, если случается, что она как телесная и видимая погибает, от этого не бывает никакого вреда тому, ради чего она была поставлена, и она может быть снова восстановлена для того же самого использования. Но по своей изумительной слепоте они полагают, что благодаря именно этой святыне, которая время от времени гибнет, земное благосостояние и временное счастье государства погибнуть не может. Поэтому, когда им указывают, что и при существовании святыни благосостояние падало или бедствия обрушивались, они стыдятся изменить свое мнение, которое защитить не в состоянии.
ГЛАВА XIX
Было бы слишком долго перечислять все те бедствия, которые во время второй Пунической войны терпели оба народа, так долго и упорно сражавшиеся между собою. Даже те из писателей, которые поставили для себя задачей не столько описывать римские войны, сколько восхвалять римское владычество, признаются, что победитель часто бывал похож на побежденного. Когда Ганнибал выступил из Испании, перешагнул Пиринейские горы, прошел Галлию, перевалил через Альпы и с увеличенными во время такого обхода силами, все опустошая и покоряя, ворвался, как бурный поток, в устья Италии, — какие последовали кровопролитные войны, сколько сражений? Сколько раз римляне были побеждены? Сколько городов было без боя сдано неприятелю, сколько взято силой оружия и разрушено? Какие жестокие битвы и сколько их было, славных для Ганнибала поражением римлян?
О граде Божием 141
Что мне сказать об этой катастрофе при Каннах, где Ганнибал, хотя он и был крайне жесток, однако, насытившись ужасным пролитием крови врагов, приказал, говорят, щадить их? Он послал оттуда в Карфаген три четверика золотых колец. Из этого должны были понять, что в этом сражении пало столько римской знати, что определить количество ее легче было мерою, чем счетом; а сколько пало рядового войска, которое вообще тем многочисленнее, чем ниже по общественному положению, которое лежало без колец, о том–де, скорее, можно предполагать, чем утверждать.
Затем последовал такой недостаток в воинах, что римляне собирали осужденных за преступления, освобождая их от наказания, давали рабам свободу и не столько пополняли ими, сколько составляли из них постыдное войско. Но у рабов, а чтобы не обижать их, скажу — у освобожденных, не хватало оружия, чтобы сражаться за Римскую республику. Было забрано оружие из храмов; римляне как бы так говорили своим богам: «Сложите оружие, которое держали так долго без всякого толку; может быть, наши рабы будут в состоянии принести какую–нибудь пользу там, где вы, наши боги, ничего не смогли сделать». В то же время государственная казна оказалась слишком оскудевшей для выдачи жалованья войскам; на общественное дело пошли частные богатства, причем каждый отдавал все, что имел, и даже сенаторы, а тем более другие состояния и трибы, не оставили у себя ничего из золота, кроме золотых колец, по одному у каждого, и булл, по одной же: жалких знаков достоинства*. Кто перенес бы все это, если бы дело
* Буллами назывались золотые украшения, которые, как отличительные знаки, носили дети знатных фамилий, золотые же кольца носили исключительно сенаторы, всадники и высшие магистраты.
БлаженныйАвгустин 142
дошло до такой крайности в наше время, когда мы едва переносим настоящее, когда ради пустых забав гистрионам дарят гораздо больше, чем в то время, в годину крайней опасности, было собрано легионам?
ГЛАВА XX
Из всех этих бедствий второй Пунической войны не было ни одного заслужившего более сожаления и жалоб, чем гибель Сагунта. Этот испанский город, весьма дружественный римскому народу, был разрушен за то, что хранил этому народу верность. Ибо Ганнибал, разорвав заключенный с римлянами договор, искал повод побудить их к войне. С этой целью он нагло подверг осаде Сагунт. Когда до Рима дошли об этом слухи, были отправлены к Ганнибалу послы, чтобы убедить его снять осаду. Не удостоенные вниманием, послы направились в Карфаген и жаловались там на нарушение договора; но, не добившись ничего, возвратились в Рим. Пока все это тянулось, несчастный город, самый богатый, которым больше всего дорожили как Испания, так и Римская республика, был разрушен карфагенянами на восьмом или девятом месяце осады. Ужасно читать о его гибели, а еще ужаснее описывать ее. Однако же я кратко напомню о ней; она имеет близкое отношение к предмету, о котором идет речь.
Сперва он был изнурен голодом до такой степени, что некоторые употребляли в пищу даже трупы своих близких. Затем, истощив все возможные средства, он, чтобы не быть плененным Ганнибалом, воздвиг сообща громадный костер, и когда костер этот разгорелся, в него бросились все сами и побросали свои семейства, даже закалывая и закалываясь. И что же, проявили как–нибудь себя в этом случае их боги, обжоры и плуты, с жадностью домогающиеся жертвенного тука и дурачащие людей, помрачая их умы мнимыми откровениями в ложных гаданиях?
О граде Божием 143
Что сделали они, помогли ли чем–либо наиболее дружественному к римскому народу городу, не дали погибнуть ему, когда он погибал вследствие своей верности? Они же сами присутствовали, несомненно, в качестве посредников, когда он вступал в союз с Римской республикой, заключив с нею договор. И вот, верно храня договор, который заключил, полагаясь на покровительство их, подтвердил честным словом, закрепил клятвой, он подвергся со стороны вероломного врага осаде, взятию, истреблению. Если эти самые боги навели потом бурей и молниями ужас на Ганнибала, когда он был вблизи римских стен, и заставили его отойти, то нечто подобное им следовало сделать и тогда, с самого начала.
Смею заметить, что честнее было бы с их стороны разразиться бурею за друзей римлян, которые погибали за то, что не нарушили клятвы верности, хотя и не получили при этом никакой помощи, чем за самих римлян, которые сражались сами за себя и владели достаточными силами, чтобы противостоять Ганнибалу. Если они были блюстителями римского благоденствия и славы, они должны были не допустить лечь несмываемым пятном на эту славу гибели Сагунта. В противном же случае не глупо ли верить, будто благодаря их защите Рим не погиб от руки победителя Ганнибала, когда они не в силах были помочь городу, погибавшему за дружбу с Римом? Если бы население Сагунта было христианским и претерпело нечто подобное за веру евангельскую, оно не употребило бы против себя ни меча, ни огня, а подвергшись истреблению за эту веру, оно претерпело бы это в той надежде, какую возлагало бы на Христа, в чаянии награды не кратковременной, а беспредельной и вечной. Но эти боги ради того и выставляют себя для почитания, ради того и люди находят нужным почитать их, чтобы никакая опасность не угрожала благополучию в вещах гибнущих и преходящих. Что же ответят нам в защиту этих богов их защитники и обожатели на вопрос о погибших сагунтянах, как не то же,
БлаженныйАвгустин 144
что и на вопрос о замученном Регуле? Различие в том, что там один человек, а здесь целый город; но в том и другом случае причиной гибели было сохранение клятвы. Ради этого сохранения тот решил возвратиться к врагам, а этот не захотел предаться им.
Итак, сохранение клятвы вызывает гнев богов? Или и при покровительстве богов могут погибать не только отдельные люди, но даже и целые города? Пусть выбирают одно из двух, что хотят. Если этих богов раздражает сохранение клятвы, пусть они ищут для своего почитания клятвопреступников. Если же и при покровительстве их могут под ударами множества тяжких бедствий погибать люди и города, то почитание их совершенно бесполезно для земного счастья. Пусть же перестанут сердиться те, которые думают, что, лишившись культа своих богов, они сделались несчастными. Ведь они могли бы не только при сохранении этого культа, но и при благоприятном к ним отношении богов, как теперь, роптать на несчастья, но и так, как тогда Регул и сагунтяне, совершенно погибнуть после ужасных истязаний.
ГЛАВА XXI
Далее, в промежуток между второй и последней карфагенской войною, когда, по словам Саллюстия, римляне отличались наилучшими нравами и полнейшим согласием (ибо я многое опускаю, чтобы не придавать сочинению слишком больших размеров), — итак, в это самое время наилучших нравов и полнейшего согласия известный Сципион (я имею в виду Сципиона Африканского, старшего)*, освободитель Рима и Италии, знаменитый и удивительный завершитель этой самой второй Пунической войны, — войны столь ужасной, столь убийственной, столь бедственной, — победитель Ганнибала и покоритель
О граде Божием 145
Карфагена, посвятивший, как пишут о нем, с самой юности жизнь свою богам и воспитывавшийся в храмах, — этот Сципион оказался бессильным против обвинений врагов и, потеряв отечество, которому доблестью своею возвратил благоденствие и свободу, провел остаток жизни и умер в линтернском местечке, до такой степени после знаменитого своего триумфа не желая возвращаться в Рим, что, говорят, сделал распоряжение, чтобы даже после смерти его не погребали в неблагодарном отечестве.
После этого была занесена в Рим Гнеем Манлием, победителем галатов, азиатская роскошь, которая оказалась страшнее всякого врага. Тогда впервые появились медные ложи и драгоценные покрывала; тогда введен был обычай приглашать на пиры певиц и другие беспутные вольности. Но в настоящем случае я более намерен говорить о том зле, которое люди терпят невольно, а не о том, которое они творят сами по доброй воле. Упомянутое мною о Сципионе, что, оказавшись бессильным против врагов, он умер вне отечества, которое освободил, — я упомянул потому, что оно относится к предмету моего настоящего рассуждения, т. е. чтобы показать, что римские божества, почитаемые единственно ради земного счастья, от храмов которых он заставил бежать Ганнибала, не отплатили ему тем же. Но так как Саллюстий утверждает, что нравы того времени были в Риме наилучшими, то я счел нужным упомянуть об азиатской роскоши, чтобы дать понять, что Саллюстий говорит это только по сравнению с другими временами, когда нравы были гораздо хуже и проявлялись в сильнейших разногласиях. Ибо в то же время, т. е. в промежуток между второй и последней карфагенской войною, был издан известный закон Вокония, запрещавший кому бы то ни было делать наследницей своего имущества женщину, хотя бы даже единственную дочь. Не знаю, можно ли издать или придумать постановление более несправедливое, чем этот закон.
БлаженныйАвгустин 146
Тем не менее, в этот промежуток между двумя Пуническими войнами положение дел было еще довольно сносным. Гибло только войско от внешних войн, но и оно находило утешение в победах; внутри же не свирепствовали, как в другие времена, никакие разногласия. Но вот в последнюю Пуническую войну одним натиском другого Сципиона (младшего), получившего за это также прозвище Африканского, была разрушена до основания соперница римской власти; и вслед за тем на Римскую республику обрушилась такая масса зол, что счастьем и безопасностью, которые при испорченности нравов и накопили эту массу зла, разрушенный Карфаген, как оказалось, в самый короткий срок повредил Риму гораздо более, чем вредил ему прежде своею долгой враждой.
За весь этот период времени, продолжающийся вплоть до Цезаря Августа, который решительно отнял у римлян, причем на взгляд их самих уже не славную, а сварливую и распущенную свободу, все подчинил своей воле и восстановил и возобновил как бы одряхлевшую от болезненной старости республику, — за весь этот период я умолчу о новых и новых, по тем или иным причинам, военных поражениях, и о нумантийском мире, запятнавшем Рим ужасным бесславием (последнее случилось вследствие того, что улетели из клетки куры и дали консулу Манцину, как говорят, худое предзнаменование; как будто в продолжение стольких лет, в течение которых этот небольшой осажденный городок (Нумантий) с успехом отражал атаки римского войска и начинал уже наводить ужас на саму Римскую республику, другие куры пророчили ему зло).
ГЛАВА XXII
Обо всем этом, как я сказал, умолчу; но не умолчу о том, как царь Азии, Митридат, приказал умертвить в один день повсеместно всех римских граждан, которые путешествовали
О граде Божием 147
по Азии и в бесчисленном множестве занимались там своими делами; что и было приведено в исполнение. Какая то была жалкая картина, когда вдруг, неожиданно и вероломно убивали всякого, где бы кто ни был найден, в поле, на ложе, на пиру? Какой стоял стон умиравших, какие слезы со стороны зрителей, а может быть, со стороны и самих убивавших? Какая жестокая необходимость для людей, оказывавших гостеприимство, не только видеть в своем доме эти безбожные убийства, но и самим совершать их; от дружественной ласки человеколюбия, неожиданно меняя вид, переходить к враждебным во время мира действиям, нанося, могу сказать, взаимные друг другу раны: так как пораженный получал раны в тело, а поражающий — в душу? Неужели и эти все пренебрегли птицегаданием? Разве у них не было ни домашних, ни публичных богов, к которым они могли бы обратиться с вопросом, когда отправлялись с места жительства своего в это безвозвратное путешествие? Если все это так, то у них нет основания жаловаться в этом отношении на наши времена. Римляне издревле пренебрегали такими пустяками. Если же они обращались к богам с вопросами, то пусть скажут нам, чем это помогло?
ГЛАВА XXIII
Теперь припомним коротко, насколько можем, те бедствия, которые, поскольку были внутренними, постольку и более достойными сожаления, а именно: гражданские, или, вернее, антигражданские распри, и не только распри, но даже бесстыдные войны, в которых было столько пролито крови, в которых взаимная вражда партий выразилась уже не спорами в собраниях и разделениями голосов на ту и другую сторону, а открытым оружием и битвами. Так называемые союзнические войны, войны невольнические, войны гражданские, —
БлаженныйАвгустин 148
сколько пролили они римской крови, какое опустошение и опустение внесли в Италию! Но прежде чем восстал против Рима союзный Лациум, все животные, служащие человеку, как–то: собаки, лошади, ослы, коровы и другие, до того времени покорные человеческой власти, вдруг, одичав и забыв свойственную домашним животным кротость, бросили жилье, стали произвольно бродить туда и сюда и не подпускать к себе не только чужих, но и хозяев, угрожая гибелью или, по крайней мере, опасностью тем, кто осмеливался приближаться к ним. Какого великого бедствия было знаком, если было знаком, такое зло, безусловно, зло немалое, если даже оно и не было знаком? Случись это в наше время, они (язычники) отнеслись бы к нам с большим бешенством, чем их животные — к ним.
ГЛАВА XXIV
Начало гражданским войнам положили возмущения Гракхов, вызванные аграрными законами. Они хотели разделить между народом земли, которыми несправедливо владели знатные люди. Но решиться на искоренение застарелой несправедливости было весьма опасно; даже, как показал опыт, в высшей степени гибельно. Сколько было совершено похорон, когда был убит первый (Тиберий) Гракх? И сколько потом, когда спустя немного времени был убит другой его брат? И знатных, и незнатных убивали не на основании законов и не по распоряжению властей, а толпою и в вооруженных столкновениях. После умерщвления другого Гракха (Гая), консул Люций Описний, поднявший против него оружие внутри Рима и после захвата и умерщвления его вместе с его товарищами, производивший жестокое истребление граждан, уже потом, когда производил расследование, преследуя остальных судебным порядком, убил
О граде Божием 149
говорят, три тысячи человек. Из этого можно понять, какую массу мертвых могла оставить после себя вооруженная свалка во время народного мятежа, если столько было предано смерти вследствие как бы беспристрастного судебного разбирательства. Убийца самого Гракха продал консулу его голову за такое количество золота, сколько весила сама эта голова. Условие такого рода было заключено еще до убийства. Тогда же был убит с детьми и прежний консул Марк Фульвий.
ГЛАВА XXV
По определению сената, слишком уж замысловатому, на том самом месте, где произошел этот кровавый мятеж и где пало столько граждан всех состояний, построен был храм Согласия, чтобы в качестве свидетеля казни Гракхов колол глаза тем, которые говорили бы речи народу, и язвил их память. Но что это было, как не насмешка над богами, строить храм той богине, которая, если бы присутствовала в городе, последний не подвергся бы разгрому, растерзанный такими раздорами? Разве, быть может, решено было в этом храме, как в тюрьме, заключить богиню Согласия, как виновницу произошедшего злодеяния, за то, что она оставила души граждан? Ибо если они хотели чего–то более сообразного ходу дела, то почему они не построили там храм Раздора? Или, быть может, было указано какое–нибудь основание тому, почему бы Согласие могло быть богиней, а Раздор — нет, когда, по определению Лабеона, первая — богиня добрая, а вторая — злая?
Последний, очевидно, руководствовался тем, что нашел в Риме храмы и Лихорадке, и Здоровью. Следовательно, таким же точно образом надлежало построить храм не только Согласию, но и Раздору. Поэтому римляне поступили очень рискованно, решившись иметь
БлаженныйАвгустин 150
раздраженной против себя такую злую богиню и позабыв, что первоначальная причина гибели Трои лежала в ее озлоблении. Ведь это она, подбросив золотое яблоко, учинила ссору между тремя богинями за то, что вместе с другими богами не была приглашена на пир: из–за этой ссоры — вражда между божествами, победа Венеры, похищение Елены, разрушение Трои. Возможно, негодуя именно на то, что ее не удостоили в Риме никаким храмом рядом с другими богами, она в то время и подвергла город такому сильному смятению; насколько же мог усилиться ее гнев, когда на месте упомянутого кровопролития, т. е. на месте работы ее рук, она увидела храм, построенный ее противнице? Эти ученые и мудрые мужи сердятся, когда мы смеемся над подобными пустяками; тем не менее, для них, как почитателей богов добрых и злых, вопрос о Согласии и Раздоре остается в силе: или они пренебрегли культом этих богинь и предпочли им Лихорадку и Беллону, которым построили древние капища; или почитали их, когда рассвирепевшая богиня Раздора довела их, с удалением Согласия, даже до гражданских войн.
ГЛАВА XXVI
Да, они придумали поистине замысловатое средство против мятежей, противопоставив говорящему речи народу храм Согласия, как свидетеля поражения и казни Гракхов. Сколько принесло это пользы, показывают последующие, гораздо худшие события. Народные вожаки заботились после этого не о том, чтобы избежать образа действий и судьбы Гракхов, а о том, чтобы пойти далее их предположений. Таковы были Люций Сатурнин, народный трибун, и Гай Сервилий, претор, а потом, гораздо позже, Марк Друз. От их возмущений начались сперва жестокие кровопролития, а затем союзнические войны, нанесшие Италии страшные удары и доведшие ее до разорения и запустения.
О граде Божием 151
Потом последовало восстание рабов и гражданские войны. Сколько во время последних было дано сражений, сколько пролито крови для того, чтобы усмирить, будто какую–нибудь варварскую орду, почти все народы Италии, которые по преимуществу и составляли силу Римского государства? Восстание рабов было начато крайне малым числом людей, менее чем семьюдесятью гладиаторами, — числом, которое превзошло количество императоров римского народа; а между тем, каких она достигла размеров, какой силы и жестокости, сколько и до какой степени опустошила городов и областей, — все это едва ли были в силах передать писавшие историю. И это было не единственное восстание рабов. Еще прежде того была опустошена провинция Македония, а потом Сицилия и приморская сторона. Сколько и каких было при этом совершено ужасных разбойничьих нападений на суше, какие сильные велись затем морские разбойничьи войны, едва ли кто в состоянии описать.
ГЛАВА XXVII
Марий уже запятнал себя кровью граждан, умертвив множество людей противной себе партии, когда, будучи побежден, бежал из Рима; но едва (скажу словами Цицерона*) город успел перевести дух, как одержал победу Цинна в союзе с Марием. Вслед за тем, после умерщвления знаменитейших мужей, погасли светила государственные. За эту жестокость победителей потом отомстил Сулла; но нет нужды говорить, каким истреблением граждан и каким бедствием для республики сопровождалась эта месть. Об этой мести, которая была гораздо гибельнее, чем безнаказанность злодейств, против которых она была направлена, говорит Лукан:
БлаженныйАвгустин 152
Леченье перешло границы, и рука зашла туда, Преследуя болезни, где не было их преждв-
Покараны преступники. Но если б
Хоть кто–нибудь из них остался жив,
Простор вражде тогда б открылся новый,
И гнев, не сдержанный уже уздой законов,
Рекой широкой хлынул'.
Кроме тех, которые пали вне Рима в рядах войска, внутри самого Рима во время этой войны Мария и Сул–лы трупами были наполнены улицы, дворы, площади, театры, храмы; так что трудно было судить, когда победители совершили более убийств: сперва ли, чтобы одержать победу, или после, вследствие того, что победу одержали, Вот победа на стороне Мария, когда он сам возвращает себя из ссылки. За исключением убийств, совершавшихся повсеместно и где ни попадя, кладут на кафедру, с которой говорились речи народу, голову Октавия, консула; Цезаря и Фимбрия убивают в их домах; двух Крассов, отца и сына, закалывают на глазах друг у друга; Бебий и Нумиторий умирают с растерзанными внутренностями, когда их волокут крюками; Катулл избегает рук врагов тем, что принимает яд; Ме–рула, фламин Юпитера, рассекши жилы, совершает возлияние Юпитеру собственной кровью. На глазах у самого Мария постоянно убивают тех, кому он в ответ на приветствие не желал протягивать руки.
ГЛАВА XXVIII
В качестве возмездия за эту жестокость последовала победа Суллы. Но после такого количества крови граждан, пролитием которой она была приобретена, победа эта, — когда война была уже окончена, но жива была еще ненависть, — выразилась в мирное
О граде Божием 153
время большими жестокостями. Уже молодой Марий и Карбол, принадлежавшие к партии Мария, к прежним убийствам старшего Мария прибавили новые, еще более жестокие. Когда Сулла только наступал, они, отчаявшись не только в победе, но и в собственном спасении, наполнили все убийствами своих и чужих. Помимо широко и повсюду распространенного кровопролития, был осажден даже сенат, и из самого места его заседаний, будто из тюрьмы, выводили на казнь. Первосвященник Муций Сцевола был убит в то время, когда, считая храм Весты наибольшей святыней римлян, обнимал ее жертвенник: своею кровью он едва не погасил тот огонь, который постоянно горел благодаря неусыпной заботливости дев. Затем вступил в Рим победителем Сулла. На Марсовом поле (месте народных собраний), уже не во время войны, а жестокого мира, он истребил семь тысяч сдавшегося ему и потому безоружного народа, — истребил не в битве с ним, а просто приказав истребить. Да и вообще, в Риме всякий сторонник Суллы убивал, кого хотел. Поэтому не было никакой возможности определить количество совершенных убийств. Наконец, Сулле доложили, что следует дозволить некоторым жить, чтобы победителям было кем повелевать. Неистовая свобода убийств, свирепствовавшая повсеместно без разбора, была, таким образом, обуздана.
Ко всеобщей великой радости был обнародован список, содержащий две тысячи имен граждан из двух знатных сословий, всаднического и сенаторского, предназначенных к смерти и изгнанию. Количество внушало тревогу, но определенность успокаивала; уже не столько скорбели о множестве погибавших, сколько радовались безопасности остальных. Но и оставшиеся в этой безопасности вздрогнули, когда узнали, какого рода казням будут подвергнуты те, которые были осуждены на смерть. Ибо одного разрывали руками безо всяких орудий: живого человека
БлаженныйАвгустин 154
люди растерзывали с большим зверством, чем звери — выброшенный труп. Другого, выколов глаза и отсекая один за другим члены, заставляли в таких муках долго жить, или, вернее, долго умирать. Были проданы с публичного торга некоторые знатные города, будто какие–нибудь хутора. А один город был казнен весь, подобно тому, как осуждают на казнь одного преступника. Все это делалось в мирное время; не для того, чтобы ускорить час победы, а для того, чтобы кто–нибудь не вздумал пренебречь победой уже одержанной. На этот раз мир оспаривал жестокость у войны и одержал победу. Война убивала во–оружейных, а он — безоружных. Война была для того, чтобы убиваемый, если был в состоянии, сам убивал; а мир — не для того, чтобы избежавший смерти жил, а для того, чтобы умирая — не защищался.
ГЛАВА XXIX
Какая жестокость чужих народов, какая лютость варваров может сравниться с этой победой граждан над гражданами? Что было для Рима гибельнее, постыднее, противнее: вторжение ли в древнее время галлов и незадолго перед этим — готов, или необузданность Мария и Суллы и других знаменитых с той и другой стороны мужей, украшений общества, совершавших зверства над его же членами? Правда, галлы умертвили сенаторов, сколько сумели отыскать их в целом Риме, за исключением Капитолия, который один был кое–как защищен; но тем, которые жили на капитолийском холме, они предоставили, по крайней мере, возможность выкупить золотом жизнь, которую, если не могли отнять оружием, могли истощить осадой. Галлы же пощадили такое множество сенаторов, что более удивительным оказалось то, что они убили некоторых. Но Сулла еще при жизни Мария занял по праву победителя бывший в
О граде Божием 155
безопасности от галлов Капитолий для того, чтобы из него–то и распоряжаться убийствами; а когда Марий спасся бегством, чтобы возвратиться потом более жестоким и более кровожадным, Сулла в самом Капитолии лишил по определению сената жизни и имущества многих. А для сторонников Мария, в отсутствие Суллы, что было такого святого, что пощадили бы они, когда они не пощадили даже Муция, гражданина, сенатора, первосвященника, державшего в своих объятиях тот самый жертвенник, с которым были связаны, как говорят, сами римские судьбы? Наконец, чтобы не говорить о бесчисленном количестве других убийств, один последний список Суллы лишил жизни большее число сенаторов, чем скольких смогли ограбить готы.
ГЛАВА XXX
Итак, с каким лицом, с каким сердцем, с каким бесстыдством, с каким неразумием, или, точнее, с каким безумием они во всем описанном своих богов не винят, а в этом последнем* винят нашего Христа? Безжалостные гражданские войны, по признанию их же собственных писателей, более бедственные, чем всякие войны с внешними врагами, — войны, которые считаются не только подорвавшими, но и совершенно погубившими республику, — все они начались гораздо раньше пришествия Христова, — и по преемственному продолжению преступного дела партий переходили из войн Мария и Суллы в войны Серто–рия и Катилины, из которых первый был изгнанником, а последний — воспитанником Суллы; потом — в войну Лепила и Катула, из которых один хотел уничтожить, а другой — отстоять дело Суллы; далее, в войны Помпея и Цезаря, из которых первый был последователем Суллы и равнялся с ним или даже
* Т. е. во вторжении готов.
БлаженныйАвгустин 156
превосходил его во власти, а Цезарь власти Помпея не выносил (но не выносил потому, что сам ее не имел: когда же Помпеи был побежден и убит, превзошел и Помпея); затем, в войны другого Цезаря, названного впоследствии Августом, во время правления которого родился Христос.
Ибо и Август вел также гражданские войны со многими, и в этих войнах погибло также много знатнейших мужей, среди которых был и Цицерон, известный красноречивый художник по части управления республикой. Причиною было то, что вступившие в заговор якобы ради спасения республиканской свободы некоторые из знатных сенаторов умертвили в месте заседаний сената победителя Помпея, Гая Цезаря, за предполагаемое домогательство им царской власти, — Цезаря, который снисходительно пользовался своею гражданской победой и сохранил жизнь и общественное положение своим врагам. Затем власти Цезаря стал добиваться Антоний, далеко не похожий на него нравами, человек испорченный и запятнавший себя всякого рода пороками. Цицерон усиленно противился ему во имя той же якобы свободы отечества. Тогда выдвинулся замечательно даровитый юноша, другой Цезарь, приемный сын первого Гая Цезаря, названный потом, как я сказал, Августом. С целью выставить в его лице соперника Антонию Цицерон покровительствовал этому юноше Цезарю. Он надеялся, что, по устранении и уничтожении господства Антония, Цезарь восстановит свободу республики; но оказался до такой степени слепым и непредусмотрительным, что этот же самый юноша, возвеличению и могуществу которого он содействовал, и самого Цицерона дозволил, как бы по некоторой полюбовной сделке, убить Антонию, и свободу республики, за которую тот столько ратовал, подчинил игу собственной власти.
О граде Божием 157
ГЛАВА XXXI
Пусть же неблагодарные нашему Христу за такие великие блага обвиняют своих богов за столь великое зло. Ведь когда это зло совершалось, когда граждане проливали столько крови граждан повсюду, причем не только где–нибудь на стороне, но и у алтарей этих богов, в то самое время алтари богов пылали огнем и издавали запах сабейского фимиама и свежих гирлянд; священнослужители были в высокой чести; капища поражали блеском; приносились обильные жертвы; давались многочисленные и пышные игры; исступленными наполнялись храмы. Туллий не избрал для себя местом убежища храм, потому что избрал было Муций, и напрасно. Эти же лица, которые с величайшим озлоблением нападают на христианские времена, или искали убежища в местах, посвященных Христу, или были отведены туда самими варварами для сохранения их жизни. Я знаю одно, и в этом легко согласится со мною всякий, кто судит о деле беспристрастно, а именно: если бы перед Пуническими войнами (о многом другом, о чем я упоминал, и еще о гораздо большем, о чем я счел нужным, ради краткости повествования, умолчать, я не говорю) род человеческий принял христианство и последовало то страшное разорение, которому во время тех войн подвергались Европа и Африка, то каждый из тех лиц, с которыми мы имеем дело, приписал бы это зло, несомненно, религии христианской. Еще менее удерживали бы они свои языки, если бы, насколько это касается римлян, за принятием и распространением христианства последовали известное вторжение галлов, или опустошение Рима рекою Тибр и пожарами, или упомянутые гражданские войны, превосходящие всякие бедствия.
Даже такие виды зла, которые до того представлялись невероятными, что считались чудесными (ргоШ§1а), если бы они случились во времена христианские, кому другому были бы поставлены
БлаженныйАвгустин 158
в вину, как не христианам? Я не буду говорить о тех явлениях, которые были более удивительными, чем вредными, например: о говоривших быках, о детях, которые произносили некоторые слова еще до рождения из чрева матерей, о летавших змеях, о женщинах и курицах, превратившихся в особ мужского пола, и о других того же свойства, о которых рассказывается в их книгах, не баснословных, а исторических, и которые, действительны ли они, или ложны, не причиняют людям гибели, а только вызывают изумление. Но когда падала дождем земля, когда падал дождем мел, когда шел каменный дождь, настоящий каменный дождь, а не град, который обыкновенно называют этим именем, то такие явления действительно наносили сильный вред. Читаем у них же, что от огня Этны, текущего с вершины горы к ближайшему берегу, море кипело до такой степени, что расплавлялись скалы и растекалась смола на кораблях. И это причиняло немалый вред, хотя и было невероятно и изумительно. Пишут далее, что от того же действия огня Сицилия была покрыта такой массой горячего пепла, что заваленные и придавленные ею кровли города Катаны обрушились; тронутые таким бедствием, римляне освободили в том году город от податей.
Пишут также, что в Африке, когда она была уже римской провинцией, появилась однажды чудовищная масса саранчи. Уничтожив плоды и листья деревьев, она, как рассказывают, огромным и превосходящим всякое описание облаком спустилась в море. Умершая там и выброшенная на берег, она заразила потом воздух и произвела такую страшную моровую язву, что в одном царстве Массиниссы погибло, говорят, восемьдесят тысяч человек, а в ближайших к берегам странах — и того более. В Утике из тридцати тысяч бывших там в то время юношей, как утверждают, осталось в живых только десятеро. Чего из этого, если бы случилось оно во времена христианские, не
О граде Божием 159
приписало бы христианской религии то пустословие которое мы должны выслушивать и на которое вынуждены отвечать? И, однако же, они не приписывают этого своим богам: требуют восстановления культа их для того, чтобы не испытывать даже меньших бедствий подобного свойства, между тем как прежде, когда боги были почитаемы, испытали от них упомянутые, куда большие!
БлаженныйАвгустин 160
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА I
Начав говорить о граде Божием, я счел нужным прежде всего ответить тем его врагам, которые, гоняясь за земными радостями и стремясь к предметам преходящим, за все, что только претерпевают они в этом отношении неприятного, — хотя претерпевают скорее по милосердию вразумляющего, чем по строгости карающего Бога, — порицают христианскую религию, религию единственно истинную и спасительную. И так как они (хотя в их числе находится и невежественная чернь) возбуждаются против нас наибольшею ненавистью на основании якобы научных предпосылок, воображая, будто того, что случается с ними необычного в их время, в другие, прежние времена, как правило, не случалось, а те, которые знают ложность их мнений, как бы молчаливо с ними соглашаются, дабы ропот против нас казался справедливым, то, опираясь на те свидетельства, которые их писатели оставили потомству для изучения истории прошлых веков, нужно было показать, что дело обстояло совсем иначе, чем они думают. Вместе с тем нужно было доказать, что ложные боги, которых они чтили явно, а некоторые и сейчас еще чтут тайно, суть нечистые духи и коварные демоны, — нечистые и коварные до такой степени, что услаждаются своими то ли действительными, то ли вымышленными злодеяниями, повелев прославлять эти злодеяния в дни своих праздников; это для того, чтобы слабая человеческая природа не могла воздерживаться от предосудительных поступков, коль скоро ей представляется для подражания в этом как бы божественный пример.
О граде Божием 161
Это мы и доказали, основываясь не на догадках, а отчасти на свежих примерах, поскольку видели и сами, что в честь их богов совершаются подобные вещи, отчасти же на сочинениях тех, которые оставили потомству описание всего этого не в качестве порицания, а для прославления своих богов. Так поступил, например, Варрон, человек большой учености и пользующийся у них величайшим авторитетом: при составлении своих книг, одних — о предметах человеческих, других же — о предметах божественных, относя одни предметы, соответственно достоинству каждой вещи, к человеческим, другие — к божественным, он поставил сценические игры отнюдь не в разряд вещей человеческих, но именно божественных; хотя, если бы общество состояло только из людей добрых и честных, сценические игры не должны были бы находиться даже и в числе вещей человеческих. Так поступил он, конечно, не по собственному усмотрению, а потому, что, будучи рожден и воспитан в Риме, застал их в ряду божественных предметов. А поскольку в конце первой книги мы вкратце сказали о том, о чем следовало говорить далее и кое–что из этого изложили в двух последующих книгах, то посмотрим, относительно чего ожидание наших читателей остается еще неудовлетворенным.
ГЛАВА II
Итак, мы обещали сказать кое–что против тех, которые поражения Римской республики приписывают нашей религии, и рассказать о тех, — какие только и насколько могли припомниться, — бедствиях, которые обрушились на Рим или на находящиеся под его властью провинции, прежде чем запрещены были их жертвоприношения: все эти бедствия они, несомненно, приписали бы нам, если бы наша религия уже и тогда была им известна и запрещала им, как теперь,
БлаженныйАвгустин 162
их святотатственные культы.
Эту задачу мы постарались выполнить во второй и третьей книгах, во второй — когда говорили о зле нравственном, которое следует почитать злом или единственным, или величайшим, а в третьей — когда шла речь о бедствиях, которых одних страшатся люди глупые (т. е. о бедствиях телесных и внешних, которые весьма часто терпят и люди добродетельные); между тем как то зло, которое делает их самих злыми, они переносят не только терпеливо, но и охотно. И как мало сказали мы об одном только Риме и его империи! — далеко не все даже из времен, предшествовавших Цезарю Августу. А что было бы, если бы я захотел припоминать и перечислять не те бедствия, которые причиняют люди друг другу, каковыми являются опустошения и разгромы воюющих, а те, которым подвергается земная жизнь от действия мировых стихий; чего слегка касается Апулей в одном месте своего сочинения «О мире», говоря, что все земное подвержено изменениям, превратностям и разрушениям? Он говорит (воспользуюсь его же словами), что в результате мощных землетрясений разверзалась земля и были поглощены города вместе с их жителями; что внезапными дождями были смыты целые области; что такие области, которые прежде были континентами, обращены были в острова, а другие, вследствие понижения (уровня) моря, сделались легкопроходимыми для пешеходов; что ветрами и бурями были разрушены города; что облака производили пожары, от которых гибли испепеленные ими восточные страны, а страны западные подвергались подобным же катастрофам от воды, просачивавшейся из земли и затоплявшей местности; что из разверзшихся на вершинах Этны кратеров под действием небесного огня устремились некогда по ее склонам потоки огненных рек. Если бы я захотел перечислять эти и подобные им бедствия, о которых
О граде Божием 163
рассказывает история, окончил ли бы я когда–нибудь повествование о том, что случалось в те времена, когда религия Христа еще не обуздывала их суетных и гибельных для истинного спасения верований?
Я обещал также показать, за какие их нравы и по какой причине истинный Бог, во власти Которого находятся все царства, благоволил способствовать увеличению их империи; и как мало оказали им помощи, или лучше, как много повредили им своею ложью и обманом те, кого они считают богами. Об этом я считаю нужным говорить теперь. Преимущественно же буду говорить о расширении Римской империи. Ибо о том, сколько зла причинила их нравам вредная лживость демонов, которых они почитают богами, мною немало уже было сказано во второй книге. Во всех же трех оконченных книгах, где это представлялось удобным, мы старались указывать, сколько и каким именно образом посредством имени Христова, которому варвары вопреки военным обычаям воздавали так много уважения, — сколько и каким образом среди бедствий войны оказал помощи добрым и злым Бог, Который заставляет Свое солнце светить на добрых и злых и попускает идти дождям на праведных и неправедных (Мф. V, 4 5).
ГЛАВА III
Итак, рассмотрим теперь, как много дерзости в том, что обширность и долговременность существования Римской империи они приписывают этим своим богам, почитать которых совершением мерзких игр через мерзких же людей они считают даже делом благопристойным. Но прежде я хотел бы исследовать, насколько основательно и благоразумно хвастаются они величием и обширностью империи, коль скоро нельзя считать счастливыми людей, которые постоянно живут в мрачном страхе и с кровожадными
БлаженныйАвгустин 164
инстинктами среди бедствий войны и потоков крови, — сограждан ли то, или врагов, но все же людей, — чтобы приобрести минутную, светящуюся непрочным блеском радость, находясь при этом в постоянном опасении, как бы внезапно ее не утратить.
Чтобы нам было легче обсудить этот предмет, не будем вдаваться в пустую напыщенность и утомлять внимание читателей громкими словами, вроде: «народы», «царства», «провинции», а возьмем двух отдельных людей, ибо каждый отдельный человек, как буква в предложении, представляет собою своего рода элемент государства, как бы обширно оно ни было. Из них одного вообразим себе бедным, или еще лучше — человеком посредственного состояния, а другого — весьма богатым, но сильно удрученным страхами, снедаемым печалью, обуреваемым желаниями, не имеющим ни минуты спокойствия и душевного мира, живущим в атмосфере постоянных враждебных споров, умножающим ценою этих несчастий свое имение до бесконечности, и с умножением его умножающим самые тяжкие заботы; человека же посредственного состояния — довольствующимся своими малыми и скудными пожитками, милым для семьи, живущим в мире с родственниками, соседями и друзьями, религиозно благоговейным, приветливым характером, здоровым телом, бережливым в жизни, чистым в нравственном отношении и спокойным в своей совести.
Не знаю, будет ли кто–нибудь настолько сумасброден, чтобы усомниться, кому из них отдать предпочтение. Но как применимо это к двум отдельным людям, так и к двум семействам, к двум народам и к двум государствам; проводя такую параллель, мы весьма легко увидим, если будем наблюдательны, где находится суетность и где — счастье. Поэтому, когда почитается истинный Бог и Ему воздается поклонение действительными священнодействиями и добрыми нравами, бывает полезно могущественное и долговременное
О граде Божием 165
управление людей добродетельных. И полезно оно не столько для них самих, сколько для тех, кем они управляют. Что касается их самих, то для истинного их счастья, в котором хорошо проводится и настоящая жизнь, и получается потом жизнь вечная, достаточно благочестия и честности, представляющих собою великие дары Божий.
Итак, в настоящем мире царствование людей добродетельных полезно не столько для них самих, сколько для благосостояния их подданных. Напротив того, царствование злых вредно более всего для самих царствующих, которые губят свои души необузданностью пороков; тем же, которые находятся под их властью, ничто не вредит, кроме их собственной порочности. Ибо, какое бы зло праведники ни претерпевали от несправедливых властителей, зло это представляет собою не наказание за преступление, а испытание добродетели. Поэтому человекдобродетельный, даже если он и находился в рабстве, свободен; напротив, злой, даже если он и царствовал, раб, и раб не одного человека, а что гораздо хуже — стольких господ, скольким порокам он подвержен. Св. Писание говорит, рассуждая об этих пороках: «Кто кем побежден, тот тому и раб» (II Пет. II, 19).
ГЛАВА IV
Итак, при отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государства в миниатюре. И они также представляют собою общества людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы,
БлаженныйАвгустин 166
тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность. Прекрасно и верно ответил Александру Великому один пойманный пират Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал: «Такое же, какое и ты: но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником; ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором».
ГЛАВА V
Не спрашиваю, каких людей набрал себе Ромул — этим людям принесло великую пользу то, что, получив права гражданства после своей разбойничьей жизни, они перестали думать о тех наказаниях, страх перед которыми понукал их на еще большие злодейства; так что они сделались более мирными в отношении к условиям человеческой жизни. Остановлюсь на том, что саму Римскую империю, ставшую великой благодаря покорению многих народов и сделавшуюся грозной для остальных, заставило испытать горькое чувство, сильный страх и много потрудиться, чтобы избежать жестокого поражения Это было тогда, когда несколько убежавших с игр в кампании гладиаторов набрали многочисленное войско, поставили трех вождей и начали опустошать Италию со свирепой жестокостью. Пусть скажут, какой бог помог им из состояния маленькой и презренной разбойничьей шайки перейти в разряд как бы государства, которого пришлось страшиться римлянам со столькими их армиями и крепостями? Уж не скажут ли, что они не пользовались помощью свыше, потому что существовали недолго? Но разве жизнь каждого отдельного человека продолжительна? В таком случае
О граде Божием 167
боги никому не помогают в достижении могущества, потому что каждый человек живет весьма недолго, и не следует считать благодеянием того, что в каждом отдельном человеке, а отсюда — и во всех людях, за короткое время исчезает подобно пару
Какая, в самом деле, польза людям, почитавшим богов при Ромуле и давно умершим, в том, что после их смерти Римское государство достигло великого могущества, когда сами они давно рассчитываются в преисподней за свои личные дела (хорошие ли, или плохие, это к настоящему предмету не относится)? А так следует думать и относительно всех тех, которые в течение своего короткого существования скользнули быстро исчезающею тенью по Римскому государству (хотя само оно не переставало существовать в преемственной смене умирающих живыми), унося с собою бремя своих деяний. Если же благодеяния и этих кратковременных существований должны быть приписаны помощи богов, то немалую помощь оказали они и тем гладиаторам, которые свергли с себя оковы рабства, бежали, собрали многочисленное и весьма сильное войско и, повинуясь советам и приказаниям своих вождей, сделались весьма страшными для римского величия, а для стольких римских полководцев — непобедимыми, многое захватив в свои руки; одержав же множество побед, предавались удовольствиям, каких желали; делали, что внушала похоть, и жили, подобно царям, пока, наконец, с величайшим трудом не были побеждены. Но перейдем к примерам более значительным
ГЛАВА VI
Юстин, который, следуя Трогу Помпею, не только, подобно ему, написал на латинском языке греческую или, лучше сказать, всемирную историю, но сделал из нее и определенные
БлаженныйАвгустин 168
сокращения, начинает свое творение так: «От начала мира власть над областями и народами имели цари, которым право на это верховное достоинство давала не тщеславность народов, а испытанная в глазах добродетельных людей умеренность. Народы не имели никаких законов: законом для них служила воля государей. В обычае было скорее защищать границы государства, нежели расширять их; границы эти находились внутри родной для каждого отчизны. Нин, царь ассирийский, первым из всех нарушил, вследствие жадности к власти, этот старинный и как бы прародительский для народов обычай. Он первый начал воевать с соседями и до самых пределов Ливии покорил неискусные еще в защите народы». И несколько дальше: «Обширность приобретенного господствования Нин упрочил непрерывностью обладания. Итак, покорив соседние народы, он с увеличенными силами и мужеством переходил к другим, и так как каждая новая победа была средством для последующей, покорил народы всего Востока».
Какова бы ни была степень правдивости, с которой писали Юстин или Трог (некоторые, более заслуживающие доверия источники, показывают, что они кое–что приврали), известно, однако, на основании книг других писателей, что царство Ассирии было весьма расширено царем Нином. Оно существовало так долго, что Римское государство пока не может еще сравняться с ним своими годами. Ибо, как показывают писатели исторической хронологии, царство это существовало 1240 лет, считая с первого года царствования Нина и до тех пор, пока оно не перешло к мидийцам. Но нападать на соседей и, покорив их, двигаться дальше, сокрушать и покорять безобидные народы единственно из побуждений властолюбия — как назвать это, как не величайшим разбоем?
О граде Божием 169
ГЛАВА VII
Если это государство сделалось столь великим и властвовало столь продолжительно безо всякой помощи богов, то почему же римским богам приписывается заслуга в деле расширения и долговременности существования Римской империи? Ибо какой бы ни была причина (могущества) там, та же самая она и здесь. А если скажут, что (могущество) и того государства должно быть приписано помощи богов, то спрашиваю: чьих? Ибо и те другие народы, которых покорил и подчинил Нин, почитали отнюдь не других богов. А если ассирийцы имели богов особых, которые были некоторым образом искуснее в созидании и сохранении государства, то разве эти боги умерли, когда ассирийцы потеряли свою власть, или, не получив ожидаемой награды или получив обещание награды большей, предпочли перейти к мидийцам, а от них — к персам, куда переманил их Кир более выгодным предложением? Последний народ, пережив обширную, но кратковременную монархию Александра Македонского, продолжает царствовать и до сих пор, занимая немалые пространства на Востоке.
Если это так, то боги или вероломны, если оставляют своих и переходят к врагам (чего не сделал даже человек Камилл, когда, будучи победителем и завоевателем неприятельского города, встретил со стороны Рима, для которого одержал победу, неблагодарность, и тем не менее, забыв эту несправедливость и заботясь об отечестве, освободил его впоследствии от галлов), или не настолько сильны, как подобает быть сильными богам, и потому могут быть побеждены политикой или силой людей. Но, может быть, боги ведут войны между собою и побеждаются не людьми, а другими богами, которых то или другое государство считает своими: следовательно, они враждуют между собою. В таком случае государство
БлаженныйАвгустин 170
не должно почитать своих богов более, чем чужих, если те являются союзниками их богов.
Наконец, чем бы мы это не сочли: изменой ли богов, или их бегством, или переселением, или поражением в сражении, во всяком случае в те времена и в тех странах имя Христа еще не было проповедано, когда упомянутые царства в результате страшных военных разгромов были разрушены или перешли во власть других. Между тем, если бы в то время, когда у ассирийцев через тысячу двести с лишним лет отнято было царство, христианская религия уже проповедовала там об ином, вечном царстве, и воспрещала святотатственное почитание ложных богов, — разве не сказали бы суетные люди того народа, что их столь долго существовавшее государство погибло именно потому, что их религии были оставлены и принята религия христианская? Пусть в этом предположительном голосе суеты римляне слышат выражение собственного мнения и пусть стыдятся подобных жалоб, если есть еще в них сколько–нибудь стыда. Впрочем, Римское государство скорее расстроено, чем разрушено; подобное случалось с ним и в прежние времена, до христианства, и оно от такого расстройства оправлялось. Не следует отчаиваться в этом и теперь. Ибо кто знает относительно этого волю Божию?
ГЛАВА VIII
Посмотрим, далее, если угодно, какой или какие из этой толпы богов, которых римляне почитали, более всего, по их мнению, расширяли и сохраняли их империю? Ведь не посмеют же приписывать они какого–либо участия в этом столь прекрасном и величественнейшем деле богине Клоацине, или Волюпии, названной так от чувственного удовольствия (уоШрсаз), или Либентине, имя которой происходит от слова похоть (НЬкю), или Ватикану, который заведует воплями
О граде Божием 171
(уа§1Ш5) младенцев, или Кунине, охраняющей их колыбели (сипа). Но возможно ли в одном месте этой книги припомнить все имена богов или богинь, которые они едва смогли вместить в целые огромные тома, приурочивая к каждой отдельной вещи специальное божество? Даже охранение сел они не сочли возможным вверить какому–либо одному богу, но над деревьями (гига) поставили богиню Рузину, над вершинами гор — бога Югатина; над холмами (соШз) — богиню Коллатину, над долинами (уаИит) — Валлонию. Не выдумали они даже такой Сегетии, которой одной смогли бы вверить свои жатвы но посеянные семена, пока они находятся в земле, подлежат, по их мнению, ведению богини Сейи, а когда выходят из–под земли и образуют жниво — богине Сегетии; наконец, когда хлеб обмолочен и убран, безопасная сохранность (шшт) его поручалась богине Тугилине.
Кто бы мог подумать, что, пока семена выходят из земли травкой и дают спелые колосья, недостаточно одной Сегетии? И, однако же, для людей, которые любят множество богов, чтобы бедная душа, презрев чистое общение с единым истинным Богом, была отдана на поругание толпе демонов, одной Сегетии было недостаточно. К зеленым всходам семян они приставили Прозерпину; к коленцам и узлам (пос!и5) стеблей — бога Нодута; к покровам (туо1итеп1а) колосьев — богиню Волютину; когда же покровы раскрываются (ранезсо), чтобы дать выход колосьям, их поручали богине Пателяне; когда нивы покрываются новыми колосьями — богине Гостилине, так как, покрываясь новыми, этим они возмещают (побеге) старые; зацветшие (Яогепз) жатвы вверяли богине Флоре; наливающиеся (1асге5Со) — богу Ляктурну; поспевающие (ташгезсо) — богине Матуге; сжинаемые (гипсо) — богине Рунцине.
Не упоминаю всего, поскольку то, чего не стыдятся они, на меня нагоняет скуку. Это же весьма немногое сказано мною с целью показать, что они никоим
БлаженныйАвгустин 172
образом не могут говорить, будто Римскую империю основали, расширили и сохраняли те божества, из которых каждый имел определенную обязанность, так что никому из них не поручалось общее дело. Действительно, как было Сегетии думать о государстве, когда ей не позволено было смотреть вместе с жатвами и за деревьями? Как было думать Кунине о сражениях, когда ей нельзя было отходить от порученных ей колыбелей младенцев? Каким бы образом Нодут стал помогать в войне, когда он имел отношение только к коленцам ствола, и никакого — к покровам колосьев? Каждый к своему дому приставляет только одного привратника, и так как он человек, его вполне достаточно; но они поставили трех богов: Форкула к дверям (гогез), Кардею к петлям (сагсю), Лиментина к порогу (Шпепплт). Таким образом, Форкул не мог в одно и то же время охранять ни петель, ни порога.
ГЛАВА IX
Итак, оставив совсем или отложив на время эту толпу мелких богов, мы должны рассмотреть деятельность богов главнейших, благодаря которой Рим сделался столь могущественным, что долгое время повелевал многими народами. Без всякого сомнения, это — дело Юпитера. Его считают они царем всех богов и богинь; именно это означает его скипетр и Капитолий на высоком холме. Об этом боге, говорят, сказано вполне удачно, хотя и поэтом:
Все полно Юпитером.
Варрон думает, что его почитают и те, которые поклоняются единому Богу, не представляя его в телесном образе, но только называют иным именем.
О граде Божием 173
Если это так, то почему же в Риме (а также и у других народов) чтили его так плохо, что устроили ему идола? Это и самому Варрону так не нравилось, что, хотя он и заражен был нечестивым обычаем Рима, однако, нисколько не колеблясь, говорил и писал, что те, которые повелели народам ставить идолов, уменьшили страх (к богам) и увеличили заблуждения.
ГЛАВАХ
Но зачем к нему присоединяется в качестве жены Юнона, которая называется и сестрою его, и супругой*? Затем, отвечают, что Юпитера мы ощущаем в эфире, а Юнону — в воздухе; эти две стихии соединены вместе, хотя из них одна выше, а другая ниже. В таком случае не о нем сказано:
Все полно Юпитером,
если некоторую часть (мира) наполняет и Юнона. Или они оба наполняют эти стихии, и супруги эти находятся в обеих стихиях, в каждой из них вместе? Зачем же, в таком случае, эфир отводится Юпитеру, а воздух Юноне? Наконец, достаточно было бы этих двух: зачем же тогда море отдается Нептуну, а земля Плутону? В свою очередь, не остаются без супруги и эти последние Нептуну придается Саляция, а Плутону — Прозерпина. Это, говорят, потому, что как низшей частью неба, т. е. воздухом, заведует Юнона, так низшей частью моря — Саляция, низшей же частью земли — Прозерпина. Они стараются исправить мифы, но не находят способа. Ведь если бы это было так, то предки их указали бы на три стихии, а не на четыре, чтобы каждой стихии придать по особой паре богов. В настоящее время окончательно решено, что одно дело — эфир, и совсем другое —
Блаженный Августин 174
воздух Но вода, верхняя ли, или нижняя, все равно вода: пусть она и разная, но настолько ли, чтобы не быть водой? И нижняя земля, чем может быть иным, как не землей же, как бы ни отличалась она (от верхней)?
Но пусть из этих трех или четырех стихий состоит весь телесный мир: где же тогда поместить нам Минерву? чем будет заведовать она? что собою наполнять? Ведь вместе с ними помещается в Капитолии и она, хотя не дочь ни того, ни другой. Или, быть может, скажут, что Минерва заведует верхней частью эфира и что именно поэтому поэты придумали, будто она рождена из головы Юпитера: в таком случае почему же не почитать ее царицей богов, так как она выше и Юпитера? Уж не потому ли, что дочь неприлично предпочитать отцу? Тогда почему не соблюдена эта справедливость по отношению к отцу Юпитера — Сатурну? Потому ли, что последний был побежден? Выходит, они сражались? Нет, говорят, это все мифы. Значит, мифам не следует верить и о богах нужно мыслить лучше. Тогда почему не отведено отцу Юпитера если не высшее, то, по крайней мере, равное место? Потому, говорят, что Сатурн означает собою протяженность времени. Итак, те, которые почитают Сатурна, почитают время; выходит, что царь богов, Юпитер, рожден во времени. Да и почему неприлично сказать, что Юпитер и Юнона рождены во времени, если он — небо, а она — земля, когда небо и земля, несомненно, созданы?
Так говорят в своих книгах их ученые и мудрецы; и Вергилий основывается не на поэтических вымыслах, а на философских книгах, когда говорит:
В то время Эфир всемогущий животворящим дождем На лоно супруги веселой пролился»,
т. е. на лоно теллуры, или земли. Но и в этом случае, на их взгляд, есть некоторое различие: и в самой земле,
О граде Божием 175
по их мнению, одно дело — Земля, иное — Теллура, иное же — Теллумон. И всех их они считают богами, имеющими каждый свое имя, наделяют особыми обязанностями, почитают отдельными алтарями и культами. Ту же самую Землю называют и матерью богов; так что поэты в своих вымыслах являются даже более умеренными, чем они, коль скоро по их не поэтическим, а священным книгам Юнона оказывается не только сестрой и супругой, но и матерью Юпитера. Ту же самую землю считают они еще Церерой, а также и Вестой; хотя чаще утверждают, что Веста — это огонь, содержащийся в очагах, без которых не может существовать государство; а девы потому, собственно, и прислуживают обыкновенно огню, что как от девы, так и от огня не рождается ничего. Уничтожить и искоренить все это пустое суеверие должен был Тот, Кто родился именно от Девы. Кто, в самом деле, примирится с тем, что, приписывая столько чести и как бы чистоты огню, они не краснея называют иногда Весту и Венерой, так что почтенная девственность ее служительниц оказывается никчемной вещью?
Действительно, если Веста — Венера, то на каком основании должны были служить ей девы, сохраняющие свое целомудрие? Или есть две Венеры, одна — дева, другая — женщина? Или даже три: одна — для девственниц (она же и Веста), другая — для замужних женщин, третья — для развратниц? Этой последней финикийцы приносили в дар даже девственность своих дочерей, прежде чем они выходили замуж Которая же из них жена Вулкана? Конечно, не девственница, поскольку имела мужа. А чтобы не причинить обиды сыну Юноны и соратнику Минервы, пусть будет она и не развратница. Итак, значит — замужняя; но нам не хотелось бы, чтобы ей подражали в том, что проделывала она с Марсом. Опять, скажут, ты возвращаешься к мифам. Но разве справедливо сердиться на нас за то, что мы говорим об их богах подобные вещи, а на себя самих за то, что в театрах они
БлаженныйАвгустин 176
смотрят на эти преступления своих богов с величайшим удовольствием, не сердиться? А между тем, все эти сценические представления преступлений богов их устроены в честь тех же самых богов: что было бы невероятным, если бы не подтверждалось неопровержимейшим образом.
ГЛАВА XI
Поэтому пусть они сколько угодно доказывают на основании естественных законов и своих собственных соображений, что Юпитер представляет собою лишь душу настоящего телесного мира, которая наполняет собой и движет эту мировую массу, составленную и сплоченную из четырех или скольких им угодно стихий; что он то уступает из нее некоторые части сестре и братьям, то представляет собой эфир, сверху объемлющий воздух, разлитый под ним, т. е. Юнону, то вместе с воздухом сам представляет собой целое небо, а землю оплодотворяет как супругу и мать (это в божественных отношениях не считается гнусным) животворящими дождями и семенами, то, наконец (нам нет нужды распространяться обо всем этом), является богом единым, о котором, по мнению многих, сказано знаменитым поэтом:
Шествует бог по пространствам земли и глубинам
морским, По необъятному небу.
Пусть в эфире он — Юпитер; в воздухе — Юнона; в море — Нептун; в глубинах морских — Саляция; в земле — Плутон; в глубинах земли — Прозерпина; в домашних очагах — Веста; в печи кузнецов — Вулкан; в светилах небесных — солнце, луна и звезды; в прорицателях — Аполлон;
О граде Божием 177
в торговле — Меркурий; в Янусе — начинатель; в Термине — довершитель; Сатурн — во времени; Марс и Беллона — в войне; Либер — в виноградниках; Церера — в хлебных посевах; Диана — в лесах; Минерва — в науках и искусствах.
Пусть он же будет и в этой толпе своего рода богов–плебеев: под именем Либера пусть заведует мужским семенем, а под именем Либеры — семенем женским; пусть будет Диеспитером, который плод выводит на свет (сИез); пусть о,н же будет Меною, заведующею месячными очищениями женщин; пусть он же — Люциана, которую призывают мучающиеся родами; пусть он же подает помощь (орз) рождающимся, принимая их на лоно земли, и называется Опою; пусть он же открывает для крика уста их и называется богом Ватиканом; пусть сам же поднимает (1еуо) их с земли и называется богиней Леваной; пусть сам же охраняет колыбели и называется богиней Куной; пусть он же, а не кто другой, под видом тех богинь, которые предсказывают судьбы рождающихся, называется Карментами; пусть заведует жребиями и называется Фортуной; пусть под видом богини Румины влагает младенцу сосцы, так как сосцы у предков назывались гита, под видом богини Потины дает им питье (роио), в лице богини Эдуки питает их; пусть называется Павентией от перепуга (рауог) младенцев; Венилией от приходящей (уепю) надежды; от удовольствия — Волюпией; от действия —Агенорой; от возбуждений (зити1а), которые располагают человека к чрезвычайным действиям, богиней Стимулой; богиней Стренией оттого, что делает человека проворным (5Гегши5);Нумерией,учащей считать; Каменей, учащей петь; пусть он же будет и богом Консусом, и подает советы; и богиней Ювентой, которая после отрочества охраняет первые начатки юношеского возраста; пусть он же будет и Фортуной Барбатой, которая покрывает бородой взрослых (им не захотели оказать той чести, чтобы, какое бы божество там ни было, назвать его, по крайней мере, мужским именем, хоть бы от бороды, например, Барбатом,
БлаженныйАвгустин 178
как Нодут — от коленец: или же не Фортуной, а Фортунатом, потому что носит бороду); пусть он же в боге Югатине соединяет супругов; пусть призывается, когда развязывают пояс новобрачной, и называется богиней Виргиниен–сией; пусть он же будет Мутуном или Тугуном, который — то же, что у греков Приап.
Пусть, если им не стыдно, всех этих богов, о которых я сказал, а также и тех, о которых не сказал (не думаю, чтобы нужно было говорить @бо всех), — пусть всех их, и богов, и богинь, представляет собой один Юпитер: пусть все они суть или его части, как думают некоторые, или же его силы, как думают те, которым угодно называть его душой мира, — мнение, разделяемое многими великими учеными. Если это так (не вхожу пока в исследование, каково это мнение), то что потеряли бы они, если бы почитали с благоразумным устранением излишеств единого Бога? В самом деле, что было бы обойдено в нем, если бы именно его и почитали? Если приходилось бояться, чтобы не разгневались обойденные и забытые его части, то вся эта жизнь не имела вида жизни одного, как они думают, живого существа, в котором бы все боги находились или как его силы, или как члены, или как части. Каждая часть имела бы свою, отдельную от прочих частей жизнь, коль скоро одна могла гневаться независимо от другой, одна могла умилостивляться, другая — раздражаться. Сказать же, что все части вместе, т. е. весь Юпитер целиком мог оскорбиться, если не почитались его части поодиночке и в отдельности каждая, значило бы сказать глупость. Ни одна из этих частей не была обойдена, если бы чтили его одного, заключающего в себе все.
Ведь и теперь, когда они говорят, например (опускаю многое другое), что светила — суть части Юпитера, что все они живут, имеют разумные души и потому, несомненно, суть боги; разве они не видят, как многих из них не почитают, как многим не строят храмов, не воздвигают алтарей, хотя незначительному их числу воздвигать алтари и приносить особые жертвы и сочли необходимым?
О граде Божием 179
Итак, если светила, которых не почитают особо, за это гневаются, то почему же они, умилостивляя немногих, не боятся жить под целым разгневанным небом? Если же звезды чтутся все, потому что они — в Юпитере, которому воздается поклонение, то таким же сокращенным порядком можно было бы поклоняться и всем в нем одном. В таком случае не разгневалась бы ни одна из них, так как не была бы обойдена в нем ни одна, — не разгневалась бы гораздо вернее, чем теперь, когда, при почитании только некоторых из них, дается справедливый повод гневаться тем, и притом многочисленнейшим, которые обойдены почитанием; и это тем более, что им, блистающим с высоты небес, предпочитается стоящий в гнусной наготе Приап.
ГЛАВА XII
Что же? Неужели это не должно смущать людей, наделенных проницательным умом; более того, каких бы то ни было людей вообще? Ибо не требуется большого ума, чтобы, став на беспристрастную точку зрения, понять, что если Бог есть душа мира, а мир представляет собой тело этой души, так что получается одно живое существо, состоящее из тела и души; и что если этот Бог, как бы в некоем своем естественном лоне, содержит в себе все, так что из Его души, оживляющей всю эту громаду, проистекают и жизнь, и душа всего живущего по роду каждого рождающегося, то не остается решительно ничего, что не было бы частью Бога. А если это так, то кому не видно, какие нечестивые и кощунственные следствия вытекают отсюда? Всякий, например, попирая что–либо ногами, попирает часть Бога, при каждом убийстве животного убивает часть Бога. Не хочу говорить всего, что может приходить на ум, но не может быть высказано в силу естественной стыдливости.
БлаженныйАвгустин 180
ГЛАВА XIII
Если же говорят, что только разумные животные, например люди, суть части Бога, то я не понимаю, каким образом отделяют они от Его частей животных неразумных, коль скоро Бог — весь мир? Впрочем, зачем препираться нам из–за этого? В рассуждении самого разумного животного, т. е. человека, что может быть несчастнее мысли, что, когда наказывается ребенок, наказывается Бог? Кто, кроме совершенно безумного, может также допустить, что части Бога бывают похотливыми, несправедливыми, нечестивыми и заслуживающими всякого осуждения? Наконец, из–за чего гневается Бог на тех, которые не чтут Его, когда не чтут Его Его же части? Остается им, таким образом, сказать, что все боги имеют свою собственную жизнь, что каждый из них живет сам по себе и что ни один из них не составляет части другого; но что почитать следует тех из них, которых можно знать и почитать; потому что их так много, что знать и почитать всех нет никакой возможности. А так как над всеми богами начальствует в качестве царя Юпитер, то думаю, что, по их мнению, именно он основал и увеличил Римское царство. Ибо если это сделано не им, то кто другой из богов мог, на их взгляд, выполнить столь великое дело, когда каждый из этих богов занят своими обязанностями и делами и не вмешивается в обязанности и дела других? Итак, царство людей мог распространить и увеличить только царь богов.
ГЛАВА XIV
Но, спрашивается, почему и само государство не есть какой–нибудь бог? Почему бы это было не так, если есть богиня Победа? Или зачем нужен в этом случае Юпитер, если Победа бывает благосклонна, милостива и всегда является на помощь к тем, которых она хочет
О граде Божием 181
сделать победителями? При благосклонности и благоволении этой богини, пускай Юпитер даже бездействует или делает что–либо другое, — какие народы не будут побеждены, какие устоят царства? Или, может быть, добрым людям не нравится воевать по причинам несправедливым и пустым и ради расширения государства безосновательно вызывать на войну соседей, живущих спокойно и совершенно безобидно? Если они мыслят именно так, я их вполне одобряю и хвалю.
ГЛАВА XV
Пусть, в самом деле, подумают, действительно ли следует людям добрым радоваться расширению государства. Несомненно, что возрастанию государства способствовала несправедливость тех, с которыми велись справедливые войны. Государство неизбежно оставалось бы малым, если бы спокойствие и справедливость соседей не вызывали никакой обидой войны против них; и при более счастливых условиях человеческой жизни все государства оставались бы малыми, наслаждаясь дружелюбием соседей, так что в мире было бы так же достаточно много государств разных народов, как в городе достаточно много домов разных граждан. Поэтому вести войны и путем покорения народов расширять государство представляется делом хорошим для людей дурных, но для добрых — это только дело необходимости. Может это быть названо и делом хорошим, но только потому, что было бы хуже, если бы люди более несправедливые господствовали над более справедливыми. Но не подлежит сомнению, что иметь доброго и мирного соседа — большее счастье, нежели подчинять соседа плохого и воинственного. Желание ненавидеть или бояться кого–нибудь, чтобы было кого побеждать, — желание дурное.
БлаженныйАвгустин 182
Но как бы там ни было, если римляне смогли создать столь великое государство, ведя справедливые войны по причинам законным и серьезным, то не следовало ли им почитать и чужую несправедливость в качестве какой–нибудь богини? Ведь мы видим, что эта несправедливость немало содействовала расширению их империи, вызывая на противозаконные действия людей, чтобы было с кем вести войны и благодаря этому увеличивать государство. Почему же и несправедливость, по крайней мере — несправедливость иноземных народов, не может быть богиней, если Испуг, Страх и Лихорадка удостоились быть римскими богами? Таким образом, Римское государство увеличилось благодаря этим двум, т. е. чужой несправедливости и богине Победе, при полном бездействии Юпитера: несправедливость давала причины к войне, а Победа приводила эти войны к счастливому концу. Да и какое участие мог иметь в этом случае Юпитер, когда то, что можно было бы назвать его благодеянием, само считалось, называлось и почиталось богом и призывалось само по себе? Он принимал бы в этом участие в том только случае, если бы назвался Государством, подобно тому, как та называлась Победой. Или если государство представляет собою дар Юпитера, то почему не считалась его же даром и победа? Так, конечно, и было бы, если бы в Капитолии находился и был предметом почитания не камень, а истинный Царь царствующих и Господь господствующих (Апок. XIX, 1б).
ГЛАВА XVI
Я только крайне удивляюсь, почему, назначив отдельных богов для каждой вещи и для каждого почти явления, призывая богиню Агенору, чтобы она вызывала деятельность, Стимулу, чтобы возбуждала к деятельности даже чрезмерной, Мурцию, чтобы она
О граде Божием 183
сверх меры не возбуждала, но делала человека, по выражению Помпония, ггшгсШит, т. е. совершенно ленивым и бездеятельным, Стреную, чтобы делала проворным, — почему, отправляя всем этим богам и богиням публичные культы, они Квиете, которой молились, чтобы она делала человека спокойным, не захотели совершать культ публично, построив ей храм за коллинскими воротами? Не было ли это признаком беспокойного духа? Или, лучше, не то ли оно именно и означало, что усердно чтивший эту толпу не богов, а демонов, не мог иметь того покоя, к которому призывает истинный Врач, говоря: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. XI, 29)?
ГЛАВА XVII
Может быть, нам скажут, что богиню Победу посылает Юпитер, и она, повинуясь ему, как царю, идет к тем, к кому он велит, и принимает их сторону? Это верно, но не относительно Юпитера, которого они рисуют в своем воображении царем богов, а относительно того истинного Царя веков, Который посылает не Победу, не имеющую никакой субстанции, а ангела Своего, и делает победителем того, кого хочет; советы Которого могут быть сокровенными, но несправедливыми быть не могут. Ведь если победа — богиня, то почему не бог триумф, и почему он не соединен с победой или как муж, или как брат, или как сын? Поистине, о своих богах они измыслили такие вещи, которые, если бы они были выдуманы поэтами, а нами подвергнуты рассмотрению, они сами назвали бы выдумками, достойными смеха, но не применимыми к истинным божествам; но так как подобные бредни они вычитали не у поэтов, а почитали в храмах, то и не смеялись над собой. Итак, они должны были обращаться с просьбами обо всем к Юпитеру и молиться ему одному. Ибо, куда бы ни посылал он Победу,
БлаженныйАвгустин 184
она не должна была сопротивляться ему и исполнять свою волю, если она — богиня, подвластная ему, как царю.
ГЛАВА XVIII
А на каком основании является богиней Счастье? Ей построен храм, посвящен жертвенник и отправляется подобающий культ. Пусть бы, по крайней мере, чтилось что–то одно. Ибо какого блага может не быть там, где есть счастье? Зачем же тогда почитают и признают богиней еще и Фортуну? Разве Счастье — одно, а Фортуна — другое? Потому (говорят), что фортуна может быть и злой: счастье же не было бы и счастьем, если бы оно было злым. Но на самом деле мы всех богов того и другого пола (если они имеют пол) должны считать добрыми. Так говорил Платон*, так говорят другие философы и наилучшие правители государств и народов. Каким же образом богиня Фортуна является иногда доброй, а иногда злой? Или, может быть, когда она бывает злой, перестает быть богиней и превращается вдруг в злого демона? И потом, сколько есть таких богинь? Вероятно, столько же, сколько людей, одаренных фортуною, т. е. пользующихся доброй Фортуной. Но так как вместе, т. е. в одно и то же время, с ними есть очень много и таких, которые имеют злую фортуну, то неужели Фортуна, если это она же, бывает одновременно и доброй, и злой, — для одних одной, для других — другой? Или та, которая считается богиней, всегда добра? В таком случае она — то же, что и Счастье; к чему же тогда два названия?
Впрочем, с этим еще можно примириться: сплошь и рядом одна и та же вещь называется двумя именами. Но зачем — различные храмы, различные алтари, различные культы? Есть, говорят,
О граде Божием 185
и для этого причина: Счастьем пользуются люди добродетельные за предварительные заслуги, а Фортуна, именуемая доброй, выпадает на долю людей добродетельных и порочных безо всяких на то заслуг, случайно (Гопшш), почему и называется Фортуною. Но каким образом она добра, если приходит без всякого разбора и к добродетельным, и к порочным? Да и за что чтут ее, если она так слепа, что обрушивается на кого попало, минуя весьма часто своих почитателей и привязываясь к тем, кто ее презирает? А если ее поклонники отчасти и добиваются того, что она обращает на них внимание и любит их, то она получается уже за заслуги, приходит не случайно. Как же в таком случае оправдывается вышеприведенное определение фортуны? Каким образом получила она свое имя от случая? Ведь если она действительно фортуна, то нет никакой пользы от ее почитания. Если же она предпочитает выбирать своих поклонников, чтобы оказывать им содействие, то она уже не фортуна. Или и Фортуну посылает Юпитер к кому ему угодно? В таком случае пусть чтут его одного: так как и Фортуна не может его ослушаться, когда он приказывает ей и посылает ее туда, куда хочет. Или, по крайней мере, пусть почитают ее одни порочные люди, которые не хотят иметь заслуг, которыми бы могли привлечь к себе богиню Счастье.
ГЛАВА XIX
Этому мнимому божеству, которое называется Фортуной, они приписывают так много, что занесли в свою историю, будто статуя Фортуны, посвященная ей матронами (и названная женской Фортуной*), даже разговаривала»: она будто бы сказала, и не раз, а дважды, что матроны почтили
БлаженныйАвгустин 186
ее как должно. Если бы это и было так, удивляться не следует. Обольщать подобным образом злым демонам не составляет большого труда: свои уловки и лукавство они должны были бы применить в настоящем случае прежде всего потому, что говорила именно та богиня, которая благодетельствует случайно, а не приходит по заслугам. В самом деле, говорящей оказалась Фортуна, а Счастье — немым: к чему это, как не к тому, чтобы люди не старались жить добродетельно, положившись на Фортуну, которая сделала бы их счастливыми помимо всяких с их стороны заслуг? И если Фортуна действительно говорила, то пусть бы говорила, по крайней мере, не женская, а мужская Фортуна, чтобы не возникло подозрение, что такое чудо выдумали из женской болтливости сами (матроны), посвятившие ей статую.
ГЛАВА XX
Сделали богиней и Добродетель, которая, если бы была действительно богиней, должна была предпочитаться многим. А так как она — не богиня, а дар Божий, то и сама должна испрашиваться у Того, Кто один может даровать ее; вся же толпа ложных богов должна исчезнуть. Но к чему сделана богиней и Вера, и получила даже храм и алтарь? Ее храмом бывает всякий, кто только благоразумно ей внимает. Но откуда им знать, что такое вера, первое и главнейшее дело которой — веровать в истинного Бога? Итак, почему не удовольствовались добродетелью? Не в ней ли и вера? По их мнению, добродетель должна быть разделена на четыре вида: благоразумие, справедливость, мужество и умеренность. Каждый из этих видов имеет, в свою очередь, свои подвиды; так, в справедливости заключается, как подвид, и вера. У нас же вера занимает главнейшее место и каждый из нас знает, что значат слова: «Праведный своею верою жив будет» (Аввак. II, 4).
О граде Божием 187
Но если вера — богиня, я удивляюсь этим любителям толпы богов, почему своим пренебрежением они нанесли обиду другим столь многим богиням, которым так же, как и вере, они могли посвятить храмы и алтари? Почему не удостоилась быть богиней умеренность, коль скоро благодаря ей некоторые римские государи снискали немалую славу? Почему, далее, не богиня — мужество, которое проявилось в Муцие, когда он держал свою правую руку в огне; в Курцие, когда он за свое отечество ринулся в пропасть; в Децие — отце и Децие — сыне, когда они обрекли себя на смерть за войско (если только во всех них было истинное мужество, о чем я пока не говорю)? Почему благоразумие и мудрость не удостоены между богами никакого места? Не потому ли, что все они чтутся под общим именем добродетели? Но таким же образом можно было бы почитать и одного Бога, частями Которого признаются все прочие боги. Но в добродетели заключается и вера, и стыдливость, которые, однако, удостоены внешних алтарей в особых храмах.
ГЛАВА XXI
Всех этих богинь создала не истина, а суетность. Все они суть дары истинного Бога, а не самостоятельно существующие богини. Притом чего еще недостает там, где находятся добродетель и счастье? Чем может быть доволен тот, кого не удовлетворяют добродетель и счастье? Добродетель обнимает собою все, что нужно делать; благополучие — все, чего следует желать. Если Юпитера они почитали для того, чтобы он ниспосылал добродетель и счастье; и к счастью же относится обширность и долговременное существование государства, если это суть нас нечто доброе, то почему не поняли они, что добродетель и счастье суть дары
БлаженныйАвгустин 188
Божий, а не отдельные богини? А если уж они признали их богинями, то пусть бы не выдумывали, по крайней мере, остальной толпы богов и богинь. В самом деле, обозрев все те обязанности, которые им угодно было измыслить для своих богов и богинь сообразно с собственной фантазией, пусть укажут они что–нибудь такое, что от какого–нибудь бога можно было бы еще получить человеку, имеющему добродетель и пользующемуся счастьем? Каких наставлений просить у Меркурия или у Минервы, когда добродетель заключает в себе все? Ибо, по определению древних, добродетель есть искусство жить хорошо и справедливо. Поэтому от греческого слова аретп, что значит добродетель, латиняне, как полагают, заимствовали термины агз и ап15, искусство.
Но если добродетель может приходить только к человеку остроумному, в таком случае какая была нужда в боге Катие — отце, который делает людей саЮз, т. е. острыми разумом, когда это могло бы давать Счастье? Ведь родиться остроумным — счастье. Правда, человек, еще не рожденный, не мог почитать богиню Счастье, чтобы, умилостивленная им, она даровала ему остроумие; но она могла содействовать его родителям, своим поклонникам, чтобы сыновья их рождались остроумными. Какая была нужда роженицам призывать Люцину, когда при наличии Счастья они могли рожать не только благополучно, но и хороших младенцев? Зачем нужно было поручать рождающихся богине Опе, кричащих — богу Ватикану, лежащих в колыбели — богине Кунине, грудных — богине Румине, стоящих — богу Статилину, приходящих — богине Адеоне, уходящих — Абеоне; богине Менте, чтобы они имели добрый ум; богу Волюмну и богине Волюмне, чтобы желали доброго; брачным богам, чтобы счастливы были в супружестве; полевым богам, в особенности же самой Фруктезее, чтобы собирали
О граде Божием 189
обильнейшие плоды; Марсу и Беллоне, чтобы счастливо воевали; богине Виктории, чтобы оставались победителями; богу Гонору, чтобы были в чести; богине Пекунии, чтобы были при деньгах; богу Эскулану и его сыну Аргентину, чтобы имели медные и серебряные деньги? Эскулан потому и назван отцом Аргентина, что в обращении сперва явилась медная монета, а затем — серебряная. Удивляюсь только, что Аргентин не родил Аурина, потому что за серебряной монетой явилась золотая. Если бы имели они этого бога, они предпочли бы его и отцу Аргентину, и деду Эскулану, подобно тому, как Юпитера предпочли Сатурну.
Итак, какая была нужда ради этих, духовных ли, или телесных внешних благ почитать и призывать такую тьму богов (которых я не всех и припомню, да и сами они не могли указать особых и специальных для всех человеческих благ, подразделяя их на виды и рассматривая отдельно), когда все это легче и короче могла бы сообщить одна богиня Счастье; так что в другом каком–нибудь боге не было надобности не только для получения добра, но и для устранения зла? Зачем, в самом деле, нужно было призывать для усталых богиню Фессонию, для изгнания неприятелей богиню Пеллонию, для больных врача Аполлона или Эскулапа, или, в случае большой опасности, обоих вместе? Не было бы надобности умолять ни бога Спиниенсиса, чтобы уничтожал он тернии ($ртое) на полях, ни богиню Рубигу (ржавчину), чтобы она не подходила к полям: присутствие одной богини Счастье не дозволило бы злу появиться и довольно легко устранило бы его. Наконец (мы имеем в виду, собственно, двух богинь: Добродетель и Счастье), если благополучие представляет собою награду за добродетель, оно уже не богиня, а дар Божий; если же оно — богиня, то почему нельзя сказать, что оно сообщает и саму добродетель, поскольку иметь добродетель — великое счастье?
БлаженныйАвгустин 190
ГЛАВА XXII
На каком же основании хвалится Варрон, будто оказал своим согражданам великое благодеяние тем, что не только упомянул о богах, которых римляне должны почитать, но сказал и о том, что касается каждого из этих богов? «Как совершенно бесполезно, — говорит он, — знать имя и внешний вид какого–либо врача, но не знать, что такое врач; так же совершенно бесполезно знать, что есть бог Эскулап, если тебе неизвестно, что он помогает здоровью и если ты не знаешь, таким образом, о чем ему должно молиться». Эту мысль он подтверждает и другим сравнением, говоря, что не только жить хорошо, но и совсем никто не может жить, не зная, что такое ремесленник, хлебопек, штукатур, к кому бы он мог обратиться при какой–либо надобности, — не зная, кого избрать помощником, кого руководителем, кого учителем; и прибавляет, что так же точно полезно и знание богов, — знание о том, какой силой, способностью и властью обладает каждый бог по отношению ко всякой вещи. «Отсюда, — говорит он, — мы можем узнать, какого бога и о чем должны призывать и умолять, и не поступать подобно комедиантам: не просить у Либера воды, а у Лимф — вина». Действительно, великая польза! Кто не поблагодарил бы его, если бы он учил истине: учил людей почитать единого истинного Бога, от Которого исходят все блага?
ГЛАВА XXIII
Но если их книги и религиозные установления истинны и если Счастье действительно богиня, то почему почитается не она одна, которая может дать все; одним словом, сделать счастливым? Ибо чьи какие бы то ни было желания не сводятся к тому, чтобы быть счастливым? Почему же так поздно, после столь многих римских правителей, построил храм этой богине
О граде Божием 191
Лукулл? Почему не воздвиг ей храма прежде всего сам Ромул, желавший построить счастливый город? Ему не было нужды молиться о чем–либо прочим богам, когда при покровительстве этой богини у него было бы все. Ведь и сам он не сделался бы вначале царем, а потом, как верят они, богом, если бы не была милостивой к нему эта богиня. Зачем же установил он для римлян богов: Януса, Юпитера, Марса, Пика, Фавна, Тиберина, Геркулеса и многих других? Зачем Тит Таций прибавил к этим еще Сатурна, Опу, Солнце, Луну, Вулкана, Свет и некоторых других, и между прочим — богиню Клоацину, пренебрегши Счастьем? Почему Нума прибавил столь многих богов и богинь, но не прибавил Счастья? Разве что потому, что в такой толпе не смог ее заметить? Царь Гостилий не ввел бы, конечно, новых богов, Испуга и Ужаса, если бы знал и чтил эту богиню. Ибо в присутствии Счастья всякий испуг и ужас не удалялись бы, умилостивленные, а убегали бы, изгоняемые.
Далее, что значит, что Римское государство уже существовало долго и достигло обширных пределов, а никто еще не почитал Счастья? Или потому–то оно и было скорее обширным, чем счастливым? Ибо каким образом могло быть истинное счастье там, где не было истинного благочестия? Истинное же благочестие есть поклонение истинному Богу, а не почитание стольких же богов, сколько есть и демонов. Но и вслед за тем, когда Счастье принята была уже в число богов, наступило великое несчастье гражданских войн. Разве, может быть, Счастье справедливо разобиделась, что она была приглашена так поздно, и то не для чествования, а скорее, для поругания, — так как вместе с нею почитались и Приап, и Клоацина, и Испуг, и Ужас, и Лихорадка, и прочие: скорее преступления почитающих, чем божества, достойные почитания?
Наконец, если уж нашли нужным почитать вместе с недостойнейшей толпой такую богиню, то почему не почитали ее хотя бы преимущественно перед остальными?
БлаженныйАвгустин 192
Ибо кому не досадно, что (богиня) Счастье не поставлена ни в ряду богов–советников (сошепзез), которые приглашаются будто бы на совет к Юпитеру, ни в ряду богов, которые называются избранными (5е1есп)? Ей бы следовало устроить такой храм, который отличался бы и возвышенностью места, и превосходством зодчества. Почему бы даже не соорудить ей нечто лучшее, чем самому Юпитеру? Ведь кто, как не Счастье, дала царствовать и самому Юпитеру, если только он был счастлив во время своего царствования? Да счастье даже лучше, чем царство. Всякий согласится, что найти такого человека, который устрашился бы, пожалуй, быть царем, нетрудно; но нельзя найти такого, который не захотел бы быть счастливым. Пусть бы спросили по этому поводу, с помощью авгуров, или иным каким–либо образом, которым они считают возможным спрашивать богов, — пусть бы спросили самих же богов: не пожелали ли бы они уступить место Счастью? Думаю, что сам Юпитер уступил бы ей даже вершину капитолийского холма, если бы оказалось, что место, где можно было бы построить Счастью обширнейший и возвышеннейший храм, занято уже храмами и алтарями других богов. Ибо никто не станет противиться Счастью, за исключением разве того, кто захотел бы быть несчастным, но это случай невозможный.
Юпитер, если бы его спросили, ни в коем случае не сделал бы того, что сделали по отношению к нему три бога: Марс, Термин и Ювента, которые своему старейшине и царю решительно не захотели уступить места. Ибо когда царь Тарквиний, как гласят их письменные памятники, захотел построить Капитолий, то место это, на его взгляд более приличное и достойное (Юпитера), оказалось занятым другими богами. Не осмелившись поступить в каком–либо отношении вопреки воле этих богов и думая, что они охотно сами уступят это место столь великому божеству и своему главе, он посредством авгуров спросил богов, которых было много
О граде Божием 193
на том месте, где теперь воздвигнут Капитолий: не желают ли они уступить его Юпитеру? Все боги согласились уступить, кроме упомянутых трех: Марса, Термина и Ювенты. Поэтому–то Капитолий построен был так, что внутри его находились и эти три бога; но статуи их так были сокрыты, что об этом едва знали самые ученые люди. Да, сам Юпитер не решился бы не уважить Счастья, подобно тому, как его самого не уважили те три бога. Но и они, не уступившие Юпитеру, без всякого сомнения уступили бы Счастью, которое поставило над ними Юпитера царем. А если бы и не уступили, то сделали бы это не по неуважению, а потому, что им захотелось бы лучше жить безвестными в доме Счастья, нежели красоваться на своих местах без него.
Будь водворена богиня Счастье на обширнейшем и возвышеннейшем месте, граждане знали бы, откуда следует просить помощи в каждом своем добром желании. Итак, по внушению самой природы, оставив излишнее множество прочих богов, они чтили бы одну Счастье, ей одной молились бы; ее храм посещали бы все те граждане, которые хотели бы быть счастливыми (а не быть такими из них никто не захотел бы); следовательно, у нее одной и просили бы всего, чего просят у всех богов. Ибо кто желает получить что–либо от какого бы то ни было бога, кроме Счастья, если то, чего он желает, непременно относится к счастью? Поэтому если счастье имеет власть находиться при том или ином человеке (а оно имеет эту власть, если оно — богиня), то не крайне ли глупо умолять о нем того или иного бога, когда есть возможность просить его у него же самого? Таким образом, богиню эту они должны бы были почтить сравнительно с прочими богами и почетнейшим местом.
Сами же древние римляне, как мы это читаем у их же писателей, какого–то Суммана, которому они приписывали ночные молнии, почитали больше Юпитера, которому принадлежат молнии
БлаженныйАвгустин 194
дневные. Но после того, как построен был Юпитеру обширный и возвышенный храм, по причине важности храма толпа устремилась к нему так, что едва ли можно сейчас найти человека, который припомнил бы, по крайней мере, что почиталось имя Суммана. Если же счастье — не богиня, так как (что полностью соответствует действительности) оно — дар Божий, то следует искать того Бога, Который может даровать его, а вредное множество демонов оставить, ибо служит ему бессмысленная толпа безумцев, делая себе богов из даров Божиих, а самого Бога, дары Которого они собой представляют, оскорбляет упорством гордой воли. Ведь тот не может избежать несчастья, кто чтит счастье как богиню и оставляет Бога — Подателя счастья, подобно тому, как тот не может не испытывать голода, кто лижет нарисованный на картине хлеб, а не просит его у человека, имеющего хлеб настоящий.
ГЛАВА XXIV
Но желательно послушать их рассуждения. Вероятное ли, говорят они, дело, что наши предки были до такой степени неразумны, что не знали: все это дары Божий, а не боги? Они знали, что всего этого нельзя приписать никому, кроме как только какому–либо великодушному богу; но так как они не могли открыть имен этих богов, то называли их именами тех вещей, которые, по их мнению, даются ими, изменяя несколько эти имена в окончаниях: так, например, от слова ЬеНит (война) они заимствовали название ВеИоепа, от сипа (колыбель) — Сишпа, от §е§е5 (зерновой хлеб) — 5е§епа, от ротшп (яблоко) — Ротопа, от Ьш (бык) — ВиЬопа; или же без всякого изменения, совершенно в том виде, как называются и сами вещи. — например, именем Ресигаа называется богиня, дающая деньги (ресигаа), именем Уйгсш — богиня, сообщающая добродетель
О граде Божием 195
(у!гШ5), именем Нопог — бог, дающий почет (Ьопог), именем СопсогШа — богиня, сообщающая согласие (сопсогсНа), именем У1ссопа — богиня, дающая победу (у!сюпа). Таким же точно образом, говорят они, когда Счастье называется богиней, то подразумевается не сам тот предмет, который дается, а то божество, которое дает счастье.
ГЛАВА XXV
Выслушав эти рассуждения, мы гораздо легче, может быть, убедим в том, в чем желаем, тех из них, сердца которых не слишком еще огрубели. Ведь если и человеческая слабость осознала уже, что счастье может быть даровано только каким–либо богом; если это сознавали и те, которые почитали столь многих богов, и между прочими — царя их, Юпитера, — так как, не зная имени того, кем ниспосылается счастье, они назвали его именем той самой вещи, которая им, по их представлению, ниспосылается, то этим они уже достаточно высказали, что счастья не может ниспослать сам Юпитер, которого они уже почитали, а ниспосылает его Тот, Кого они сочли нужным почитать под именем самого Счастья. Я с полной уверенностью утверждаю, что они верили: счастье ниспосылается неким Богом, Которого они не знали. Пусть же поэтому ищут Его, пусть Его–то и почитают, и этого будет достаточно. Пусть презирают скрежетание бесчисленных демонов: только тому будет недостаточно этого Бога, кому недостаточно дара Его. Тому же, кто им доволен (ибо для человека не существует ничего, чего бы он должен был желать более), тот пусть служит единому Богу, Подателю счастья. Это — не тот бог, которого называют Юпитером. Ибо если бы признавали Юпитера вручителем счастья, то под именем счастья не искали бы, конечно, другого или другую, кем оно ниспосылается, — да и самого Юпитера не
БлаженныйАвгустин 196
почитали бы с такими обидами. Его называют они прелюбодеем, бесстыдным любовником и похитителем красивого мальчика.
ГЛАВА XXVI
«Но, — говорит Туллий, — все это выдумал Гомер; он переносил человеческие деяния на богов; я же предпочел бы обратное». Действительно, человеку серьезному не должен был нравиться поэт — выдумщик божественных преступлений. Но зачем же тогда театральные игры, в которых рассказываются, воспеваются, представляются и выводятся к чести богов эти деяния, ученейшими людьми причислялись к разряду вещей божественных? В этом случае Цицерон должен был жаловаться уже не на вымыслы поэтов, а на установления предков. Но не должны ли были воскликнуть в свою очередь и предки: «В чем же мы виноваты? Сами боги настаивали, чтобы все это отправлялось в их честь, строго повелевали нам это делать и грозили бедствиями, если не будем делать; они неукоснительным образом мстили, когда что–нибудь не исполнялось, и являлись милостивыми, когда неисполненное выполнялось».
Расскажу, со своей стороны, о следующем событии, которое предание относит к числу их добродетелей и чудес. Титу Латинию, римскому поселянину и отцу семейства, было велено во сне объявить в сенате, чтобы римские игры проведены были снова, так как в первый день этих игр была совершена на глазах у народа казнь одного преступника: богам–де, искавшим в играх веселого развлечения, были неприятны такие действия властей, вызывающие печаль. Когда же тот, которому дано было во сне приказание, наутро не посмел исполнить его, то в следующую ночь оно было повторено ему с большей строгостью; а так как он и на этот раз не исполнил, то потерял сына. В третью ночь ему было сказано, что его ожидает еще большее
О граде Божием 197
наказание, если он не сделает так, как ему приказывается. Когда же он не посмел этого сделать и после этого, то впал в мучительную и ужасную болезнь. Тогда, по совету друзей, он довел это до сведения правительства и был перенесен в сенат на носилках. Когда он передал там свой сон, то тотчас же выздоровел и удалился из сената на собственных ногах. Пораженный этим чудом, сенат постановил возобновить игры, ассигновав на них вчетверо большую сумму.
Кто, имея здравый ум, не поймет из этого, что люди, подчинявшиеся власти злых демонов, от которой освобождает только благодать Божия через Господа нашего Иисуса Христа, были принуждаемы силой проводить в честь подобных богов такие вещи, которые при иных обстоятельствах казались бы гнусными? Именно в этих играх праздновались вымышленные поэтами преступления богов, и эти самые игры возобновлены были по велению сената, принужденного к этому богами. В этих играх гнуснейшие гистрионы воспевали, представляли и услаждали растлителя целомудрия — Юпитера. Если бы это было выдуманным, он должен был бы гневаться; если же он услаждался своими, хотя бы и вымышленными, преступлениями, то, когда чтили его, разве не служили ему, как дьяволу? Неужели же это он создал, распространял и сохранял Римское государство, — он, который был отвратительнее всякого римлянина, по мнению которого эти вещи были гнусными? Неужели это он ниспосылает счастье, — он, которого чтили как злобного и который еще более гневался, если его не чтили именно таким образом?
ГЛАВА XXVII
В письменных памятниках встречается упоминание о том, что ученейший понтифик Сцевола делил богов на три рода: один из них был введен поэтами,
БлаженныйАвгустин 198
другой — философами, третий — государственными властями. Первый род он называет мифическим, потому что он представляет множество недостойных вымыслов о богах; второй считает непригодным для государства, потому что в нем есть нечто лишнее, а нечто и такое, что было бы вредно знать народу. На лишнем не останавливаемся; и законоведы часто говорят: «Лишнее не вредно». Но что подразумевает он под тем, что, если оно дойдет до народа, будет вредным? «Вредно, — говорит он, — убеждение, что Геркулес, Эскулап, Кастор и Поллукс — не боги, так как философами доказывается, что они жили людьми и умерли как люди. Что еще? Мнение, что государства не имеют действительных изображений тех существ, которые суть боги; что Бог истинный не имеет ни пола, ни возраста, ни определенных частей тела». Понтифик не хочет, чтобы народы знали эти вещи, потому что сам он считает все это истиной. Следовательно, по его мнению, полезно, чтобы государства заблуждались в области религии. Именно такое же мнение высказал и Варрон в книгах о божественном. Хороша же религия, если слабый прибегает к ней за спасением, а между тем, вместо спасительной истины, которой он ищет, считают полезным для него обман!
В тех же письменных памятниках приводятся и те основания, по которым Сцевола отвергает род богов, введенных поэтами. Причина эта заключается в том, что «у поэтов боги обезображены до такой степени, что оказываются хуже порядочных людей: одного из них они заставляют воровать, другого — прелюбодействовать; они заставляют их также делать и говорить разные вещи, постыдные и нелепые; представляют трех богинь спорящими между собою о награде за красоту, и двух из них, побежденных Венерой, разрушающими Трою; самого Юпитера представляют превращающимся то в быка, то в лебедя, чтобы иметь сношение с какой–нибудь женщиной; Сатурна — пожирающим своих детей; богиню — выходящею замуж за человека;
О граде Божием 199
нельзя придумать такого чуда и такого порока, которого бы не было у них, хотя это и не совместимо с божественной природой».
Эх, великий понтифик Сцевола! Уничтожь, если можешь, игры; прикажи народам не оказывать бессмертным богам таких почестей, в которых преступления богов вызывали бы удивление и, насколько возможно, подражание. Если же народ скажет тебе в ответ: «Это ввели у нас вы, понтифики», — проси тогда самих богов, по настоянию которых вы делали подобные распоряжения, чтобы они приказали не оказывать себе подобных почестей. Если эти почести худы и потому решительно не совместимы с величием богов, то они представляют собою величайшее оскорбление богам, насчет которых безнаказанно выдумываются. Но боги тебя не слушают: они — демоны, а потому учат злому и радуются постыдному; они не только не считают для себя оскорблением, если о них выдумываются подобные вещи, но скорее не в состоянии перенести той обиды, если им не оказывают подобных почестей. Допустим, что ты обратишься с жалобой на них к Юпитеру, особенно ввиду того, что на театрализованных играх представляются весьма многие преступления его самого; но, хотя вы и называете его богом, который управляет всем этим миром, разве не наносите вы ему величайшего оскорбления уже только тем, что считаете нужным почитать его вместе с ними и признаете его их царем?
ГЛАВА XXVIII
Итак, боги, которых умилостивляют, или, лучше сказать, обвиняют подобными почестями, так что с их стороны является большим преступлением, что они услаждаются этой ложью, чем если бы о них говорили истину, — такие боги ни в коем случае не могли увеличить и
БлаженныйАвгустин 200
поддержать Римское государство. Если бы они могли это сделать, то столь великий дар они скорее сообщили бы грекам, которые в подобного рода божественных вещах, т. е. театрализованных играх, служили им с гораздо большим почтением и уважением, так как от язвительных насмешек, которым подвергали богов поэты, они не устраняли и себя, давая им свободу издеваться над какими им было угодно людьми, и самих актеров считали людьми не презренными, а достойными высокого уважения. Могли же римляне иметь золотую монету, хотя и не почитали бога Аурина; так же точно могли они иметь серебряную и медную монету, если бы не почитали ни Аргентина, ни его отца Эскулана. То же можно сказать и относительно всего, о чем снова заводить речь не хочется. Итак, без воли истинного Бога они никоим образом не могли бы иметь царства; но если бы они не знали или отвергли этих многих и ложных богов, а знали единого истинного Бога и служили Ему искренней верой и нравственностью, то и здесь имели бы лучшее царство, и потом наследовании бы царство вечное, независимо от того, имели ли они здесь царство или не имели.
ГЛАВА XXIX
По их словам, то было прекраснейшим предзнаменованием, что, как мною было упомянуто выше, Марс, Термин и Ювента не захотели уступить места царю богов, Юпитеру. Это значило, говорят они, что поколение Марса, т. е. римский народ, никому не уступит того места, которым владеет; что и римских границ, благодаря Термину, никто не сдвинет; что римская молодежь, благодаря богине Ювенте, не отступит ни перед кем. Как же после этого смотрят они на царя своих богов, подарившего все царство, когда то предзнаменование выставляет его врагом, не делать уступок которому — дело прекрасное? Впрочем, если предзнаменование это
О граде Божием 201
истинное, им решительно нечего бояться. Они ведь не согласятся с тем, чтобы боги, не хотевшие сделать уступки Юпитеру, уступили Христу. Ибо они могли уступить Христу при неприкосновенности границ империи, удалившись только со своих мест, а главное — из сердец верующих.
Но прежде чем Христос пришел во плоти, прежде чем написано было то, что мы привели из их книг, хотя и после уже того, как дано было при царе Тарквинии упомянутое предзнаменование, римские войска несколько раз были разбиты и обращены в бегство, и предзнаменование, что Ювента не уступит Юпитеру, оказывалось ложным; а род Марса во время победы и вторжения галлов подвергся истреблению в самом Риме; наконец, и границы империи сокращены были до крайности в то время, когда многие города отпали и приняли сторону Ганнибала. Таким образом, прекрасная сторона предзнаменования оказалась вздором; действительным же осталось только упорство против Юпитера, причем не богов, а демонов. Ибо не уступить значит одно, а возвратиться опять на то место, которое уступлено, совсем другое. Впрочем, римские границы, особенно в восточной части империи, изменены были и после, волей Адриана. А именно. — три превосходных провинции, Армению, Месопотамию и Ассирию он уступил государству персов; так что бог Термин, охранявший, по мнению римлян, римские границы и в том прекрасном предзнаменовании не уступивший Юпитеру места, оказался испугавшимся царя людей Адриана более, чем царя богов Юпитера.
Равным образом, когда затем провинции были возвращены обратно, Термин сделал уступку снова почти уже на нашей памяти. Это было тогда, когда Юлиан, веривший оракулам богов, издал безрассудный приказ. — сжечь корабли, нагруженные съестными припасами; лишенное их войско, — когда вслед
БлаженныйАвгустин 202
за тем умер и сам он от раны, нанесенной врагом, — впало в такую нужду, что оттуда не вернулся бы никто (потому что неприятель отовсюду напирал на солдат, приведенных в смятение смертью императора), если бы по мирному договору не были установлены границы там, где проходят они и сейчас, — установлены, правда, не с таким уроном, какой допущен был Адрианом, однако же и не там, где они проходили прежде, а посередине между этими пунктами. Таким образом, по пустому предзнаменованию бог Термин не уступил Юпитеру, а воле Адриана, даже безрассудству Юлиана и крайности Иовиана — уступил. Благоразумнейшие и серьезнейшие из римлян понимали это, но были бессильны против обычая города, преданного демонским обрядам. И сами они, хотя и сознавали пустоту всего этого, думали, что религиозное почитание, приличное Богу, нужно воздавать природе вещей, находящейся под властью и управлением единого истинного Бога; «служили, — как говорит апостол, — твари вместо Творца, Который благословен во веки» (Рим. I, 25). Необходима была помощь того истинного Бога, Который посылает святых и истинно благочестивых мужей, умирающих за истинную религию, дабы избавить живых от религии ложной.
ГЛАВА XXX
Цицерон, сам будучи авгуром, смеется над авгуриями и упрекает людей, основывающих свои житейские предприятия на крике ворона или вороны*.
Но этот сомневающийся во всем академик не имеет в подобных вещах никакого авторитета. У него во второй книге о природе богов рассуждает Люцилий Бальб, и хотя выводит суеверия из природы вещей,
О граде Божием 203
представляя их как бы философскими и физическими, однако негодует на введение статуй и на мифологизированные суждения, говоря таким образом: «Итак, не видишь ли, что физические открытия, послужившие ко благу и пользе, дали повод к измышлению ложных богов? Отсюда родились ложные суждения, грубые заблуждения и старушечьи суеверия. Нам ведь известны и фигуры богов, и их возраст, и одежды, и украшения; роды, браки, родственные связи и все прочее перенесено на них по аналогии с человеческой немощью. Их представляют нам и испытывающими душевные волнения: мы слышали о желаниях, скорбях и гневе богов. Были между богами (как гласят басни) даже войны и сражения. По словам Гомера, боги не только защищали два враждебных войска, одни — одно, другие — другое, но вели и собственные войны с титанами или гигантами. Говорить об этом, верить этому — крайне безрассудно: все это в высшей степени пусто и легкомысленно»*.
Вот что говорят защитники языческих богов! Затем, сказав, что все это относится к суевериям, а к религии — то, что говорит он, очевидно, с точки зрения стоиков, он продолжает: «Не только философы, но и предки наши отделяли религию от суеверия. Суеверными (зирегзигюзГ) называли они тех, которые по целым дням молились богам и приносили жертвы, чтобы дети их пережили их (зирегзШез езйепг.)»**.
Кто не поймет, что, боясь распространенного среди граждан обычая, он старается хвалить религию предков и хочет отделить от нее суеверие, но как это сделать, не знает? Ибо если суеверными предки называли тех, которые по целым дням молились и приносили жертвы, то разве будут суеверными те, которые ввели статуи богов в различном возрасте и различной одежде, роды, браки и родственные связи богов? Ведь если эти вещи порицать как суеверные,
БлаженныйАвгустин 204
то виноваты в них будут предки, которые ввели и чтили статуи богов; виноват будет и он сам, который, как бы красноречиво ни старался вырваться на свободу, считал необходимым почитать их: виноват и в том, что о том, о чем он так красноречиво рассуждает в приведенном разговоре, не посмеет и заикнуться в народном собрании.
Возблагодарим же, христиане, Господа Бога нашего; возблагодарим не небо и землю, как говорит Бальб, но Того, Кто сотворил небо и землю. Кто через величайшее смирение Христа, проповедь апостолов, веру мучеников, умерших за истину и живущих с истиной, вырвал те суеверия, которые слегка, как бы картавя (ЪаШипеш), порицает Бальб, не только из благочестивых сердец, но и из суеверных храмов, пленив их в свое свободное рабство.
ГЛАВА XXXI
А сам Варрон, о котором мы говорили с сожалением, что он, пусть и не по собственному своему убеждению, поставил театрализованные игры в разряд божественных вещей, — сам Варрон, хотя, будучи человеком благочестивым, во многих местах своих сочинений и убеждает почитать богов, не сознается разве, что следует существующей в Римском государстве религии не по собственному убеждению, когда решается высказать мысль, что если бы ему пришлось строить новый город, он заимствовал бы систему богов и имена их скорее всего из природы? Но живя, по его словам, среди древнего народа, он считал себя обязанным держаться принятой предками истории об именах и прозвищах богов в том виде, в каком она передала их потомству, и то, что писал и исследовал, писал и исследовал с той целью, чтобы народ был расположен скорее почитать этих богов, чем презирать их. Этими словами он, человек весьма
О граде Божием 205
тонкий, дает достаточно понять, что он не открывает всего того, что не только для него было бы презренным, но показалось бы презренным и народу, если бы не было обойдено молчанием.
Можно было бы считать это лишь моим предположением, если бы он сам в другом месте, говоря о религии, ясно не сказал, что есть (в религии) много такой правды, которую народу знать вредно; равно если есть и ложное, то бывает полезно, чтобы народ смотрел на это иначе: поэтому–то греки свои таинства и мистерии ограждали стенами и молчанием. В этом случае он действительно, выдал нам тайную мысль якобы мудрецов, которые управляли государствами и народами. Однако же подобными обманами с удивительным лукавством пользуются злые демоны, которые одинаково держат в своей власти как обманывающих, так и обманываемых, и от власти этой не может освободить ничто, кроме благодати Божией через Господа нашего Иисуса Христа.
Тот же весьма тонкий и ученый автор говорит, что, по его мнению, только те одни поняли, что такое Бог, которые представляли его душой, управляющею миром посредством разума и движения. А поэтому, хотя он еще и не достиг самой истины, ибо Бог — не душа, а Создатель и Податель душ, однако, если бы мог избавиться от предрассудков, признал бы и убедился сам, что надлежит почитать единого Бога, Который движением и разумом управляет миром; так что у нас с ним осталось относительно этого разногласие только в том, что, по его словам, Бог — душа, а не Творец душ. Еще он говорит, что древние римляне чтили богов без кумиров в продолжение более ста семидесяти лет. «Если бы, — замечает он, — так было и сейчас, то боги почитались бы с большею чистотой». В подтверждение этого своего мнения он указывает, между прочим, и на народ Иудейский, и в заключение говорит, что первые, поставив для народа статуи богов, уничтожили в своих государствах страх и увеличили заблуждение; ему казалось, и не без основания, что боги
БлаженныйАвгустин 206
легко могут быть презираемы из–за нелепости статуй. А что он не употребляет выражения «внесли заблуждение», но — «увеличили», то этим дает понять, что заблуждение уже существовало и тогда, когда статуй еще не было.
Кто не поймет из этого, насколько близок был он к истине, когда говорил, что только те понимали, что такое Бог, которые представляли Его душой, управляющею миром, и когда полагал, что религия сохраняется в большей чистоте без кумиров? И если бы он был в состоянии что–либо сделать против этого застарелого заблуждения, то признал бы, конечно, что Бог, управляющий миром, один, и что чтить Его надлежит без кумиров; и будучи так близок к истине, легко, быть может, убедился бы в изменяемости души; так что понял бы, что истинный Бог есть неизменяющаяся сущность, которая создала и саму душу. А если так, то какие бы нелепости о многих богах такие мужи ни говорили в своих книгах, они, побуждаемые сокровенной волей Божией, скорее выводили эти нелепости на свет, чем пытались убеждать в них. Поэтому если мы приводим из них свидетельства, то приводим в укор тем, которые не хотят вникнуть, от какой и насколько злобной власти демонов освобождает нас единственная жертва столь святой пролитой крови и дар испрошенного нам Духа.
ГЛАВА XXXII
Говорит он также, что и относительно родословных богов народы склонялись скорее на сторону поэтов, чем физиков; а потому предки его, т. е древние римляне, верили и в пол, и в родословные богов, а также и в брачные их союзы. Все это сделалось очевидным вследствие именно того, что мнимо разумные и мнимо мудрые люди позаботились о том, как
О граде Божием 207
обманывать народ в религии, и тем самым не только почитать демонов, но и подражать им, преисполненным величайшей страстью к обману. Ибо они, как демоны, могут обладать только теми, кого прельщают обманом; так же точно и люди–правители, не справедливые, конечно, а подобные демонам, — то, что знали как ложное, выдавали народу от лица религии за истинное, связывая его этим как бы более тесным гражданским союзом, чтобы подобно демонам повелевать покорными. А какой слабый и неученый человек мог устоять против совместно действовавших лжецов — правителей государства и демонов?
ГЛАВА XXXIII
Итак, оный Бог, Виновник и Податель счастья, — поскольку один есть истинный Бог, — сам раздает земные царства и добрым, и злым. И делает Он это не без разбора и как бы случайно (ибо Он — Бог, а не Фортуна), но сообразно с порядком вещей и времен, — порядком для нас сокровенным, а Ему вполне известным. Этому порядку Он не подчинен, однако же, рабски, а царствует над ним, как Владыка, и располагает им, как Правитель. Но счастье Он ниспосылает только добрым. Это счастье могут иметь и не иметь подданные, могут иметь и не иметь царствующие. Полным оно будет в той жизни, где никто уже не будет рабом. Поэтому земные царства Он дает и добрым, и злым, чтобы Его почитатели, еще младенцы в духовном своем совершенствовании, не желали от Него этих даров как чего–то великого. В том заключается и таинственность Ветхого завета, в коем скрывался Новый, что в нем обетованы были и земные дары: люди, жившие духовной жизнью, и тогда понимали, хотя открыто еще и не проповедовали, как то, что теми временными вещами обозначалось, так и то, в каких дарах Бо–жиих заключается истинное счастье.
БлаженныйАвгустин 208
ГЛАВА XXXIV
Итак, дабы дать уразуметь, что земные блага, к которым стремятся те, которые не в состоянии помыслить о лучшем, находятся во власти единого истинного Бога, а не многих ложных богов, которых прежде почитали римляне, Бог из нескольких человек размножил Свой народ в Египте и освободил его оттуда чудесными знамениями. Иудейские женщины не призывали Люцины, когда рожденных ими младенцев Бог сам освобождал и охранял от рук египтян, преследовавших и убивавших всех детей, — охранял для того, чтобы они удивительным образом умножались и чтобы народ этот возрастал до невероятности. Дети кормились грудью без богини Румины, лежали в колыбелях без богини Купины: принимали пищу и питье без Эдуки и Потины, воспитывались без всего этого множества детских богов; женились без богов брачных; совокуплялись с супругами без культа Приапа. Без призывов к Нептуну разделилось море, когда они его переходили, и покрыло соединившимися вновь волнами преследовавших их врагов. Они не сделали предметом поклонения никакой богини Маннии, когда получили с неба манну, и не стали почитать Нимф и Лимф, когда камень от удара жезла исторг для них, жаждущих, воду. Без сумасбродных культов Марсу и Беллоне они вели войны и побеждали хотя не без победы, но считали ее не богиней, а даром Божиим. У них и без Сегетии были жатвы, без Бубоны — волы, без Меллоны — мед, без Помоны — яблоки — словом, все, из–за чего римляне считали нужным молиться такой толпе богов, они получали с гораздо большим счастьем от одного истинного Бога. И если бы, увлекаемые нечестивым любопытством, точно какими–то магическими чарами, они не грешили против Него, сначала отпадая к чужим богам и идолам, а потом убив Христа, то продолжали бы жить в том же царстве, если и не особенно обширном, то во всяком случае
О граде Божием 209
— счастливом. И в настоящее время то обстоятельство, что они рассеяны почти по всем странам и народам, есть дело провидения единого и истинного Бога. Из их священных книг можно удостовериться, каким образом еще задолго до этого было пророчески предсказано повсеместное истребление идолов, алтарей, рощ и храмов ложных богов и запрещение жертвоприношений; иначе, читая об этом, кто–нибудь мог бы, пожалуй, подумать, что все это выдумано нами. О дальнейшем читай в следующей книге; теперь же пора и честь знать.
БлаженныйАвгустин 210
КНИГА ПЯТАЯ
Предисловие
Известно, что все, чего мы желаем, сводится к счастью, которое суть не богиня, а дар Божий. Поэтому людям не следует почитать никакого другого бога, кроме Того, Который может сделать их счастливыми; а если бы счастье было богиней, было бы справедливо утверждать, что одна эта богиня и должна почитаться. Поэтому нам сейчас надлежит рассмотреть те причины, по которым Бог, Который может даровать и такие блага, какие могут иметь и люди недобрые, а потому и несчастные, соизволил, чтобы Римское государство было таким великим и существовало столь долгое время. Что не множество ложных богов, которых римляне почитали, делало это, об этом мы много уже говорили и еще скажем там, где это окажется уместным.
ГЛАВА I
Итак, величие Римского государства не было делом ни случая, ни судьбы, согласно мнению тех, которые делом случая называют то, что не имеет никаких причин или происходит не в силу какого–нибудь разумного порядка, а делом судьбы — то, что случается в силу некоего неизбежного порядка, вопреки воле Божией и воле людской. Человеческие царства устраиваются божественным провидением; если же кто–либо приписывает это судьбе на том основании, что судьбой называет саму божественную волю и силу, такой пусть эту мысль сохранит, но выражение ее
О граде Божием 211
исправит. Ибо почему бы ему не сказать сразу же того, что он скажет потом, когда кто–нибудь спросит его, что он понимает под судьбой? Ведь когда люди слышат это слово, они, согласно обычному его употреблению, понимают под ним не что иное, как влияние известного положения звезд в тот момент, когда кто–либо рождается или зачинается. Это влияние некоторые представляют не зависящим от воли Божией, а некоторые утверждают, что оно именно на ней и основывается.
Те, которые полагают, что звезды определяют помимо воли Божией, что мы будем делать, какие будем иметь блага или какие претерпим бедствия, должны внушать справедливое отвращение всем: не только исповедывающим истинную религию, но и тем, которые желают быть поклонниками каких бы то ни было, хотя бы и ложных богов. Ибо к какому иному следствию приводит это мнение, как не к тому, что не нужно почитать и поклоняться решительно никакому богу?
Впрочем, наше рассуждение направлено не против таких, а против тех, которые ради защиты мнимых богов относятся враждебно к религии христианской. Те же, которые ставят в зависимость от воли Божией положение звезд, известным образом определяющих, каким кто будет и что с ним случится доброго или дурного, те, — если они думают, что высшей божественной властью звездам предоставлены такие права, что они определяют упомянутое по своей доброй воле, — наносят великое оскорбление небу: ибо по их представлениям выходит, что в своего рода светлейшем небесном сенате и блистательнейшей небесной курии определяется, что должны совершаться и злодеяния. Постанови подобное какой–нибудь земной город, он был бы разрушен по решению рода человеческого. Потом, какое место оставляется суду Божию в решении дел человеческих, которым придается как бы небесная необходимость, в то время как Господь — Господь и звезд, и людей?
БлаженныйАвгустин 212
Если же скажут, что звезды, хотя и получают власть от верховного Бога, определяют упомянутое не по своему произволу, а при известном сочетании неизбежных условий выполняют только Его повеления, в таком случае не придется ли и о самом Боге думать то, что оказалось в высшей степени недостойным приписывать воле звезд?
Скажут, что звезды скорее обозначают упомянутое, чем производят его, так что известное положение их есть как бы своего рода фраза, предсказывающая будущее, но не решающая его. Действительно, такого мнения придерживались некоторые весьма ученые люди. Хотя математики и не имеют обыкновения высказываться так, — не говорят, например: «Марс в таком–то положении обозначает человекоубийцу»; а говорят: «Марс производит человекоубийцу», — допустим, что они говорят не так, как следует, и что для объяснения того, что, по их мнению, они находят в известном положении звезд, им нужно было бы заимствовать образ выражения у философов. Но в таком случае как это выходит, что они никогда не могли толком объяснить, откуда в большинстве случаев такая разница в судьбах близнецов: и в деятельности их, и в приключениях, и в занятиях, и в искусствах, и в общественном положении, и в других обстоятельствах человеческой жизни; так что многие люди, посторонние в этом отношении, более бывают похожи на какого–нибудь из них, чем сами близнецы друг на друга, хотя они при рождении бывают отделены самым незначительным промежутком времени, а зачинаются в одном совокуплении, в один и тот же момент?
ГЛАВА II
Цицерон говорит, будто знаменитый врач Гиппократ оставил в своих сочинениях заметку, что когда некие братья вместе начали болеть и болезнь их в одно и то же время усиливалась
О граде Божием 213
и в одно и то же — отступала, он догадался, что они близнецы. Относительно таких стоик Посидоний, ревностно преданный астрологии, обыкновенно утверждал, что они родились и были зачаты при одном и том же положении звезд. Таким образом, то, что, по мнению врача, указывало на ближайшее сходство в состоянии здоровья, то по мнению философа–астролога относилось к влиянию и расположению звезд, бывшему во время их зачатия и рождения.
В подобном вопросе более заслуживает внимания и гораздо вероятнее предположение врача. Ибо каково было телесное состояние родителей во время совокупления, таким же могло быть и состояние зачатков зародышей, так что они могли родиться с полученными из материнского тела первыми задатками одинакового здоровья. Затем следовало воспитание в одном доме, одинаковое питание; большое влияние, по свидетельству медицины, имеют на здоровье воздух, местоположение и качество воды, а также привычка к одним и тем же упражнениям; все это образует до такой степени сходные тела, что одни и те же причины одинаково располагают их и к одновременному заболеванию. Ставить же одновременность заболевания в зависимость от расположения неба и звезд в то время, как они были зачаты или рождены, когда в то же самое время на полосе земной, находящейся под теми же небесными знаками, могло зачаться и родиться множество людей самых различных классов, самых различных характеров и с разной участью, на мой взгляд, крайне дико. С другой стороны, мы знали близнецов, которые не только различались своею деятельностью и странствованиями, но и болезням подвергались различным.
На мой взгляд, Гиппократ естественнее всего объяснил бы это тем, что различие в состоянии их здоровья могло произойти от разницы в питании и в тех упражнениях, которые зависят не от телесной
БлаженныйАвгустин 214
конституции, а от душевной воли. Но было бы удивительно, если бы по этому предмету нашелся что сказать Посидоний или какой–либо другой защитник теории рокового влияния звезд, если бы не вздумал насмехаться над невежественными умами в тех вещах, которых они не понимают. Те же выводы, которые они стараются делать из незначительного промежутка времени, отделяющего друг от друга близнецов во время их рождения, принимая во внимание частичку неба, в которой производится наблюдение часа, называемое ими гороскопом, эти выводы или указывают на меньшую разность, чем обнаруживается ее в воле, в действиях, в нравах и в случайностях жизни близнецов; или предполагают даже большую, чем та, что есть между близнецами при тождестве их низкого или знатного происхождения, различие в котором они главным образом ставят в зависимость от часа рождения. В силу этого, если близнецы рождаются один после другого так скоро, что указание гороскопа остается тем же, я требую соблюдения такого тождества во всем, чего не могут представить ни одни близнецы; если же замедление рождающегося вторым изменяет гороскоп, я требую и различных родителей, которых близнецы иметь не могут.
ГЛАВА III
Напрасно поэтому ссылаются на знаменитый опыт с гончарным колесом, который придумал, говорят, Нигидий в ответ на этот затруднивший его вопрос, почему и получил прозвание Фигула (гончара). Повернув гончарное колесо с такой силой, с какой в состоянии был это сделать, он во время кружения его быстро прикоснулся к нему два раза черной краской как бы в одном и том же месте. Когда движение колеса прекратилось, сделанные им знаки были найдены на окраине колеса на немалом расстоянии один от другого. Так же точно, сказал он,
О граде Божием 215
при известной быстроте небесного круговращения, хотя бы один после другого рождался с той же скоростью, с какой я два раза прикоснулся к колесу, это дает большую разницу в небесном пространстве. От этого, пояснил он, оказывается весьма значительное различие в нравах и превратностях жизни двойняшек.
Этот аргумент более хрупок, чем сосуды, которые лепятся тем колесом. Ведь если наблюдение неба так трудно, что по созвездиям нельзя понять, почему одному из близнецов достается наследство, а другому — нет, то как они, рассматривая созвездия других, которые не близнецы, осмеливаются предсказывать то, что является непостижимым таинством, и приурочивать это к минутам рождения? Скажут, что они делают подобные предсказания относительно других рождающихся потому, что эти предсказания основываются на наблюдении более продолжительных промежутков времени; а те незначительные части минут, которые могут отделять близнецов друг от друга во время рождения, относятся к обстоятельствам пустым, о которых математиков обыкновенно не спрашивают (кто, например, станет спрашивать, когда будет сидеть, когда будет ходить, когда или что кушать?). Но разве мы говорим о таких вещах, когда указываем множество и весьма важных различий в нравах, деятельности и случайностях жизни близнецов?
ГЛАВА IV
По свидетельству древней истории, родились два близнеца (я остановлюсь только на особо выдающихся случаях) один после другого так, что второй держал ступню первого. А между тем в жизни и нравах их была такая противоположность, в действиях такое различие, в родительской любви к ним такое несходство, что все это сделало их врагами. Такого ли рода
БлаженныйАвгустин 216
это несходство, что когда один ходил, другой сидел; или когда один спал, другой бодрствовал; или когда тот говорил, этот молчал? Подобные вещи относились бы к тем мелочам, которых не могут отметить определяющие положение звезд, под которым каждый рождается и на основании которого математики дают свои ответы. Но один из них был за плату в рабстве, другой не был рабом; одного любила мать, другого не любила; один потерял честь, которая считалась у них великой, другой приобрел ее. А какое различие в том, что касается жен, сыновей, имущества? Итак, если это зависит от тех незначительных промежутков времени, которыми отделяются друг от друга (при рождении) близнецы, и не определяется созвездиями, то на каком основании подобные вещи предсказываются, когда рассматриваются созвездия других (не близнецов)? Если же предсказываются на том основании, что относятся не к неуловимым моментам, а к определенным пространствам времени, возможным для наблюдения и отметки, то при чем здесь гончарное колесо? Или при том, чтобы с его помощью кружить глиняные головы людей и не давать им возможности убедиться в пустословии математиков?
ГЛАВА V
Те самые, в которых Гиппократ узнал близнецов, наблюдая в качестве врача за их болезнью, которая одновременно у обоих то усиливалась, то отступала, — эти самые не достаточно ли опровергают приписывающих звездам то, что зависело от сходства в телесной организации? Ибо почему они болели одинаково в одно и то же время, а не один прежде, другой после, как и родились (вместе ведь они никоим образом не могли родиться)? Если же то обстоятельство, что они родились не одновременно, не послужило причиной того,
О граде Божием 217
что они болели в разное время, то на каком основании утверждают, что разница во времени рождения имеет влияние на различие в других условиях жизни? Почему бы они могли в разное время путешествовать, в разное время брать жен, в разное время рождать детей и так далее, в силу того, что родились в разное время, но не могли в силу того же самого и болеть в разное время? Ведь если относительное замедление рождения изменило гороскоп и внесло различия в другие условия жизни, то почему же в отношении болезней осталось в силе то тождество, которое имело место при одновременности зачатия? А если причины, роковым образом определяющие здоровье, кроются в зачатии, а причины, определяющие другие обстоятельства жизни, считаются зависящими от рождения, то они не должны на основании наблюдения созвездий в момент рождения давать какие–либо предсказания относительно здоровья, коль скоро час зачатия не подлежит их наблюдению. Если же, не наблюдав гороскопа зачатия, предсказывают болезни на том основании, что на них указывают моменты рождения, то каким образом они на основании часа рождения предсказали бы какому–либо из упомянутых близнецов время, когда он заболеет, коль скоро и другой, не имевший того же самого часа рождения, должен был заболеть одновременно с ним?
Затем спрашиваю: если разница во времена рождения близнецов имеет такое важное значение, что по причине ее они должны находиться под различными созвездиями и потому иметь различный гороскоп, а с ним и различные сочетания всех планет, в каковых (сочетаниях) предполагается такая сила, что от них зависит и различие судеб, то каким образом это могло случиться, если их зачатие не могло произойти в разное время? Если один момент, в который оба были зачаты, не помешал одному родиться прежде, а другому после, то почему бы, если бы оба родились в один и тот же момент, помешало что–либо одному умереть прежде, а другому после? Если одновременность зачатия дозволяет близнецам во чреве иметь различный исход, то почему одновременность рождения не дозволила бы каким–либо двум людям иметь различный исход, хотя бы этим и разрушались все вымыслы искусства или, вернее, вздора, о котором идет речь? Почему, в самом деле, зачатые в одно и то же время, в один и тот же момент, при одном и том же положении неба, имеют различную судьбу, которая дает им различные часы рождения, а двое, одинаково родившиеся в один и тот же момент времени при одном и том же положении неба, но от двух матерей, не могут иметь различной судьбы, которая заставила бы их жить и умереть различным образом? Или зачатые еще не имеют судьбы и не могут ее иметь, пока не родятся? В таком случае зачем утверждают, будто эти вещуны могут многое предсказать, если будет определен час зачатия? Некоторые даже рассказывают, будто какой–то мудрец специально подобрал определенный час, чтобы лечь с женой, и вследствие этого родил удивительного сына. Наконец, и то обстоятельство, что упомянутые близнецы одновременно болели, великий астролог, он же и философ Посидоний, объясняет именно тем, что они в одно и то же время были рождены и в одно и то же время зачаты. Зачатие он присоединял, конечно, для того, чтобы ему не сказали, что одновременность рождения несомненно зачатых в одно и то же время не может считаться несомненной, и чтобы ту случайность, что они болели одинаково и вместе, он не вынужден был естественным образом объяснить одинаковой организацией тел, а мог одинаковое состояние здоровья поставить в зависимость от созвездий. Итак, если зачатие имеет такое влияние на одинаковость судеб, то рождающиеся не должны были изменять этих судеб временем своего рождения. Если же судьбы близнецов изменяются потому,
О граде Божием 219
что они рождаются в разное время, то почему же не считать эти судьбы уже изменившимися, так как они родились в разное время? Не изменяет ли судьбы рождения и воля живущих точно так же, как изменяет судьбы зачатия порядок рождающихся?
ГЛАВА VI
Но и при самом зачатии близнецов, в котором, несомненно, моменты времени для обоих тождественны, каким образом происходит так, что один зачинается мужчиной, а другой — женщиной? Мы ведь знаем близнецов различного пола: оба они еще живут, оба еще в цветущих летах. Телесным своим видом, насколько это возможно при различии пола, они похожи друг на друга, но по образу и целям жизни весьма между собою различны. Не говорю о неизбежном различии мужской и женской деятельности, как, например, о том, что один состоит на службе комита и почти постоянно находится вне своего дома, а другая живет безвыходно в отеческом доме, в собственной деревне; но что наиболее удивительно, если верить роковым предопределениям звезд, и неудивительно вовсе, если принимать в соображение человеческую волю и дары Божий, это — что один женат, а другая — среди освященных дев; тот родил многочисленное потомство, а эта и не вступала в брак. Очень ли велико на этот раз влияние гороскопа?
Сколь оно ничтожно, я показал уже достаточно. Каково бы оно там ни было, говорят они, оно имеет место при рождении. Не скажут ли, что и при зачатии? Ведь совокупление на этот раз было явно одно: свойство природы таково, что раз зачавшая женщина не может (до родов) еще раз зачать; следовательно, близнецы зачинаются в один и тот же момент. Но может быть, так как они родились под различным
БлаженныйАвгустин 220
гороскопом, то во время самого рождения один изменился в мужчину, а другая в женщину? Не рискуя сказать неизбежную глупость, можно было бы утверждать, что влияние звезд простирается на одни телесные различия, подобно тому, как от приближения и удаления солнца проходит различие времен года и от приращения и убыли луны увеличиваются и уменьшаются некоторые роды вещей: например морские ежи, раковины и удивительные приливы океана; но что душевные расположения не подчиняются положению звезд. В таком случае эти господа, старающиеся поставить в зависимость от него сами наши действия, пусть надоумят нас, каким образом объяснить то обстоятельство, что принцип этот оказывается неприменимым даже к телам. Ибо что имеет более близкое отношение к телу, как не пол? А между тем, под одним и тем же созвездием могут быть зачаты близнецы разного пола. И затем, можно ли что–либо сказать или подумать бессмысленнее, чем то, что известное положение звезд, бывшее одинаковым для обоих в час зачатия, не могло сделать так, чтобы сестра, имевшая с братом одно и то же созвездие, не имела различного с ним пола; но то положение звезд, которое было в час их рождения, могло сделать так, что она столь сильно отличается от него своею девственной святостью.
ГЛАВА VII
Далее, кто найдет здравый смысл в стараниях этих людей создать для своих действий некоторым образом новые судьбы посредством выбора для них известных дней? Он, изволите ли видеть, не родился так, чтобы мог иметь удивительного сына, а скорее так, что должен бы был родить сына, заслуживающего презрение; а поэтому, как человек ученый, избирает известный час для соединения с женой. Таким образом, он создает судьбу, которой не имел,
О граде Божием 221
и действие его дает начало року, которого не было в его рождении. Замечательная глупость! Выбирается известный день для женитьбы; делается это, я думаю, для того, чтобы в противном случае не напасть на недобрый день и не жениться несчастливо. Куда же девалось в таком случае то, что было уже определено звездами при самом рождении? Или человек может выбором известного дня изменить то, что для него уже предопределено, а затем то, что он предопределил сам для себя выбором известного дня, уже не может быть изменено никакой другой властью?
Затем, если одни только люди, а не все, что существует под солнцем, подчинены созвездиям, — зачем они выбирают известные как бы наиболее благоприятные дни для посадки виноградных лоз, деревьев и посева нив, а другие, также как наиболее подходящие, для объезживания животных, для случки при оплодотворении кобылиц и коров и т. п.? Если же выбор определенных дней для этих вещей имеет значение потому, что известное положение звезд в различные моменты времени господствует над всеми земными телами, одушевленными или неодушевленными, то в таком случае пусть обратят внимание на бесчисленное количество вещей, которое рождается, возникает, зачинается в один и тот же момент времени, и, однако, имеет при этом различный исход; их наблюдения заставят смеяться даже карапуза.
В самом деле, кто будет настолько безумен, что решится утверждать, будто все деревья, все травы, все животные, пресмыкающиеся, птицы, рыбы, черви, каждая особь в отдельности имеют различные моменты рождения? Тем не менее, известные люди имеют обычай для испытания искусства математиков представлять на рассмотрение их созвездия бессловесных животных, тщательно наблюдая для этой цели за их рождением у себя дома, и предпочитают всем другим тех математиков, которые, рассмотрев
БлаженныйАвгустин 222
созвездия, скажут, что родилось животное, а не человек. Последние имеют смелости определять даже качества животного и то, для чего оно годно: для шерсти ли, или для езды, или для плуга, или для охраны дома. Пытаются они определять и собачьи судьбы и дают упомянутые ответы при громких восклицаниях со стороны удивленных слушателей. Так безумствуют люди, полагая, что в то время, когда рождается человек, появление других предметов приостанавливается так, что вместе с человеком под одной и той же небесной полосой не рождается даже муха. Допусти они последнее, получатся выводы, которые постепенно и незаметно приведут их от мух к верблюдам и слонам.
Не хотят они обратить внимания и на то, что после избрания известного дня для засева поля в землю в одно и то же время падает чрезвычайное множество зерен, которые вместе прозябают, вместе, взойдя, зеленеют, вместе растут, золотятся; и тем не менее, из колосьев, которые все (засеяны) одновременно, все, так сказать, как бы срослись друг с другом, одни погибают от ржавчины, другие истребляются птицами, иные срываются людьми. Каким образом станут они утверждать, что эти зерна, имевшие такой различный конец, имели и особые созвездия? Уж не станут ли досадовать на то, что выбирали для этих вещей известные дни, и утверждать, что небесное предопределение не касается их, но что звездам подчинены одни только люди, — люди, которым одним на земле Бог дал свободную волю? Взвесив все это, поневоле придешь к заключению, что когда астрологи дают многие удивительные по своей истинности предсказания, то это бывает по тайному внушению недобрых духов, которые стараются внедрять и утверждать в человеческих умах эти ложные и вредные верования в звездные судьбы, а не в силу искусства отмечать и рассматривать гороскоп — искусства, в действительности не существующего.
О граде Божием 223
ГЛАВА VIII
Есть и такие, которые именем судьбы называют не известное положение звезд, бывающее во время чьего–либо зачатия, рождения или появления, а связь и последовательность всех причин вообще, которые производят все, что бывает. С такими нет необходимости долго рассуждать и спорить из–за названия, коль скоро саму последовательность и известную связь причин они ставят в зависимость от воли и власти Бога, Который, по прекрасному и вполне истинному верованию, и знает все прежде, чем оно бывает, и не оставляет неупорядоченным; Бога, от Которого происходит всякая власть, хотя не от Него происходят все желания. Последнее служит доказательством, что судьбою они называют главным образом волю верховного Бога, власть Которого непреодолимо простирается на все. Если не ошибаюсь, это стихи Аннея Сенеки:
Властитель горний, отче, укажи
Куда идти мне — следую немедленно,
Тебе покорный. А не захочу — тогда
Туда же, грешный, повлекусь, стенаючи,
Терпя все то, что претерпел бы праведным.
Смиренного судьба ведет, строптивца — тащит'.
В этом стихе он очевиднейшим образом называет судьбами то, что выше назвал волей горнего отца. Он говорит, что готов повиноваться ему, чтобы быть ведомым добровольно, а не влекомым против воли, потому–де, что
Смиренного судьба ведет, строптивца — тащит.
Та же мысль слышится и в известных стихах Гомера, которые Цицерон перевел на латынь так:
БлаженныйАвгустин 224
Поэтически выраженная мысль не имеет, конечно, решающего значения в настоящем вопросе. Но он говорит, что стоики, подтверждая значение судьбы, имели обыкновение цитировать эти Гомеровские стихи. Следовательно, речь идет не о мнении поэта, а о мнении тех философов; потому что этими стихами, приводимыми ими в рассуждениях о судьбе, они с полной ясностью высказывают свое представление о том, что такое судьба, ибо называют Юпитера, которого считают верховным богом, и ставят в зависимость от него сплетение судеб.
ГЛАВА IX
Цицерон так усиленно старается опровергнуть их, что не находит ничего лучшего, как выступить против всякого вообще гадания. Это гадание он настолько желает уничтожить, что отрицает значение будущего и всячески доказывает, что его вовсе нет ни в Боге, ни в человеке, и что, таким образом, никаких предсказаний не существует. Таким образом, он отрицает и предвидение Божие, и всякое пророчество, хотя бы и яснейшее дня; старается опровергнуть пустой аргументацией и разбором некоторых, довольно легко опровергаемых предсказаний; хотя, впрочем, не опровергает в достаточной степени и их. Речь его направлена главным образом на опровержение предположений математиков; это потому, что предположения их действительно таковы, что сами себя подрывают и опровергают. Но в существе дела
«Мысли людей таковы, каков и тот день, которым отец Юпитер осветил плодоносные земли». Нот. Ос1у55. XVIII, v. 136,137.
О граде Божием 225
гораздо легче примириться с теми, которые сочиняют по крайней мере звездные судьбы, чем с ним, который отрицает предвидение будущего. Ибо признавать, что Бог существует, и в то же время отрицать в нем предвидение будущего, — чистейшее безумие. Видел он это и сам, и пытался утверждать даже то, о чем написано: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. XIII, 1), но только не от своего лица. Он знал, какое озлобление и досаду вызвало бы это; поэтому в книгах «О природе богов» заставил отстаивать эту мысль против стоиков Котту и решился лучше высказаться в пользу Люцилия Бальба, которого выставил защитником стоиков, чем в пользу Котты, который утверждал, что божественной природы не существует вовсе.
В книгах же «О гадании» он от себя лично откро–веннейшим образом отвергает предвидение будущего. Делает все это он, очевидно, для того, чтобы не признать существования судьбы и не отказаться от свободы воли. Он полагает, что если допустить предвидение будущего, то существование судьбы будет следовать столь логически необходимо, что отрицать его не будет решительно никакой возможности. Но как бы извилисты ни были рассуждения и споры философов, мы, со своей стороны, как исповедуем высочайшего и истинного Бога, так исповедуем и Его высочайшую волю, власть и предведение. Мы не боимся свои добровольные действия признать недобровольными потому, что знал наперед, что мы так будем делать, Тот, Кого предвидение обмануть не может. Этого боялся Цицерон, когда отвергал предвидение; этого боялись и стоики, когда утверждали, что не все делается по необходимости, хотя и доказывали, что все бывает по определению судьбы.
В самом деле, что опасного находил в предвидении будущего Цицерон, что так старался опровергнуть его своим отвратительным рассуждением? А то, что если все будущее предвидено, то оно совершится в том порядке, в каком и предведывается; а если совершится в этом порядке,
БлаженныйАвгустин 226
то для предвидения Божия существует определенный порядок вещей; если же существует определенный порядок вещей, то существует определенный порядок причин: ибо не может же случиться что–нибудь такое, чему не предшествовала бы какая–нибудь вызвавшая его причина; а если существует определенный порядок причин, от которого происходит все, что происходит, то, говорит он, все, что происходит, происходит по определению судьбы. Если же это так, то в нашей власти нет ничего, и произвола свободной воли не существует; а если допустим последнее, говорит он, то вся человеческая жизнь ниспровергается: напрасно издаются законы, напрасно употребляются порицания, похвалы, укоризны, увещания; нет никакой справедливости в том, что установлены добрым награды, а злым — наказания. Чтобы не вышло таких нежелательных, нелепых и гибельных для человеческой жизни последствий, он не хочет допускать предвидения будущего и ставит религиозную душу в необходимость выбирать одно из двух: или некоторую свободу нашей воли, или существование предвидения будущего. Вместе то и другое, по мнению его, существовать не может. Если допустить одно, другое уничтожается. Если допустить предвидение будущего, уничтожается свобода воли; если допустить свободу воли, уничтожается предвидение будущего. И вот он, как муж великий и ученый и относящийся к человеческой жизни с величайшей о ней заботливостью и опытной мудростью, выбирает свободу человеческой воли, и чтобы признать ее существование, отвергает предвидение будущего.
Таким образом, из желания сделать людей свободными он сделал их святотатцами. Но религиозная душа выбирает то и другое; то и другое исповедует; то и другое по вере благочестия признает за истину Каким образом, возражает он? Ведь если предвидение
О граде Божием 227
будущего существует, в таком случае имеют силу все вышеприведенные и следующие из этого выводы, включая тот, что в нашей воле нет ничего. Если же есть что–нибудь в нашей воле, то путем обратных выводов мы дойдем до заключения, что предвидения будущего не существует. Обратный порядок этих выводов таков: если существует свобода воли, то не все совершается по определению судьбы, если не все бывает по определению судьбы, то не существует определенного порядка причин; если же нет определенного порядка причин, то для предвидения Бо–жия не существует определенного порядка вещей, в котором они могут существовать только при условии наличия причин, предшествующих им и вызывающих их; а если для предвидения Божия не существует определенного порядка вещей, то не все происходит так, чтобы Он знал заранее, как оно произойдет; затем, если не все происходит так, чтобы Он знал, как оно произойдет, то, говорит он, предвидения всего будущего в Боге не существует.
В противоположность этим святотатственным и нечестивым попыткам мы утверждаем, что и Бог знает все прежде, чем оно совершается, и мы делаем по доброй воле все, что чувствуем и сознаем как свое добровольное действие. Но мы не говорим, что все совершается по определению судьбы; более того, утверждаем, что судьбы вовсе нет. Мы говорим, основываясь на существе самого дела, что слово «судьба» не имеет смысла там, где оно обыкновенно употребляется в разговорном языке, т. е. в применении к положению звезд во время чьего–либо зачатия или рождения. Порядок же причин, в котором проявляется великое могущество воли Божией, мы не отрицаем, но не называем и судьбой; разве только слово «судьба» (Гашт) будем производить от слова «говорить» (Тапйо). В последнем случае мы не можем не признать, что в священных книгах написано: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и
БлаженныйАвгустин 228
у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его» (Пс. ЬХ1, 12, 13). Выражение «однажды сказал» значит: сказал непоколебимо, т. е. неизменно, как неизменно знал все, что имеет быть и что Он сам имеет совершить. В таком смысле, производя гашт от гапйо, мы могли бы употреблять и слово «судьба», если бы с этим словом обыкновенно не соединялись другие представления, вызывать которые в умах человеческих мы не желаем. Тот же вывод, что если для Бога существует определенный порядок причин, то для выбора нашей свободной воли ничего нет, вовсе из этого не следует. Ибо и сама наша воля находится в порядке причин, который, как порядок определенный, содержится в предвидении Божием; потому что и человеческая воля представляет собою причину человеческих действий. А поэтому Тот, Кто знает наперед причины всех вещей, никоим образом не может не знать в числе этих причин и нашей воли, так как знает причины наших действий. Для опровержения Цицерона в этом вопросе достаточно и того, с чем он согласился сам, говоря, что не бывает ничего, чему не предшествовала бы вызывающая его причина*. Какую пользу приносят ему рассуждения о том, что ничего якобы не бывает без причины, но не всякая якобы причина роковая: потому что есть якобы причина случайная, есть естественная, есть произвольная? Достаточно признания, что все бывающее бывает не иначе, как вследствие предшествующей ему причины. Ибо те причины, которые называются случайными (Тоггшгае), — откуда получилось и само имя фортуны, — те причины мы не называем несуществующими, а только сокровенными, и приписываем их воле или истинного Бога, или некоторых духов; и сами естественные причины отнюдь не представляем независящими от воли Того, Кто есть Творец и Создатель всей природы.
О граде Божием 229
Причины же произвольные суть принадлежность или Бога, или ангелов, или людей, или некоторых животных (если только можно называть проявлениями воли такие движения бессловесных животных, которые совершают они по требованию своей природы, стремясь к чему–нибудь или чего–нибудь избегая). Под волей же ангелов я подразумеваю волю как добрых ангелов, которых мы называем ангелами Божьими, так и ангелов злых, которых мы называем ангелами дьявола, или демонами, равно как и волю людей и добрых, и злых. Отсюда следует то заключение, что других причин, вызывающих все, что происходит, нет, кроме как зависящих от воли, — от воли той природы, которая представляет собой дух жизни. Ибо и воздух естественный, или ветер, называется духом: но так как он представляет собой тело, то не есть дух жизни.
Итак, Дух жизни, Который оживотворяет все, и есть Творец всякого тела и Дух всякого творения — сам Бог, Дух во всех отношениях несотворенный. В Его воле верховная власть, которая помогает добрым расположениям воли духов сотворенных, судит расположения злые, приводит в порядок всяческие и некоторым дает власть, а некоторым не дает. Будучи Творцом всякой природы, Он также и Податель всякой власти, но не всякого расположения воли. Злые расположения воли не от Него, потому что они противны природе, которая получила бытие от Него. Итак, воле по преимуществу подлежат тела, — некоторые нашей воле, т. е. воле всех одушевленных смертных, и более воле людей, чем животных; некоторые же — воле ангелов; но все по преимуществу подчинены воле Бога, Которому подчиняется и воля всех, так как не имеет власти помимо той, какую дает Он. Таким образом, причина вещей, которая производит, но сама не производится, есть Бог. Другие же и производят, и производятся, каковы, например, все сотворенные духи, особенно же разумные. Причины же
БлаженныйАвгустин 230
телесные, которые более производятся, чем производят, не должны ставиться в ряду причин, вызывающих явления; ибо они могут лишь то, что делает из них воля духов. Итак, каким же образом из существования порядка причин, который для предведения Божия является порядком определенным, следует, что в нашей воле нет ничего, когда наша воля занимает значительное место в самом порядке причин? Пусть Цицерон спорит с теми, которые этот порядок причин называют роковым, или, точнее, именно его–то и называют судьбой'; мы далеки от подобного мнения, особенно по причине слова, употребляемого в обыкновенной речи в ложном смысле. Но когда он отрицает, что для предвидения Божия существует определеннейший и яснейший порядок всех причин, мы не согласны с ним более, чем стоики. Пусть он по крайней мере отрицает существование Бога, как пытается это делать через подставное лицо в книгах «О природе богов»; если же существование Бога признает, но отрицает в нем предвидение будущего, то говорит по сути то же, что и известный безумец, который сказал в сердце своем: «Нет Бога». Ибо не имеющий предвидения всего будущего не есть и Бог. И сама воля имеет настолько силы, насколько того пожелал и насколько то знал заранее Бог. Поэтому, насколько она имеет силу, имеет ее определеннейшим образом, и что имеет сделать, сделает непременно: потому что о том, что она будет иметь силу и сделает, знал заранее Тот, Кого предвидение не может обманывать. Поэтому, если бы я вздумал называть что–либо именем судьбы, то скорее назвал бы судьбой слабейшего волю сильнейшего, имеющего его в своей власти, чем согласился бы с тем, что свобода нашей воли уничтожается тем порядком причин, который имеют обыкновение, вопреки общепринятому употреблению слова, называть судьбой стоики.
О граде Божием 231
ГЛАВАХ
Поэтому же нет нужды бояться и той необходимости, из опасения которой стоики старались различать причины вещей так, что некоторые из них освободили от необходимости, а некоторые подчинили ей; причем к числу тех, которые не желали оставлять в подчинении необходимости, отнесли и нашу волю, исходя из того, очевидно, соображения, что она не была бы свободной, если бы была подчинена необходимости. Ибо если необходимостью по отношению к нам нужно называть то, что не находится в нашей власти и вопреки нашему желанию делает то, что может, какова, например, необходимость смерти, то очевидно, что наша воля, хорошо или дурно определяющая нашу жизнь, под такой необходимостью не находится. Многое мы делаем такое, чего не сделали бы ни в коем случае, если бы не хотели. Сюда относится, прежде всего, самое хотение: оно есть, если мы хотим, и его нет, если не хотим; мы не хотели бы, если бы не хотели.
Если же речь идет о той необходимости, которую мы подразумеваем, когда говорим, что необходимо, чтобы это было так или сделалось так, то я не понимаю, почему бы нам следовало опасаться, чтобы эта необходимость не отняла у нас свободы воли. Ведь мы не подчиняем ни жизни Божией, ни предвидения Божия необходимости, когда говорим, что необходимо, чтобы Бог жил вечно и все знал заранее; так же точно, как не уменьшается Его власть, когда говорят, что Он не может ни умереть, ни ошибаться. Для Него это невозможно до такой степени, что власть Его скорее уменьшилась бы во всех отношениях, если бы это было для Него возможно. Он правильно называется всемогущим, хотя умереть и обмануться не может. Он называется всемогущим, поскольку делает то, что хочет, и не терпит того, чего не хочет; если бы последнее случилось с Ним, Он никоим образом не был
БлаженныйАвгустин 232
бы всемогущим. Потому–то нечто и невозможно для Него, что Он всемогущ. Так же точно, когда мы говорим, что мы необходимо по доброй воле желаем, когда чего–нибудь желаем, мы говорим, безусловно, истину, и этим свою добрую волю не подчиняем необходимости, которая лишает свободы.
Итак, наша свободная воля существует, и она–то делает все то, что мы делаем по своему желанию и чего не делалось бы, если бы мы не желали. Если же кто–либо вопреки своему желанию терпит что–либо по воле других людей, воля и в этом случае не теряет своего значения; хотя осуществляется воля не этого человека, а власть Божия, Ибо если есть только воля, и она не может осуществить того, чего хочет, встречая препятствие со стороны более могущественной воли, то она и в этом случае не перестает быть волей, и волей не кого–нибудь другого, а именно того, кто хочет, хотя и не в состоянии исполнить желаемого. Поэтому все, что ни терпит человек вопреки своей воле, он не должен приписывать воле ни человеческой, ни ангельской, ни какого–либо иного сотворенного духа, но воле Того, Кто дает власть имеющим волю.
Таким образом, нельзя утверждать будто нет ничего в нашей воле на том только основании, что Бог знал заранее, что имеет быть в нашей воле; ибо нельзя сказать, что предвидевший это предвидел ничто. Затем, если знавший, что имеет быть в нашей воле, предвидел не ничто, а нечто, то несомненно, что и при Его предвидении нечто в нашей воле есть. Поэтому мы нисколько не находим себя вынужденными ни отвергать свободу воли, допустив предвидение Божие, ни отрицать (что нечестиво) в Боге предвидение будущего, допустив свободу воли. Мы принимаем то и другое; то и другое исповедуем твердо и правильно: одно — для того, чтобы хорошо веровать, другое — чтобы хорошо жить.
Худо, впрочем, живется, если нехороша вера в Бога. Поэтому пусть далека от нас будет мысль из желания свободы отрицать предвидение Того, с помощью Которого мы пользуемс
О граде Божием 233
или будем пользоваться свободой. Подобным же образом ненапрасны и законы, и порицания, и увещания, и похвалы, и укоризны: Он знал наперед, что и они должны быть, и тем большую они имеют силу, что Он знал наперед, какую они будут иметь силу. Имеют силу и молитвы для испрошения того, относительно чего Он знал наперед, что дается по молитвам просящих. Справедливо также установлены награды за добрые дела и наказания за грехи. Ибо человек не потому грешит, что Бог знал наперед, что он согрешит; напротив, потому–то и не подлежит сомнению, что грешит именно он, когда грешит, что Тот, чье предвидение обманываться не может, знал наперед, что не судьба, не фортуна и не что–либо иное, а именно он и согрешит. Если он не захочет, он, конечно, не согрешит; но и о нежелании его грешить Бог также знал наперед.
ГЛАВА XI
Итак, никоим образом нельзя думать, чтобы Бог, высочайший и истинный со Словом Своим и Святым Духом, которые три суть одно, Бог — единый и всемогущий Творец и Создатель всякой души и всякого тела, общением с Которым счастливы все, которые счастливы истинно, а не суетно; Бог, сотворивший человека разумным животным из души и тела, не допустивший остаться ему безнаказанным, когда он грешит, но не лишивший его и Своего милосердия; давший добрым и злым общую сущность с камнями, жизнь растительную — общую с деревьями, жизнь чувственную — общую с животными, жизнь интеллектуальную — общую с одними ангелами; от Которого всякий образ, всякий вид, всякий порядок; от Которого мера, число и вес; от Которого все, что происходит естественным образом, какого бы рода и
БлаженныйАвгустин 234
какого значения оно ни было; от Которого происходят элементы форм, формы элементов, движение элементов и форм; давший и плоти начало, красоту, доброе состояние здоровья, соразмерное расположение членов, надлежащую гармонию; давший и неразумной душе память, чувства, способность желать, а разумной, сверх того, ум, понимание, волю; не оставивший не только неба и земли, не только ангела и человека, но и внутренностей самого малого и самого презренного одушевленного, и перышка птицы, и цветка травы, и листка дерева без того, чтобы не дать им известной соразмерности в их частях и в своем роде взаимного мира, — никоим образом нельзя подумать, чтобы Бог судил оставить вне законов и провидения Своего царства человеческие и их положения, господственные и подчиненные.
ГЛАВА XII
Теперь посмотрим, за какие нравы римлян и ради чего истинный Бог, во власти Которого находятся все земные царства, соизволил содействовать распространению их власти. Чтобы можно было говорить об этом решительнее, мы написали и предшествующую, относящуюся к этому же предмету книгу, показывая, что в данном случае не имеют никакой власти те боги, которых они сочли нужным почитать бессмысленными обрядами; написали и предыдущие главы настоящей книги до данного места, чтобы устранить вопрос о судьбе, — чтобы кто–нибудь, убедившись уже, что Римская империя распространялась и сохранялась не вследствие почитания тех богов, не приписал этого какой–то судьбе вместо могущественнейшей воли верховного Бога. Да, древние и первобытные римляне, хотя они, подобно другим народам, за исключением еврейского, чтили богов ложных и приносили жертвы не Богу, а демонам, тем не менее, как свидетельствует и доказывает их история, «из желания доброго о себе мнения не дорожили
О граде Божием 235
деньгами, добивались великой славы и честного богатства»*.
Эту славу они любили пламеннейшим образом, ради нее хотели жить, за нее, не колеблясь, умирали. Все другие страсти свои они подчиняли этой великой страсти.
Так как подчиненное положение казалось им бесславным, положение же господствующее и повелевающее — славным, то и саму отчизну свою они желали прежде всего видеть свободной, а затем и господствующей. Поэтому–то, не вынося царской власти, они установили для себя однолетнее правление и двух повелителей, которые были названы консулами от соп5и!епс1о, а не царями или господами от царствования и господствования. Хотя, возможно, цари (ге§ез) получили свое название от управления (ге§епс!о), так что слово «царство» произошло от слова «царь», а слово «царь» — от слова «управлять»; но обстановка царственной власти, сообщавшая ей характер недоступности, была сочтена гордостью господствующей власти, а не порядком управления, а еще менее — благосклонностью власти, руководящей посредством советов (согшЛепиз). Итак, когда был изгнан царь Тарквиний и установлены консулы, тогда произошло то, что, как говорит тот же автор, перечисляя достоинства римлян, «город, — трудно поверить, — став свободным, усилился за короткое время до такой необыкновенной степени, до какой увлекся необыкновенной жаждой славы»**.
Эта–то жажда доброго о себе мнения, это страстное желание славы и породили то множество удивительных дел, дел, по человеческой мерке, похвальных и славных.
Тот же Саллюстий хвалит великих и знаменитых
БлаженныйАвгустин 236
мужей его времени, Марка Катона и Гая Цезаря, говоря, что Римская республика долго не имела великих по своей доблести, но на его памяти были эти два, великие доблестью, но различные нравом. Перечисляя при этом достоинства Цезаря, он к их числу относит то, что Цезарь страстно желал для себя большой власти, войска и новой войны, в которой мог бы блеснуть своей доблестью*. Таким образом, заветным желанием мужей великих доблестью было, чтобы Белл она возбуждала бедные народы к войне и терзала их кровавым бичем, лишь бы был случай блеснуть им своею доблестью. Это было делом жажды доброго о себе мнения и страстного желания славы. Итак, римляне совершили много великого сперва из любви к свободе, а потом — из любви к господству и из страстного желания доброго о себе мнения и славы. О том и другом свидетельствует и знаменитый поэт их; он говорит:
Тарквиний будет изгнан, и Порсена, Приняв его, стеснит осадой Рим.
Энея чада, дорожа свободой, Тогда поспешно с ними вступят в бой».
Тогда–то для них было великим делом или умереть, как надлежит храбрецам, или жить свободными. Но когда свобода была обеспечена, ими овладело такое страстное желание славы, что одной свободы, без приобретения в то же время и господства, для них было мало. Тогда стало считаться для них великим то, о чем говорит тот же поэт как бы от лица Юпитера:
Но вразумится, наконец, Юнона, Что в страхе ныне держит все окрест, И укрепит со мной она власть римлян, Вселенной хозяев, тоги носящий народ:
О граде Божием 237
Так решено. Когда же минут годы
ДомАссарака Фейю покорит,
На славные Микены иго рабства
Наложит, подчинит Аргос.
Хотя Вергилий, выводя Юпитера якобы предсказывающим будущее, на самом деле говорил о том, что уже совершилось, и имел в виду настоящее: тем не менее, я счел нужным привести его слова для того, чтобы показать, что после свободы римляне особенно высоко ценили власть; так что она ставилась в числе их великих достоинств. Поэтому тот же поэт свойственное римлянам искусство царствовать, повелевать, покорять и подавлять народы ставит выше искусств других народов, говоря:
Иные выкуют изящно медь,
Явят из мрамора почти живые лица,
И речь произнесут, сочтут всех звезд орбиты,
Дав звездам имена; но ты, сын Рима, помни
В чем ты искусней всех: в правленъи миром,
В умении твоем давать законы, Щадить покорных, низлагая гордых».
Эти искусства они применяли к делу тем удачней, чем менее предавались чувственным удовольствиям и чем менее расслабляли душу и тело, гоняясь за богатством и увеличивая его, портя этим нравы, обирая бедных граждан, расточая (богатства) на гнусных актеров. А так как подобные нравственные язвы сделались уже господствующими и обычными в то время, когда писал вышеприведенное Саллюстий и воспевал Вергилий, то не теми уже искусствами тогда достигали римляне чести и славы, а хитростью и обманом. Поэтому тот же Саллюстий говорит: «Но первоначально побуждением для человеческих душ служило скорее честолюбие, чем
БлаженныйАвгустин 238
жадность. Порок этот близок, впрочем, к добродетели. Ибо славы, чести, власти одинаково желают и человек добрый, и негодный; но первый (прибавляет Саллюстий) идет к этому прямым путем, а последний, не владея добрыми искусствами, добивается хитростью и обманом»*. Добрые искусства эти состоят в том, чтобы достигать чести, славы и власти добродетелью, а не лукавым честолюбием. И добрый, и негодный человек одинаково желают их; но первый, т. е. добрый, идет к ним прямым путем. Путь этот — добродетель, которая ведет, как к прямой своей цели, к славе, чести, власти. Что эти понятия были привиты римлянам, на это указывают храмы их богов. Считая богами дары Божий, они поставили рядом храмы Добродетели и Чести. Из этого можно видеть, какую цель они указывали добродетели, к чему направляли ее добрые люди. — а именно—к чести. Ибо злые не имели ее, и хотя желали иметь честь, но старались добиться ее дурными искусствами, т. е. хитростью и обманом.
Лучший отзыв сделан о Катоне. О нем Саллюстий говорит: «Чем меньше он искал славы, тем скорее она следовала за ним»**. Слава, которой они страстно желали, представляет собой суждение людей, хорошо думающих о людях. Поэтому лучше та добродетель, которая не удовлетворяется судом человеческим, а только судом своей собственной совести. Соответственно этому апостол говорит: «Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей» (II Кор. I, 12). И в другом месте: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (Гал. VI, 4). Итак, не добродетель должна гоняться за славой, честью и властью, которых они желали для себя и которых добрые люди старались
О граде Божием 239
достигнуть добрыми искусствами, а, напротив, они должны гоняться за добродетелью. Единственно истинная добродетель есть та, которая стремится к той цели, в которой заключается благо человека, не имеющее в сравнении с собою ничего лучшего. Поэтому и чести, которой просил Катон, он не должен был просить, а ее должно было дать ему общество за его добродетель без его просьбы.
Но из этих двух великих добродетелью мужей того времени, Цезаря и Катона, добродетель Катона была, очевидно, гораздо более похожа на действительную добродетель, чем добродетель Цезаря. Затем, каково было общество в то время и каково оно было прежде, это мы узнаем из речи самого Катона. «Не думайте, — говорит он, — будто наши предки сделали республику из малой великой посредством оружия. Если бы это было так, она у нас была бы (сейчас) несравненно лучше. У нас гораздо больше, чем у них, союзников и граждан, не говоря уже об оружии и боевых конях. Было другое, что сделало их великими и чего нет у нас: это — рачительность в делах внутренних, справедливое управление вне Рима, в совещании же о делах государственных — суждение свободное и непричастное ни к преступлению, ни к страсти. У нас же вместо этого — мотовство и жадность, бедность государственная, богатства в руках частных: отдаем честь богатству, любим бездеятельность; между хорошими и плохими людьми различия у нас нет; всем, что должно бы быть наградой добродетели, владеет у нас коварство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда каждый из вас думает только о себе, когда дома вы предаетесь удовольствиям, а вне его раболепствуете перед деньгами или влиятельными людьми, нападение на республику не встречает сопротивления»*.
БлаженныйАвгустин 240
Слушающий эти слова Катона или Саллюстия подумает, что все древние римляне или по крайней мере большая их часть были в то время такими, какими их описывают. Но на деле было иначе. В противном случае было бы несправедливо то, о чем пишет тот же Саллюстий и о чем я говорил уже во второй книге этого сочинения. Он говорит, что с самого начала существовали притеснения со стороны сильнейших, а из–за этого — вражда между народом и патрициями и другие внутренние раздоры; что справедливость и беспристрастность соблюдались лишь в то время, пока, после изгнания царей, опасались Тарквиния и пока не окончилась жестокая война, начатая из–за него с Этрурией; а потом патриции стали относиться к народу, как к рабам, подвергать его, как прежде цари, истязаниям, лишать земли и, устранив других, править одни; возникшим из–за этого раздорам, когда одни хотели господствовать, а другие не хотели быть рабами, положила конец вторая Пуническая война, ибо она снова навела сильный страх, удержала беспокойные умы от прежних волнений, дав им другую, большую заботу, и возвратила их к гражданскому согласию.
Великие дела совершались немногими, которые были по–своему добрыми людьми; и когда упомянутое зло делалось сносным и не переступало известных границ, попечением этих немногих добрых государство усиливалось, как утверждает тот же историк. Он говорит, что, читая и слыша о множестве знаменитых дел, которые совершил римский народ у себя дома и на войне, на море и на суше, он хотел обратить особое внимание на то, чем по преимуществу обусловливались эти знаменитые дела; так как он знал, что римляне очень часто небольшим войском сражались с большими легионами неприятелей, слышал, что при малых средствах велись войны с богатейшими царями, то после всестороннего обсуждения ему, говорит он, стало ясно, что все это совершила удивительная доблесть немногих граждан и что благодаря ей бедность побеждала богатства, малочисленность — многолюдность.
О граде Божием 241
Но после того, продолжает он, как общество было испорчено роскошью и бездействием, республика своим величием стала поддерживать лишь пороки военных и гражданских начальников. Итак, и Катон хвалит добродетель тех немногих, которые идут к славе, чести и власти прямым путем, т. е. посредством самой добродетели. От этого зависела рачительность в делах внутренних, о которой упомянул Катон, стремившийся к тому, чтобы государственная казна была богата, а частное имущество — скудно. Поэтому же, когда нравы испортились, порок создал противоположный порядок вещей: бедность государства и богатство частных лиц.
ГЛАВА XIII
Итак, соответственно тому, как существовали продолжительное время знаменитые царства на Востоке, Богу было угодно, чтобы появилось и царство на Западе, которое по времени было более поздним, но по обширности власти и по величию — более знаменитым. Для обуздания тяжких злодеяний множества новых народов Он предоставил власть таким людям, которые заботились об отчизне ради чести, хвалы и славы, при этом саму славу и благосостояние отчизны не колеблясь предпочитая собственному благосостоянию и ради этого одного порока, т. е. честолюбия, подавляя в себе жадность к деньгам и многие другие пороки. Ибо более здраво смотрит на вещи тот, кто находит и честолюбие пороком. Не укрылось это и от поэта Горация, который говорит:
Честолюбие пучит тебя, чтобы эту болезнь устранить, Следуй верному средству — почитывай книжки.
БлаженныйАвгустин 242
Он же в лирических стихах, чтобы обуздать страсть к господству, писал:
Твое царство расширится больше, коль жадность
свою обуздаешь, Чем когда отдаленный Кадикс ты ливийской землей
округлишь
И рабами твоими послужат и тот и другой финикиец.
Но верно и то, что люди, не испросившие по вере благочестия Духа Святого и не обуздывающие в себе гнуснейших похотей любовью к красоте духовной, из страстного желания человеческой чести и славы становятся если не святыми, то, по крайней мере, менее гнусными. Об этом не мог умолчать и Туллий. В книгах о республике, рассуждая об установлении главы государства, он говорит, что его следует питать славой; и вслед за тем упоминает, что предки его совершили множество удивительных и знаменитых дел из–за страстного стремления к славе. Впрочем, и в самих философских книгах не скрывает он этой язвы, а выставляет ее на свет. Говоря о таких ученых занятиях, которым следует предаваться ради истинного блага, а не пустой человеческой чести, он приводит такую повсеместно и всеми разделяемую сентенцию: «Науки и искусства питает честь; все горячо принимаются за славные занятия, оставляя в полном небрежении такие, которые кем–нибудь не одобряются»**.
ГЛАВА XIV
Таким образом, нет сомнения в том, что этой страсти к славе лучше противиться, чем уступать. Ибо всякий тем более уподобляется Богу, чем более чист от этой грязи. Хотя в этой жизни она,
О граде Божием 243
как правило, не искореняется совсем из сердца, потому что не перестает искушать и достаточно утвердившиеся в добре души, однако страсть к славе должна быть, по крайней мере, побеждена любовью к правде, так что если бы оказалось что–либо пренебрегаемым вследствие неодобрения некоторыми, а было бы между тем добрым и справедливым, то и само человеческое честолюбие устыдилось бы и уступило бы любви к истине. Этот пророк делается врагом Божиим, когда страсть к славе бывает в сердце сильнее страха или любви Божией, как говорил Господь: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» (Иоан. V, 44). Так же точно о некоторых уверовавших в Него, но опасавшихся открыто исповедать свою веру, евангелист говорит: «Возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божик» (Иоан. XII, 43).
Этого апостолы не делали. Они проповедовали имя Христово и там, где это не только не одобряли (соответственно тому, как говорит Цицерон, «оставляя в полном небрежении такие (занятия), которые кем–нибудь не одобряются»), но и проклинали. Они твердо держались того, что слышали от благого Учителя и вместе с тем — Врачевателя душ: «А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. X, 33). Под проклятиями и ругательствами, во время самых тяжких гонений и жестоких казней, вой человеческой ненависти не удержал их от проповеди спасения. Следствием их божественных дел и слов, следствием их божественной жизни, — когда суровые сердца были некоторым образом завоеваны и утвержден мир справедливости, — была великая слава Христова в Церкви. Они не успокоились, однако же, на ней, как на последней цели своей добродетели; но относя ее саму к славе Бога, благодатью Которого они были такими, они и в тех, о ком пеклись, воспламеняли этой искрой любовь к
БлаженныйАвгустин 244
Тому, благодаря Кому сами были такими. Ибо Учитель учил их быть добрыми не ради славы человеческой, говоря: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. VI, I).
Но вместе с тем, чтобы они не боялись, поняв эти слова превратно, нравиться людям и не приносили менее пользы, скрывая свою доброту, Он говорил им, указывая ту цель, ради которой они должны были приобретать известность: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. V, 16). Итак, не для того, «чтобы они видели вас», т. е. не так, как бы вы хотели обратить их взоры на себя, потому что вы не через себя представляете собою нечто; но чтобы «прославляли Отца вашего Небесного», обратившись к Которому они сделаются тем же, чем и вы. Им последовали мученики, которые не сами подвергали себя казням, а терпели назначенные им и превзошли и Сцевол, и Курциев, и Дециев как истинной добродетелью, — потому что она была обусловлена истинным благочестием, — так и бесчисленным своим множеством. Но так как Сцеволы, Курции и Деции принадлежали к граду земному (так как все обязанности их по отношению к этому граду имели своей целью его благополучие и царство не на небе, а на земле, не в жизни вечной, а в смене умирающих имеющими умереть), то что приходилось им любить, как не славу, посредством которой они хотели и после смерти продолжить некоторым образом свою жизнь в памяти прославляющих их людей?
ГЛАВА XV
Итак, если бы Бог, не давший вечной жизни со святыми ангелами Своими в небесном Своем граде, к участию в которой приводит истинное благочестие,
О граде Божием 245
совершающее религиозное поклонение, называемое греками Хсетрегсе, только единому истинному Богу, — если бы, говорю, Бог не предоставил римлянам и этой земной славы создать превосходнейшее государство, то их добрым искусствам, т. е. доблестям, посредством которых они старались достигнуть этой славы, не было бы воздано заслуженной награды. Ибо о таких, которые совершают нечто доброе, чтобы найти славу у людей, сам Господь говорит: «Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Мф. VI, 2). Так и они: пренебрегали ради общего достояния, т. е. ради республики и ее казны, своим достоянием частным; подавляли жадность; подавали свободный голос в совещаниях о делах отчизны; не запятнали себя перед лицом своих законов ни проступками, ни страстью; и всеми этими искусствами, как бы прямым путем, шли к чести, власти и славе: за это они и приобрели уважение к себе у всех почти народов; подчинили законам своего государства многие из них и в настоящее время славны почти у всех народов литературой и историей. Да, они не могут жаловаться на несправедливость верховного истинного Бога: они получили «награду свою».
ГЛАВА XVI
Совершенно иная награда ожидает святых, терпящих здесь поношения за град Божий, ненавистный приверженцам этого мира. Тот град вечен. В нем никто не рождается, потому что никто не умирает. В нем истинное и полное счастье, — не богиня, а дар Божий. Оттуда получили мы залог веры, обнадеживающий нас в то время, пока, странствуя, мы вздыхаем о красоте его. Там не восходит солнце над добрыми и злыми, но солнце правды сияет одним только добрым. И не будет особой нужды обогащать общественную казну за счет частного достояния там, где общим сокровищем будет сокровище истины. Поэтому и распространение
БлаженныйАвгустин 246
Римского государства, сделавшее его славным в среде человеческой, совершилось не для того только, чтобы подобная награда была воздана подобным людям, но и для того, чтобы граждане вечного града, пока странствуют на земле, не оставляли без внимания и обсуждения подобных примеров и видели, как велика должна быть любовь их к небесной отчизне ради жизни вечной, если так любима была отчизна земная ее гражданами ради славы человеческой.
ГЛАВА XVII
Ведь в том, что касается настоящей кратковременной жизни смертных, разве имеет существенное значение то, под чьею властью живет человек, который должен умереть, если только повелевающие не принуждают его к бесчестью и несправедливости? Разве римляне чем–нибудь повредили тем народам, которым, после покорения их, дали свои законы, за исключением того, что это сделано было ценой жестокого военного поражения? Случись это по взаимному соглашению, оно имело бы куда лучшие последствия: не было бы только славы триумфаторов. Ведь и сами римляне жили по тем же своим законам, которые давали другим. Происходи это все без участия Марса и Беллоны, не имей места победа (где никто не сражается, там и некому побеждать), — разве римляне не жили бы в одних и тех же условиях со всеми другими народами? Тем более это было бы так, если бы с самого начала было сделано то, что с большой охотой и в высшей степени человеколюбиво было сделано впоследствии, а именно: чтобы все, принадлежащие к Римскому государству, имели участие в гражданской жизни и были римскими гражданами; тогда бы достоянием всех сделалось то, что прежде было достоянием немногих. Только чернь, не имевша
О граде Божием 247
собственных полей, содержалась бы за счет государства; но содержание это доставлялось бы добрыми правителями государства гораздо охотнее при согласии между ними и народом, чем в то время, когда они были принуждаемы к этому силой.
В самом деле, я решительно не вижу, какое различие в смысле неприкосновенности, добрых нравов, самого даже общественного положения людей вносит то обстоятельство, что одни победили, а другие побеждены, за исключением этой пустейшей спеси человеческой славы, в которой получили свою мзду горевшие к ней сильной страстью и ведшие отчаянные войны. Разве их поля не обложены податями? Или им дозволяется изучать что–либо такое, что другим запрещено? Разве в других областях мало таких сенаторов, которые и в глаза не видели Рима? Отбрось чванство, и что такое будут все люди, как не люди? Если бы нравственная распущенность времени допускала, чтобы почетнейшими были люди лучшие, то и в этом случае человеческий почет не должен был бы считаться чем–либо особенно важным; потому что дым не имеет никакого веса.
Но воспользуемся и на этот раз благодеянием Господа Бога нашего: обратим внимание на то, как многим пренебрегли они, что они вытерпели, какие усмирили в себе страсти ради человеческой славы, полученной ими в виде награды за указанные добродетели. Достаточно будет нам и этого для подавления гордости. Если тот град, в котором нам обещано царствование, так же отличается от этого, как небо от земли, как радость временная от жизни вечной, как прочная слава от пустой похвалы, как общество ангелов от общества смертных, как свет Сотворившего солнце и луну от света луны и солнца, то граждане такого отечества, очевидно, не сделали ничего великого, если для его приобретения сделали что–нибудь доброе или претерпели какое–нибудь зло, коль скоро те сделали так много и столько вытерпели ради этого земного,
БлаженныйАвгустин 248
бывшего уже их достоянием отечества. И это при том, что отпущение грехов, привлекающее граждан к вечному отечеству, имеет нечто такое, с чем имело некоторое сходство известное право убежища Рамула, собравшее ради безнаказанности всякого рода преступлений массу народа, построившего Рим.
ГЛАВА XVIII
Итак, что за великий подвиг — пренебречь ради вечного и небесного отечества хотя бы и всеми соблазнами этого мира, если даже ради настоящего и временного отечества Брут мог убить своих сыновей, не будучи никем к тому принуждаем? Ведь умертвить своих детей во всяком случае труднее, чем то, что собрано или сбережено для детей, раздать — как следует это делать ради небесного отечества — бедным или потерять, если окажется необходимым поступить так ради веры и правды. Ибо счастливыми как нас, так и детей наших делают не богатства, которые мы можем потерять еще при своей жизни или которые после нашей смерти могут перейти во владение таких людей, которых мы не знаем, или таких, которых мы не желаем. Счастливыми делает Бог, Который есть истинное богатство души. Сам поэт в убийстве Брутом своих сыновей видит доказательство его несчастья. Он говорит:
_. детей, возбуждающих новые войны, Предав смерти отец, защищающий благо свободы, Как бы потомство о том не судило — несчастный!
А в следующем стихе утешает несчастного:
Так победила к отчизне любовь и жажда безмерная славы.
О граде Божием 249
Свобода и жажда человеческой славы — вот два побуждения, заставлявшие римлян совершать удивительные дела. Итак, если отец мог убить своих детей ради свободы граждан, которые могли умереть, и из жажды славы, ожидаемой от смертных, то что за великий подвиг, если ради свободы истинной, освобождающей нас от господства неправды, смерти и дьявола, и не из жажды человеческой славы, а из любви к людям, подлежащим освобождению не от царя Тарквиния, но от демонов и князя демонов, не детей убивают, а причисляют к детям бедных Христовых? Другой римский знаменитый муж, по прозванию Торкват, предал смерти сына за то, что по юношеской горячности он, будучи вызван неприятелем, сражался не против отечества, но за отечество, только против власти его, т. е. вопреки распоряжению, сделанному отцом–военачальником, хотя и остался победителем. Торкват опасался, чтобы пример пренебрежения властью не принес больше вреда, чем приносила добра слава убить неприятеля. Чем же после этого хвастаться тем, которые презирают земные блага, во всяком случае гораздо менее любимые, чем дети, ради законов бессмертной отчизны?
Фурий Камилл, освободивший свое отечество от ярма самых сильных врагов, вейенцев, и подвергшийся суду и осуждению со стороны завистников, освободил неблагодарное отечество в другой раз от галлов, потому что лучшего отечества, в котором бы он мог жить, пользуясь славой, у него не было. На каком же основании станет превозноситься, будто совершивший нечто великое, тот, кто будучи самым несправедливым образом лишен чести в Церкви плотскими врагами, не перешел на сторону ее неприятелей–еретиков и сам не стал сочинять никакой враждебной ей ереси, но насколько мог, защищал ее от пагубнейших еретических измышлений? Ведь другой Церкви, — не такой, в которой можно было бы жить с человеческой славой, но такой, в которой приобреталась бы жизнь вечная, — нет. Чтобы иметь покой от царя Порсены,
БлаженныйАвгустин 250
который угнетал римлян жестокой войной, Муций, не имевший возможности убить самого Порсену, а вместо него убивший по ошибке другого, протянул на глазах его правую руку на горящий жертвенник, говоря, что многие, такие же, как и он, дали взаимную клятву погубить его Порсена, устрашившись мужества Муция и заговора подобных ему, безотлагательно заключил мир. Кто после этого поставит в счет небесному царству свои заслуги, если бы ему пришлось, не самому проделывая это над собой, а терпя это вследствие чьего–либо преследования, предать за это царство огню не одну руку, но и все тело? Курций, разгорячив коня, стремглав бросился в полном вооружении в пропасть. Он подчинился прорицаниям своих богов. Они велели, чтобы римляне бросили туда лучшее из того, что имели Римляне могли понять это не иначе как в том смысле, что по повелению богов следовало броситься в эту пропасть вооруженному мужу. Что же великого сочтет себя сделавшим ради вечного отечества тот, кто, подвергшись преследованию со стороны какого–либо врага своей веры, не сам добровольно причинит себе подобную смерть, а умрет от его руки; тем более что от Господа своего и Царя того отечества он слышал такое истинное изречение: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. X, 28)? Если Деции, посвящая себя известными словами на смерть, совершали некоторым образом обет, в силу которого их гибель и укрощение их кровью гнева богов должны были обеспечить победу римскому войску, то святым мученикам вовсе не приходится гордиться, как будто бы чем–то особым, сделанным ими для приобретения того отечества, в котором ждет их вечное и истинное счастье, тем, что они по вере любви и по любви веры сражались до пролития своей крови не только за братьев, за которых кровь проливалась, но и за врагов, которыми она проливалась?
О граде Божием 251
Марк Пульвилл во время посвящения храма Юпитеру, Юноне и Минерве получил от завистников ложное известие о смерти сына, переданное с тою целью, чтобы, потрясенный им, он прекратил обряд и, таким образом, честь посвящения перешла к его товарищу. Пульвилл до такой степени холодно принял известие, что велел оставить сына без погребения. Жажда чести победила в его сердце скорбь о потере сына. Кто же осмелится сказать, что он совершил великий подвиг в проповеди святого Евангелия, освобождающей и собирающей от различных заблуждений граждан небесному отечеству, — он, которому сказал Господь, когда озабочен он был погребением своего отца' «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. VIII, 22)? Регул, чтобы не обмануть клятвой самых жестоких врагов, возвратился к ним из Рима Рассказывают, будто, когда римляне не хотели его отпускать, он отвечал им, что не может пользоваться в Риме именем честного гражданина после того, как был в рабстве у африканцев. Карфагеняне потом умертвили его посредством самых ужасных истязаний Существуют ли после этого какие–либо мучения, которые не следовало бы презирать для соблюдения верности той отчизне, к блаженству которой приводит сама эта верность? Или что это будет за воздаяние «Господу за все благодеяния Его» (Пс. СХУ, 3), если за верность, которой человек обязан Ему, он претерпит столько, сколько претерпел Регул за верность, которою обязался самым злым своим врагам?
Точно так же осмелится ли христианин гордиться и добровольной бедностью, принятой на себя для того, чтобы во время жизненного странствования беспрепятственнее идти по пути, приводящему к отечеству, в котором сам Бог представляет Собою истинное богатство, когда услышит или прочитает о Валерии, умершем во время своего консульства и оказавшемся до такой степени бедным, что погребение ему было устроено на собранные народные деньги?
БлаженныйАвгустин 252
Когда услышит или прочитает о Цинциннате, владевшем четырьмя югерами земли и обрабатывавшем их собственными руками, которого взяли от плуга, чтобы сделать диктатором, во всяком случае высшим по сану, чем консул, и который после того, как победил врагов и покрыл себя великой славой, остался в той же бедности? Или станет ли он прославлять как великий со своей стороны подвиг то, что никакие дары этого мира не смогли отвлечь его от небесного отечества, когда узнает, что множество великих даров Пирра, царя Эпира, даже обещанная четвертая часть царства, не поколебали верности Римскому государству Фабриция и что последний предпочел остаться бедным, но честным человеком?
Да, в ту пору, как республика, т. е. достояние народа, достояние отчизны, достояние общее, была у них могущественнейшей и богатейшей, сами они в своем домашнем быту были так бедны, что один из них, бывший уже два раза консулом, был изгнан из этого сената бедняков по цензорскому распоряжению за то, что имел, как оказалось, десять фунтов серебра в сосудах. Так были бедны они, обогащавшие общественную казну своими триумфами! Не понятно ли всем христианам, которые для высших целей обращают свои богатства в общее достояние, чтобы, — соответственно тому, как написано в Деяниях апостольских, — они раздавались всем, смотря по нужде каждого (Деян. II, 45), и чтобы никто не называл чего–либо своим, но все бы у них было общее (Деян. IV, 32), — не понятно ли, что им вовсе не следует гордиться, делая это для приобретения сообщества с ангелами, когда почти нечто такое же делали римляне для сохранения славы римского народа?
Это и многое другое, о чем мы можем прочитать у их писателей, не тогда ли получило особую известность и стало предметом пересудов, когда Римская империя, широко и далеко раздвинувшая свои пределы, развила свое могущество с замечательным успехом?
О граде Божием 253
Поэтому мы полагаем, что в империи этой, такой обширной и такой долговечной, знаменитой и славной доблестями столь великих мужей, и усилия этих мужей получили свою награду, которой добивались, и нам даны нужные примеры для подражания: чтобы было нам стыдно, если тех добродетелей, имеющих, во всяком случае, сходство с христианскими, которых они твердо держались ради славы земного града, мы не будем придерживаться, — чтобы не кичились гордостью. Ибо, как говорит апостол: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. VIII, 18). Для славы же человеческой и для славы нынешнего времени достаточно достойной считалась и их жизнь. Поэтому совершенно справедливо были отданы в жертву славе их и иудеи, убившие Христа, коль скоро Новый завет открыл, что было сокрыто в Ветхом, а именно: что единый и истинный Бог должен быть почитаем не ради земных и временных благ, которые божественное провидение раздает безразлично и добрым, и злым, а ради жизни вечной, ради даров непрекращающихся и ради союза с небесным градом; так что добивавшиеся и добившиеся какими бы то ни было добродетелями земной славы победили тех, которые, будучи заражены великими пороками, убили и отвергли Подателя истинной славы и вечного Гражданина.
ГЛАВА XIX
Есть, впрочем, различие между страстью к славе и страстью к господству. Хотя обычно бывает так, что увлекающийся до крайности страстью к славе домогается страстно и господства, однако те, кто желает истинной, хотя бы и человеческой славы, стараются быть на хорошем счету у людей благомыслящих. Есть в нравах много такого доброго, на что многие
БлаженныйАвгустин 254
смотрят прекрасно, хотя сами того часто не соблюдают. Посредством этого–то доброго в нравах и стараются достигнуть славы, власти и господства те, о которых говорит Саллюстий, что они идут прямым путем. А кто стремится к господству и власти без желания славы, заставляющего человека опасаться быть на дурном счету у людей благомыслящих, такой станет добиваться своей цели и посредством открытых до наглости злодеяний. Поэтому страстно желающий славы или идет к ней прямым путем, или, по крайней мере, старается достигнуть ее лукавством и обманом, желая казаться таким добрым, каким на самом деле не бывает. Поэтому же в человеке, имеющем добродетели, великой добродетелью является презрение к славе, потому что презрение его ведомо Богу, но от человеческого суда скрыто. Пусть он и сделал бы, например, что–нибудь для человеческих глаз такое, из чего можно было бы видеть его презрение к славе: могут подумать, что он сделал это для большей похвалы, т. е. для достижения большей славы, и тогда у него нет средства представить себя для чувств подозревающих его людей иным, чем каким они его себе представляют. Но презирающий суд людей, расточающих похвалы, презирает и безрассудство подозревающих; хотя, если он истинно добр, не презирает их спасения. Ибо имеющий добродетели от Духа Божия справедлив до такой степени, что любит даже врагов, и любит так, что желает, чтобы его ненавистники и хулители исправились и были вместе с ним участниками не земного, а небесного отечества. В хвалителях же своих, хотя он и не уважает того, что его хвалят, но уважает то, что его любят; и не желает обманывать хвалящих, чтобы не обмануть любящих. И поэтому горячо настаивает, чтобы похвалы воздавались Тому, от Кого получает человек то, что в нем по справедливости заслуживает похвалы. А тот, кто, презирая славу, жадно стремится к господству, тот превосходит и зверей как в лютости, так и в неумеренности.
О граде Божием 255
Такими были некоторые из римлян. Перестав заботиться о мнении людей, они не перестали страстно желать господства.
История передает, что таких было много. Но вершину и как бы своего рода Капитолий этого порока первым занял Нерон Цезарь. Распущенность его была такова, что, казалось, он не считал нужным останавливаться решительно ни перед чем; а жестокость такова, что можно было бы подумать, если бы то не было известно, что в нем нет ничего доброго. Однако же и таким власть господствования дается единственно провидением высочайшего Бога, когда Он находит человечество заслуживающим таких господ. Известно божественное изречение относительно этого предмета. Премудрость Божия говорит: «Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду» (Притч. VIII, 15). Но чтобы под тиранами* мы подразумевали самых худших и недобрых царей, а не самых сильных, соответственно древнему значению этого имени, почему и Вергилий говорит:
Мир мой удел, я держусь за десницу тирана», —
в другом месте сказано яснейшим образом: «Царствовал лицемер к соблазну народа» (Иов. XXXIV, 30). Поэтому, хотя я, насколько мог, и достаточно показал, по какой причине единый истинный и праведный Бог содействовал римлянам, добрым соответственно известной идее земного государства, создать такую славную империю, тем не менее на это может быть и другая, более тайная причина, заключавшаяся в разного рода заслугах и проступках рода человеческого, известная более Богу, чем нам.
Всем людям благочестивым известно, что без истинного благочестия, т. е. без истинного почитани
*У Августина сказано не «повелители», а «тираны».
БлаженныйАвгустин 256
истинного Бога, никто не может иметь истинной добродетели; и что та добродетель не есть добродетель истинная, которая покоряется человеческой славе. Те же, которые не суть граждане вечного государства, называемого в наших писаниях градом Бо–жиим, бывают более полезны для земного государства, когда имеют по крайней мере такую добродетель, чем никакой. Но если ведущие в силу истинного благочестия добродетельную жизнь владеют искусством управлять народами, то ничего не может быть счастливее для человечества, если по милосердию Божию они получат власть. Такие люди все добродетели свои, какие только могут иметь в этой жизни, приписывают единственно благодати Божией, которая их дала им соответственно их желаниям, вере, молитвам, и в то же время понимают, как много недостает им до совершенства в правде, составляющего принадлежность того сообщества ангелов, войти в которое они стремятся. Как бы ни хвалили и ни превозносили ту добродетель, которая без истинного благочестия повинуется человеческой славе, она не может сравниться даже с маленькими ростками добродетели в святых, которые видят свою надежду в благодати и милосердии истинного Бога.
ГЛАВА XX
Философы, полагающие верх человеческого блага в самой добродетели, — чтобы пристыдить тех из философов, которые хотя добродетели и хвалят, но цель им указывают в телесном наслаждении, и наслаждение считают желаемым ради него самого, а добродетели — ради наслаждения, — имеют обыкновение рисовать в своих речах такую картину: на царском троне восседает, будто какая–нибудь изнеженная царица, человеческая похоть. В виде служанок ее окружают добродетели, наблюдающие ее малейшие
О граде Божием 257
уважения, чтобы делать все, что она прикажет. И вот приказывает она благоразумию заниматься внимательным исследованием того, каким образом похоть могла бы царствовать и быть в безопасности; справедливости велит оказывать по возможности благодеяния для приобретения дружбы, необходимой для телесных удобств, и никому не причинять обид, потому что похоть не могла бы пользоваться безопасностью, если бы нарушала законы; мужеству делает внушение, чтобы в случае, если бы у тела появилась какая–либо болезнь, не ведущая к смерти, оно мужественно удерживало госпожу свою, т. е. похоть, в области душевных помыслов, чтобы воспоминание о прежних ее утехах смягчало остроту настоящей скорби; воздержанию велит, чтобы принимало пищу, даже и приятную, в таком количестве, чтобы от неумеренности не случилось какого–нибудь вреда здоровью и чтобы не пострадало чувственное наслаждение, которое эпикурейцы по преимуществу и полагают в здоровом состоянии тела. Таким образом, добродетели во всем величии своей славы раболепствуют перед похотью, будто перед какою–нибудь властолюбивой и ничтожной женщиной.
Говорят, что нет ничего постыднее и безобразнее этой картины и что она менее всего выносима для глаз людей добрых, — и говорят справедливо. Но не думаю, чтобы картина вышла надлежащей красоты и в том случае, если бы изображала раболепство добродетелей перед человеческой славой. Хотя слава эта и не похожа на изнеженную женщину, однако же она напыщенна и отличается крайней пустотой. Поэтому служить ей так, чтобы благоразумие ничего не предусматривало, справедливость ничего не распределяла, воздержание ничего не умеряло и мужество ничего не переносило кроме того, чем можно угодить людям и услужить ветреной славе, несообразно с серьезным характером и некоторого рода неподатливостью добродетелей. От постыдной
БлаженныйАвгустин 258
слабости этого рода не могут защитить себя и те, которые, презирая чужие суждения вследствие якобы пренебрежения славой, кажутся сами себе мудрыми и сами собою любуются. Ибо добродетель их, если только она есть, также подчиняется, только несколько иначе, человеческой хвале. Ведь и он сам, любующийся собою, человек Тот же, кто верует и возлагает надежду на Бога, Которого любит в силу истинного благочестия, большее внимание обращает на то, чем он не нравится себе, чем на то, что в нем есть такое, что приятно не столько для него самого, сколько для истины; да и то самое, чем он и может быть приятен, приписывает исключительно милосердию Божию, которому боится не угодить; за одно, что он исправил в себе, он приносит благодарения, о другом, что ему предстоит исправить, молится.
ГЛАВА XXI
Если это так, то власть раздавать царствования и правления мы должны приписать только истинному Богу, Который в царстве небесном дает счастье одним благочестивым, а царство земное — и благочестивым, и нечестивым, как бывает угодно Ему, Которому ничто несправедливое не угодно. Хотя, как мы сказали, и есть нечто, что благоволил Он открыть нам, однако для нас было бы много и слишком превзошло бы силы наши, если бы мы вздумали исследовать тайны человеческие и подвергать решительному обсуждению заслуги и проступки царств. Итак, этот единый истинный Бог, не оставивший рода человеческого своим судом и помощью, дал, когда захотел и насколько захотел, царство римлянам, как дал его ассирийцам или даже персам, которые, как показывают их писания, почитали только двух богов: одного доброго, а другого злого. (Я умолчу о народе еврейском, о котором, насколько было нужно, я уже сказал,
О граде Божием 259
и который во время своего царствования почитал только одного Бога.)
Итак, сей истинный Бог дал персам жатвы без почитания ими богини Сегетии; дал и другие земные дары без почитания того множества богов, которых римляне поставили по одному над каждой отдельной вещью или даже по нескольку над отдельными вещами; дал им и царство без почитания тех богов, благодаря почитанию которых римляне считали себя достигшими царствования. Так же и в отношении к отдельным лицам: дав власть Марию, Он же дал ее и Гаю Цезарю; дав Августу, дал и Нерону, дав Веспасианам, как отцу, так и сыну, императорам, отличавшимся в высшей степени привлекательными свойствами, Он же дал и Домициану, отличавшемуся крайнею жестокостью; дав (чтобы не перебирать последовательно всех) царствование Константину–христианину, Он же дал ее и Юлиану Отступнику. Святотатственная и проклятая страсть к гаданиям, пустоте которых последний предался, обманула его превосходные природные дарования мечтами о господствовании, когда он, в надежде на несомненную победу, сжег корабли, везшие необходимые съестные припасы; а потом, с горячностью увлекшись смелыми предприятиями и будучи очень скоро убит, оставил войско в неприятельских странах в крайне бедственном положении, так что оно не могло выйти оттуда иначе, как при условии перемещения границ Римской империи вопреки известному пророчеству бога Термина, о котором мы упомянули в предыдущей книге. Бог Термин уступил, таким образом, необходимости, хотя и не уступал Юпитеру. Всем этим управляет и распоряжается по своему благоусмотрению единый и истинный Бог. Таинственны основания этого управления и распоряжения, но неужели они несправедливы?
БлаженныйАвгустин 260
ГЛАВА XXII
То же и в отношении продолжительности войн. Соизволит ли Он по своему справедливому суду и милосердию подвергнуть человеческий род бедствиям или дать ему утешение, — одни войны оканчиваются быстрее, другие тянутся долго. Война с пиратами Помпеем и третья Пуническая война Сципионом были окончены с невероятной быстротой в самое короткое время. Так же и восстание гладиаторов, хотя во время него и потерпели поражение многие предводители римских войск и два консула, а Италия была страшно разорена и опустошена, окончилось, однако же, после многих жертв на третьем году. После долговременного и самого покорного рабства под римским ярмом, когда Римскому государству были подчинены уже многие народы и Карфаген разрушен, попытались добиться свободы не посторонние, но италийские же народы: пиценты, марсы и пелигны. Во время этой италийской войны римляне терпели весьма частые поражения; погибли в ней и два консула, и много других благороднейших сенаторов. Бедствие это не продолжалось, однако же, очень долго: оно окончилось на пятом году. Но вторая Пуническая война, сопровождавшаяся величайшими разорениями и бедствиями республики, в течение восемнадцати лет истощала и почти уничтожила римские силы: в двух сражениях пало около семидесяти тысяч римлян. Первая Пуническая война продолжалась двадцать три года; война с Митридатом — сорок лет. А чтобы кто–нибудь, слыша похвалы прошедшим временам за всякого рода добродетели, не подумал, будто римляне начального периода римской истории вследствие большого мужества оканчивали войны быстрее, я напомню войну самнитскую, продолжавшуюся почти пятьдесят лет, во время которой римляне потерпели такое поражение, что были вынуждены склонить головы под иго. Но так как они не славу любили ради справедливости, а справедливость любили
О граде Божием 261
ради славы, то и нарушили установленный мир и заключенные условия.
Я напоминаю об этом потому, что многие, не зная прошедших событий, когда в христианские времена какая–либо война длится сколько–нибудь продолжительно, самым бесстыдным образом обвиняют в этом христианскую религию, крича, что если бы якобы ее не было и если бы божества почитались древним культом, то известная римская доблесть, окончившая с помощью Марса и Беллоны такое множество войн с чрезвычайной быстротой, уже завершила бы давно и эту войну. Итак, читавшие пусть припомнят, какие продолжительные войны были ведены древними римлянами, какой разнообразный имели они исход, какими плачевными сопровождались поражениями, как вихри бедствий этого рода потрясали землю, будто бурливое море; и припомнив, пусть сознаются в том, в чем прежде не хотели сознаваться, и пусть своими безумными речами против Бога самих себя не губят, а людей невежественных не обманывают.
ГЛАВА XXIII
А вот то удивительное, что совершил по Своему милосердию Бог на нашей памяти в самое последнее время, то они не с благодарностью воспоминают, а стараются всячески, насколько это возможно, придать забвению. Мы были бы также неблагодарны, как и они, если бы умолчали об этом. Когда Радагайс, царь готов, расположившись с огромным и свирепым войском в окрестностях Рима, держал меч над головами римлян, он в один день с необыкновенной быстротой потерпел такое поражение, что в ту пору, как из римлян не только ни один не был убит, но даже и ранен, его войска пало более ста тысяч и сам он, попав в плен с сыновьями, был подвергнут заслуженному наказанию — смерти. Вступи он, такой нечестивый
БлаженныйАвгустин 262
и со стольким нечестивым войском, в Рим: кого бы он пощадил? Каким местам мучеников отдал бы он честь? В чьем лице почтил бы Бога? Чьей крови не пролил бы он и чье целомудрие оставил бы неприкосновенным? А между тем, как они кричали о своих богах, с какой наглостью разглашали, что он якобы потому побеждал, оттого располагал такой великой силой, что ежедневными жертвоприношениями умилостивлял и привлекал к себе богов, чего римлянам будто бы не дозволяла христианская религия? Когда он подходил уже к этим местам, где по мановению небесного величества постигла его гибель, и молва о нем повсеместно росла, нам рассказывали в Карфагене, что язычники верили, рассказывали, кричали, будто при покровительстве и помощи расположенных к нему богов, которым он ежедневно, как говорили, приносил жертвы, его решительно нельзя победить тем, которые и сами не совершали подобных священнодействий римским богам, и не позволяли совершать их кому–либо другому.
И вот за такое милосердие не благодарят несчастные Бога, хотя Он, вознамерившись исправить человеческие нравы, заслуживавшие более тяжкого наказания, вторжением варваров, первоначально смягчил свой гнев такой кротостью, что предоставил римлянам чудесную победу над Радагайсом; это для того, чтобы демоны, которым он поклонялся, не воспользовались его славой для развращения слабых душ. А потом Он предоставил взять Рим таким варварам, которые вопреки всякому обычаю предшествовавших войн с уважением охраняли искавших убежища в священных местах христианской религии и против самих демонов и нечестивых жертвоприношений, на которых Радагайс основывал свои надежды, вооружились во имя христианства до такой степени, что, казалось, вели более жестокую войну с ними, чем с людьми. Таким образом истинный Господь и Правитель мира и подверг
О граде Божием 263
милосердному наказанию римлян и превосходящей возможность победой над поклонниками демонов показал, что для благосостояния настоящей жизни нет необходимости в упомянутых жертвоприношениях; чтобы не те, которые с упорством оспаривают, но те, которые с благоразумием вникают в дело, не оставляли религии истинной по причине настоящих нужд, а напротив, держались ее еще более в вернейшем ожидании вечной жизни.
ГЛАВА XXIV
Мы называем некоторых христианских императоров счастливыми не потому, что они долго управляли, или, скончавшись мирной смертью, оставили после себя управляющими своих сыновей, или покорили врагов государства, или в состоянии были избегнуть и усмирить возмугившихся против них граждан. Такие и другие награды или утешения этой многомятежной жизни удостоились получить и некоторые из почитателей демонов, не принадлежащие к царству Божию, к которому принадлежат императоры христианские. Случилось так по милосердию Божию для того, чтобы верующие в Бога не домогались этого как высочайшего блага.
Но мы называем христианских государей счастливыми, если они управляют справедливо; если окруженные лестью и крайним низкопоклонством не превозносятся, но помнят, что они — люди; если употребляют свою власть на распространение почитания Бога и на служение Его величию; если боятся, любят и чтут Бога; если любят более то царство, в котором не боятся иметь сообщников; если медлят с наказаниями и охотно милуют; если сами эти наказания употребляют как необходимые средства для управления и охранения государства, а не как удовлетворение своей ненависти к врагам; если и помилование изрекают не для того, чтобы
БлаженныйАвгустин 264
оставить неправду безнаказанной, а в надежде на исправление; если в том случае, когда обстоятельства вынуждают их произнести суровый приговор, они смягчают его милосердием и благотворительностью; если обстановка и род их жизни тем скромнее, чем более могли бы быть роскошными; если они лучше желают господствовать над дурными наклонностями, чем над какими бы то ни было народами, и делают все это не из желания какой–нибудь пустой славы, а из любви к вечному счастью; если не пренебрегают приносить Богу за грехи свои жертву смирения, сожаления и молитвы. Таких христианских императоров мы называем счастливыми, т. е. счастливыми пока надеждой, и которые потом будут счастливы на деле, когда наступит то, чего мы ожидаем.
ГЛАВА XXV
А чтобы люди, верующие, что Бога следует почитать ради жизни вечной, не пришли к мысли, будто земного величия и земного царствования не может достигнуть никто, кроме чтущих демонов, и будто духи эти проявляют в таких великую силу, — всеблагой Бог осыпал императора Константина, не поклонявшегося демонам, но чтившего именно истинного Бога, такими земными дарами, о каких никто не осмеливался даже мечтать. Он дал ему возможность создать город, союзный римскому государству, как бы дочь Древнего Рима, но без всякого демонского храма и без всякого идола*.
В лице Константина долго царствовал, управлял всей Римской империей и защищал ее один Август. Блистательнейшими победами сопровождались его военные походы и
* Константинополь.
О граде Божием 265
сражения; для подавления тиранов все обстоятельства благоприятствовали ему; умер он в весьма преклонные годы от болезни и старости, оставив правителями империи своих сыновей. Но, с другой стороны, чтобы какой–нибудь император не был христианином только для того, чтобы воспользоваться счастьем Константина, Бог соизволил Иовиана отозвать из этой жизни гораздо скорее, чем Юлиана; допустил Грациану пасть от меча тирана, хотя суд Его в отношении к Грациану был гораздо утешительнее для чувства, чем в отношении к великому Помпею, почитателю якобы римских богов. За Помпея не смог отомстить Катон, которого Помпеи оставил некоторым образом наследником гражданской войны; а за Грациана отомстил (хотя благочестивые души и не ищут такого рода утешений) Феодосии, которого Грациан, имея маленького брата, сделал соправителем царства, потому что больше желал союза веры, чем чрезмерной власти.
ГЛАВА XXVI
Поэтому и Феодосии не только при жизни Грациана сохранял ему верность, которую должен был хранить, но и после смерти его, когда маленький брат его Валентиниан был изгнан его убийцей Максимом, дал, как христианин, приют сироте в областях своей империи, заботился о нем с отеческой любовью, хотя мог от него, лишенного всякой поддержки, освободиться безо всякого затруднения, если бы руководствовался более страстью к расширению своей царской власти, чем любовью оказывать благодеяния; руководствуясь этой любовью, он сохранил принятому сироте императорское достоинство и утешил его своим человеколюбием и хорошим отношением.
Затем, когда упомянутый успех сделал Максима опасным, Феодосии в тяжких своих заботах не прибегнул к святотатственным и недозволительным гаданиям, а послал к Иоанну,
БлаженныйАвгустин 266
обитавшему в пустыне египетской, о котором из народной молвы узнал как о рабе Божием, одаренном духом пророчества, и получил от него не подлежавшее никакому сомнению извещение о победе. Едва уничтожив тирана Максима, он с милостивейшим уважением восстановил отрока Валентиниана в тех областях его империи, из которых он был изгнан; а когда очень скоро этот отрок от коварства или другой, быть может случайной, причины погиб, и на место его императором был незаконно избран другой тиран Евгений, Феодосии, снова получив пророческий ответ и, укрепившись верой, уничтожил и этого тирана, сражаясь против его сильнейшего войска больше молитвой, чем мечом. Бывшие в сражении воины рассказывали нам, что поднявшийся со стороны Феодосия на противников его сильный ветер вырывал у них из рук бросаемые копья и стрелы и не только нес с необыкновенной силой все, что на них было пущено, но и их собственные стрелы обращал на их же тела. Потому поэт Клавдиан, хотя и не был христианином, сказал в своем панегирике:
О, Богу любезный! Тебе из вертепов Эол
Шлет бури оружье, эфир выступает в союзе
И заговорщики–ветры сигнал посылают к сраженью'.
Став же победителем, он, как думал и говорил ранее, низверг идолы Юпитера, которые, уж не знаю какими обрядами, были якобы заговорены на его гибель и поставлены в Альпах, а молнии их, сделанные из золота, благодушно и благосклонно подарил гонцам, когда они шутя (что допускала тогдашняя радость) рассказывали, будто молнии эти хотели поразить их. Детей врагов своих, истребленных не по его велению, но яростью войны, когда эти дети,
О граде Божием 267
еще не будучи христианами, искали убежища в церкви, он пожелал по этому поводу видеть христианами и христианской любовью полюбил: не лишил их имущества, а окружил еще большим почетом. Ни против кого после победы не позволил он действовать личной вражде. Он не хотел завершать гражданские войны так, как завершали их Цинна, Марий, Сулла и другие им подобные; но более скорбел о том, что они возникали, чем желал кому–нибудь вредить, когда они завершались.
В промежутках между всем этим он с самого начала своего правления не переставал самыми справедливыми и милосердными законами помогать церкви в ее борьбе против нечестивых. Еретик Валент, покровительствуя арианам, жестоко угнетал ее; а он желал лучше быть членом церкви, чем царствовать на земле. Повсюду повелел он низвергнуть языческих идолов, хорошо понимая, что земные дары находятся во власти не демонов, а истинного Бога. А что может быть изумительнее его религиозного уничижения, когда, обещав было вследствие ходатайства епископов прощение фессалоникийцам за тягчайшее злодеяние, он вследствие возмущения некоторых, причастных к тому злодеянию, не удержался и отомстил, и потом, принужденный церковными правилами, приносил публичное покаяние так, что народ, прося за него, гораздо более плакал, видя императорское величие униженным, чем боялся его, когда оно было грешным образом разгневано? Эти и подобные им добрые дела, которые упоминать было бы долго, взял он с собою из настоящего временного дыма всякого рода высоты и величия человеческого; наградой этих дел служит вечное счастье, которое подает Бог одним только действительно благочестивым. Все же остальные дары настоящей жизни, достоинства ли то, или средства, равно как и сам мир, свет, воздух, земля, вода, плоды, душа самого человека, тело, чувства,
БлаженныйАвгустин 268
ум, жизнь, — раздаются без различия и добрым, и злым. К числу этих даров принадлежит и всякого рода величие власти, которое дается для временного управления.
Теперь я нахожу нужным ответить тем, которые, увидев на основании яснейших доказательств, что в деле достижения временных благ, к которым одним стремятся глупые, не приносит никакой пользы многочисленность ложных богов, силятся доказать, будто богов следует почитать не ради пользы настоящей жизни, но ради той, которая будет после смерти. Ибо тем, которые чтут суетное из любви к этому миру и по детскому неразумию жалуются на недозволение им этого, я, полагаю, ответил достаточно в написанных пяти книгах. Когда я издал три первые из них и они разошлись по множеству рук, я слышал, будто некоторые готовили против них какое–то письменное возражение. Потом мне передали, будто возражение это уже написано, но ожидается время, когда можно было бы выпустить его в свет без опасения. Советую им не желать того, что не принесет им пользы. Возражать покажется делом легким всякому, кто не пожелает молчать. Ибо что болтливее пустоты? Болтовня возможна для нее не потому, чтобы она была истиной: если пожелает, она может кричать даже громче, чем истина.
Пусть рассмотрят внимательно все; и если при беспристрастном обсуждении они вдруг найдут что–либо такое, что они могли бы не опровергнуть, а скорее — подвергнуть осмеянию по бесстыдной болтливости и по сатирическому или шутовскому легкомыслию, — пусть умерят свое пустословие: пусть лучше поправят их мудрые, чем похвалят глупые. Если и времени удобного ждут они не для свободы говорить правду, а для необузданного злословия, то как бы не случилось с ними того, о чем говорит Туллий, упоминая об одном человеке, называвшем себя счастливым потому, что имел возможность грешить: «Несчастный, ему можно было
О граде Божием 269
грешить».Поэтому, если есть кто–нибудь такой, который считает себя счастливым потому, что имеет возможность злословить, то он будет гораздо счастливее, если такой возможности для него не будет вовсе. Оставив пустое хвастовство, он может и в наше время выдвигать, как бы из желания получить разъяснение намеченного им вопроса, разного рода возражения; и от тех, к кому в дружеском собеседовании честно, серьезно и свободно обратится за разъяснением, услышать то, что надлежит услышать.
БлаженныйАвгустин 270
КНИГА ШЕСТАЯ
Предисловие
В пяти предыдущих книгах были достаточно, как мне кажется, опровергнуты мною те, по мнению которых многие и ложные боги, которых христианская религия признает бесполезными идолами или нечистыми духами и опасными демонами, — во всяком случае тварями, а не Творцом, — должны почитаться ради выгод настоящей смертной жизни и земных благ, — почитаться обрядами и служением, называемыми по–гречески А.сстреих и приличествующими единому истинному Богу. Но кому не ясно, что для крайнего безумия или упрямства не хватит не только этих пяти, но и скольких угодно книг, коль скоро они находят пустейшую славу в том, чтобы не уступать ни перед какими доводами истины к погибели, конечно же, тех, над которыми господствуют столь великие пороки? Ибо, несмотря на все искусство врача, недуг может остаться непобедимым не по вине врача, а по нежеланию лечиться больного.
Те же, которые, поняв и обсудив прочитанное, относятся к нему или без всякого упрямства, или, по крайней мере, без большого и крайнего упрямства, свойственного застарелому заблуждению, — те скажут, что своими пятью оконченными книгами мы сделали бы, пожалуй, гораздо больше, чем того требовали поднятые нами вопросы, если бы распространялись поменьше; для них не может быть сомнения в том, что вся та ненависть, которую из–за бедствий настоящей жизни и превратности и изменчивости земных предметов питают к христианской религии люди невежественные, — между тем как люди ученые,
О граде Божием 271
находящиеся под влиянием безумного непочтения, не только потворствуют, но и покровительствуют ей вопреки своей совести, — вся эта ненависть совершенно лишена разумного основания и, напротив того, исполнена легкомысленной дерзости и опаснейшего задора.
ГЛАВА 1
Итак, согласно предложенному нами плану, теперь должны быть опровергнуты и изобличены и те, по мнению которых языческие боги, сокрушенные христианской религией, должны почитаться не ради настоящей жизни, но ради жизни, которая наступит после смерти. Свое рассуждение об этом предмете мне хотелось бы начать следующими полными истины словами святого псалма: «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи» (Пс. XXXIX, 5). Но среди этой суеты и ложных пустословий с гораздо большей снисходительностью должны быть выслушаны философы: им не нравились подобные мнения и заблуждения народов, которые воздвигли кумиры богам и о тех, кого называют бессмертными богами, измыслили много ложного и недостойного или поверили этому измышленному, и свои верования примешали к культу и священным обрядам. С этими–то людьми, которые если и не открыто, то по крайней мере шепотом время от времени неодобрительно высказывались о подобных вещах, стоит порассуждать о поставленном выше вопросе, а именно: о том, следует ли ради жизни, наступающей после смерти, почитать не единого Бога, создавшего все духовные и телесные твари, а многих богов, которые, по мнению некоторых и притом лучших и славнейших философов, своим бытием и верховным положением обязаны этому единому Богу?
БлаженныйАвгустин 272
Впрочем, кто стал бы слушать речи и рассуждения о том, будто вечную жизнь дают какие–либо боги из тех, о которых я упоминал в четвертой книге, которым каждому в отдельности приписываются свои особенные, касающиеся мельчайших предметов обязанности? Или эти, весьма сведущие и умнейшие мужи (которые гордятся как великим благодеянием, что своими сочинениями научили людей, почему каждому из богов надо молиться, чего от каждого просить, чтобы с отвратительнейшими кривляниями, какие сплошь и рядом наблюдаются у мимов, у Либера не просили воды, а у Лимф — вина), дадут кому–нибудь из людей, — когда он станет молиться бессмертным богам и на просьбу у Лимф вина получит от них ответ: «Мы имеем воду, вино проси у Либера», — основание сказать: «Если вы вина не имеете, дайте мне, по крайней мере, вечную жизнь»? Что может быть чудовищнее этой нелепости? Не скажут ли эти хохотуньи (они обыкновенно очень смешливы), — если только они, подобно демонам, не стараются вводить в обман, — в ответ этому просителю: «Можешь ли ты, любезный, думать, что в нашей власти располагать жизнью (у!сат), когда знаешь, что мы не имеем даже и виноградной лозы (viсет)?»
Итак, было бы бессмысленнейшей глупостью просить или надеяться на вечную жизнь от таких богов, которые в настоящей кратковременной и бедственной жизни и в том, что касается ее поддержания и подкрепления, считаются надзирающими за столь мелкими частностями, что если бы у одного из них попросили что–либо находящееся во власти и ведении другого, то это показалось бы несообразным и нелепым до такой степени, что было бы весьма похожим на дурачество мимов. Это смешно, когда делается умелыми комедиантами в театре; еще смешнее, когда делается невежественными глупцами в жизни. Итак, насколько это касается богов, которых ввели в обиход в государстве, ученые люди тщательно исследовали и передали
О граде Божием 273
потомству, о чем и какому богу или богине следует молиться; о чем, например, Либеру, о чем — Лимфам, о чем — Вулкану и прочим богам, которых я отчасти упомянул в четвертой книге, отчасти же не счел нужным и упоминать. Затем, если попросить у Цереры вина, у Либера хлеба, у Вулкана воды, у Лимф огня, то это будет уже заблуждением, во сколько же раз должно быть большим безумием молиться тому или иному из этих богов о жизни вечной?
Когда мы рассуждали о земном царстве и останавливались на вопросе, кого из богов или богинь люди могли бы считать подателями этого царства, то, перебрав всех их, нашли чуждым всякой истины думать, будто кто–нибудь из этих многих и ложных богов обустраивает даже эти земные царства. Не будет ли после этого бессмысленнейшим бесчестьем верить, будто кто–нибудь из них может дать жизнь вечную, которую безо всякого сомнения и сравнения надлежит предпочитать всем земным царствам? Ведь не потому же подобные боги оказались не в состоянии дать даже земного царства, что они якобы велики и преславны, а это — мало и презренно, так что заботиться о нем было бы несовместимо с их величием. Пусть быстро погибающие земные царства вследствие человеческой слабости и заслуживают на чей–либо взгляд презрения; но сами боги таковы, что оказались недостойными и того, чтобы предоставить им дарование и сохранение даже и этих царств. Если же (как это видно из сказанного в двух предыдущих книгах) из всей этой толпы богов–аристократов и богов–плебеев ни один не в состоянии даровать смертным смертные же царства, то во сколько раз менее может он делать смертных бессмертными?
Но мы ведем уже речь с теми, которые полагают, что боги должны почитаться не ради настоящей, а ради будущей жизни, — должны почитаться не за то, что им, вопреки истине, приписывается на основа–нии пустого мнения, как принадлежащее и свойственное их
БлаженныйАвгустин 274
власти (как полагают те, которые почитание богов считают необходимым ради выгод настоящей смертной жизни и которых, насколько мог, я опроверг в пяти предыдущих книгах). Если бы дело обстояло так, что возраст поклонников богини Ювенты был бы цветущее, а презирающие ее или умирали в юности, или же, будучи юношами, впадали в старческую дряхлость; если бы бородатая Фортуна покрывала волосами щеки своих почитателей гуще и пышнее, а тех, кто отвергает ее, мы видели бы безбородыми или имеющими бороду жидкую; то мы и тогда имели бы полное основание сказать, что могущество каждой из этих богинь на этом и оканчивается, что они некоторым образом ограничены в своих действиях, а потому не следует ни у Ювенты просить будущей жизни, если она не в состоянии дать бороды, ни от бородатой Фортуны ожидать чего–либо доброго в будущей жизни, когда в настоящей она не имеет ни малейшей власти сообщать и тот самый возраст, в котором человек покрывается бородой. Но если нет необходимости почитать этих богинь ради того, что считается находящимся в их власти, потому что многие почитатели Ювенты решительно не пользуются цветущей юностью, а из тех, которые не чтут ее, многие наслаждаются юношеской крепостью; равно и многие поклонники бородатой Фортуны или вовсе не имеют бороды, или же имеют не бороду, а бороденку, и сколько ни кланяются ей, все равно остаются предметом насмешек со стороны бородатых ее недоброжелателей, то не безумным ли будет человеческое сердце, если, найдя пустым и смешным почитание богов из–за временных и преходящих даров, из которых один оказывается подлежащим ведению одного бога, а другой — ведению другого, признает это почитание полезным ради будущей жизни? Что эти боги дают вечную жизнь, этого не посмели сказать и те, которые, полагая, что богов
О граде Божием 275
чрезвычайно много, разделили между ними временные действия, за которые бы их почитали безумствующие толпы, чтобы ни один из них не сидел без дела.
ГЛАВА II
Кто исследовал все это тщательнее Марка Варро–на? Кто сделал открытия более ученые, предоставил размышления более глубокие, взаимосвязи более остроумные, описания более полные? Особенным красноречием, правда, он не отличался; зато до такой степени отличался ученостью и обширностью выводов, что во всех отраслях знания, которое мы называем светским, а они — свободным, в такой же мере обогащает занимающегося науками фактическими сведениями, в какой Цицерон доставляет наслаждение изучающему красноречие. Это подтверждает и сам Туллий, говоря в своих академических книгах, что состязание, которое в этих книгах излагается, он вел с Марком Варроном, «человеком, — замечает он, — бесспорно остроумнейшим и, несомненно, ученейшим из всех». Не говорит «красноречивым», потому что в этом отношении Варрон значительно уступает Цицерону, но «бесспорно остроумнейшим». И в тех книгах, в которых подвергает все сомнению, т. е. академических, прибавляет: «несомненно, ученейшим». Значит, в этом отношении он был так уверен, что сомнение, которое распространяет на все, в данном случае устраняет; как будто, выступая в защиту сомнений академиков, относительно одного этого пункта забыл, что он и сам академик.
А в первой книге, давая похвальный отзыв о литературных трудах Варрона, он. говорит: «В своем собственном городе мы были странниками и блуждали, точно заезжие гости; твои книги как бы вернули нас
БлаженныйАвгустин 276
домой, чтобы мы узнали наконец, кто мы такие и где находимся. Ты ознакомил нас с хронологией отечества, его историей, со священным правом, с жреческой, домашней и общественной дисциплиной, с положением стран и мест, с именами, родами, значениями и причинами вещей божественных и человеческих». Итак, этот столь знаменитый и славный опытностью муж (о нем даже и Теренциан в весьма изящном стишке говорит: «Варрон, муж во всех отношениях ученый»), который прочитал так много, что удивляешься, как у него хватило времени еще что–то написать, и написал так много, что едва веришь, чтобы он мог какого–либо автора прочитать, — этот, говорю, столь великий умом и эрудицией человек вряд ли в числе тех якобы божественных вещей, которые описывал, описал столько достойного смеха, презрения и отвращения, если бы был противником и гонителем этих вещей и если бы считал их относящимися не к религии, а к суеверию.
И вот он, чтивший богов и находивший их достойными почитания до такой степени, что, как сам же говорит в упомянутом сочинении, боялся, как бы они не погибли не от нашествия неприятелей, а от небрежности граждан, от которой он, как от своего рода гибели, по его же словам, спасал их и благодаря своим книгам укрывал и сохранял в памяти добродетельных людей гораздо надежнее, чем Метелл — храм Весты от пожара, а Эней — пенатов от троянского разгрома, — он же сам и передал потомству для чтения такие вещи, которые на взгляд как разумных, так и неразумных людей кажутся заслуживающими презрения и крайне враждебными религиозной истине. Что же это значит, как не то, что этот остроумнейший и весьма сведущий, но не освобожденный Святым Духом человек находился под гнетом обычаев и законов своего государства; и тем не менее не хотел под видом похвалы религии молчать о том, что беспокоило его душу.
О граде Божием 277
ГЛАВА III
Варрон написал сорок одну книгу о древностях; разделил их на вещи человеческие и божественные; вещам человеческим он посвятил двадцать пять книг, а божественным — шестнадцать. Основанием такого деления послужило его желание оставить о вещах человеческих четыре части по шесть книг в каждой; он обратил внимание на то, кто делает, где делает, когда делает, что делает. Таким образом, в первых шести книгах он говорит о людях, в других шести — о местах, в следующих шести — о временах, в последних шести — о вещах. Четырежды шесть — только двадцать четыре; но одну особую книгу он ставит в начале, говоря в ней предварительно о всех этих предметах общим образом. И в отношении к божественным вещам он выдержал то же начало деления, насколько дело касается того, что должно совершаться в честь богов. Ибо совершаются культы, совершаются людьми, совершаются в известных местах и в известные времена. Каждый из этих четырех упомянутых мною предметов он рассматривает в трех особых книгах: в первых трех говорит о людях, в других трех — о местах, в следующих трех — о временах, в последних трех — о культах, с тончайшим разграничением исследуя и здесь: кем, где, когда и что отправляется. Но поскольку нужно было сказать и о том, кому отправляется, и читатель особенно ждал именно этого, то он присовокупил еще три последние книги и о самих богах, так что из трех, взятых пять раз, составилось пятнадцать. Всех же книг, как мы сказали, шестнадцать, потому что и в начале этих книг он поставил одну особую, которая служит общим к ним введением.
Написав эту книгу, он подразделяет последовательно каждую из пяти частей. Три первые книги, касающиеся людей, подразделяются у него так, что первая из них говорит о понтификах, вторая — об авгурах, третья — о храмовых квиндецемвирах. Из второй группы книг,
БлаженныйАвгустин 278
касающихся мест, в первой говорится о часовнях, во второй — о храмах, в третьей — о религиозных местах; следующие три, касающиеся времен, т. е. праздничных дней, подразделяются так, что первая из них говорит о днях жертвоприношений, вторая — об играх цирка, третья — о театральных играх; в четвертой группе книг, касающихся культа, первая своим предметом имеет освящения, вторая — культ частный, третья — культ публичный За этой, так сказать, пышной процессией в трех последних книгах выступают и сами боги, для которых устроен весь этот культ: в первой — боги известные, во второй — боги неизвестные, в третьей, самой последней, — боги избранные и главные.
ГЛАВА IV
Что желать или надеяться во всем этом изяществе и тонкости последовательных разделений и разграничений найти вечную жизнь было бы делом напрасным, — это каждому человеку, не враждебному самому себе в силу сердечного упрямства, очевидно из того, что нами уже сказано, и станет еще очевиднее из того, что будет сказано ниже. В самом деле, все эти установления суть установления или людей, или демонов, в том числе и тех демонов, которых они называют добрыми; мы же скажем прямо: всех без исключения нечистых и несомненно злых духов, которые из зависти тайно вкладывают в помыслы нечестивых людей вредные мнения, губящие человеческую душу и лишающие ее возможности соглашаться с неизменной и вечной истиной и прилепляться к ней, а иногда и открыто действуют на их чувства и, насколько могут, утверждают во вредных мнениях разными обольщениями. Варрон сам сознается, что о человеческих вещах он написал вначале, а о божественных потом потому, что вначале
О граде Божием 279
появились государства, а затем уже ими были установлены божественные вещи. Между тем истинная религия установлена не каким–либо земным государством, но сама созидает небесный град. Ее внушает и ей учит своих истинных почитателей истинный Бог, Податель вечной жизни.
Итак, Варрон, по собственному его признанию, вначале написал о человеческих, а затем уже о божественных вещах потому, что божественные вещи установлены людьми; в подтверждение этого он говорит следующее: «Как живописец, — пишет он, — существует раньше, чем картина, архитектор — раньше, чем здание, так же точно и государства появились раньше, чем то, что ими установлено». Он прибавляет, впрочем, что вначале написал бы о богах, а потом о людях, если бы писал о всей и всякой природе богов. Как будто в своих книгах он пишет только о некоторой, а не о всей природе богов, или будто природа богов, хотя и не вся, а только некоторая, не должна считаться более раннею, чем природа людей! Затем, когда он тщательно описывает в последующих трех книгах богов известных, неизвестных и избранных, то ведь, кажется, он не пропустил ни одной природы богов? Итак, что же значат его слова: «Если бы мы писали о всей природе богов и людей, то рассказали бы вначале о богах, а потом уже о людях»? Или он писал о всей и всякой природе богов, или о некоторой, или же о не существующей вовсе. Если о всей и всякой, то божественные вещи непременно должны были бы быть поставлены им впереди человеческих; если о некоторой, то почему бы и в таком случае не сказать о божественных вещах прежде, чем о человеческих? Разве даже и некоторая часть богов не заслуживает предпочтения перед всеми людьми? Если же предпочтение некоторой части богов перед целым миром человеческих вещей казалось делом слишком уж великим, то часть эта заслуживала предпочтения перед вещами по крайней мере римскими.
БлаженныйАвгустин 280
Ведь в книгах о человеческих вещах описываются у него вещи не настолько, насколько они относятся ко всему земному шару, а лишь настолько, насколько касаются одного Рима.
Однако сам Варрон говорит, что в порядке написания книги о человеческих вещах он поставил раньше книг о вещах божественных заслуженно, как живописца ставят раньше картины, архитектора раньше здания, весьма ясно показывая этим, что и описанные им божественные вещи изобретены людьми, как картина или здание. Остается, следовательно, заключить, что писал он о природе богов вовсе не существующей; но сказать это открыто он не хотел, а оставил догадываться читателям. Ведь когда Варрон говорит, что он пишет «не о всей и всякой природе богов», то это выражение мы можем понимать и так, что он пишет о некоторой природе богов, но можем понимать и так, что он пишет о природе совсем не существующей: потому что природа, которая не существует, не есть ни вся, ни какая–нибудь. Действительно, когда он говорит, что если бы писал о всей и всякой природе богов, то в порядке описания она должна была бы быть поставлена раньше человеческих вещей; но когда вслед за тем не он говорит, а говорит сама истина, что хотя не вся и всякая, а по крайней мере какая бы то ни была истинно божественная природа должна быть поставлена впереди дел римских, а между тем поставлена после, и поставлена справедливо, то остается заключить, что природа эта не существует.
Итак, Варрон хотел предпочесть не человеческие вещи вещам божественным, а вещи истинные вещам ложным. Ведь в том, что он писал о вещах человеческих, он следовал историческим рассказам; чему же, как не пустому верованию в вещи, которых и на свете нет, следовал он, когда говорил о так называемых вещах божественных? Это, несомненно, он и хотел дать понять тонким намеком, не только описав человеческие вещи прежде
О граде Божием 281
божественных, но и приведя основание, почему так сделал. Умолчи он об этом, другие сделанное им объяснили бы, пожалуй, иначе. Но присовокуплением этого основания он отнял всякую возможность делать другим произвольные на этот счет догадки, и в то же время достаточно ясно показал, что предпочел людей человеческим учреждениям, а не человеческую природу природе божественной. Таким образом, он сознался, что книги о божественных вещах написаны им не о правде, свойственной природе, а о лжи, свойственной заблуждению. В другом месте, как упомянул я в четвертой книге, он выражается на этот счет яснее, говоря, что если бы сам он построил новый город, то взял бы для него образец у природы; но так как нашел уже город старый, то не мог не следовать его обычаям.
ГЛАВА V
Затем, по словам того же Варрона, есть три рода теологии, т. е. теории, объясняющей божественные вещи, из которых один называется мифическим, другой — физическим, третий — гражданским; что же это за три рода теологии? Тот род теологии, который у Варрона поставлен первым, по–латыни мы назвали бы сказочным; но будем называть его баснословным, так как мифическим назван он от басен: греческое слово ц–иЭо^ значит басня. Второй пусть называется естественным согласно обычному словоупотреблению. Третий, наконец, сам Варрон называет по–латыни гражданским. «Мифический, — продолжает Варрон, — это тот род (теологии), который преимущественно употребляют поэты; физический — философы; гражданский — народы. В том роде, который я назвал первым, много придумано такого, что противно достоинству и природе бессмертных. Тут рассказывается, что один бог рождается из головы, другой — из бедра, третий — из капель крови; что боги воруют, прелюбодействуют,
БлаженныйАвгустин 282
прислуживают людям; наконец, тут же богам приписывается такое, что бывает свойственно не только вообще человеку, но и человеку самому презренному». На этот раз Варрон осмелился, считая себя в данном случае находящимся в полной безопасности, ясно и недвусмысленно сказать, какое оскорбление природе богов нанесено лживыми баснями. Ибо в этом случае он говорил не о естественной и гражданской теологии, а о теологии басенной, которую находил возможным порицать открыто.
Посмотрим теперь, что говорит он о втором роде. «О втором роде, указанном мною, — пишет Варрон, — философы оставили нам много сочинений, в которых показывается, кто такие боги, где они, каково их происхождение и свойство, с какого времени они существуют или же были всегда; из огня ли они, как думал Гераклит, или из чисел, как полагал Пифагор, или из атомов, как говорил Эпикур; и многое другое, что удобнее слушать в стенах школ, чем на форуме». В этом роде теологии, который называется физическим и обязан своим происхождением философам, Варрон не порицает ничего; упоминает только о спорах между самими философами, благодаря которым возникло множество различных сект. Однако этот род теологии он удаляет с форума, т. е. от народа, и запирает его в стенах школ. Между тем, первому роду теологии, роду самому лживому и мерзкому, предоставляет право гражданства. Вот каков благочестивый народный слух, хоть бы и у самих римлян! Что о бессмертных богах говорят философы, того он не выносит, а что напевают поэты и представляют гистрионы, то, хотя измышлено вопреки достоинству и природе богов и может быть свойственно не только человеку вообще, но и самому презренному человеку, он не только выносит, но и слушает с удовольствием. Мало того, думают даже, что все подобные вещи угодны самим богам
О граде Божием 283
и что ими надлежит их умилостивлять.
Кто–нибудь скажет: «Отделим эти два рода теологии, мифический и физический, т. е. баснословный и естественный, от гражданского, который теперь у нас на очереди и который выделил сам Варрон, и затем посмотрим, как он объясняет этот гражданский». Почему баснословный род должен быть отделен от гражданского, это я понимаю: причина в том, что он ложен, мерзок и постыден. Но желание отделить естественный от гражданского — чем назвать иным, как не выражением признания, что и сам гражданский ложен? В самом деле, если он естественен, то что же в нем заслуживает порицания, за что бы его надлежало исключить? С другой стороны, если так называемая гражданская теология — теология неестественная, то в чем ее заслуга, за что бы ее следовало принимать? Вот где настоящая причина, почему Варрон писал о человеческих вещах прежде, а о божественных после: она в том, что в вещах божественных он имел дело не с природой, а с человеческими
установлениями.
Обратимся теперь к теологии гражданской. «Третий род, — говорит Варрон, — граждане должны знать и понимать, а особенно жрецы в гражданских обществах. В нем говорится о том, каких богов надлежит почитать публично, какие совершать каждому из них обряды и жертвоприношения». Послушаем, что говорится далее. «Первая теология, — замечает он, — приспособлена по преимуществу к театру, вторая — к миру, третья — к обществу гражданскому». Кто не поймет, какому роду отдавал Варрон пальму первенства? Конечно, второму, который, как было сказано выше, принадлежит философам. Этот род, по словам его, приспособлен к миру, а по представлению философов в вещах нет ничего превосходнее мира. Но, спрашивается, отделил ли он или объединил те две теологии, первую и третью, т. е. теологию театра и (теологию) гражданского общества? Мы видим, что принадлежащее
БлаженныйАвгустин 284
городу не всегда принадлежит миру, хотя город и существует в мире: может случиться, что на основании ложных мнений в городе поклоняются и веруют тому, чего никогда не было ни в мире, ни даже вне мира. А где театр, как не в городе? Кто установил театр, как не государство? Для чего оно установило его, как не для сценических игр? Где эти сценические игры, как не в числе божественных вещей, о которых с таким искусством написаны эти книги?
ГЛАВА VI
Хотя ты, Марк Варрон, человек остроумный и в высшей степени ученый, однако же ты не Бог, а человек, и притом человек, не приведенный Духом Божиим к познанию истины и свободы, чтобы мог созерцать и открывать нечто божественное. Ты, пожалуй, видишь, как должны отличаться божественные вещи от человеческой лживости и пустоты; но в вопросах общественного культа боишься затронуть ошибочные народные мнения и обычаи, хотя, когда так или иначе рассматриваешь их и сам сознаешься, и вся литература ваша провозглашает, что они несогласны с природой даже таких богов, каких слабый человеческий разум представляет себе в стихиях этого мира. Чем же помог тебе в настоящем случае человеческий, пускай и самый лучший, разум? Чем помогла тебе в таких затруднительных обстоятельствах человеческая, хотя и всесторонняя и самая обширная ученость? Ты хочешь почитать богов естественных, но вынуждаешь чтить богов гражданских. Придумал ты богов басенных, чтобы свободнее высказать свой образ мыслей о них; но осуждаешь при этом волей–неволей и богов гражданских. Говоришь, что мифические боги приспособлены к театру, естественные — к миру,
О граде Божием 285
а гражданские — к городу; но мир — дело божественное, а города и театры — человеческие; и в театрах осмеиваются не иные какие боги, но те же, которые почитаются в храмах; и игры вы даете не иным богам, но тем же, которым приносите жертвы. Не гораздо ли более достойное свободного мыслителя и более тонкое разграничение сделал бы ты, если бы сказал, что одни боги — боги естественные, а другие установлены людьми; что относительно же установленных людьми одно говорят книги поэтов, и совсем иное — книги жрецов; но что–де и те и другие настолько согласны между собой во лжи, что одинаково нравятся демонам, которые враждебны учению истины?
Оставим пока так называемую естественную теологию, о которой будет идти речь потом, и спросим: благоразумно ли просить и ждать вечной жизни от богов поэтических, театральных, сценических? Разумеется, нет; пусть истинный Бог сохранит нас от такого крайнего и святотатственного безумия! Каким образом можно было бы просить вечной жизни у таких богов, которым подобные вещи нравятся и которых они умилостивляют, когда выводят на свет их преступления? Полагаю, что никто еще не доходил в своем безумии до такого дикого бесчестья. Итак, ни от басенной, ни от гражданской теологии никто не получает вечной жизни. Та, измышляя о богах постыдные вещи, сеет, а эта, благоприятствуя ей, пожинает. Первая сеет ложь, последняя — собирает. Первая марает божественные вещи придуманными преступлениями, последняя шутливые представления преступлений вводит в число вещей божественных. Первая гнусные вымыслы о богах воспевает в стихах поэтов, последняя посвящает их богам во время самих празднеств богов. Первая воспевает, последняя делает предметом любви злодеяния и преступления богов. Та выдает или измышляет, эта или подтверждает действительное, или услаждается ложным. Обе они гнусны; обе достойны
БлаженныйАвгустин 286
презрения; но та, театральная, проповедует публичное непотребство, а эта, гражданская, этим непотребством украшается. От того ли, спрашивается, ждать вечной жизни, чем оскверняется и настоящая кратковременная? Или сообщество людей негодных, когда они втираются к нам в расположение, оскверняет жизнь, а сообщество демонов, когда их чтут их же преступлениями, жизни не оскверняет? Ведь если их преступления — преступления действительные, то как злы они в таком случае! Если же ложные, то как худо они почитаются!
Читая это, человек, крайне несведущий в вещах подобного рода, может, пожалуй, подумать, что о богах разглашается преступным образом лишь то недостойное божественного величия и достойное осмеяния, что воспевается в стихах поэтов и представляется на сцене; но те священные действия, которые совершаются не гистрионами, а жрецами, свободны и чужды этой мерзости. Если бы это было так, в таком случае никто никогда не пришел бы к мысли совершать в честь богов театральные мерзости, и сами боги никогда не потребовали бы их для себя. Но потому и не было стыдно совершать такие вещи в угоду богам в театрах, что подобные им отправлялись и в храмах.
Сам Варрон, стараясь отличить гражданскую теологию как нечто особенное от теологии баснословной и естественной, давал понять, что она скорее образована из той и другой, чем совершенно обособлена от них. По его словам, произведения поэтов дают меньше, чем нужно знать народу, а сочинения философов, напротив, больше, чем народу полезно рассуждать. «И того и другого, — говорит он, — следовало избежать, и потому из обоих родов немало взято для целей гражданских. Поэтому вместе с гражданскими вещами мы описываем и то, что они имеют общего с поэтами, хотя в данном отношении у нас больше общего с философами, чем с поэтами». Значит, есть общее и с поэтами. Но в другом месте
О граде Божием 287
Варрон говорит, что относительно поколений богов народы склонялись более на сторону поэтов, чем физиков. Очевидно, что в первом случае он говорит о том, что должно быть, а в другом — о том, что есть в действительности. По его словам, физики писали ради пользы, а поэты ради удовольствия. Поэтому то, чему из написанного поэтами народы не должны следовать, представляет собой описания преступлений богов. А между тем, преступления эти доставляют наслаждение и народу, и самим богам! Он говорит, что поэты пишут ради удовольствия, а не ради пользы. А пишут, однако же, такое, чего боги от народов ждут, а народы дают!
ГЛАВА VII
Итак, сличим с теологией гражданской исполненную непотребства и мерзости теологию басенную, театральную и сценическую, и вся она, заслуженно признаваемая достойной порицания и отвращения, окажется частью той, которую будто бы следует уважать и почитать, — притом не такой частью (как я намерен доказать), которая не гармонирует с целым и, таким образом, как бы чужда общему телу, соединена и сцеплена с ним некстати и невпопад, но совершенно согласованной и соединенной с ним теснейшим образом, т. е. органической частью этого тела.
На что, в самом деле, указывают эти статуи, формы, возрасты, пол и одежды богов? Неужели бородатый Юпитер и безбородый Меркурий есть только у поэтов, а у понтификов — нет. Неужели в честь При–апа отправляют гнусные безобразия одни только мимы, но никак не жрецы? Или он одним образом выставляется для поклонения в местах священных и совсем другим является в театр, служа объектом всеобщей потехи? Старик Сатурн и юноша Аполлон — только ли маски гистрионов, но вовсе не статуи, стоящие в храмах? Почему Форкул,
БлаженныйАвгустин 288
охраняющий двери, и Лиментин, сторожащий порог, суть боги мужского пола, а Кардея, охраняющая петли, божество женское? Не встречается ли в книгах о божественных вещах такое, что серьезные поэты для своих стихов посчитали бы постыдным? Разве лишь театральная Диана носит оружие, а городская — просто дева? Или сценический Аполлон играет на цитре, а дельфийский не владеет этим искусством? Но это в ряду других мерзостей — еще вполне терпимые. Чего только не думали о самом Юпитере те, которые поставили его кормилицу в Капитолии? Не вывел ли их на свет Эвгемер, по описанию которого, исполненному отнюдь не басенных бредней, а составленному с исторической тщательностью, все подобного рода боги были и смертными людьми? Приставив к столу Юпитера богов–прихлебателей, паразитов, что другое хотели они сделать, как не установить шутовские обряды? Если бы мим сказал, что к столу Юпитера приглашены паразиты, показалось бы, что он хочет вызвать смех. Но это сказал Варрон; сказал не в насмешку над богами, а для их прославления; доказывается это тем, что он написал это в книгах о вещах божественных, а не в книгах о вещах человеческих, — написал не там, где говорит о сценических играх, а там, где рассуждает о нравах Капитолия. В конце концов подобные вещи одерживают над ним верх, и он сознается, что, коль скоро богов наделили человече-'скими формами, то и стали верить, что они наслаждаются человеческими удовольствиями.
Подобные вредные верования не упустили случая поддержать со своей стороны и злые духи, потешаясь над человеческими умами. Вот и вышло, что прислужник храма Геркулеса от нечего делать в свободное время начал играть в кости сам с собой, попеременно обеими руками, одной за Геркулеса, другой за самого себя, с условием: если выиграет сам, то на доходы храма приготовит себе ужин и приведет любовницу; если же победителем останется Геркулес, то и другое он предложит за свой счет Геркулесу. Проиграв самому себе, он предложил богу Геркулесу обещанный ужин и известнейшую блудницу Ларентину. Эта последняя, заснув в храме, увидела во сне, будто к ней обратился Геркулес и сказал ей, что вознаграждение, которое она думала получить от Геркулеса, она получит от того юноши, которого встретит первым при выходе из храма. Когда же она выходила, первым встретил ее весьма богатый юноша Тарутий, долго жил с нею в любовной связи и умер, оставив ее своей наследницей. Получив огромнейшие деньги, она, чтобы не показаться неблагодарной за божественный дар, поступила так, как считала наиболее приятным богам: написала завещание в пользу римского народа; когда она умерла, завещание ее было найдено. Говорят, что за такую услугу ее удостоили даже божественных почестей.
Выдумай это поэты, сыграй подобное мимы, оно, несомненно, было бы отнесено к басенной теологии и признано несовместимым с достоинством теологии гражданской. Но поскольку о такого рода мерзостях, — мерзостях, встречающихся не у поэтов, мимов и в театрах, а у народа, в культе и в храмах, — говорит такой знаменитый писатель, то не гистрио–ны напрасно представляют в увеселительных играх такое великое непотребство богов, а напротив, жрецы напрасно стараются изображать в обрядах несуществующее благородство этих богов. Есть культ Юноны, — он отправляется на излюбленном ею острове Самосе, — в котором она выходит замуж за Юпитера; есть культ Цереры, в котором разыскивается похищенная Плутоном Прозерпина; есть культ Венеры, в котором оплакивается растерзанный вепрем ее любимец, прекраснейший юноша Адонис; есть культ Матери богов, в котором злосчастная судьба красивого юноши Атиса, любимого ею и оскопленного из женской
10 О граде Божием
БлаженныйАвгустин 290
ревности,оплакивается при участии несчастных скопцов же, называемых галлами.
Все это — вещи гораздо более безобразные, чем всевозможная сценическая мерзость. Зачем же в таком случае стараются отделить мифические, относящиеся собственно к театру измышления поэтов о богах от гражданской теологии, имеющей, мол, отношение к городу, как от почетного и достойного — недостойное и мерзкое? Скорее следовало бы благодарить гис–трионов за то, что они щадят стыдливость людей и не показывают на зрелищах всего того, что скрывается за священными стенами храмов. Что хорошего можно думать об их сокровенной святыне, когда так много гнусного в том, что выставляется на обозрение? Что тайно совершается у них людьми оскопленными и женоподобными, — это, конечно, знают они одни. Но самих этих людей, несчастных, отвратительным образом обезображенных и изуродованных, они никак не смогли скрыть. Пусть убеждают они, кого могут, что через подобных людей у них совершается нечто священное; они не могут отрицать, что сами эти люди считаются у них принадлежащими к их святыне. Что у них совершается, мы не знаем; но через каких людей совершается, знаем. Мы знаем, что представляется у них на сцене; а на сцену никогда, даже в хоре блудниц, не проникал человек оскопленный и женоподобный, хотя на этой сцене дают у них представления люди непотребные и бесчестные, а люди честные давать их не должны. Каков же, следовательно, тот культ, для отправления которого святость избрала таких людей, каких гнушается и театральная мерзость?
ГЛАВА VIII
Но все это, говорят, имеет некоторый физиологический смысл, т. е. заимствуемый из естественных законов. Как будто в настоящем рассуждении мы имеем дело с физиологией,
О граде Божием 291
а не с теологией, говорим о природе, а не о Боге! Ибо, хотя истинный Бог есть Бог не по мнению, а по природе, однако не всякая природа — Бог; потому что природа есть и у человека, и у скота, и у дерева, и у камня, но ни один из этих предметов не есть Бог. Если же сущность того толкования, которое прилагается к культу Матери богов, состоит в том, что Мать богов — земля, то к чему спрашивать дальше, вести исследование об остальном? Что более очевидным образом подтверждает мнение тех, которые говорят, что все эти боги были людьми? В таком случае все они — земнородные, равно как и мать их земля. В истинном же богословии земля — творение Божие, а не мать.
Впрочем, как бы культ ее ни толковали и как бы ни сопоставляли его с природой вещей, во всяком случае мужчинам быть в роли женщин — не в порядке природы, а против него. Этот недуг, это преступление, этот позор открыто исповедуется в ее культе, тогда как при самых порочных людских нравах признание в нем едва добивается пытками. Наконец, если этот культ, более отвратительный, чем сценические мерзости, извиняется и очищается тем, что относительно его существуют своего рода толкования, по которым он означает природу вещей, то почему же не извиняются и не очищаются подобным же образом и поэтические измышления? Ведь многие толкуют точно так же и эти измышления; даже самый жестокий и ужасный миф о Сатурне, пожирающем своих сыновей, некоторые толкуют в том смысле, что время, которое обозначается под именем Сатурна, само же истребляет все, что ни рождает; или, как думал Варрон, Сатурн означает семена, которые снова возвращаются в землю, из которой выходят. Другие объясняли иным образом как то же самое, так и остальное.
Тем не менее, эта теология называется баснословной, и, несмотря на все подобные толкования, ее порицают, отвергают и не одобряют. Ее отличают не только от естественной
БлаженныйАвгустин 292
теологии, принадлежащей философам, но и от гражданской, о которой у нас идет речь, имеющей, как говорят, отношение к городам и народам, — отличают как такую, которая должна быть по справедливости отвергнута за то, что измыслила о богах недостойные вещи. Расчет в этом случае очевиден. Остроумнейшие и ученейшие люди, писавшие об этих вещах, полагали, что обе теологии, басенная и гражданская, одинаково заслуживают порицания; но первую они осмеливались осуждать, а последнюю — нет. Поэтому первую они выставили как достойную порицания, а последнюю представляли для сравнения, как похожую на первую; это не для того, чтобы последнюю избирали, предпочитая первой, а для того, чтобы было понятно, что и последняя наравне с первой заслуживает презрения; и чтобы, таким образом, и не порицать открыто гражданскую теологию, и научить лучшие умы отвергать как ту, так и другую, и следовать так называемой естественной теологии. Ибо гражданская и басенная теология — обе баснословные и обе гражданские. Обе их найдет баснословными тот, кто благоразумно рассмотрит пустоту и мерзость обеих; обе найдет гражданскими, кто в празднествах гражданских богов и в городских божественных вещах обратит внимание на сценические игры, относящиеся собственно к теологии баснословной. Каким же, спрашивается, образом власть давать вечную жизнь можно приписывать кому–либо их таких богов, статуи и культы которых показывают, что они своими формами, своим возрастом, полом, одеждами, поколениями и обрядами весьма похожи на баснословных богов, отвергаемых самым явным образом. Все эти боги — или люди, за свою жизнь или смерть удостоенные культов и празднеств по подстрекательству и настоянию демонов, или же, по крайней мере, нечистые духа, при всяком удобном случае подкрадывающиеся к человеку, чтобы склонить его ум к заблуждению.
О граде Божием 293
ГЛАВА IX
Сами обязанности богов, ограниченные такими пустяками и мелочами, требующие, по их мнению, чтобы каждому из них молились о подлежащем его попечению даре (о многих из этих обязанностей, хотя не о всех, мы уже сказали), не свойственны ли скорее шутовству мимов, чем достоинству богов? Если бы кто–нибудь пригласил к своему ребенку двух кормилиц, из которых одна давала бы ему только пищу, а другая — только питье, подобно тому, как у них для этих целей призываются две богини, Эдука и Потина, . мы бы, несомненно, решили, что этот человек сумасбродствует и в своем доме делает нечто подобное миму. По их мнению, Либер назван так от освобождения (НЬегатепшт), потому что по его милости мужчины освобождаются от семени, когда испускают его при совокуплении; по отношению к женщинам, — так как и их они представляют испускающими семя, — ту же роль исполняет Либера, которую они считают еще и Венерой. Поэтому в храме Либера выставляется мужеский член, а в храме Либеры — женский. Либеру, сверх того, предлагают и женщин, и вино для возбуждения похоти. Поэтому вакханалии отправляются с величайшим безумием. Сам Варрон сознается, что подобные вещи могли твориться совершающими вакханалии не иначе, как при умственном исступлении. Впоследствии, впрочем, вакханалии вызвали против себя справедливое неодобрение здравомыслящего сената, и он повелел их уничтожить. Быть может, они наконец догадались, по крайней мере в этом случае, что в умах людей могут делать нечистые духи, которых считали богами. Таких вещей не делали и в театре. Там играют, но не безумствуют; хотя, впрочем, считать богами тех, которые услаждаются театральными играми, достойно безумия.
А что означает следующее: полагая различие между суеверием и религией в том, что суеверию свойственно бояться богов, религии же только почитать их, как родителей,
БлаженныйАвгустин 294
а не бояться, как врагов, и таким образом представляя богов настолько добрыми, что они скорее щадят виновных, чем вредят невинному, Варрон упоминает, однако, что к женщине после родов приставляются три бога–хранителя, чтобы не подходил к ней ночью и не мучил ее бог Сильван. В знак их присутствия пороги дома обходят три человека, из которых один ударяет о порог топором, другой — пестом, третий обметает его метлой, чтобы этими орудиями земледелия воспрепятствовать богу Сильвану проникнуть в дом; потому что нельзя ни срубить и очистить дерево без топора, ни размолоть зерно без песта, ни собрать плоды в кучу без метлы. От этих трех предметов взяты названия и трех богов, которые охраняют роженицу от насилия Сильвана: именно, Интерцидона — от рассекающего (тгегсшо) топора, Пилюмна — от песта (р11ит) и Деверра — от метлы(мести — йеуегге). Таким образом, охрана от жестокости злого бога со стороны богов добрых имеет силу в том только случае, когда против одного вооружается много и когда они от этого грубого, ужасного, дикого лесного бога защищаются символами земледелия. Это ли, спрашивается, незлобивость и согласие богов? Это ли благодетельные для городов божества, более достойные смеха, чем театральные посмешища?
Когда мужчина и женщина вступают в брак, призывается бог Югатин: пусть так. Но невеста должна быть введена в дом: приурочивается еще бог Домидук. Чтобы она осталась в доме, приставляется бог Домитий; чтобы она пребывала с мужем, придается богиня Мантурна, Что еще? Следовало бы пощадить человеческую стыдливость: пусть бы остальное доканчивала похоть плоти и крови с сохранением тайны стыда. Почему же спальня наполняется толпою божеств, когда из нее уходят и друзья жениха? Да и зачем наполняется? Наполняется не для того, чтобы, зная об их присутствии, заботились о целомудрии, а для того, чтобы женщина,
О граде Божием 295
слабая полом и на первых порах робкая, была лишена девственности при их содействии: тут находятся и богиня Виргиниенсия, и бог Субиг — отец, и богиня Према — мать, и богиня Пертунда, и Венера, и Приап. Зачем это? Если мужчине нужна в этом случае помощь со стороны богов, то не достаточно ли кого–то из них одного или одной? Неужели мало одной Венеры, которая потому, говорят, и получила свое имя, что без ее содействия женщина не перестает быть девицей? Если есть у людей хоть капля стыда, которого нет у богов, то разве при представлении о том, что присутствует и вникает в это дело такое множество богов того и другого пола, не проникаются супруги таким стыдом, что один меньше требует, а другая больше сопротивляется? Но пусть богиня Виргиниенсия присутствует затем, чтобы развязан был у новобрачной девственный пояс; пусть бог Субиг — чтобы она подчинилась мужу; богиня Према — чтобы, подчинившись, сохраняла покорное положение: что делает там богиня Пертунда? Да будет ей стыдно: пусть идет она вон. Должен же сделать что–нибудь и сам муж! В высшей степени позорно, если роль, от которой она имеет свое имя, исполняется кем–либо другим, кроме мужа. Но, быть может, присутствие ее терпимо потому, что она богиня, а не бог. Если бы она была богом и называлась Пертундом, то, спасая целомудрие жены, муж, пожалуй, потребовал бы против него помощи гораздо скорее, чем роженица против бога Сильвана. Но зачем я говорю это, когда там находится и Приап, самец–урод, на громаднейший и отвратительнейший фаллос которого, по весьма почетному и благочестивому обычаю матрон, советуется сесть новобрачной? Пусть прилагают еще новые усилия и с какой угодно тонкостью отличают гражданскую теологию от баснословной, города от театров, храмы от сцен, священнодействия понтификов от стихов поэтов, как
БлаженныйАвгустин 296
вещи почетные от гнусных, истинные от ложных, важные от пустых, серьезные от шуточных, такие, к которым надлежит стремиться, от таких, которые должны быть отвергнуты. Мы понимаем, что они делают. Они знают, что баснословная теология зависит от гражданской и отражает ее в стихах поэтов, как в зеркале; а потому, изложив гражданскую теологию, осуждать которую не отваживаются, они с превеликой смелостью обвиняют и порицают ее образ, чтобы люди, понимающие, чего они хотят, отворачивались и от самого оригинала, образом которого служит баснословная теология.
Впрочем, сами боги этот образ любят, видя себя в нем как бы в зеркале; так что из той и другой теологии вместе лучше всего видно, кто они и каковы. Поэтому–то грозными повелениями они и заставили своих почитателей посвящать себе мерзость баснословной теологии, выставлять ее в своих празднествах напоказ и считать в ряду божественных вещей; и таким образом с большей ясностью показали, что и сами они — нечистейшие духи, и что та презренная и отвратительная театральная теология представляет собой составную часть теологии гражданской, якобы высокой и похвальной, так что одной частью она содержится в книгах жрецов, другой — в стихах поэтов, будучи в целом ложной и мерзкой и заключая в себе измышленных богов. Имеет ли она и другие части — это вопрос отдельный; в настоящем случае, по поводу сделанного Варроном деления, я показал, полагаю, достаточно ясно, что и гражданская, и театральная теологии принадлежат одинаково к теологии гражданской. А так как обе они в равной степени мерзки, нелепы, непристойны и ложны, то благочестивым людям не следует ожидать вечной жизни ни от той, ни от другой.
Наконец, и сам Варрон, — хотя перечень богов начинает с момента зачатия человека, ставя при этом на первом месте Януса, — и этот род доводит до смерти стариков, заключая число богов, имеющих Отмошение к существованию человека, богиней Ненией, воспеваемой при
О граде Божием 297
погребении стариков; затем переходит к перечислению других богов, имеющих отношение не к самой жизни человека, а к условиям его быта, пище, одежде и всему тому, что необходимо в настоящей жизни, показывая при этом, какая принадлежит каждому богу обязанность и о чем каждому из них должно молиться, — во всем этом ряде богов не указывает и не называет таких, у которых надлежало бы просить вечной жизни, ради которой одной мы и стали христианами. Кто же, спрашивается, будет настолько недогадлив, чтобы не понять, что, с одной стороны, излагая и раскрывая с такой тщательностью гражданскую теологию, а с другой, выставляя ее сходной с теологиею баснословной, теологией непристойной и презренной, и таким образом показывая, что эта последняя является частью первой, он в сознании людей очищает место тому роду естественного богословия, которое, по его словам, принадлежит философам? Но он делает это с таким тонким искусством, что баснословную теологию порицает, а гражданскую, не осмеливаясь порицать и ее, представляет заслуживающею презрения по самому ее содержанию; а потому, — так как та и другая теологии, на взгляд людей здравомыслящих, оказываются презренными, — достойным уважения остается лишь естественное богословие. В своем месте мы поговорим о последнем более подробно.
ГЛАВАХ
Свобода, которой недоставало Варрону, чтобы неодобрительно высказаться о гражданской теологии, совершенно похожей на теологию театральную, так же открыто, как и о последней, отличала до известной степени, хотя и не вполне, Аннея Сенеку, который, судя по некоторым указаниям, жил во времна наших апостолов. Отличался он этой свободой в своих
БлаженныйАвгустин 298
сочинениях, хотя не отличался в жизни. В сочинении, написанном против суеверий, он порицает эту государственную и гражданскую теологию гораздо всестороннее и сильнее, чем Варрон — театральную и баснословную. Так, рассуждая об идолах, он говорит: «Священных, бессмертных и нетленных (богов) чтут под видом презренной и безжизненной материи; дают им образы людей, зверей и рыб, а некоторых облекают телами и смешанного пола; их называют божествами, но если бы эти божества оказались вдруг наделенными жизнью, их сочли бы чудовищами». Затем, несколько далее, одобрив естественное богословие и приведя мнения некоторых философов, он выдвигает такое возражение: «На это кто–нибудь скажет: неужели я должен верить, что небо и земля суть боги и что одни из них над луной, другие — под луной? Неужели я должен согласиться с Платоном или с перипатетиком Страбоном, из которых один делает богов бестелесными, а другой — бездушными?» Отвечая на этот вопрос, он говорит: «Так что же? Ты находишь более истинными грезы Тита Тация, или Ромула, или Гостилия? Таций сделал богиней Клоацину, Ромул — Пика и Тиберина, Гостилий — Испуг и Бледность, эти отвратительнейшие аффекты человека, из коих один представляет собой движение устрашенного ума, а другой — даже не болезнь, а цвет тела. Этим божествам ты предпочитаешь верить и им предоставляешь небо?»
А с какой смелостью говорит он о самих обрядах, гнусных и жестоких? Один, говорит он, отрубает себе половые органы, другой рассекает отрубленные. Когда же они боятся гнева богов, если в это время пользуются их милостью? Богов не должно почитать, если они требуют таких вещей. Таково уж неистовство расстроенного и сбитого с толку ума, что в угоду богам совершают такие зверства, каких не делают люди даже самые презренные и легендарной жестокости. Тираны отрубали некоторым члены, но никому не приказывали самому
О граде Божием 299
отрубать свои. В угоду царскому капризу некоторые оскоплялись, но никто по приказу господина не налагал на себя руки, чтобы не быть мужчиной. В храмах же изрубают себя сами, склоняют к милости собственными ранами и кровью. Если бы у кого–нибудь оказалось свободное время всмотреться, что там делают и что терпят, он нашел бы так много постыдного для людей почтенных, непристойного для людей свободных, неприличного для здравомыслящих, что не усомнился бы назвать их безумствующими, если бы их было не так много; но в настоящее время все это выдает за здравый смысл толпа людей, лишенных здравого смысла. Упоминает он и о том, что совершается обычно в самом Капитолии, и порицает это с полной свободой. Кто поверит, чтобы и это совершалось кем–либо другим, как не насмешниками или людьми безумствующими? В самом деле, посмеявшись над тем, как в египетском культе оплакивают потерю Осириса, а вслед за тем предаются великой радости, что он найден; как эта пропажа и эта находка представляются вымышленными, а радость и печаль выражается людьми, которые ничего не потеряли и ничего не нашли — искренне, Сенека говорит: «Это безумие имеет свое определенное время. Это еще терпимо: один раз в год побезумствовать. Приди же в Капитолий, стыдно станет открытой лжи, которую вменяет себе в обязанность бесполезное безумие. Один перечисляет богу имена божеств, другой докладывает Юпитеру, который час; тот представляет из себя ликтора, другой — натирателя мастями, движением рук подражая мажущему. Есть и такие, которые заплетают Юноне и Минерве волосы; стоя даже вдали от храма, а не только от статуи, делают пальцами движения, как будто действительно украшают голову. Есть такие, которые держат зеркало; и такие, которые просят богов быть за них поручителями. Есть такие, которые подают богам жалобы и
БлаженныйАвгустин 300
рассказывают им о своих тяжбах. Ученый старшина мимов, старик преклонных лет, каждодневно демонстрирует в Капитолии свои шутки, как будто боги охотно смотрят на всеми покинутого человека. Вокруг бессмертных богов толпятся всякого рода искусники». «Впрочем, — продолжает он несколько далее, — эти делают нечто, правда, совершенно ненужное, но не постыдное и не бесчестное. Но в Капитолии сидят и такие женщины, которые считают себя любовницами Юпитера, — не боятся даже и Юноны, обладающей, если верить поэтам, весьма сердитым нравом». Такой смелости Варрон не имел: он отважился порицать только поэтическую теологию, порицать же теологию гражданскую не решился, хотя и нанес ей смертельный удар. Но если мы прислушаемся к голосу истины, то храмы, где совершаются подобного рода вещи, окажутся гораздо хуже, чем театры, где они представляются. Поэтому в культе гражданской теологии Сенека предпочел для мудреца театральную часть, чтобы не в религии духа содержать ее, а изображать в действиях. «Все это, — говорит он, — мудрец будет соблюдать, как предписанное законом, а не как угодное богам». «Что это значит, — говорит он несколько ниже, — что мы заключаем между богами и браки, даже браки между братьями и сестрами, что, конечно же, нечестиво? Беллону мы выдаем замуж за Марса, Венеру — за Вулкана, Салацию — за Нептуна. Некоторых из богов мы оставляем, однако же, неженатыми; вероятно для них не нашлось подходящей партии, особенно, имея в виду то обстоятельство, что некоторые из богинь — вдовы, например Популония, Фулгора и сама божественная Румина; не удивляюсь, что для них не нашлось искателя. Всю эту малоизвестную толпу богов, которую накопило суеверие в течение длинного ряда веков, мы будем чтить так, чтобы помнить, что почитание их — простой обычай и не относится к чему–нибудь действительному».
О граде Божием 301
Таким образом, ни законы, ни обычай не установили в гражданской теологии ничего такого, что было бы угодно богам и относилось бы к существу дела. Но сам же он, которого философия сделала якобы мыслителем свободным, — сам он по той причине, что был знатным сенатором римского народа, почитал то, что порицал, делал то, что обличал, уважал то, что презирал. Так поступал он потому, что философия, мол, научила его кое–чему великому: не быть суеверным в обществе, а из уважения к народным законам и обычаям если и не выступать на сцене, то подражать в храме тому, что представляется в театре! И это заслуживает тем большего осуждения, что то, что им делалось притворно, он делал так, чтобы народ считал это искренним; между тем, будучи актером, он потешал бы более игрой, чем вводил бы в заблуждение обманом.
ГЛАВА XI
В числе других суеверий гражданской теологии Сенека порицает и обряды иудеев, в особенности субботу, утверждая, что они делают это напрасно, потому что, празднуя субботу через каждые семь дней, они теряют попусту почти седьмую часть своей жизни и бездействием наносят ущерб многому такому, что бывает необходимым по требованию времени. Но христиан, к которым уже и тогда иудеи относились в высшей степени враждебно, он решил не относить ни к той, ни к другой стороне: он не похвалил их, чтобы не обидеть древние обычаи своего отечества, но и не порицал, чтобы не противоречить своим действительным намерениям. Говоря об иудеях, он высказывается таким образом: «Между тем, обычай этого злодейского народа возымел такую силу, что принят уже по всей земле: будучи побеждены, они дали законы победителям». Говорил он это с удивлением и не зная того, что
БлаженныйАвгустин 302
совершается по распоряжению свыше; высказал, однако, мнение, показывающее, что думал он о смысле иудейских обрядов. «Они, — говорит он, — знают основание своего обряда; большая же часть народа поступает, не зная, почему поступает так». Но о таинствах иудеев, о том, с какою целью и на какое время они были установлены божественной властью, и как потом, в определенное время, той же властью были отменены для народа Божия, которому открыта была тайна будущей жизни, мы уже говорили в другом месте, в особенности же тогда, когда вели речь против манихеев; скажем и в настоящем сочинении, но при более удобном случае.
ГЛАВА XII
Если сказанное нами в настоящей книге о трех теологиях, которые у греков называются мифической, физической и политической, а по–латыни могут быть названы баснословной, естественной и гражданской, а именно: что вечной жизни ожидать ни от баснословной теологии, которую порицают и сами почитатели многих и ложных богов, ни от гражданской, которая оказывается подобной баснословной и даже в чем–то худшей, — если это сказанное покажется кому–нибудь недостаточным, тот пусть примет во внимание и те суждения, которые были высказаны нами в предыдущих книгах, в особенности же суждения о Боге, Подателе счастья, изложенные в четвертой книге. Ибо кому другому, как не счастью, должны молиться люди о будущей жизни, если счастье — богиня? Поскольку же оно — не богиня, а дар Божий, то какому Богу, кроме Подателя счастья, должны мы молиться, благочестивой любовью любящие вечную жизнь, в которой заключается истинное и полное счастье? Ибо после того, что сказано нами, никто, полагаю, не станет сомневаться, что подателем счастья не может быть
О граде Божием 303
никто из тех богов, которых чтут так постыдно и которые еще постыднее гневаются, если их таким образом не чтут, обличая этим самих себя как нечистых духов.
А если кто не дает счастья, то каким образом он может даровать вечную жизнь? Ибо вечной жизнью мы называем такую, в которой обретается бесконечное счастье. Если же душа подвергается вечным наказаниям, в которых будут мучиться и сами нечистые духи, то это — скорее вечная смерть, чем жизнь. Нет худшей и большей смерти, чем та, когда не умирает смерть. Но так как природа души, в силу того, что она сотворена бессмертной, не может существовать без какой–либо жизни, то высшая смерть для нее — отчуждение от Бога в вечности мучений. Таким образом, вечную жизнь, т. е. бесконечное счастье, дает один Тот, Кто дает истинное счастье. Поскольку же известно, что его не могут дать те боги, которых почитает языческая теология, то их не следует почитать даже и ради временного и земного, как это мы показали в пяти предыдущих книгах; а тем более — ради вечной жизни, которая должна наступить после смерти, как это мы доказали с помощью их же писателей в настоящей книге. Но так как сила застарелого обычая коренится слишком глубоко, то если кому–нибудь покажется, что я недостаточно доказал, что гражданская теология заслуживает презрения и отвращения, — тот пусть обратится к следующей книге, которую с помощью Божией мы присоединим к настоящей.
БлаженныйАвгустин 304
КНИГА СЕДЬМАЯ
Предисловие
Умы более светлые и лучшие должны терпеливо и благодушно отнестись к моим слишком ревностным стараниям опровергнуть и искоренить превратные и давние, враждебные истине благочестия мнения, которые многовековое заблуждение рода человеческого слишком глубоко и прочно внедрило в помраченные души, и к посильному с моей стороны содействию благодати Того, Кому, как Богу истинному, это возможно, — содействию, Им же вспомоществуемому. Для таких более чем достаточно сказанного по этому предмету в предшествующих книгах. Но они не должны считать излишним для других того, в чем сами для себя уже не чувствуют необходимости. Дело идет о предмете величайшей важности, когда ведется речь об исследовании и почитании истинного и истинно святого Божества, — о почитании не ради преходящего дыма жизни смертной, но ради жизни блаженной, которой может быть только жизнь вечная; хотя Божество это подает нам необходимую помощь и в настоящей тленной жизни, которой мы ныне живем.
ГЛАВА I
Кого шестая книга, только что нами оконченная, не убедила, что такого божества или, как я бы сказал, такого сМгаз, — потому что наши не стесняются употреблять и это слово, чтобы выразительнее перевести греческое название беотт^, — не существует в той теологии, которую называют гражданской и которую Марк Варрон изложил в шестнадцати книгах, или что то же:
О граде Божием 305
что почитанием таких богов нельзя достигнуть счастья вечной жизни, — кого, говорю, не убедила в этом шестая книга, тот, если случится прочитать ему настоящую, не будет уже иметь по отношению к данному вопросу ничего, что требовало бы дальнейшего для него разъяснения. Ибо, возможно, кто–нибудь держится такого мнения, что ради блаженной жизни, которой может быть только жизнь вечная, следует почитать по крайней мере богов избранных и главнейших, которым Варрон посвятил последнюю книгу и о которых мы сказали весьма немного. Относительно этого предмета я не скажу того, что, пожалуй, скорее остроумно, чем истинно говорит Тертуллиан: «Если из богов, как из луковиц, делают выбор, то остальных считают никуда не годными».
Я так не думаю. Я знаю, что и из избранных избирают некоторых для какого–нибудь наиболее важного и превосходного дела. В военной службе, например, рекруты бывают людьми избранными, но из них делается выбор для какого–нибудь особо важного военного искусства. И в церкви, когда избираются предстоятели, остальные отнюдь не осуждаются, потому что все добрые верные справедливо называются избранными. При постройке делается выбор камней краеугольных, но не бросаются и остальные, предназначаемые для других частей здания. Делается выбор виноградных ягод для употребления в пищу, но не бросаются и остальные, из которых готовится питье. Нет нужды, впрочем, много распространяться о предмете, когда он ясен сам собою. Итак, из–за того, что некоторые боги были избранными из числа многих, не следует еще насмехаться ни над тем, кто писал об этом, ни над поклонниками этих богов, ни над самими богами, но скорее следует обратить внимание на то, каковы они сами, эти избранные боги, и на какое дело они оказываются избранными.
БлаженныйАвгустин 306
ГЛАВА II
В своей книге Варрон упоминает следующих избранных богов: Януса, Юпитера, Сатурна, Гения, Меркурия, Аполлона, Марса, Вулкана, Нептуна, Солнце, Орка, Либера–отца, Теллурию, Цереру, Юнону, Луну, Диану, Минерву, Венеру, Весту; итого двадцать: двенадцать мужчин и восемь женщин. Почему же эти божества называются избранными: потому ли, что заведуют более важными частями правления миром, или потому, что стали народам более известными и им установлен более почетный культ?
Если потому, что они заведуют более важными частями правления миром, то мы не должны встречать их в той своего рода плебейской толпе божеств, которая назначена для пустых делишек. А между тем сам Янус, во–первых, во время зачатия детского зародыша, с чего начинаются все те известные действия, по мелочам распределенные между мелкими божествами, — сам Янус открывает вход для восприятия семени. Там же присутствует и Сатурн ради того же семени. Там и Либер, который освобождает мужчину от излившегося семени. Там же и Либера, которую они считают и Венерой, которая ту же самую услугу оказывает женщине, чтобы освободить и ее через изли–тие семени. Все эти боги из числа тех, которые называются избранными. Но там же и богиня Мена, заведующая месячными (тепзсгшз) кровотечениями, и хотя она дочь Юпитера, но богиня незнатная. Это ведомство месячных кровотечений тот же писатель в книге о богах избранных назначает и самой Юноне, • которая даже между избранными богами считается царицей; и здесь же, заведуя тем же кровотечением, присутствует, подобно Юноне, с падчерицей своей Мемой, Люцина. Там же двое, уж и не знаю, до какой степени малопочетные, — Витумн и Сентин, из которых один дает зародышу жизнь, другой — чувство; и хотя они самые незнатные, дают, однако, же
О граде Божием 307
несравненно больше, чем все те вельможи и избранные. Ибо чем, в сущности, при отсутствии жизни и чувства, будет все то, что носит во чреве женщина, как не самой отвратительнейшею смесью из тины и праха?
ГЛАВА III
Итак, какая же причина принудила стольких избранных богов приняться за такие мелкие дела, при обязательном отправлении которых их превосходят своим участием Витумн и Сентин, покрытые темной неизвестностью? Избранный Янус открывает вход и как бы дверь семени; избранный Сатурн подает само семя; избранный Либер устраивает мужчинам истечение того же семени; то же самое делает женщинам Либера, которая вместе с тем есть и Церера, или Венера; избранная Юнона, и притом не одна, а вместе с Меной, дочерью Юпитера, устраивает месячные кровотечения для питания зачатого; а темный и незнатный Витумн дает жизнь; темный и незнатный Сентин сообщает чувство: две последние вещи настолько значительнее предшествующих, насколько значительнее их самих разум и соображение. Ибо соображающие и понимающие бесспорно превосходнее тех, которые, как скоты, живут и чувствуют без смысла и разума; так же точно и то, что живет и чувствует, справедливо ставится выше того, что не живет и не чувствует. Поэтому Витумн, податель жизни, и Сентин, податель чувства, должны были бы почитаться между богами избранными гораздо больше, чем Янус, принимающий семя, чем Сатурн, податель или сеятель (заюг) семени, чем Либер и Либера, приводящие в движение и изливающие семя: ибо это неприлично было бы представлять и семенем, если бы оно не получало потом жизни и чувства.
Эти избранные дары даются богами не избранными, а какими–то неизвестными, в сравнении с досто-
БлаженныйАвгустин 308
инством избранных, пренебрегаемыми. Если ответят, что Янусу принадлежит власть над всеми зачатками и что поэтому ему ненапрасно приписывается открытие входа зародышу; что Сатурну принадлежит власть над всеми семенами и что оплодотворение человека также нельзя выделить из круга его действий; что Либер и Либера имеют власть разбрасывать всякое семя и потому должны заведовать и тем, что касается прибавления людей; что Юнона заведует всякими очищениями и рождениями и потому должна присутствовать и при очищениях женщин, и при рождении людей: в таком случае пусть подумают, что им ответить относительно Витумна и Сентина. Не припишут ли они и этим богам власти над всем, что живет и чувствует? Если припишут, пусть обратят внимание на то, в какое сравнительно с другими более высокое положение они их поставят. Ибо семена рождаются на земле и из земли, а жизнь и чувство приписываются и звездным богам. Если же скажут, что Витумну и Сентину предоставлено лишь то, что живет и снабжено чувствами в теле, то почему тот же самый бог, который подает жизнь и чувство всему, не дает жизни и чувства и телу, сообщая этот дар зародышам общим действием? Да и что за нужда в Витум–не и Сентине? Если тот, кто заведует жизнью и чувством, поручил им, как слугам, это плотское, как дело последнее и слишком низкое, то неужели те избранные не имеют уже никаких рабов, которым со своей стороны могли бы поручить упомянутые действия, а вынуждены при всей своей знатности, в силу которой заслужили быть избранными, работать вместе с незнатными?
Избранная Юнона — царица, сестра и супруга Юпитера; а между тем, она же и Интердука (прово–жатая в пути) для детей, и делает это дело с самыми незнатными богинями, Абеоной и Адеоной. Там же поместили они и богиню Менту, которая дает детям здравый смысл (тепсет); но ее нет в числе богов избранных — как будто можно было дать человеку что–нибудь большее.
О граде Божием 309
Но Юнона, как Интердука и Доминука (провожатая в дом), есть в числе избранных — как будто путешествия и возвращения в дом принесут какую–нибудь пользу, если нет здравого смысла; богиню же подательницу этого смысла не поместили в число богов избранных. Ее, несомненно, следовало бы предпочесть и Минерве, которой в ряду этих мелочных детских дел присвоили память. Ибо кто усомнится, что иметь здравый смысл гораздо лучше, чем какую угодно большую память? Злым не бывает никто, кто имеет здравый смысл, а память некоторые самые плохие люди имеют удивительную; и тем они хуже, чем меньше в состоянии забыть дурные мысли. Тем не менее Минерва состоит в числе богов избранных, а богиня Мента скрывается в толпе ничтожных. А что скажу я о богине Добродетели, о богине Счастье, о которых говорил уже очень много в книге четвертой? Считая их богинями, они не захотели дать им места между богами избранными, дав его Марсу и Орку, из которых один делает людей умирающими, а другой умирающих принимает.
Итак, когда мы видим, что над этими мелкими делами, распределенными по частям между множеством богов, работают и сами избранные боги, как сенат вместе с чернью, одинаково; когда находим, что некоторые боги, которые отнюдь не относятся к числу избранных, ведают делами гораздо более важными и лучшими, чем так называемые боги избранные, то остается думать, что последние названы избранными и главнейшими не по исключительному праву участия их в правлении миром, а потому, что они стали более известными народам. Поэтому и сам Варрон говорит, что некоторым богам–отцам и богиням–матерям, по примеру людей, выпала на долю неизвестность. Но в таком случае, если не должно было попасть в число избранных богов Счастье, например потому, что боги эти достигли знатности не по заслугам,
БлаженныйАвгустин 310
а случайно, то в ряду их или даже выше их должна была бы стать по крайней мере Фортуна, о которой говорят, что богиня эта дает свои дары каждому не на основании разумных соображений, а как попало. Ей следовало бы стоять во главе этих избранных богов, над которыми она явила свое могущество: ибо мы видим, что они оказываются избранными не по превосходству добродетели, не по разумному счастью, но по власти Фортуны, — власти слепой, как думают о ней сами поклонники этих богов. Возможно, что и красноречивейший Саллюс–тий имеет в виду этих же самых богов, когда говорит: «Действительно, над всем владычествует Фортуна; она и прославляет, и оставляет в неизвестности всякую вещь скорее по страсти, чем по справедливости». Ведь не могут же они найти причины, почему Венера прославлена, а Добродетель осталась в неизвестности; хотя статуи посвящены и им обеим, но заслуги их не допускают никакого сравнения. Если же основанием знатности служат вкусы большинства, ибо к Венере стремятся больше, чем к Добродетели, то на каком основании прославлена Минерва, а богиня Пекуния оставлена в тени? Ведь в человеческой среде больше людей предано сребролюбию, чем искусству; и между самими художниками редко встретишь человека, который не продавал бы своего искусства за деньги, а всегда выше ценится то, ради чего что–либо делается, чем то, что делается ради другого.
Итак, если этим избранием богов руководило мнение неразумной толпы, то почему богиня Пекуния не предпочтена Минерве, коль скоро многие стали художниками ради денег (ргоргег ресишат)? Если же это различие между богами было делом разумного меньшинства, то почему не поставлена выше Венеры Добродетель, которой разум отдает гораздо большее предпочтение? Во всяком случае, как я сказал, по крайней мере Фортуна, которая, по мнению приписывающих ей очень многое, владычествует над всем и всякую вещь прославляет
О граде Божием 311
и оставляет в неизвестности скорее по страсти, чем по справедливости, — по крайней мере она, если и над богами имеет такую силу, что по своему слепому суду кого захочет, прославляет, и кого захочет, оставляет в неизвестности, должна была бы иметь между избранными преимущественное место, так как имеет преимущество власти и над самими богами. Если же она не могла получить такого места, то не остается ли думать, что сама Фортуна имела несчастную фортуну? Сама, стало быть, пошла против себя, потому что, делая знатными других, себя знатной не сделала.
ГЛАВА IV
Какой–нибудь любитель славы и почета поздравил бы этих избранных богов и назвал бы их счастливыми, если бы не убедился, что они избраны скорее для оскорбления, чем для почестей. Для той низшей толпы богов защитой от позорных надругательств служит сама их незнатность. Мы смеемся, пожалуй, когда видим, что человеческие вымыслы, разделив между ними дела, приставили их к ним, будто мелочных сборщиков пошлин или ремесленников в мастерских серебряных изделий, где каждый сосуд, чтобы выйти хорошо отделанным, проходит через руки многих мастеров, хотя хорошо отделать его мог бы и один. Но при множестве рабочих иного и не могли придумать, как только чтобы каждый отдельно изучал по возможности быстро и легко отдельную часть мастерства и чтобы все вместе, занимаясь одним и тем же, не вынуждены были преуспевать в нем медленно и с трудом. Зато едва ли найдется хоть один из богов неизбранных, которого позорная молва обвиняла бы в каком–либо преступлении; напротив, едва ли найдется кто–нибудь из избранных, на котором не лежало бы пятно позорного бесчестья.
БлаженныйАвгустин 312
Ничего, впрочем, позорного не приходилось мне слышать о Янусе. Может быть таков он и был, жил более безукоризненно и удалялся от преступлений и злодейств Он благосклонно принял искавшего убежища Сатурна, разделил с гостем царство, так что они построили даже два отдельных города, Яникул и Сатурнию. Но эти охотники до всякого безобразия в культе богов, найдя жизнь его менее постыдной, осрамили его чудовищным безобразием статуи, изображая его то двуликим, то четырехликим, как бы удвоившимся. Уж не потому ли, что у большей части избранных богов от совершения ими постыдных дел лица потеряли способность краснеть, а потому они порешили представлять его с тем большим количеством дбов, чем он был невиннее?
ГЛАВА V
Но выслушаем лучше их физические толкования, посредством которых они стараются безобразию жалкого заблуждения придать вид якобы возвышеннейшего учения. Толкования эти появляются у Варрона прежде всего в таком виде. Он говорит, что древние придумали статуи, знаки отличия и убранства богов так, чтобы те из наблюдающих их глазами, которые посвящены в тайны учения, могли духовно созерцать душу мира и ее части, т. е. истинных богов; что, придавая статуям человеческий образ, они, очевидно, руководствовались тем, что смертная душа, живущая в человеческом теле, представляет собой ближайшее подобие души бессмертной; что как для обозначения богов могут быть употребляемы сосуды и в храме Бахуса может быть поставлен Энофор, обозначающий (как содержащий — содержимое) вино, так и посредством статуи, имеющей человеческую форму, обозначается разумная душа, потому что этой формой, как своего рода сосудом, обыкновенно пользуется та природа, которую они считают и природой бога или богов
О граде Божием 313
Таково то учение, в таинство которого проник и вывел на свет этот ученейший муж.
Но неужели ты, человек остроумнейший, потерял в этих тайнах учения то свое благоразумие, которое привело тебя к здравому заключению, что первые, установившие для народов статуи, и лишили своих граждан чувства (религиозного) страха, и увеличили заблуждение, и что древние римляне более благоговейно чтили богов без статуй? Ты опирался на последних, чтобы иметь смелость высказать это в укор римлянам позднейшим. Если бы и те древнейшие римляне чтили статуи, ты, вероятно, побоялся бы высказать эту верную мысль, что не следует ставить статуй, и еще многоречивее и напыщеннее расхваливал бы эти тайны учения посредством вредных и пустых вымыслов. А между тем твоя душа, такая ученая и такая даровитая (почему мы особенно и скорбим о тебе), отнюдь не могла посредством этого таинственного учения дойти до Бога своего, т. е. до того Бога, Которым, а не с Которым, она создана, — Которого она не часть, а творение; и не того, который есть душа всего, а Того, Который создал всякую душу, от Которого одного душа получает свет, делающий ее блаженной, коль скоро она с благодарностью принимает Его благодать. Впрочем, каково это таинственное учение и какую оно должно иметь цену, будет видно из последующего.
Ученейший муж этот говорит, между прочим, что душа мира и ее части суть истинные боги. Отсюда видно, что вся его теология, т. е. та самая естественная теология, которой он придает наибольшее значение, смогла возвыситься только до природы разумной души. В упомянутой книге он предпосылает несколько слов о теологии естественной; но посмотрим, был ли он в состоянии сопоставить посредством физиологических толкований с этой естественной теологией теологию гражданскую, которую он написал в заключение о богах избранных. Если бы он был
БлаженныйАвгустин 314
в состоянии это сделать, вся теология стала бы естественной; и тогда какая была бы нужда в таком тщательном выделении из нее теологии гражданской? Если же последняя выделена вследствие действительного различия, то, — если не истинна и та, которую он считает естественной, потому что доходит только до души, а не до истинного Бога, Который сотворил и душу, — насколько же презреннее и фальшивее эта теология гражданская, которая по преимуществу занята телесной природой? Это покажут нам сами ее толкования, с особой тщательностью найденные и обработанные. Некоторые из этих толкований я нахожу нужным привести.
ГЛАВА VI
Итак, предпосылая несколько замечаний о естественной теологии, Варрон говорит, что, по его мнению, бог есть душа мира, называемого греками хосцо^, и что сам этот мир есть бог; но как человека мудрого называют мудрым, принимая в соображение только душу, хотя он состоит из души и тела, так и мир называют богом, так же принимая в соображение душу, хотя он состоит из души и тела. Отсюда видно, каким образом он признает единого Бога. Но чтобы представить существование и многих богов, он прибавляет, что мир делится на две части, на небо и землю; а небо подразделяется также на две: на эфир и воздух; земля же — на воду и сушу. Из этих частей высшую представляет собою эфир, вторую — воздух, третью — вода, низшую — суша. Все эти четыре части наполнены душами: эфир и воздух — бессмертными, вода и земля — смертными. Начиная от самой высшей округлости неба до круга, описываемого луной, эфирные души являются в виде звезд и планет; этих небесных богов мы не только представляем в уме, но и видим. Между же кругом, описываемым луной, и границей
О граде Божием 315
облаков и течения ветров находятся души воздушные; но души эти мы созерцаем, а глазами не видим: они называются героями, ларами, гениями. Такова естественная теология, изложенная кратко в виде предисловия. Она встречается не только у Варрона, но и у многих философов. Подробнее я буду разбирать ее тогда, когда с помощью истинного Бога покончу с теологией гражданской, насколько она касается богов избранных.
ГЛАВА VII
Итак, спрашиваю: кто такой Янус, от которого ведет начало все? Отвечают, что это — мир. Ответ короток и ясен. Но в таком случае почему они начало вещей приписывают ему, а конец — другому, которого называют Термином? Ведь, по их же словам, именно ради начала и конца этим двум богам посвящены два месяца сверх тех десяти, которые начинаются с марта и следуют до декабря: январь посвящен Янусу, февраль — Термину. Терминалии, говорят они, празднуются в том же феврале, в котором бывает и священное очищение, называемое геЪшит, от которого получил свое название этот месяц. Итак, почему же миру, который есть Янус, принадлежит начало вещей, а конец не принадлежит, так что к последнему приставляется другой бог? Не признают ли они, что все, что в этом мире бывает, в этом же мире и оканчивается?
Да и что это за бестолковщина: в деле приписывать ему половинную власть, а в статуе — двойное лицо? Не гораздо ли лучше объяснялся бы его двуликий вид, если бы его же называли и Янусом, и Термином, и одному лицу принадлежало начало, а другому — конец? Ибо действующий должен иметь в виду и то и другое. Не осматривающийся во всяком моменте своего действия на начало не предусмотрит и конца. Отсюда необходимо, чтобы с озирающеюся назад памятью соединялось смотрящее вперед внимание. Потерявший то,
БлаженныйАвгустин 316
что начал, не найдет, как закончить. А если бы они думали, что блаженная жизнь начинается в этом мире, но вполне достигается вне его, и поэтому приписали Янусу, т. е. миру, власть только над одним началом; в таком случае они непременно поставили бы Термина выше его и не устранили бы его из числа избранных богов. Впрочем, и теперь, когда в лице этих двух богов представляют они начало и конец временных вещей, следовало бы больше почета отдавать Термину. Ибо гораздо больше бывает радости тогда, когда какое бы то ни было дело подходит к окончанию; а все начатое сильно заботит, пока не доведется до конца. Начавший что–либо, главным образом о конце и помышляет, к нему стремится, его ждет, о нем мечтает и не приходит в восторг от начатого дела, если его не окончит.
ГЛАВА VIII
Но перейдем к толкованию двуликого идола. Они говорят, что статуя имеет два лица, спереди и сзади, потому что внутренняя полость нашего рта, когда мы его открываем, представляется похожей на мир (потому дескать греки и называют нёбо суортюу, и некоторые из латинских поэтов небо называли ра1ашт — нёбо); а от этой полости рта есть один выход наружу по направлению к зубам, а другой — внутрь по направлению к глотке. Так вот к чему сводится мир благодаря нашему названию нёба, греческое ли оно, или поэтическое! Но какое это имеет отношение к душе, какое — к жизни вечной? Бог этот почитается ради одной слюны, при помощи которой, как при глотании, так и при выплевывании, отворяется та и другая дверь под небом нёба. А затем, что может быть нелепее, в самом мире не найти двух с противоположных краев стоящих дверей, через которые мир принимал бы что–нибудь внутрь себя или выбрасывал из себя, а изображение мира в лице
О граде Божием 317
Януса создавать по образу нашего рта и зева, с которым мир не имеет никакого сходства; придумывать все это ради одного названия нёба, с которым Янус не имеет сходства?
Когда же изображают его четвероликим и называют двойным Янусом, то объясняют это в применении к четырем частям мира так, как если бы мир смотрел ими куда–то вовне, как Янус всеми лицами. Но если Янус — мир, а мир состоит из четырех частей, то изображение двуликого Януса ложно. А если оно истинно потому, что под именем Востока и Запада мы понимаем обычно весь мир, то неужели ввиду того, что мы знаем другие две части, Север и Юг, кто–нибудь назовет мир двойным, подобно тому, как называют они двойным четвероликого Януса? Они решительно не в состоянии объяснить каким–либо подражанием миру эти четверо дверей для входа и выхода, — объяснить хотя бы так, как сделали это относительно Януса двуликого, воспользовавшись человеческим ртом. Если только не явится им на помощь Нептун и не подаст рыбу, у которой кроме отверстия рта и горла есть еще правое и левое отверстие жабр? Но и столькими дверями не уйдет от этой суеты ни одна душа, если не слышит истины, говорящей: «Я дверь» (Иоан. X, 7).
ГЛАВА IX
Пусть затем изложат свое понятие об Иовисе, которого называют также Юпитером. «Он, — говорят они, — бог, имеющий в своей власти причины всего того, что совершается в мире». Какую это имеетвеликую важность, показывает превосходнейший стих Вергилия:
Счастлив познавший причины вещей'.
БлаженныйАвгустин 318
Но почему ставят впереди него Януса, об этом скажет нам вышеупомянутый остроумнейший и ученейший муж. «Потому, — говорит он, — что во власти Януса первое, а во власти Иовиса высшее. Но Юпитер справедливо считается царем всего. Ибо первое уступает высшему, потому что хотя первое и предшествует по времени, но высшее превосходит достоинством». Это было бы сказано правильно, если бы 1 различались в действиях начало дела и завершение его: как, например, начало дела — выйти, конец — прийти, или начало дела — решить учиться, конец его — усвоить науку; в таком случае первым во всем будет начало, а высшим — конец. Но начало и конец в этом смысле уже распределены между Янусом и Термином. Причины же, усвояемые Юпитеру, суть причины, определяющие действие, а не приводящие его в исполнение; и потому никоим образом не может быть, чтобы им даже по времени предшествовали действия или начала действий. Ибо вещь, которая делает, всегда предшествует вещи, которая делается. Поэтому, если начало действия относится к Янусу, из этого не следует, что начало это предшествует определяющим действие причинам, которые присущи Юпитеру. Как ничего не бывает, так и ничто не начинается, чтобы прийти к бытию, если ему не предшествует создающая его причина.
Итак, если этого бога, во власти которого находятся все причины всякого созданного естества и всех естественных вещей, народы называют Иовисом и почитают тем, что подвергают его сраму и возводят на него обвинения в отвратительных преступлениях, то они делаются виновными в более мерзком святотатстве, чем если бы не признавали вовсе никакого бога. Поэтому им лучше было бы называть именем Иовиса кого–нибудь другого, заслуживающего гнусного и постыдного почета, подставив для большого поношения какой–либо пустой вымысел (подобно тому, как Сатурну был подставлен, говорят, камень, который он сожрал
О граде Божием 319
вместо сына), чем представлять упомянутого бога громовержцем и прелюбодеем, управляющим целым миром и предающимся такому крайнему распутству, содержащим в своей власти высшие причины всякого естества и всех естественных вещей, а в своих собственных действиях добрыми причинами не руководствующимся.
Далее, спрашиваю, какое место отводят они между богами этому Иовису, если Янус представляет собой мир? Ведь, по определению Варрона, истинные боги суть душа мира и части ее; а отсюда все, что не представляет собой этого, ни в коем случае по их же мнению не может быть истинным богом. Итак, станут ли они утверждать, что Иовис есть душа мира так, что Янус представляет собой его тело, т. е. представляет собой этот видимый мир? Если они это подтвердят, то у них не будет основания называть богом Януса; потому что, по их мнению, бог есть не тело мира, а душа мира и ее части.
Тот же самый Варрон яснейшим образом говорит, что, по его мнению, бог есть душа мира, а сам этот мир есть бог, но в том смысле, что как, дескать, человека мудрого, хотя он состоит из души и тела, называют мудрым, принимая в соображение только душу, так и мир называется богом по душе, хотя состоит из души и тела. Следовательно, тело мира само по себе не есть бог; но бог есть или одна душа его, или тело и душа, взятые вместе, но так, однако же, что божественность дается не телом, а душой. Но если Янус есть мир и Янус есть бог, то, чтобы и Иовис мог быть богом, не станут ли они утверждать, что последний представляет собой какую–нибудь часть Януса? Но всеобщность они имеют обыкновение приписывать преимущественно Юпитеру; отсюда известное выражение:
Все полно Юпитером».
БлаженныйАвгустин 320
Итак, чтобы и Юпитер был богом, и особенно царем богов, они не могут считать его чем–либо другим, как только миром; и тогда он согласно с их мнением будет играть между остальными богами царственную роль. В этом смысле объясняет Варрон стихи некоего Валерия Сорана в той книге, которую он написал отдельно от вышеупомянутых о культе богов. Стихи таковы:
Юпитер великий, царей и богов прародитель, Ты —матерь богов, повсюду единый и весь.
Объясняются эти стихи в той же книге в том смысле, что представляют, мол, его и мужчиной, изливающим семя, и женщиной, принимающей семя; что Юпитер есть мир и что всякое семя он из себя изливает и в себя же принимает. «На этом основании, — замечает Варрон, — Соран написал, что Юпитер и прародитель, и мать; и с неменьшим основанием — что он один и в то же время — все: ибо мир один, и в нем одном все».
ГЛАВАХ
Итак, если и Янус — мир, и Юпитер — мир, и каждый из них — мир, то на каком основании их двое, Янус и Юпитер? Зачем они имеют отдельные храмы, отдельные жертвенники, различное богослужение, непохожие статуи? Если это потому, что одно значение имеют начала, и другое — причины, и что значение первых выражается именем Януса, а последних — Юпитера, то когда один и тот же человек в разного рода вещах имеет двоякую власть или двоякое искусство, разве говорят о нем, что это — двое правителей или двое художников на том основании, что каждая власть или искусство, взятые отдельно, имеют различное значение? Так же точно и едино-
О граде Божием 321
Бога — хотя Он же имеет в своей власти и начиная Он же и причины, — разве непременно следует считать двумя богами только потому, что начала и причины суть две особые вещи? Если, по их мнению, так следует, то и самого Юпитера они должны считать за стольких богов, сколько дали ему имен по причине разнообразия его власти: потому что все вещи от которых заимствованы эти прозвания, вещи особые и различные. О некоторых из этих прозваний я поговорю ниже.
ГЛАВА XI
Они назвали его Победителем, Непобедимым, Помощником, Возбудителем, Остановителем, Стоногим, Опрокидывателем, Подпорой, Кормильцем, Румином и многими другими именами, которые пересчитывать было бы долго. Эти имена они дали одному богу по причине разных видов его действия и могущества, но не создали из него такого же количества богов, сколько насчитали этих видов его действия и могущества. Он все побеждает и никем не бывает побежден; он подает помощь нуждающимся; имеет силу возбуждать, останавливать, давать твердую устойчивость, опрокидывать; он, как подпора, держит и поддерживает мир; он будто сосцами или грудью питает животных. В числе этих действий, как видим, есть и важные, и пустые; тем не менее, и те и другие приписываются одному и тому же богу. Думаю, что причины и начала вещей, ради которых они из одного мира решили сделать двух богов, Юпитера и Януса, имеют между собой гораздо больше сходства, чем поддержка мира с кормлением грудью животных; и, однако же, для двух последних действий, столь различных между собой по силе и достоинству, они не нашли нужным вводить двух богов, а оставили одного Юпитера, по одному
БлаженныйАвгустин 322
действию названного Подпорой, по другому — Румином. Я не скажу, что давать грудь сосущим животным было бы более прилично Юноне, чем Юпитеру, особенно ввиду того, что есть еще богиня Румина, которая могла бы оказывать ей в этом деле помощь и услуги. Думаю, что мне на это могли бы ответить, что и сама Юнона есть не что иное, как тот же Юпитер, на основании тех же стихов Валерия Сорана, в которых говорится:
Юпитер великий, царей и богов прародитель, Ты — матерь богов.
Но в таком случае зачем же назвали его и Румином, когда при более внимательном исследовании, быть может, оказалось бы, что он сам и есть та богиня Румина? Ведь если то, что в одном и том же колосе на одного из богов возложена забота о коленце растения, на другого — о кожице зерна, по справедливости казалось недостойным величия богов, то не гораздо ли более недостойно этого величия, что для одной такой вещи низшего порядка, каково кормление грудью животных, потребовалось могущество двух богов, из которых один — сам Юпитер, царь всего; и делает он это даже не со своей супругой, а с невесть какой Руминой? Разве, в самом деле, он же сам и есть эта Румина? Может быть для животных мужского пола он Румин, а для женского — Румина? Я сказал бы, что они не хотели называть Юпитера женским именем, если бы в вышеприведенных стихах его не назвали и прародителем, и матерью и если бы между другими его прозвищами я не встречал, что он назывался и Пекунией. Такую богиню мы встречали между мелкими божествами и упоминали о ней в четвертой книге. Так как деньги (ресишат) есть и у мужчин, и у женщин, то пусть скажут, почему они не назвали его Пекунией и Пекунием, как назвали Руминою и Румином?
ГЛАВА XII
А какое превосходное основание они указывают для этого названия! Он, говорят, называется и Пекунией, потому что ему принадлежит все. Достойное основание для божественного имени! Казалось бы, напротив, называть Пекунией того, кому принадлежит все, крайне унизительно и оскорбительно. Ибо по сравнению со всем, что находится на небе и на земле, что такое деньги, в совокупности со всеми без исключения вещами, которыми человек обладает при помощи денег? Это имя дала Юпитеру, конечно, жадность, чтобы любящий деньги представлялся любящим не какого–нибудь бога, а самого царя всего.
Другое дело, если бы его называли богатством. Ибо одно дело — богатство, и совсем иное — деньги. Богатыми мы называем людей мудрых, добродетельных, справедливых, для которых деньги или не имеют никакого значения, или же, если и имеют, то самое небольшое: они богаты более добродетелями, благодаря которым и в самих телесных нуждах бывают довольны тем, что имеют; бедными же мы называем людей жадных, которые вечно стремятся к приобретениям и всегда нуждаются; как бы много у них ни было денег, они не нуждаться не могут. И самого истинного Бога мы называем богатым, но богатым не деньгами, а всемогуществом. Богатыми называются и люди денежные, но в душе они нуждаются, если жадны; равно и не имеющие денег называются бедными, но в душе они богаты, если мудры. Какою же, спрашивается, должна казаться, на взгляд мудреца, та теология, где царь богов носит имя такого предмета, к которому не имел пристрастия ни один мудрец? Ведь если бы эта доктрина учила чему–либо относящемуся к вечной жизни, в таком случае бог, правитель мира, скорее назван был бы не от денег, а от мудрости, любовь к которой очищает от грязи жадности, т. е. от любви к деньгам.
БлаженныйАвгустин 324
ГЛАВА XIII
Но к чему распространяться далее об этом Юпитере, к которому должны быть отнесены, пожалуй, и остальные боги, так что мнение о многих богах останется пустым мнением, поскольку в своем лице он представляет их всех: считать ли их его частями или силами, или же самого его представлять силой души, разлитой, как полагают, по всему, и от частей, из которых состоит настоящий видимый мир, и от многообразных управлений природой, получившей имена как бы многих богов?
В самом деле, что такое Сатурн? «Один, — говорит Варрон, — из главных богов, которому принадлежит власть над всеми родами сеяния». Но из объяснения вышеприведенных стихов Валерия Сорана разве не видно, что Юпитер есть мир и что он из себя изливает все семена и в себя же снова их принимает? Следовательно, он сам и есть тот, которому принадлежит власть над всеми родами сеяния. А что такое Гений? «Бог, — говорит, — который приставлен к рождению всех вещей». Но кто другой, на их взгляд, имеет такую силу, как не мир, которому, как сказано, «Юпитер прародитель и мать»? И хотя в другом месте он говорит, что Гений есть разумный дух каждого человека, и, следовательно, каждый человек имеет отдельного Гения; но ведь подобный же этому дух мира есть бог; во всяком случае выходит, что самый универсальный, так сказать, гений, есть именно дух мира. Значит, это и есть тот, кого они называют Юпитером. Ибо если каждый гений — бог, а дух всякого человека — гений, то из этого следует, что дух всякого человека — бог; если же эта нелепость заставляет останавливаться и их самих, то остается заключить, что богом единственно и по преимуществу они называют того гения, которого называют и духом мира, т. е. Юпитера.
О граде Божием 325
ГЛАВА XIV
Но как отнести Меркурия и Марса к каким–либо частям мира или к действиям божьим, совершающимся в мировых элементах, они не додумались; а потому приставили их к делам человеческим в качестве управителей речью и войной. Если Меркурий имеет власть и над речью богов, то господствует и над самим царем богов, коль скоро по его власти говорит или получает способность говорить Юпитер, что, конечно же, нелепо. Если же ему приписывается власть только над человеческой речью, то трудно поверить, чтобы Юпитер, согласившись спускаться с неба не только к детям, но и к животным в период кормления тех и других молоком матери (почему и называется Румином), не захотел принять на себя заботы о нашей речи, которой мы превосходим животных; следовательно, Меркурий и есть этот самый Юпитер А если Меркурий означает саму речь, как показывают толкования его имени, ибо Меркурий — как бы бегающий посредник (тесИсиггшз, тегсигшз) и назван так потому, что речь между людьми перебегает от одного к другому; поэтому по–гречески он называется Ерцт\1;, так как речь или толкование, которое, конечно, относится к речи же, называется ерц–пуеш; поэтому же, далее, он заведует торговыми сделками, так как между продающими и покупающими посредницей служит речь; крылья на его голове и ногах означают речь, быстро несущуюся по воздуху; вестником назван он потому, что посредством речи делаются известными все помыслы; — итак, если Меркурий означает речь, то он и по их собственному признанию — не бог. Но когда они делают себе богов, которые не суть и демоны, то, обращаясь с молитвой к нечистым духам, они подпадают под власть тех, кто не боги, а демоны. Равным образом, не придумав и для Марса никакого элемента или части мира, где бы он заведовал какими–нибудь действиями природы, они назвали его богом
БлаженныйАвгустин 326
войны, которая представляет собой дело человеческое, причем дело нежелательное. Поэтому, даруй Счастье вечный мир, Марсу нечего было бы делать. Если же Марс означает саму войну, как Меркурий — речь, то как ясно то, что он не есть бог, так же от души желательно, чтобы не было и войны, хотя бы и ложно называемой богом.
ГЛАВА XV
Но, может быть, эти боги суть те звезды, которые названы у них именами этих богов? Ибо одну звезду они называют Меркурием, другую Марсом. Но в числе их есть и такая звезда, которую они называют Юпитером, хотя Юпитер представляет у них весь мир; есть звезда, называемая Сатурном, хотя Сатурну, кроме того, они приписывают заведовать немалой субстанцией, а именно — субстанцией всех семян; есть самая светлая из всех звезда, которую они называют Венерой, и, однако, ту же самую Венеру они считают и Луной; впрочем, об этой самой блестящей звезде спорят между собой, как о золотом яблоке, Юнона и Венера. По словам одних Люцифер — звезда Венеры, по словам других — звезда Юноны; впрочем, как и всегда, победа остается за Венерой. Большая часть из них эту звезду приписывает Венере, так что с трудом можно найти кого–нибудь, кто думал бы иначе. Но кому не покажется смешным, что звезда Юпитера, которого они считают царем всех, затмевается блеском звезды Венеры? Ведь его звезда должна была бы быть настолько ярче остальных, насколько он сам могущественнее всех прочих богов.
Темнее, говорят, его звезда кажется потому, что она выше и гораздо дальше от земли. Но если высшее место этой звезде дало высшее достоинство Юпитера, то почему же Сатурн на небе выше Юпитера? Или суетность мифа, делающая Юпитера царем, не смогла проникнуть до небесных
О граде Божием 327
светил, и чего Сатурн не получил ни в своем царстве, ни в Капитолии, то предоставлено ему по крайней мере на небе? Но почему не получил никакой звезды Янус? Если потому, что он — мир и что в нем они все, то ведь и Юпитер — мир же, и, однако же, звезду он имеет. Или он решал свои дела по мере возможности, и вместо одной звезды, которой не имеет между светилами, получил столько лиц на земле? Наконец, если Меркурия и Марса, дабы их можно было отнести к числу богов, считают частями мира единственно из–за их звезд, так как речь и война ни в коем случае не суть части мира, а человеческие дела, то почему же Овну, Тельцу, Раку, Скорпиону и прочим небесным знакам, из которых каждый состоит не из одной звезды, а из многих, и которые, как утверждают, находятся гораздо выше звезд Меркурия и Марса, на самом верхнем небе, где более постоянное движение дает небесным светилам неизменный путь, — почему им не посвятили они никаких алтарей, никаких культов, никаких храмов? Почему не причислили их, не говорю уже к богам избранным, но хотя бы к богам–плебеям?
ГЛАВА XVI
Хотя, по их мнению, Аполлон — врач и гадатель, однако, чтобы поставить его в какой–нибудь части мира, они называют его и Солнцем. Подобно ему и сестру его Диану считают Луной и начальницей дорог. Отсюда называют ее и девой, потому что на дороге не рождается ничего. Поэтому же обоих представляют держащими стрелы: так как оба светила свои лучи простирают до самой земли. Вулкана считают огнем мира; Нептуна — водами мира; Дитиса–отца, т. е. Орка, — земной и подземной частями мира; Либера и Цереру соотносят с семенем, первого с мужским, последнюю с женским, Либера с жидким семенем, Цереру — с
БлаженныйАвгустин 328
сухим. И это все относится к миру, т. е. к Юпитеру, который потому и назван прародителем и матерью, что все семена исходят из него и снова в него же возвращаются. Так как саму Великую Мать они считают еще и Церерой, которая, по их же словам, есть не что иное, как земля, и ее же представляют Юноной, то и ей приписывают второстепенные причины; потому что о Юпитере говорится: прародитель и мать богов; так как, по их представлению, Юпитер олицетворяет собой весь мир. Равно и Минерву, — поелику отдали ей в ведение человеческие искусства и не нашли звезды, где бы ее поместить, — назвали высшим эфиром и Луной. И саму Весту называют величайшей из богинь потому, что она — земля; хотя ей же сочли нужным приписать и тот мировой огонь, который служит для обыденных нужд людей, — огонь более мягкий, а не такой разрушительный, который находится в ведении Вулкана.
Таким образом, все эти избранные боги, по их мнению, представляют собой настоящий мир, один — весь, другие — части его: весь — это Юпитер, части — это Гений, Великая Мать, Солнце и Луна, или лучше — Аполлон и Диана, и проч. Иногда одному богу приписывают многие вещи, а иногда одну вещь разделяют между многими богами. Так, многие вещи приписывают, например, Юпитеру; Юпитер — и весь мир, и одно небо, и одна звезда Юпитер. Равным образом Юнона — и владычица над второстепенными причинами, и воздух, и земля, и была бы звезда Юнона, если бы за ней осталась победа над Венерой. Точно так же Минерва — и высший эфир, и та же Минерва–Луна, которую помещают на самой низшей границе эфира. Одну же вещь делят между многими богами таким образом: и Янус есть мир, и Юпитер; равно и Юнона — земля, и Великая Мать и Церера — земля.
О граде Божием 329
ГЛАВА XVII
И как то, о чем я для примера упомянул, так и все прочее они не объясняют, а скорее запутывают; соответственно тому, куда толкает их мнение, они бросаются то туда, то сюда, и отскакивают и оттуда, и отсюда; так что и сам Варрон предпочитал лучше во всем сомневаться, чем что–либо утверждать. Так, закончив первую из последних трех книг о богах известных и начав во второй говорить о богах неизвестных, он замечает-. «Если в этой книге я буду излагать мнения о богах сомнительные, порицать меня за это не следует. Тот, на чей взгляд можно и должно говорить решительно, пусть, выслушав меня, сделает это сам. Я скорее могу согласиться подвергнуть сомнению то, о чем я сказал в первой книге, чем направигь к какому–нибудь положительному выводу все то, о чем буду говорить в настоящей». Таким образом, он представил сомнительной не только книгу о богах неизвестных, но и книгу о богах известных.
Далее, в третьей книге о богах избранных, сказав заранее о том, о чем считал нужным сказать из естественной теологии, и приступая к пустоте и бессмысленной лживости теологии гражданской, к которой не истина его вела, а толкал авторитет предков, он говорит: «Я буду писать в этой книге о публичных богах римского народа, которым посвятили храмы и которым присвоили множество отличительных признаков, но буду писать подобно Ксенофану Колофон–скому, т. е. буду излагать, что думаю, а не то, что утверждаю. Ибо человеку свойственно иметь по этому предмету только мнения, знать же — одному Богу».
Итак, намереваясь говорить о человеческих суждениях, он с робостью обещает говорить не о том, что познано и во что верят несомненнейшим образом, а о том, насчет чего имеются только мнения и что подлежит сомнению. Ибо в какой степени он знал, что существует мир, что существуют небо и земля, что небо сияет светилами, а земля плодородна от семян и прочее
БлаженныйАвгустин 330
тому подобное; и в какой степени верил, что всей этой громадой управляет некоторая невидимая и могущественная сила, — он не мог в такой же степени утвердительно говорить о Янусе, что он — мир, или давать объяснения относительно Сатурна, каким образом он и отец Юпитера, и в то же время подчинен ему, как царю, и проч.
ГЛАВА XVIII
Более правдоподобным его толкование будет в том случае, если представить себе, что они были людьми и 4 что каждому из них, сообразно с его дарованиями, 1 нравами, действиями и приключениями, были посвящены теми, которым вздумалось сделать их из лести богами, культы и празднества, и что это благодаря людям, по душе похожим на демонов и жадным до вещей смехотворных, постепенно получило широкое распространение в народе при посредстве, с одной стороны, поэтов, приукрашавших эти вещи ложью, с другой — прельщавших ими злых духов. Ведь гораздо скорее могло случиться, что юноша, не питавший сыновних чувств или опасавшийся быть убитым не питавшим отеческих чувств отцом, и в то же время властолюбивый, сверг отца с престола, чем то, о чем толкует Варрон, т. е. будто Сатурна–отца превзошел властью Юпитер–сын потому, что причина, которую приписывают Юпитеру, существует раньше, чем семя, которым якобы заведует Сатурн. Если бы это было так, Сатурн никогда не был бы ни более ранним (богом), чем Юпитер, ни отцом его, ибо причина всегда предшествует семени и никогда не рождается из семени. Но когда пустейшие басни или человеческие поступки стараются сделать уважительным путем естественных толкований, то и самые остроумные люди сталкиваются с такими трудностями, что мы вынуждены бываем сожалеть об их напрасных усилиях.
О граде Божием 331
ГЛАВА XIX
О Сатурне, говорит Варрон, утверждают, что он обычно пожирает то, что от него рождается; потому что семена возвращаются туда же, откуда рождаются. А что ему вместо Юпитера дали сожрать глыбу земли, это означает, говорит он, что хлебные зерна, которые начали сеять прежде, чем открыта была польза обработки земли плугом, люди зарывали в землю своими руками. Но в таком случае Сатурн должен был бы называться самою землею, а не семенем: ибо земля в некотором смысле пожирает то, что она рождает, когда рождающиеся из нее семена опять возвращаются в нее же. Да и то, что Сатурн, как говорят, за Юпитера принял глыбу земли, какое это имеет отношение к тому, что люди собственноручно прикрывали семя землей? Разве то семя, которое прикрывалось землей, не пожиралось, подобно остальному? Ведь дело представляется так, будто человек, накладывавший на семя землю, выкрадывал семя, подобно тому, как выкраден был Юпитер у Сатурна, когда ему подложена была глыба земли; а между тем, покрывая семя землей, он делает это скорее для того, чтобы семя вернее было пожрано. Кроме того, Юпитер в таком случае представляет собой семя, а не причину, как говорилось несколько выше. Но что делать людям, которые, растолковывая глупые вещи, не могут найти, что сказать умного?
Сатурн, говорит Варрон, имеет серп в знак земледелия. Но ведь в его царствование еще не было земледелия, и времена этого царствования, как он сам же толкует эти самые мифы, потому представляются более ранними, что первобытные люди питались теми семенами, которые земля рождала сама собой? Разве что, потеряв скипетр, он потому получил серп, что, будучи в прежнее время бездеятельным царем, в царствование сына сделался трудолюбивым работником? Затем, некоторые, говорит, потому приноси–ли ему в жертву детей (например,
БлаженныйАвгустин 332
пунны и даже некоторые из предков, равно как и галлы), что самое лучшее из всех семян есть человеческое рождение. Нужно ли распространяться об этой суетности, соединенной со зверской жестокостью? Лучше обратить внимание на то, что подобные толкования относятся не к истинному Богу — живой, бестелесной и непреложной природе, от которой надлежит ждать вечной блаженной жизни, а вращаются в пределах вещей телесных, временных, изменчивых и смертных.
Что же касается того, продолжает он, что СатурН) как рассказывается в мифах, оскопил своего отца Небо, то это означает, что божественное семя находится не во власти неба, а во власти Сатурна. И это, насколько можно понять, потому, что на небе ничего не рождается из семян. Но в таком случае, если Сатурн — сын неба, то он — сын Юпитера; потому что во многих местах он настойчиво утверждает, что Юпитер представляет собой небо. Так по большей части то, что не от истины, даже если оно никем не опровергается, само опровергает себя. Кроносом, говорит, он назван потому, что греческое слово кроуо^, означает пространство времени, без которого семя не может оплодотвориться. Это и многое другое говорится о Сатурне, и все относится к семени. Но достаточно бы для семян и одного Сатурна с такой его властью-, к чему же сочиняются для них еще другие боги, в особенности Либер и Либера, т. е. Церера? Об этих последних он говорит так много касающегося семени, как будто о Сатурне не говорил ничего.
ГЛАВА XX
В культе Цереры превозносят и всячески хвалят так называемые Элевсинские таинства, которые у афинян были в особом почете. Относительно их он не дает никаких объяснений,
О граде Божием 333
кроме того, что касается зернового хлеба, изобретенного Церерой, и Прозерпины, которую она потеряла, когда ее похитил Орк. Эта последняя, по его словам, означает плодородие семян: когда–де однажды его не было, и земля представляла печальный вид своей бесплодностью, сложилось мнение, что дочь Цереры, т. е. плодородие, которое от выползания (ркхчегрешЗо) называют Прозерпиной, похитил Орк и держит ее в преисподней; по этому поводу было установлено публичное сетование; когда же снова настало плодородие, Прозерпина была возвращена, — снова явилась радость и были установлены празднества. Затем он говорит, что в мистериях Цереры передается много такого, что относится именно к изобретению плодов.
ГЛАВА XXI
А до какой мерзости дошел культ Либера, которому они приписывают власть над жидкими семенами, а потому не только над жидкостями плодов, между которыми своего рода первое место занимает вино, но и над семенем животных, — об этом не стоило бы говорить по причине продолжительности речи, но стоит ввиду их горделивой тупости. Впрочем, я все–таки вынужден кое–что опустить, так как всего слишком много. Он говорит, что на перекрестках Италии некоторые частности культа Либера совершаются с такой отвратительной свободой, что в честь его почитается срамной мужской член, — почитается не с сохранением сколько–нибудь стыдливой тайны, а с открытым и восторженным непотребством. Так, этот гнусный член, положенный в тележки, в дни праздника Либера с великим почетом вывозится сначала в деревнях на перекрестки, а затем ввозится и в город. В городке же Лавинии Либеру посвящен был целый месяц, в продолжение которого у всех на языке были похабнейшие слова, пока
БлаженныйАвгустин 334
этот член не провозили через площадь и не прятали в своем месте. На этот почтенный член почтеннейшая из матрон должна была открыто возложить корону! Так, изволите ли видеть, надо было склонять к милости бога Либера ради урожая; так нужно было удалять язву с полей: нужно было принудить благородную женщину сделать публично такое, чего не позволила бы себе сделать в театре и блудница, если бы зрительницами были благородные женщины. Стало быть, одного Сатурна считалось недостаточным для семян, если нечистая душа имела возможность изобрести многих богов, и, отвернувшись вследствие нечистоты своей от единого Бога и через многих богов развратившись жадностью к еще большей мерзости, называла эти святотатства священнодействиями и отдавала себя на поругание и осквернение толпе мерзких демонов.
ГЛАВА XXII
У Нептуна уже была жена Салация, под именем которой они подразумевали нижний слой моря; на каком тогда основании к нему присоединена еще и Венилия, как не ради умножения случаев обращения к демонам безо всякой нужды в новых культах, а единственно по капризу развращенной души? Но выслушаем толкование знаменитой теологии, которое, указав на это основание, может быть удержит нас от такого порицания. Венилия, говорит Варрон, представляет собой волну, которая идет к берегу, а Салация — волну, уходящую в море. Зачем же, спрашивается, две богини, когда приходящая и уходящая волна — одна и та же волна? В этом–то и проявляется бешеная похоть многобожия. Хотя приходящая и уходящая волна остается одной и той же, однако, воспользовавшись этим случаем для двукратного
О граде Божием 335
обращения к чарам демонов, более оскверняется суетный дух, который «уходит и не возвращается» (Пс. ЬХХУП, 39).
Прошу тебя, Варрон, или же вас, читавших подобные сочинения столь ученых мужей, гордящихся тем, что знают нечто великое, — растолкуйте мне это, пускай даже и не согласно с той вечной и непреложной природой, которая есть единый истинный Бог, а согласно хотя бы с душой мира и ее частями, каковыми вы считаете своих богов. Что вы представляете Нептуна частью мировой души, пронизывающей море, это, конечно, заблуждение, но заблуждение еще терпимое. Но вода, приходящая к берегу и уходящая в море, суть ли это две части мира или две части мировой души? Кто из вас настолько безумен, чтобы так умствовать? Зачем же сделали вам двух богинь, как не затем, мудрые предки ваши предвидели не то, что над вами будут царствовать многие, а то, что вас подчинят своей власти многие демоны, находящие удовольствие в суетности и лжи подобного рода? А почему Салация перестала по этому толкованию быть нижним слоем моря, в качестве которого она являлась подчиненной мужу? Ведь вы располагаете ее лишь на поверхности, когда говорите, что она — уходящая от берега волна. Уж не потому ли она прогнала своего мужа с поверхности моря, что рассердилась на него за то, что он взял себе в любовницы Венилию?
ГЛАВА XXIII
Земля, конечно, одна и та же, хотя мы и видим ее наполненной свойственными ей животными: зачем же ее, это великое тело и низшую часть мировых стихий, они считают богиней? Разве потому, что она плодородна? Но почему же в таком случае не считаются богами сами люди, которые делают землю более плодородной благодаря культивированию, т. е. когда ее
БлаженныйАвгустин 336
пашут, а не когда ей молятся? Но, говорят они, богиней ее делает часть мировой души, которая ее пронизывает. Да разве бытие души в людях не более очевидно, разве возможно относительно этого предмета какое–нибудь сомнение? А между тем, люди не считаются богами; и что всего прискорбнее, в силу странного и жалкого заблуждения покорно почитают и боготворят тех, кто не только не боги, но и кого они сами же лучше.
Тот же самый Варрон в книге об избранных богах утверждает, что во всей и всякой природе существует три уровня души. Первый пронизывает все вообще живые части тела, но имеет не чувство, а только лишь оживляющую силу; так, в нашем теле эта сила, говорит, распространена в костях, ногтях, волосах; в неодушевленном мире без чувства питаются, растут и в своем роде живут деревья. Второй уровень души — тот, в котором есть чувство: эта сила существует в глазах, ушах, носу, устах, осязании. Третий уровень души — самый высший, называемый духом, в котором преобладает разумность: эту часть мировой души он называет богом, а в нас — гением. В неодушевленном мире камни и видимая нами земля, в которых чувство не проявляется, суть как бы кости и ногти божества. Солнце же, луна и звезды, которые мы чувствуем и которыми он сам чувствует, суть его чувства. Наконец, эфир — дух божества: от его силы, когда она достигает небесных светил, эти светила делаются богами, когда проникает в землю, земля является богиней Теллурой, а когда — в море и океан, они становятся богом Нептуном,
Но пусть он вернется назад из области этой теологии, которую считает естественной и куда он уклонился как бы для отдыха, будучи утомлен разного рода увертками и околичностями. Пусть, говорю, он вернется назад к теологии гражданской: я пока на ней останавливаю свое внимание, еще о ней говорю. Я не распространяюсь пока о том, что если
О граде Божием 337
в неодушевленном мире земля и камни похожи на наши ногти и кости, то они, как и эти последние, не имеют разума, как не имеют и чувства; или что если наши кости и ногти потому имеют разум, что они в человеке, который обладает разумом, то называющий землю и камни мировыми богами настолько же глуп, насколько глуп и тот, кто наши кости и ногти назвал бы людьми. Об этом предмете нам следует вести речь скорее с философами; в данном же случае я хочу говорить с политиком. Ибо весьма возможно, что хотя он и старался исподволь перейти в область естественной теологии, как в своего рода область свободы, однако, занятый написанием книги об избранных богах, он не терял из виду и эту тему; и вышеизложенное высказал с той целью, чтобы не показалось, будто его предки или другие государства почитали Теллуру и Нептуна напрасно.
Итак, спрашиваю: если земля одна, то почему часть мировой души, пронизывающая землю, не представляет собой также одну богиню, которую они называют Теллурой? Если же она представляет собою одну богиню, то где в таком случае будет Орк, брат Юпитера и Нептуна, которого называют еще Дити–сом–отцом? Где будет его супруга Прозерпина, которая согласно другому, в той же самой книге изложенному мнению, представляет собой не плодородие земли, а низшую ее часть? Если же скажут, что часть мировой души, когда она пронизывает верхнюю часть земли, представляет собой бога Дитиса–отца, а когда низшую — богиню Прозерпину, то чем же является тогда Теллура? Ведь все то, что она сама и есть, делится на две указанные части и на двух богов, так что невозможно понять, чем же будет она, третья, и где будет находиться.
Уж не скажет ли кто–нибудь, что эти боги, Орк и Прозерпина, взятые вместе, составляют одну Теллуру, и что, следовательно, есть не три бога, но или один, или два? Однако они
БлаженныйАвгустин 338
называются тремя, тремя считаются и почитаются каждый своими особыми алтарями, капищами, культами, жрецами; и, следовательно, тремя особыми демонскими чарами, оскверняющими развращенную душу. Пусть скажут еще, какую часть земли проникает часть мирового духа, чтобы дать бытие богу Теллумону? Никакой, говорит Варрон, но одна и та же земля имеет двоякую рождающую силу — мужскую, производящую семена, и женскую, принимающую их и питающую: от женской силы она называется Теллурой, а от мужской — Тел–лумоном. Зачем же в таком случае понтифики, как он же сам и показывает, прибавив еще двух других, предоставляют это божественное дело четырем богам: Теллуре, Теллумону, Альтору и Рузору? О Теллуре и Теллумоне уже сказано, но почему еще и Альтору? Потому что, говорит он, все, что рождается, — питается (а1ипЮг). А почему Рузору? Потому что, говорит, все возвращается снова (гигзш) к тому же самому.
ГЛАВА XXIV
Но ради этой четверной силы земля должна была бы иметь и четыре названия, а не представлять собой четырех богов, подобно тому, как один Юпитер и одна Юнона имеют каждый множество имен. Под этими именами подразумевается многообразная сила, относящаяся к одному богу или одной богине; но множество их не представляет собой множества богов. Как бывает это временами и с самыми презренными женщинами, когда они тяготятся толпой тех, к которым влечет их похоть, так и душа, ставшая презренной и поруганной нечистыми духами, хотя чаще всего и находит удовольствие в умножении богов, которыми она оскверняется, но иногда и тяготится этим. И сам Варрон, как бы устыдившись этой толпы, утверждает, что богиня Теллура одна. «Она же, — замечает он, — называетс
О граде Божием 339
Великой Матерью: тимпан, который она имеет, означает земной шар, башня на голове — города, сиденья вокруг нее — то, что хотя все вокруг движется, но сама она неподвижна. Галлов ставят для служения ей в знак того, что те, которые не имеют семени, должны служить земле, потому что в ней находится все. А что пред нею кривляются, этим, — говорит он, — дается понять, что возделывающие ее не должны быть праздными: ибо им всегда есть что делать. Звон цимбалов, гром железных орудий, рукоплесканий и всяческая трескотня показывают, что бывает при возделывании земли; медь предпочитается потому, что древние возделывали землю медью, прежде чем изобретено было железо. Присоединяют к тому же, — продолжает Варрон, — находящегося на свободе и прирученного льва, дабы этим показать, что нет ни одного вида земли, такого отдаленного и сурового, которого нельзя было бы подвергнуть обработке».
Продолжая далее свою речь, он говорит: «Теллуре–матери дали многие имена и названия, полагая, что она представляет собой многих богов. Ее считают Опой потому, что от обрабатывания (ореге) она становится лучше; назвали Матерью потому, что очень многое рождает; Великой потому, что производит пищу; Прозерпиной потому, что из нее выползают плодовые растения; Вестой потому, что покрывается (уезйашг) травами. Таким образом, — говорит он, — не без основания относятся к ней другие богини». Но, спрашивается, если это — одна богиня, — хотя на самом деле она даже и не богиня, — то зачем почитают многих? Ведь все это — многие имена одной богини, а не столько богинь, сколько имен. Но гнетом лежит авторитет заблуждавшихся предков и в самом же Варроне вызывает опасения тотчас же вслед за высказанным мнением. Оговариваясь, он замечает: «Этому не противоречит то мнение предков об этих богинях, по которому они представляли
БлаженныйАвгустин 340
их в виде множества богинь». Каким же образом не противоречит, когда одно дело, если одна богиня имеет много имен, и совсем иное — если богинь много? «Но, — говорит он, — возможно, что та же самая вещь и одна, и заключает в себе нечто многое». Согласен, что в одном человеке есть нечто многое, но разве поэтому — и многие люди? Также и в одной богине может быть нечто многое, но разве поэтому она же — многие богини? Впрочем, пусть делают, что хотят: разделяют, соединяют, умножают, делят и перепутывают.
Итак, вот они, эти знаменитые мистерии Теллуры и Великой Матери: в них все имеет отношение к смертным семенам и к обработке земли. Неужели же относящиеся к этому предмету и имеющие подобный смысл вещи, как–то: тимпан, башни, галлы, бессмысленное кривляние, звон цимбалов и дрессировка львов — обещают кому–нибудь вечную жизнь? Неужели оскопленные галлы прислуживают этой богине в знак того, что те, которые не имеют семени, должны служить земле? Не само ли это служение лишает их семени? Ведь не приобретают же, действительно, семя служением этой богине не имеющие его, но лишаются вследствие этого ей служения семени те, которые его имеют. И не замечают, какую силу набрали злые демоны, когда, не смея обещать ничего великого, были в состоянии потребовать такой жестокости! Если бы земля не считалась богиней, люди возделывали бы ее, чтобы от нее получать семена, а не зверствовали бы над самими собой, чтобы ради нее терять свое семя. Если бы ее не считали богиней, она делалась бы плодородной благодаря чужим рукам, а не принуждала бы человека делать себя бесплодным своими собственными руками.
Когда в культе Либера почтенная матрона возлагает венок на мужской половой орган на глазах всего народа, в присутствии, быть может, краснеющего от стыда (если только в этих людях есть хоть капля стыда) мужа; когда в брачных церемониях новобрачной приказывают
О граде Божием 341
сесть на ствол Приапа, то эти вещи гораздо терпимее и легче по сравнению с этой зверской мерзостью или мерзким зверством, которым тот и другой пол одурачивается демонскими ухищрениями так, что вследствие добровольного увечья не делается ни тем, ни другим. Там боятся влияния дурного глаза на поля; здесь не боятся отрубать свои члены. Там стыдливость новобрачной оскорбляется таким образом, что у нее не отнимается не только способность чадородия, но и девственность; здесь же мужчина уродует себя так, что и в женщину не превращается, и не остается мужчиной.
ГЛАВА XXV
Варрон не упомянул и не дал объяснения известному Атису, ради воспоминания о любви к которому оскопляются галлы. Но мудрые и ученые греки отнюдь не упустили возможности разъяснить эту знаменитую святыню. Так как внешний вид земли весной прекрасней, чем в остальк:к–времена года, то известный философ Порфирий доказывает, что Атис означает цветы, а потому и представляется оскопленным, что цветы, мол, опадают перед плодом. Таким образом, сравнивается с цветами не сам человек или псевдочеловек, называемый Атисом, а его половые органы. Именно последние при его жизни и опали, — в действительности же не опали и не сорваны, а просто были раздроблены на части; за потерей же этого цвета последовал не какой–либо плод, а совершенное бесплодие. Чем же он остался потом и что у него, оскопленного, сохранилось такое, что имело бы упомянутое значение? С чем можно было бы это сопоставить и какой из этого вывести смысл? Или, поломав над этим напрасно голову и ничего не придумав, станут утверждать, что предпочтительнее
БлаженныйАвгустин 342
следует верить тому, что разгласила молва и что записано в книгах об оскопленном человеке? Наш Варрон был прав, что умолчал и не захотел говорить об этих вещах: они не были неизвестны ему, как человеку ученейшему.
ГЛАВА XXVI
Равным образом, не захотел он говорить (по крайней мере, не припомню, чтобы я где–нибудь у него это встречал) о посвященных Великой Матери, забывших о всякой стыдливости мужчинах и женщинах, женоподобных людях, которые с напомаженными волосами, набеленными лицами, с расслабленными членами и женской походкой еще до вчерашнего дня расхаживали по площадям и улицам Карфагена, выпрашивая себе у толпы средств для мерзкой жизни. Не нашлось толкования, устыдился разум, умолкло красноречие. Великая Мать победила всех сыновей–богов величием не божественности, а преступления. С чудовищем этим не сравнится даже чудовищность Януса. Тот отличался безобразием только в статуях, а эта обнаруживала в культе безобразие, соединенное с жестокостью; тому прибавляли члены из камня, а эта отнимала члены у людей. По сравнению с этим позором кажутся малыми и незначительными постыдные дела самого Юпитера: среди любовных связей с женщинами он опозорил небо связью с одним лишь Ганимедом; а эта столькими женоподобными людьми, публично признанными, и землю осквернила, и оскорбила небо.
С этой отвратительной жестокостью можно сравнить только жестокость Сатурна, который приказал оскопить своего отца; но в культе Сатурна люди если и убивались, то чужими руками, а не оскоплялись своими собственными. Он, как говорят поэты, пожирал своих сыновей, и физики дают этому самые различные толкования; история же гласит, что он просто умерщвлял их.
О граде Божием 343
Но если пунны приносили ему в жертву своих детей, то римляне не приняли этого. Между тем Великая Мать и ввела скопцов в римские храмы, и поддерживала этот дикий обычай; ее считают помощницей римскому могуществу, — ее, отсекавшую мужеские половые органы! Что значат по сравнению с этим злом кражи Меркурия, распутство Венеры, бесстыдные и мерзкие дела остальных богов, о которых мы узнали бы из книг, если бы это каждодневно не воспевалось и не представлялось в театрах? Но все эти вещи — сущие пустяки по сравнению с тем злом, величие которого было к лицу только Великой Матери! Говорят, что все эти вещи придуманы поэтами; но разве поэты выдумали и то, что они богам угодны и приятны? Пусть то было дерзостью поэтов, что они воспевались и описывались; но что они были отнесены к божественным вещам и, по настоянию и требованию самих богов, совершались в их честь, — чем иным это назвать, как не преступлением богов и, вместе с тем, выражением веры в демонов и обольщением бедных людей? Да, если мать богов удостоилась, что в ее честь посвящали на служение ей скопцов, — то это выдумали не поэты; они, напротив, скорее приходили от этого в ужас, чем воспевали. Этим ли избранным богам должен кто–либо себя посвящать, чтобы после смерти жить блаженно, когда посвященный им не может жить честно и до смерти, будучи предан столь отвратительным суевериям и подчинен нечистым демонам? Но все это, говорит Варрон, имеет отношение к миру (ггшпйит). Не скорее ли оно относится к нечистому (1ттипс1ит)? Впрочем, почему не может относиться к миру то, что, как оказывается, существует в мире? Но мы стремимся достигнуть такого состояния духа, в котором он, возложив свое упование на истинную религию, не боготворил бы мир, как бога, а хвалил бы мир ради Бога, как дело Божие, и, очистившись от мирских мерзостей, непорочным восходил бы к Богу, Который сотворил мир.
БлаженныйАвгустин 344
ГЛАВА XXVII
Итак, мы видим, что эти избранные боги пользовались большей известностью, чем остальные; но пользовались не в том смысле, что прославлялись их заслуги, а в том, что не скрывались их мерзости. Поэтому вполне вероятно, что они были людьми, как об этом передают не только поэты, но и историки. Так, Вергилий говорит:
Сатурн был первым, кто с Олимпа высей Пришел, Юпитером лишенный царства'.
Об этом, равно как и о других сопутствующих этому обстоятельствах подробно рассказывает Эвгемер в своей истории, которую Энний перевел на латинский язык. Так как против этого рода заблуждений говорили весьма много писавшие до нас и на греческом, и на латинском языке, то мне не хочется останавливаться на этом предмете.
Рассматривая эти физиологические толкования, с помощью которых остроумные и ученые люди стараются обратить подобные человеческие вещи в вещи божественные, я вижу только то, что они могут быть отнесены к делам временным и земным и к природе телесной, а если и невидимой, то, во всяком случае, к изменчивой, какой ни в коем случае не может быть истинный Бог. Если бы еще они придавали этому по крайней мере значения, согласные с чувством благоговения, то хоть и приходилось бы сожалеть, что в них нет указания на истинного Бога, однако до известной степени можно было бы мириться с этим, когда бы вместе с тем не совершалось и не велелось совершать такие мерзкие и отвратительные вещи; при данных же обстоятельствах, когда нечестиво уже почитать и тело или дух вместо истинного Бога, Который
О граде Божием 345
один, обитая в душе, делает ее блаженной, — во сколько же раз нечестивее почитать эти вещи, да еще и таким образом, что и спасение не приобретается и не соблюдается ни душевная, ни телесная благопристойность почитающего человека?
Поэтому когда храмами, священнодействиями, жертвоприношениями, подобающими только истинному Богу, почитается какая–нибудь мировая стихия или какой–либо сотворенный дух, хотя бы и нечистый и злой; то худо это не потому, что вещи, которыми выражается это почитание, нехороши, а потому, что они — такие вещи, которыми должно почитать Того одного, Кому приличествует такое почитание и служение. Еслиже кто–нибудь утверждает, что нелепостью или чудовищностью статуй, убийством людей, увенчиванием мужских половых органов, публичным развратом, отсечением членов, оскоплением детородных частей, посвящением женоподобных людей, отправлением нечистых и скверных игр он почитает истинного Бога, Творца всякой души и тела, то такой не потому грешит, что почитает не Того, Кого должно, а потому, что почитает не так, как должно. А кто именно такими вещами, т. е. вещами мерзкими и преступными, почитает притом и не истинного Бога, Творца души и тела, а какую–нибудь, пускай и невинную, природу, будь то душа или тело, или же душа и тело вместе, — тот вдвойне грешит против Бога-, потому что почитает вместо Бога то, что не Бог, и почитает такими вещами, которыми не должно чтить ни Бога, ни не Бога. А до какой степени мерзко и непристойно они почитают, это очевидно. Что же или кого они почитают, было бы неясно, если бы их история не свидетельствовала, что все, что ни совершается гнусного и отвратительного, совершается потому, что сами божества их с угрозой потребовали этого. Отсюда, если отбросить околичности, понятно, что вся эта гражданская теология, предлагая созерцанию нелепые изображения и через них овладевая глупыми душами, служит нечестивым демонам и нечистым духам.
БлаженныйАвгустин 346
ГЛАВА XXVIII
А что получилось из того, что Варрон, человек остроумнейший и ученейший, в своем тонком рассуждении постарался распределить между небом и землей всех этих богов? Он оказался не в состоянии этого сделать: боги ускользают от него, вырываются, выпадают. Предпочитая вести речь о женщинах, т. е. о богинях, он говорит: «Поскольку, как я о том говорил еще в первой книге о местах, в соображение принимается двоякое происхождение богов: небесное и земное, отчего одни из них называются небесными, а другие — земными; то как в предыдущих книгах мы начали с неба, сказав о Янусе, которого одни называют небом, а другие — миром, так теперь, начиная разговор о женщинах, начнем с Теллуры».
Чувствую, какое он испытывает затруднение. Руководствовался он вполне правдоподобным предположением, что небо представляет собой начало скорее деятельное, а земля — пассивное и поэтому небу приписал мужскую силу, а земле — женскую, но упустил из виду, что куда могущественнее Тот, Кто сотворил и небо, и землю. В таком смысле он объяснил в предшествовавшей книге знаменитые мистерии самофракийцев, сказав, что одни идолы обозначают у них небо, другие — землю, а иные — прообразы вещей, которые Платон называл идеями. Под небом, по его мнению, понимается Юпитер, под землей — Юнона, а под идеями — Минерва; под небом — то, от чего бывает, под землей — то, из чего бывает, под идеями — то, сообразно с чем бывает. Не буду говорить о том, что, по мнению Платона, идеи имеют такое значение, что сообразно с ними не небо творит, но само оно сотворено. Скажу лишь, что в книге об избранных богах он сам упустил из виду это трехчастное деление богов. Он придал небу богов–мужчин, земле — богинь–женщин,
О граде Божием 347
и среди последних поместил и Минерву, которую прежде ставил выше неба. Далее, Нептун оказался у него в море, которое относится скорее к земле, чем к небу. Наконец, Дитис–отец, называемый греками Шсллоп, брат обоих (т. е. неба–Юпитера и моря–Нептуна) и бог–мужчина, также оказался богом земным.
Каким же, спрашивается, образом он старается придать богов небу, а богинь земле? Что в рассуждениях его можно найти твердого, несомненного, разумного? Ведь земля у него и Теллура, начало богинь, Великая Мать, перед которой горланит и кривляется безумная мерзость оскопивших себя людей. Какой смысл после этого в том, что Янус назван им главой богов, а Теллура — богинь? Там заблуждение не удержало одной главы, здесь безумие не сохранило ее здоровой. Зачем подобные пустяки они стараются относить к миру? Да пусть бы они и преуспели в этом–ни один здравомыслящий человек не станет почитать мира вместо Бога. Впрочем, они и в этом не преуспели. Поэтому пусть лучше отнесут все это к умершим людям и демонам, и недоразумения устранятся сами собою.
ГЛАВА XXIX
В сущности, все, что они якобы на основании физических законов из теологии этих богов относят к миру, все это, нисколько не оскорбляя благочестивого чувства, мы можем отнести к истинному Богу, создавшему мир, Творцу души и тела, следующим образом. Мы почитаем Бога, но не небо и землю, из которых состоит мир, и не душу или души, разлитые по всем живым существам; Бога, сотворившего небо и землю и все, что на них находится, создавшего не только живые души, но и их чувства и разум.
БлаженныйАвгустин 348
ГЛАВА XXX
Проследим в общих чертах те дела единого Бога, из–за которых они измыслили себе многих и ложных богов, стараясь благовидно истолковать свои сквернейшие и преступные таинства. Мы чтим Бога, Который установил для созданных Им тварей начала и цели их бытия; Который содержит, знает и располагает причины вещей; Который сотворил силу семян, дал живым существам, которым захотел, разумную душу, называемую духом, даровал способность речи, сообщил некоторым духам дар предсказания будущего, хотя порой и Сам предрекает будущее и исцеляет болезни, через кого Ему угодно; Который распоряжается началом, течением и завершением войн, когда ими надлежит исправлять и очищать человеческий род; Который для растворения беспредельной природы сотворил все сжигающий огонь ^ управляет им; Который есть Творец и Правитель всех вод; Который создал солнце, светлейшее из всех телесных светил, и дал ему соответствующее движение и силу; Который простирает Свою власть и владычество и на саму преисподнюю; Который определил семена и пищу смертным животным соответственно их природе; Который полагает основание земле и делает ее плодородной, щедро раздавая ее плоды животным и людям; Который знает и упорядочивает причины не только главные, но и второстепенные; Который указывает направления небесным и земным путям; Который человеческому разуму, Им сотворенному, сообщил знание различных наук; Который установил брак мужа и жены для продолжения человеческого рода.
Все это остроумнейший и ученейший Варрон на основании невесть каких физических толкований, откуда–то вычитанных или придуманных им самим, старается распределить между избранными богами. Но все это делает и всем управляет единый истинный Бог, причем именно как Бог, т. е. вездеприсущий, не ограниченный каким–либо пространством, не связанный
О граде Божием 349
какими–либо узами, не разделенный ни на какие части, ни в чем не изменяющийся и наполняющий небо и землю присутствием Своего могущества и полнотой Своей природы. Всем, что сотворил, Он управляет так, что оно и само, с Его ведома и изволения, совершает и исполняет свои собственные движения. Ибо хотя без Него ничего не может быть, однако же сотворенное — это не то, что Он. Многое совершает Он и через ангелов, но блаженными делает их только от Себя самого. Равным образом, хотя по некоторым причинам Он и посылает ангелов к людям, но делает блаженными людей не через ангелов, а от Себя самого. От этого единого истинного Бога мы и ожидаем будущей жизни.
ГЛАВА XXXI
Кроме такого рода благодеяний, которые Бог щедро ниспосылает добродетельным и порочным людям в силу упомянутого нами управления природой, мы имеем от Него великое знамение великой Его любви собственно к добродетельным людям. Мы решительно не в состоянии возблагодарить Его должным образом и за те благодеяния, что существуем, живем, видим небо и землю и имеем разум, с помощью которого обретаем Его самого, сотворившего все это. Но какое сердце, какой язык в состоянии надлежащим образом возблагодарить Его за то, что Он не оставил нас, отягченных и обремененных грехами, отвратившихся от Его света и омрачившихся любовью к мраку, т. е. к непотребствам, а послал к нам Свое Слово, Которое есть Сын Его единородный, чтобы мы познали от Него, родившегося плотью и пострадавшему за нас, сколь высоко ценит Бог человека; чтобы этой единственной жертвой мы очистились от всех грехов и чтобы, получив в сердца излияние
БлаженныйАвгустин 350
любви от Духа Его, несмотря на все трудности, достигли вечного успокоения и неизреченной сладости лицезреть Его?
ГЛАВА XXXII
Эта тайна вечной жизни некоторыми знамениями и соответствовавшими времени таинствами проповедовалась через ангелов с самого, начала человеческого рода. Затем еврейский народ был соединен в одно гражданское общество для сохранения таинств; в нем через ряд знающих и некоторых незнающих людей было предсказано то, что совершается со времени пришествия Христа до наших дней, равно как и то, что должно произойти в будущем; и рассеян был впоследствии этот народ среди других народов ради свидетельства Писаний, которыми проповедовалось будущее спасение во Христе. Ибо не только пророчества, заключающиеся в слове, не только правила жизни, упорядочивающие нравственность и благочестие и содержащиеся в книгах, но и священнослужения, священство, храмы, жертвенники, обряды, праздники и все, относящееся к тому, что приличествует Богу и по–гречески называется Аятреш, — все это знаменовало и предвозвещало то, что ради будущей жизни верных во Христе исполнилось, как мы веруем, исполняется, как мы видим, и должно исполниться, как мы уповаем.
ГЛАВА XXXIII
Благодаря этой одной истинной религии обнаружилось, что боги язычников суть нечистые демоны, которые под видом душ умерших или мировых тварей желали почитаться в качестве богов, надменно услаждались якобы божескими почестями, а на деле — вещами
О граде Божием 351
преступными и гнусными, не допуская обращения человеческих душ к истинному Богу. От их зверского и нечестивого господства человек освобождается, когда начинает веровать в Того, Который для восстановления падшего явил пример такого же уничижения, с какой гордостью они пали.
Так явились те боги, о которых мы говорили, равно как и другие боги других народов и в других странах. Как ни старался Варрон сопоставить их культы с естественными законами, чтобы как–то облагородить этим постыдные вещи, он был не в состоянии придумать, каким образом согласовать их друг с другом, ибо причины упомянутых культов были отнюдь не те, что он думал или хотел думать. Если бы дело обстояло именно так, то даже если бы это и не имело отношения к истинному Богу и жизни вечной, но наличие каких бы то ни было естественных причин некоторым образом извиняло бы странности культов, выраженные в виде какого–нибудь безобразия или глупости. Это и побуждало Варрона таким образом пытаться объяснять некоторые театральные сочинения и мистерии капищ. Правда, он не оправдал театров подражанием капищам, а скорее осудил капища за подражание театрам; однако, указав в своем роде естественные причины явления, он на некоторое время успокоил чувства, возмущенные приводящими в ужас вещами.
ГЛАВА XXXIV
Но затем выяснилось, что они, как сообщает тот же ученейший муж, не смогли равнодушно принять причины культов, изложенные в книгах Нумы Пом–пилия, и не сочли возможным не только довести их до сведения народа, но даже тайно их сохранить. Итак, у того же Варрона в книге, посвященной культам богов, читаем следующее: «Некто Теренций имел землю у подошвы
БлаженныйАвгустин 352
Яникула. Его пахарь, проходя плугом подле могилы Нумы Помпилия, вырыл из земли его книги, в которых были изложены причины установлений культов. Теренций отнес их в Рим претору. Тот, просмотрев их, сообщил об открытии сенату. Сенат, едва ознакомившись с некоторыми из причин, высказал одобрение умершему Нуме и, так как отцы–сенаторы были людьми религиозными, определил, чтобы претор эти книги сжег».
Пусть каждый думает об этом, что считает нужным. Для меня же вполне достаточно напомнить, что причины культов, изложенные Помпилием, установителем римского культа, не должны были стать известными ни народу, ни сенаторам, ни жрецам и что сам Нума Помпилий проник в эти демонские тайны путем непозволительного любопытства. Он записал их, но хотя и был бесстрашным царем, не осмелился, однако, ни ознакомить с ними других, ни сжечь записанное. Первого он не захотел, чтобы не научить людей безбожию, второго — чтобы не возбудить против себя недовольство демонов. И вот он зарыл их в таком месте, которое считал недоступным, ибо не думал, что к его гробнице осмелится приблизиться плуг. Сенат же, не решившись осудить верований предков, вынужден был высказать одобрение Нуме; но упомянутые книги нашел до такой степени опасными, что побоялся их вновь зарывать, а приказал сжечь эти памятники с печатью проклятья. Так как совершать эти культы они считали необходимым, то рассудили, что заблуждение при незнании причин более сносно, чем возмущение гражданского порядка при знании.
ГЛАВА XXXV
Нума, к которому не был послан ни пророк Божий, ни какой–нибудь ангел, вынужден был обратиться к гидромантии, чтобы увидеть в воде образы богов
О граде Божием 353
(точнее, насмешки над ним демонов) и от них узнать, что он должен был установить и совершать в виде культа. Варрон говорит, что этот род гадания был придуман персами и именно к нему прибег Нума, а после него и Пифагор. Если же к воде примешивалась кровь, то это давало возможность спрашивать и мертвых и называлось у греков некромантией. Но назвать ли ее гидромантией или некромантией, во всяком случае это именно тот род гаданий, в котором предсказания даются от лица мертвых. К каким искусствам они прибегали для этого — дело их. Я не буду говорить о том, что даже в провинциях и до пришествия Спасителя такого рода искусства обыкновенно запрещались и преследовались законами. Тем не менее, Нума именно с их помощью узнал те культы, обряды которых он сделал общеизвестными, а причины — скрыл. До такой степени он сам испугался того, о чем узнал. Когда же книги, в которых эти причины были изложены, обнаружились, сенат их сжег. С какой же стати Варрон приводит для этих обрядов невесть какие физические причины? Ведь если бы именно они приводились в тех книгах, их бы, несомненно, не сожгли. Разве отцы–сенаторы сожгли книги самого Варрона, написанные им и посвященные понтифику Цезарю? А то, что Нума Помпилий использовал воду для своей гидромантии, послужило поводом к рассказу, будто его супругой была нимфа Эгерия, как о том написал сам Варрон.
Итак, посредством этой гидромантии упомянутый римский царь, страстно стремившийся проникнуть в недоступные человеку тайны, узнал те обряды культа, которые имели понтифики изложенными в своих книгах, и те причины обрядов, о которых не хотел, чтобы они стали известными кому–либо, кроме него. Изложив их отдельно, он заставил их, так сказать, умереть вместе с собой. Полагаю, это потому, что там были изложены требования демонов до такой степени грязные и преступные, что из–за них вся гражданская теология стала бы невыносимой
БлаженныйАвгустин 354
даже для тех, кто спокойно принял многие омерзительные обряды; или, возможно, все боги были представлены там умершими людьми, ибо и сами демоны услаждаются подобными культами, подставляя под видом умерших самих себя. Но тайным провидением истинного Бога было устроено так, что Помпилию было попущено узнать об этом посредством гидромантии, но не попущено было свои книги сжечь, благодаря чему этот случай стал известным, попал в книгу Варрона и из нее мы узнали, как все произошло. Ибо демоны могут делать только то, что им попускается делать. Попускается же это им высочайшим и справедливым судом верховного Бога в наказание тем, которые заслуживают или подвергнуться их преследованию, или даже подпасть под их власть и быть обольщенными ими. А до какой степени упомянутые книги были признаны опасными и несообразными с почитанием истинного Божества, можно судить из того, что сенат эти зарытые Помпилием книги пожелал сжечь.
Итак, кто не желает вести благочестивой жизни, пусть ищет посредством подобных культов вечной смерти. Кто же не хочет общаться со злыми демонами, тот пусть не боится того вредного суеверия, которым они почитаются, но старается познать истинную религию, которая их разоблачает и побеждает
О граде Божием 355
КНИГА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА I
Теперь нам нужно будет приложить гораздо больше усилий мысли, нежели прежде, при решении прежних вопросов и изложении прежних книг. Предстоит вести речь о теологии, которую называют естественной, и вести ее не с какими–нибудь людьми (ибо это — теология не баснословная или гражданская, т. е. не театральная или государственная, из которых первой выставляются напоказ преступления богов, а другая обнаруживает еще более преступные желания этих же богов, и, таким образом, представляет в их лице скорее демонов, чем богов), но с философами, само имя которых, если мы переведем его на латынь, означает любовь к мудрости. Но если Премудрость есть Бог, через Которого все сотворено, как свидетельствуют о том божественное Писание и истина, то истинный философ — это любитель Бога. Но поскольку сама та вещь, которой свойственно это имя, существует не во всех, кого величают этим именем (ибо не всегда бывают любителями истинной мудрости те, которые называют себя философами), то из общего числа тех, мнения которых мы могли узнать из их сочинений, следует выбрать только таких, с которыми стоило бы вести рассуждение по данному вопросу. Ибо я не ставил задачей настоящего сочинения опровергать всякие пустые мнения всех вообще философов, но только те мнения, которые касаются теологии, понимаемой, согласно значению греческого слова, как учение или речь о божестве; и притом мнения не всех, а только тех, которые, хотя и признают, что божество существует и печется о человеческом, однако же полагают, что почитание единого
БлаженныйАвгустин 356
неизменяемого Бога недостаточно для достижения даже после смерти блаженной жизни, а следует почитать многих, как от этого же Единого сотворенных и установленных.
По степени близости к истине мнения этих философов стоят выше даже мнения Варрона. Последний успел все содержание естественной теологии применить к настоящему миру или душе, а те признают Бога стоящим выше всякой природы души, потому что Он творит не только этот видимый мир, часто называемый именем неба и земли, но и всякую вообще душу; и душу разумную и мыслящую, каковой и является душа человеческая, сообщением Своего неизменяемого и бестелесного света делает блаженной. Этих философов, называемых платониками по имени их учителя Платона, знает всякий, кто хоть немного слышал об этом. О самом Платоне, насколько считаю необходимым для настоящего сочинения, я скажу несколько слов, упомянув прежде о тех, которые предшествовали ему по времени в том же роде сочинений.
ГЛАВА II
Что касается греческой литературы, пользующейся наибольшей славой по сравнению с литературами других народов, то в ней различают два рода философов: один италийский, из той части Италии, которая некогда называлась Великой Грецией; другой ионийский, из тех стран, которые и в настоящее время носят название Греции. Италийский род имел своим родоначальником Пифагора Самосского, от которого, говорят, получила свое имя сама философия. До того времени всех, которые казались превосходящими других некоторым видом похвальной жизни, называли мудрецами; а когда спросили его, чем он занимается, он отвечал, что он философ, т. е. занимающийс
О граде Божием 357
мудростью, любитель ее: потому что назвать себя мудрецом считал крайне высокомерным.
Родоначальником же ионийских философов был Фалес Милетский, один из тех семи, которых древние называли мудрецами. Шестеро из них отличались особым образом жизни и некоторыми правилами, учившими добродетели, а этот Фалес, оставивший после себя учеников, выделялся тем, что занимался исследованием природы вещей и письменно изложил свои рассуждения; особенное удивление возбуждал он тем, что, открыв астрономические вычисления, мог предсказывать затмения солнца и луны. Он полагал, что началом всех вещей является вода и что из нее происходят все стихии мира, даже сам мир и все, что рождается в нем. Участия же в этом творении, на которое мы, при рассмотрении мира, взираем с таким удивлением, божественному уму он не приписал никакого.
Преемником его был Анаксимандр, его слушатель; этот изменил мнение о природе вещей. Он полагал, что все вещи рождаются не из одного элемента, — как у Фалеса, например, из влаги, — но каждая из своих собственных особых начал. Он представлял, что этих начал отдельных вещей существует бесконечное множество; что они производят бесчисленные миры и все, что в них рождается; что эти миры то разрушаются, то снова возрождаются, в зависимости от того, насколько каждый из них может продолжать свое существование. И этот философ в своем понимании миротворения не приписал ничего божественному уму.
Учеником и преемником своим он оставил Анак–симена. Последний выводил все причины вещей из бесконечного воздуха; богов не отрицал и не умалчивал о них; однако же полагал, что не воздух сотворен ими, но что сами они произошли из воздуха.
БлаженныйАвгустин 358
Анаксагор же, его слушатель, представлял творцом всех тех вещей, которые мы видим, божественный дух и утверждал, что роды всех вещей и образуются из безграничной материи, состоящей из сходных между собою частиц, по свойственным каждому из них моделям и формам, но при содействии божественного духа. В то же время другой слушатель Анакси–мена, Диоген, утверждал, что материей вещей, из которой происходит все, служит воздух, но что воздух этот одарен божественным разумом, без которого ничего не могло бы из него произойти. Преемником Анаксагора был служитель его Архелай; и этот полагал, что из сходных между собой частичек, из которых образуются некоторые особи, происходит все, но утверждал, что этому присущ и ум, который соединением и разъединением вечных тел, т е. упомянутых частиц, производит все Говорят, что Сократ, учитель Платона, ради которого я все это припомнил, был его учеником.
ГЛАВА III
Таким образом, о Сократе первом говорят, что он поставил целью философии исправление и образование нравов, тогда как до него все наибольшее внимание обращали на исследование вещей по преимуществу физических, т. е. естественных. Я не нахожу возможным однозначно определить, что побудило к этому Сократа отвращение ли к предметам темным и неопределенным и желание открыть что–нибудь ясное и точное, необходимое для блаженной жизни, ради которой единственно, по–видимому, и трудились с такой рачительностью все философы; или же, как охотнее предполагают некоторые, он не хотел, чтобы нечистые от земных страстей души дерзали касаться вещей божественных, так как он видел, что они доискиваются таких причин вещей, которые прежде всего и главнейшим образом находятся в
О граде Божием 359
ведении единого и высочайшего Бога; почему и полагал, что они могут быть постигаемы не иначе, как чистой душой, и думал, что следует настаивать на очищении жизни добрыми нравами, дабы дух, освобожденный от гнетущих его страстей, был в состоянии естественной силой возвышаться к вечному и созерцать чистым разумением природу бестелесного и неизменного света, в котором пребывают причины всех сотворенных вещей.
Известно, однако же, что в этих моральных вопросах, которым (Сократ) посвящал все свое внимание, он, то сознаваясь в своем незнании, то скрывая свое знание, удивительной замысловатостью речи и необыкновенным остроумием раздражал и выводил на свет глупость невежд, воображающих, что они кое–что знают. Этим он возбудил против себя ненависть, подвергся осуждению по ложным обвинениям и был наказан смертью. Но затем, когда Афины то самое, что осудили публично, публичным же образом оплакивали, негодование народа обратилось на двух обвинителей его до такой степени, что один из них погиб от рук толпы, а другой смог избежать подобного же наказания только добровольной и вечной ссылкой. Естественно, что такая безукоризненная слава жизни и смерти Сократа породила весьма многих последователей его философии, старавшихся посвятить свои труды исследованию вопросов нравственных, относящихся к тому высочайшему Благу, которое одно может сделать человека блаженным. Так как Сократ в своих рассуждениях касался всего, все защищал и все опровергал, коль скоро оно не являлось с полной очевидностью, то они и заимствовали из них, что кому нравилось, и определили конец блага каждый, исходя из собственного понимания. Концом же блага называется то, по достижении чего каждый делается блаженным. Об этом конце сократики имели между собой до того различные
БлаженныйАвгустин 360
мнения, что (трудно поверить, чтобы это могли делать последователи одного учителя) некоторые называли высочайшим благом наслаждения, как Арис–типп, а некоторые — добродетель, как Антисфен; другие же думали об этом предмете иначе, каждый по–своему, так что вспоминать о них было бы долго.
ГЛАВА IV
Из учеников Сократа вполне заслуженно наибольшую славу приобрел Платон, совершенно затмивший остальных. Хотя он был афинянин, уроженец города, пользовавшегося особой знаменитостью у соотечественников, и удивительными дарованиями своими далеко превосходил своих соучеников, однако, не считая ни своих собственных сил, ни учения Сократа достаточными для достижения совершенства в философии, долгое время путешествовал повсюду, куда бы ни привлекла его чья бы то ни было известность надеждой приобрести новые знания. Так, он изучил в Египте все, что там считалось великим и что преподавалось. Перейдя оттуда в те части Италии, где пользовались славой пифагорейцы, он легко усвоил сущность тогдашней италийской философии, выслушав наиболее знаменитых местных учителей. Но так как он особенно любил учителя Сократа, то, представляя его говорящим почти во всех своих речах, он и то, что узнал от других, и то, чего успел достигнуть собственными размышлениями, излагал совместно с остроумными сентенциями и моральными рассуждениями Сократа.
Но учение мудрости может иметь своим предметом или деятельность, или созерцание: почему одна часть его может быть названа деятельной, а другая — созерцательной, из которых деятельная имеет целью упорядочение жизни, т. е. просвещение нравов, а созерцательная — исследование причин природы и
О граде Божием 361
чистейшей истины. В деятельной превзошедшим других считается Сократ; Пифагор же всеми силами своего мышления предавался философии умозрительной. А Платону ставят в заслугу соединение того и другого, и через это — усовершенствование философии. Последнюю он разделил на три части: нравственную, которая главным предметом своим имеет деятельность; естественную, посвященную созерцанию; рациональную, которая проводит различие между истинным и ложным. Хотя последняя имеет ближайшее отношение к первым двум, т. е. к деятельности и созерцанию, однако преимущественно относится к усмотрению истины созерцание. Поэтому такое троякое деление не противоречит тому делению, которое представляет любовь к мудрости, проявляющаяся вообще в деятельности и созерцании. Что же касается образа мыслей Платона по каждой или о каждой из этих частей, т. е. в чем он находил или полагал конец всех действий, в чем — причину всех природ, в чем — ясность и разумность всякого вывода, то углубляться в исследование этого предмета я не нахожу возможным, а без исследования говорить о нем что–либо утвердительно считаю недолжным.
Представляя в своих сочинениях рассуждающим Сократа, Платон старался удерживать известную манеру своего учителя, нравившуюся и ему самому: не высказывать открыто своего знания или мнения. Поэтому и образ мыслей самого Платона по предметам наибольшей важности уяснить нелегко. Впрочем, кое–что из того, что у него написано или что он рассказал и записал как услышанное им от других, но с чем, кажется, согласен и сам, я считаю нужным припомнить и внести в настоящее сочинение: это такие места, в которых он или говорил в пользу истинной религии, которую наша вера принимает и защищает; или где он кажется противником ее, насколько касается вопроса о едином Боге и многих богах в связи с поистине блаженной жизнью, после смерти.
БлаженныйАвгустин 362
Ибо возможно, что те, которые приобрели известность своим наиболее тонким и правильным пониманием Платона, которого вполне заслуженно ставят гораздо выше всех философов разных народов, и последовавшие ему, именно благодаря этому высказываются о Боге так, что в Нем находится и причина бытия, и начало разумения, и порядок жизни. Из этих трех положений одно представляется относящимся к естественной части философии, другое — к рациональной, третье — к моральной. Ибо если человек создан так, что через то, что имеет превосходство в нем, он может достигать того, что превосходит все, т. е. единого, истинного, всеблагого Бога, без Которого не существует никакая природа, не наставляет никакое учение и никакая практика не приносит пользы; то Он–то сам и должен быть для нас предметом искания: так как в Нем все для нас обеспечено; и предметом познания: так как в Нем все для нас достоверно; и предметом любви: так как в Нем все для нас прекрасно.
ГЛАВА V
Итак, если Платон называет мудрым человека, подражающего этому Богу, не знающего и любящего Его и через общение с Ним делающегося блаженным, то зачем нам подвергать разбору других? Никто не приблизился к нам более, чем философы его школы. Им должна уступить не одна только баснословная теология, приятно занимающая души нечестивых людей россказнями о преступлениях богов; и не только та теология гражданская, в которой нечистые демоны, обольщающие под именем богов народы, преданные земным удовольствиям, устроили себе из человеческих заблуждений нечто вроде божеских почестей, нечистыми пожеланиями подстрекая своих поклонников, якобы с целью их почитания, смотреть театральные
О граде Божием 363
представления их преступлений, а себе доставляя забавное зрелище из самих зрителей. Если в этой теологии и совершается что–либо по видимости благопристойное в храмах, то оно бесчестится совместным с ним бесстыдством театров, и что гнусного творится в театрах, то получает одобрение храмов.
Им должны уступить и не только Варроновы толкования этих культов, объяснявшие их применительно к небу, земле, семенам смертных вещей и к знаниям; и это как потому, что обряды вовсе не имеют того значения, которое он старается им придать, почему его объяснения и не приводят к истине; так и потому, что если бы это и было так, то разумная душа все же не должна почитать Богом то, что естественным порядком поставлено ниже ее: не должна ставить выше себя, как богов, такие вещи, выше которых поставил ее саму истинный Бог.
Необходимо уступить им и не только то, что действительно служило объяснением этого культа, что Нума Помпилий постарался скрыть, похоронив вместе с собой, и что сенат велел сжечь, когда оно было вырыто плугом. Чтобы не быть в своих предположениях слишком строгим к Нуме, — сокрытое им было, конечно, того же рода, о чем Александр Македонский писал своей матери, как об открытом ему неким Львом, верховным жрецом египетским; по нему выходило, что были людьми не только Фавн, Эней, Ро–мул или даже Геркулес, Эскулап, Либер, рожденный Семелой, братья Тиндариды и все другие из смертных, почитаемые ими за богов, но даже боги старейших народов, которых, по–видимому, Цицерон видит в Тускуланах, не называя их имен, как–то: Юпитер, Юнона, Сатурн, Вулкан, Веста и многие другие, которых Варрон пытается связать с частями или элементами мира. И тот жрец, как бы испугавшись, что открыл великую тайну, упрашивал Александра, чтобы он, сообщив матери написанное, велел бросить это в огонь.
БлаженныйАвгустин 364
Итак, говорю, не только все это, составляющее содержание двух теологии, баснословной и гражданской, должно уступить платоническим философам, которые истинного Бога признавали и Творцом вещей, и Источником света истины, и Подателем блаженства; но им, таким великим исследователям такого великого Бога, должны уступить даже и все те философы, которые преданным телу умом видели для природы телесные начала то в воде, как Фалес, то в воздухе, как Анаксимен, то в огне, как стоики, то в атомах, т. е. в мельчайших телах, которые не могут быть ни делимы, ни ощущаемы, как Эпикур; также и все другие, заниматься перечислением которых нет необходимости, но которые вообще полагали, что причиной и началом вещей служат или простые, или сложные тела, не имеющие жизни, или живые, но во всяком случае — тела. Ибо некоторые из них, как эпикурейцы, полагали, что от неживых вещей могут происходить живые; другие же, что от живого может происходить и живое, и неживое, но, во всяком случае, от тел — только тела. Так, стоики думали, что огонь, то есть тело, представляющее собой одну из четырех стихий, из которых состоит этот видимый мир, есть и живой, и разумный, и творец самого мира и всего существующего в нем, и потому этот самый огонь считали богом.
Эти и подобные им философы могли представлять только то, что вместе с ними измышляли сердца их, скованные чувствами плоти. В них самих было то, чего они не видели, и в собственном воображении они рисовали то, что видели вовне, а иногда и вовсе не видели, а только мыслили. Как предмет такого мышления, оно не было уже телом, а только подобием тела. То же, откуда появлялось в душе это подобие тела, не было ни телом, ни подобием тела; и во всяком случае то, откуда оно появлялось и что судило о красоте или о безобразии его, было лучше того, над чем производился суд. То был ум человека и природа разумной души, котора
О граде Божием 365
отнюдь не есть тело; коль скоро даже то подобие тела, которое представляется мыслящей душой и составляет предмет ее суждения, не есть само тело. Следовательно, она не есть ни земля, ни вода, ни воздух, ни огонь: ни одно из этих четырех тел, называемых четырьмя стихиями, из которых составляется телесный мир
Далее, если наша душа не есть тело, то каким образом Бог, Творец души, может быть телом? Итак, и они, как я сказал, должны уступить платоникам. Но вместе с ними должны уступить и те, которым хотя и стыдно было утверждать, что Бог есть тело, но которые полагали, что наши души такой же природы, как и Он. Их не удержала эта крайняя изменчивость души, которую преступно приписывать Богу. Но они говорили, что природа–де души изменяется от тела; сама же по себе она неизменна. На таких же основаниях они могли бы сказать, что плоть–де получает раны от того или иного тела; сама же по себе она неуязвима. То, что решительно не может изменяться, не может изменяться ни от какой вещи; и потому то, что может получить изменение от тела, может измениться от той или иной вещи и, следовательно, не может быть названо в прямом смысле слова неизменным.
ГЛАВА VI
Итак, эти философы, заслуженно пользующиеся большей славой, чем все остальные, поняли, что Бог вовсе не есть тело, и потому, чтобы найти Бога, отринули тела. Они поняли, что все изменяющееся не есть верховный Бог; и потому, чтобы найти верховного Бога, стали выше всякой души и всех изменчивых духов. Поняли они, далее, что всякий вид какой бы то ни было изменяемой вещи, в котором существует все то, что существует, каким бы образом оно ни существовало и какой бы природы ни было, может
БлаженныйАвгустин 366
обрести бытие только от Того, Который существует истинно, ибо существует неизменно А вследствие этого, как вся совокупность мира: образы, свойства, стройное движение и стихии, расположенные от неба до земли, и всякие тела, существующие в них, так и всякая жизнь, питает ли она только и поддерживает, какова она в деревьях; или, имея это, и ощущает, какова в животных; или, имея первое и второе, сверх того и мыслит, какова в людях; или же, не нуждаясь в питании, только поддерживает, ощущает и мыслит, какова в ангелах, — все это не может существовать без Того, Кто просто существует: потому что для Него не иное — существовать и иное — жить, как будто бы Он мог существовать не живя; и не иное — жить и иное — мыслить, как будто бы Он мог жить не мысля; и не иное — мыслить и иное — быть блаженным, как будто бы Он мог мыслить и не быть блаженным; но жить, мыслить и быть блаженным для Него и значит — существовать.
Приняв во внимание эту неизменяемость и простоту, они пришли к заключению, что Он все это сотворил, а Сам не мог быть сотворен никем. Они рассуждали так: все, что существует, есть или тело, или жизнь; но жизнь есть нечто лучшее, чем тело; образ тела подчиняется чувствам, а образ жизни постигается умом. Поэтому образ, постигаемый умом, они поставили выше образа, подчиняющегося чувствам. Подчиняющимся же чувствам мы называем то, что может быть воспринимаемо телесными зрением и осязанием; а постигаемым посредством ума то, что может быть усматриваемо взором ума. Так, нет никакой телесной красоты ни в положении тела, как, например, в фигуре, ни в движении, как, например, в пении, о которой составлялось бы суждение вне души. Этого никак не могло бы быть, если бы в ней самой не существовал лучший в этом роде вид, без рыхлой массы, без шума голоса, без протяжения времени и пространства. Но в то же самое время, не будь она
О граде Божием 367
изменчива,один не мог бы судить о чувственном виде лучше другого: более даровитый — лучше менее даровитого, более образованный — лучше менее образованного, более опытный — лучше менее опытного, и один и тот же, более развившись, не судил бы после лучше, чем прежде. А то, что способно воспринимать более и менее, то, без всякого сомнения, изменчиво. Отсюда умные, ученые и опытные в этом люди заключили, что существует некий первообраз, который в этих вещах оказывается изменчивым.
Итак, когда, на их взгляд, тело и душа стали представляться то более, то менее прекрасными, а если бы они потеряли всякий вид, то перестали бы существовать вовсе, — они поняли, что существует нечто, в чем заключается неизменяемый первообраз, не допускающий никакого сравнения; и совершенно справедливо решили, что в нем–то и лежит начало вещей, которое не сотворено, но которым сотворено все. Итак, «что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. I, 19, 20). На этом закончим свою речь о той части философии платоников, которую называют физической, т. е. естественной.
ГЛАВА VII
Что же касается учения, составляющего предмет второй части, которую они называют логикой, т. е. частью рациональной, то не может быть и мысли о сравнении с ними тех, которые полагали критерий истины в чувствах телесных и утверждали, что их неверной и обманчивой меркой должно быть измеряемо все, что ни составляет предмет познания; так думали эпикурейцы и все другие, подобные им; так думали даже и стоики, которые, страстно любя искусство спора и называя его диалектикой, полагали, что точкой отсчета должны быть
БлаженныйАвгустин 368
для нее телесные чувства. Они утверждали, что от этих чувств душа воспринимает те представления, которые они называют еууснш, т. е. представления тех вещей, которые они объясняют посредством определения, что от них разветвляется и с ними стоит в связи вся система знания и учения. Вот почему, когда они утверждают, что прекрасны только мудрые, я обыкновенно с великим удивлением спрашиваю себя: какими телесными чувствами они увидели эту красоту, какими плотскими глазами рассмотрели они форму и привлекательность мудрости? Платоники же, которым мы отдаем заслуженное предпочтение перед другими, различали постигаемое умом от воспринимаемого чувствами, не отнимая у чувств возможного для них и не придавая им более того, что им по силам. Они утверждали, что для изучения всего необходим умственный свет и что этот самый свет есть Бог, Которым создано все.
ГЛАВА VIII
Остальная часть философии — нравственная, которую называют еще греческим словом гйет. В ней предмет исследования составляет высшее Благо. Направляя к нему всю свою деятельность, стремясь к нему не ради чего–либо другого, но только ради его самого и получая его, мы не ищем ничего более, чем могли бы быть счастливы. Поэтому–то оно называется и концом, так как ради него мы желаем всего другого, а его мы желаем только ради него самого. Это дающее счастье Благо одни ставили в человеке в зависимость от тела, другие — от души, а иные — от того и другого вместе. Находя, что человек состоит из души и тела, думали, что от одного из этих двух или от обоих вместе может проистекать для них счастье в виде некоторого конечного блага, которое
О граде Божием 369
делало бы их блаженными и к которому бы они могли направлять всю свою деятельность, и не искали далее, к чему бы могли ее направлять.
Поэтому те, которые присоединили к этому еще и третий род блага, называемый внешним, к каковому относятся: честь, слава, деньги и другое в том же роде, присоединили его не в виде конечного блага, т. е. не такого, которое должно быть желаемо ради него самого, а такого, которое должно быть желаемо ради другого; и благо это — благо только для добрых, а для злых — зло. Таким образом, искавшие источник человеческого блага в душе, или в теле, или в том и другом, представляли его не иначе, как проистекающим от человека. Но одни добивались этого от тела, — от худшей части человека, другие от души, — от части лучшей; а добивавшиеся от того и другого добивались от целого человека. Но добивались ли от какой–либо части или от целого, во всяком случае, — добивались только от человека. Эти различия, хотя их и три, произвели между философами не три, а многие разногласия и секты; потому что разные по–разному думали и о благе тела, и о благе души, и о благе того и другого вместе.
Итак, все они должны уступить тем философам, которые утверждали, что не тот человек блажен, который находит наслаждение в теле или в душе, а тот, который находит наслаждение в Боге; и не так находит, как находит его душа в теле, или в самой себе, или как друг в друге, а находит так, как глаз в свете, если что–либо подобное может идти в сравнение с тем, свойство чего, если поможет Бог, мы разъясним в другом месте. В настоящем же случае достаточно упомянуть, что, по определению Платона, конец блага состоит в добродетельной жизни; что его может достигнуть лишь тот, кто имеет познание о Боге и кто подражает Ему; и что иначе быть блаженным нельзя. Поэтому он не сомневался отождествлять философию с любовью к Богу, природа Которого
БлаженныйАвгустин 370
бестелесна. Отсюда выводится заключение, что жаждущий мудрости (ибо это и есть философ) только тогда становится блаженным, когда начинает находить наслаждение в Боге. Хотя и не всегда бывает блаженным тот, кто наслаждается тем, что любит ибо многие, любя то, чего не следует любить, бывают несчастны; и тем более они несчастны, если в этом находят наслаждение; однако никто не бывает счастливым, если не наслаждается тем, что любит Ибо и сами те, которые любят вещи, не заслуживающие любви, считают себя счастливыми не любовью, но наслаждением. Итак, когда кто–либо находит наслаждение в том, что любит, а любит истинное и высшее Благо, то кто, кроме несчастнейшего, станет отрицать, что такой блажен? А таким истинным и высшим Благом Платон называет Бога; поэтому и вменяет философу в обязанность любить Бога, чтобы он, поскольку философия стремится к жизни блаженной, вследствие любви к Богу находя в Боге наслаждение, был блаженным.
ГЛАВА IX
Итак, какие бы философы ни держались вышеизложенного образа мыслей об истинном и высочайшем Боге, а именно: что Он есть и Творец для создания, и Свет для познания, и Благо для деятельности; что в Нем лежит для нас и начало природы, и истина учения, и счастье жизни, — будут ли они называться платониками, или же дадут своей секте какое–нибудь иное имя; пусть мыслившие так будут только философами ионийского толка, и притом главнейшими, как тот же Платон и те, которые хорошо поняли его; или даже державшиеся того же мнения будут рядом с Пифагором, пифагорейцами и другими философами италийского толка; пусть, наконец, постигшими это и так учившими окажутся считающиеся мудрецами других народов:
О граде Божием 371
атлантов, ливийцев, египтян, индийцев, персов, халдеев, скифов, галлов, испанцев и других; — всех их мы предпочтем остальным и признаем наиболее близкими к нам.
ГЛАВАХ
Христианин, если он знаком только с церковной литературой, может и не знать платоников; может также не иметь понятия и о том, что у греков существовало два рода философов — ионийские и италийские; однако же он не настолько несведущ в человеческих вещах, чтобы не знать, что философы учат или любви к мудрости, или даже самой мудрости, и остерегается тех, которые философствуют по стихиям мира, а не по Богу, Которым сотворен и сам мир. Он следует апостольской заповеди и твердо помнит сказанное «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. II, 8).
Но чтобы он не считал всех такими, ему сказано тем же апостолом относительно некоторых: «Что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (Рим. 1,19, 20). И в речи к афинянам, высказав великую мысль о Боге, которая могла быть понята только немногими, а именно: «Мы Им живем и движемся и существуем», апостол в дополнение говорит: «Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили» (Деян. XVII, 28). Но следует благоразумно остерегаться даже и этих в том, в чем они заблуждаются Ибо, где сказано, что через сотворенное Бог явил им невидимое, которое должно быть постигаемо умом, — там же сказано и то, что они неправедно почтили самого Бога, потому что и иным вещам, которым не
БлаженныйАвгустин 372
нужно было, они воздавали божеские почести, приличествующие только Ему одному. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим. I, 21—21). Апостол дает разумть здесь и римлян, и греков, и египтян, прославившихся мудростью. Но об этом мы порассуждаем после.
Что же касается их сходного с нами образа мыслей о едином Боге, Творце этой вселенной, что Он не только бестелеснее всякого тела, но и нетленнее всех душ, что Он наше Начало, наш Свет, наше Благо, — в этом мы, безусловно, предпочитаем их всем другим. Если христианин, не будучи знаком с их литературой, не употребляет в рассуждениях своих терминов, которых не усвоил, как, например, не называют по–латыни естественной или по–гречески физикой ту часть философии, которая занимается исследованием природы; рациональной, или логикой, ту, в которой исследуется вопрос о том, как может восприниматься истина; моральной, или ифи–кой, ту, в которой речь идет о нравах и о конечном благе, к которому следует стремиться, и о зле, которого нужно избегать; то из этого еще не следует, что он не знает, что от единого, истинного и всеблагого Бога мы получили и природу, по которой оказываемся сотворенными по образу Его, и учение, из которого познаем и Его, и себя, и благодать, по которой мы, прилепляясь к Нему, делаемся блаженными. Вот та причина, по которой этих философов мы предпочитаем остальным. В то время, как другие философы напрасно тратили свое остроумие и свою старательность на изыскание причин вещей и на определение образа познания и жизни, — эти, познав Бога, нашли, что в Нем заключается причина устройства вселенной, свет для восприятия истины и источник, откуда
О граде Божием 373
черпается счастье.
Кто бы эти философы ни были, платоники ли, или какие–либо другие, но если они мыслят о Боге так, — они мыслят согласно с нами. Мы же решили вести речь об этом по преимуществу с платониками потому, что сочинения их более известны. Сами греки, язык которых наиболее распространен среди других народов, прославили их повсюду. И латиняне, побуждаемые их превосходством и особой известностью, охотнее изучали их сочинения, и переводом последних на наш язык возвысили уважение к ним и облегчили их понимание.
ГЛАВА XI
Некоторые, соединенные с нами в благодати Христовой, удивляются, когда слышат или читают, что Платон имел такой образ мыслей о Боге, который они находят очень близким к истине нашей религии. Вследствие этого некоторые думали, что он, пребывая в Египте, слушал пророка Иеремию или во время самого путешествия читал пророческие писания. Такого рода мнения я изложил в некоторых своих сочинениях*. Но тщательное вычисление времени, составляющее предмет исторической хроники, показывает, что Платон родился спустя почти сто лет после того, как пророчествовал Иеремия. Затем, хотя Платон прожил восемьдесят один год, от года смерти его до того времени, когда Птолемей, царь Египта, выпросил из Иудеи пророческие книги еврейского народа и позаботился об их переводе и переписке при помощи 70–ти мужей еврейских, знавших греческий, прошло, как оказывается, почти шестьдесят лет. Поэтому во время того своего путешествия Платон не мог ни видеть Иеремию,
БлаженныйАвгустин 374
умершего за столько лет прежде, ни читать эти писания, еще не переведенные в то время на греческий язык, в котором он был силен.
Возможно, впрочем, что по своей пламенной любознательности он как с египетскими, так и с этими писаниями ознакомился через переводчика, — не в том смысле, конечно, чтобы делать из них письменный перевод, чего, как известно, и Птолемей, умевший внушать страх своею царскою властью, смог добиться только в виде особого одолжения; но в том, что мог из разговора узнать, насколько в состоянии был понять их содержание. На такое предположение наводит следующее: книга Бытия начинается так. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт 1,1, 2). А Платон в «Тимее» — в сочинении, посвященном им вопросу устройства мира, — утверждает, что в этом деле рук Своих Бог прежде всего соединил в одно землю и огонь. Но известно, что Платон отводит огню место неба. Таким образом, мысль эта имеет некоторое сходство с той, которая высказана в словах: «В начале сотворил Бог небо и землю». Далее, посредствующими элементами, связующими взаимно две упомянутые стихии, Платон представляет воду и воздух. Это наводит на мысль, что он именно так понял сказанное в Писании: «Дух Божий носился над водою». Мало обращая внимания на то, в каком смысле употребляется обыкновенно слово Дух в еврейских писаниях, он мог, пожалуй, подумать, что в приведенном месте подразумеваются четыре стихии, так как и воздух называется духом.
Затем, ничто с такой силой не высказывается в этих священных Писаниях, как известное мнение Платона, что философ есть человек, любящий Бога. А главное, что более всего побуждает и меня почти соглашаться с мнением, что Платону не были неизвестны те книги,
О граде Божием 375
это следующее: когда ангел передавал святому Моисею слова Божий, то на вопрос последнего, как зовут Того, Кто повелевал ему идти к еврейскому народу для освобождения его из Египта, ему был дан ответ: «Я семь Сущий [Иегова]. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. III, 14), т. е. как бы в сравнении с Ним, Который существует истинно, поскольку неизменяем, все, что сотворено изменяемым, не существует; именно этой мысли горячо придерживался и старательно проводил Платон. И я не знаю, находится ли подобное где–либо в книгах тех, которые жили до Платона, за исключением этого места, где сказано: «Я семь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам».
ГЛАВА XII
Но откуда бы Платон ни узнал это, из предшествовавших ли ему книг древних писателей, или, что более вероятно, из того источника, о котором говорит апостол: «Что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы», во всяком случае я полагаю, что достаточно объяснил, почему избрал именно философов платоников для того, чтобы с ними вести речь о том, о чем идет она в только что поставленном мною вопросе из естественной теологии, а именно: следует ли ради счастья, которое будет после смерти, служить единому Богу или же многим богам? Я потому избрал по преимуществу этих философов, что насколько лучше других они мыслили о едином Боге, сотворившем небо и землю, настолько же больше других пользовались славой и известностью.
И хотя Аристотель, ученик Платона, муж отличного ума и красноречием своим хотя и уступавший Платону, но превосходивший многих других, основал школу
БлаженныйАвгустин 376
перипатетиков (потому что имел обыкновение рассуждать прогуливаясь) и еще при жизни Платона успел славой имени своего привлечь в свою секту очень много учеников, а после смерти Платона Спевсипп, сын его сестры, и Ксенократ, любимый ученик его, заняли его место в школе его, называвшейся Академией, — почему как сами они, так и преемники их получили название академиков: однако потомство до такой степени последователей Платона ставило выше других, что знаменитейшие из позднейших философов, избравшие своим руководителем Платона, не захотели называться ни перипатетиками, ни академиками, а только платониками. Из них особую известность получили греки: Плотин, Ямвлих и Пор–фирий. Из писавших на обоих языках, то есть на греческом и латинском, известен платоник Апулей Африканский. Но и все они, и другие того же толка, равно как и сам Платон, полагали, что культ следует совершать многим богам.
ГЛАВА XIII
Хотя они расходятся с нами во мнениях и по многим другим очень важным предметам, однако относительно только что упомянутого мною, — предмета не последней важности и прямо касающегося поставленного мною вопроса, — я прежде всего спросил бы у них: каким богам следует, по их мнению, поклоняться, добрым ли, или злым, или и добрым, и злым? У Платона мы встречаем мнение, что все боги добры и что решительно нет ни одного злого бога. Отсюда следует, что культ, разумеется, нужно совершать добрым, потому что только тогда он будет совершаться богам; ибо они не будут и богами, если не будут добрыми. Если это так (да и прилично ли думать о богах иначе?), то совершенно ложно мнение
О граде Божием 377
некоторых, которые полагали, что богов злых следует умилостивлять жертвами, чтобы они не вредили; а богов добрых следует призывать, чтобы они помогали. Ибо злые вовсе не суть боги.
Далее, говорят, что должное почитание установлениями культа следует оказывать добрым. Но кто эти, которые любят сценические игры, требуют относить их к вещам божественным и давать в их честь? Могущество их указывает на их действительное существование; но то, чего они хотят, показывает, что они крайне злы. Образ мыслей Платона о сценических играх известен: он полагал, что и самих поэтов за то, что они сочиняют такие недостойные величия и благости богов стихи, следует изгонять из гражданского общества. Итак, кто же эти боги, ведущие спор о сценических играх с самим Платоном? Последний не дозволяет бесчестить богов якобы придуманными преступлениями, а они за именно эти преступления и велят их чтить. Затем, когда они повелевали восстановить эти самые игры, то, требуя вещей постыдных, обнаружили даже озлобленность: отняли у Тита Латиния сына, а на него самого, за неповиновение их приказам, напустили болезнь и освободили от нее только тогда, когда он эти приказы исполнил. Платон же полагал, что их, таких злых, не следует и бояться, и проводя свою мысль со строгой последовательностью, не усомнился устранить от народа, которому даны хорошие законы, всякую святотатственную болтовню поэтов, которой эти боги, по сообщничеству в нечистом, услаждаются. С другой стороны, этого Платона, как я уже упоминал во второй книге, Лабеон причисляет к полубогам.
Но тот же самый Лабеон полагает, что божества злые следует умилостивлять кровавыми жертвами и такого же рода общественными молебнами, а божества добрые — играми и подобными им, как бы выражающими удовольствие, вещами. Что же значит, что полубог Платон с такой смелой настойчивостью лишает этих удовольствий, считая их постыдными,
БлаженныйАвгустин 378
не каких–нибудь полубогов, а богов, и притом богов добрых? Эти боги сами, впрочем, опровергают мнение Лабеона: потому что на Латинии показали себя не только сладострастными и занимающимися пустяками, но и жестокими и возбуждающими ужас. Пусть же объяснят нам все это платоники, которые, следуй мнению своего учителя, всех богов считают добрыми, честными, по добродетелям своим друзьями мудрых, и полагают преступным думать о ком–нибудь из богов иначе. «Объясним», — говорят они. Что ж, выслушаем с должным вниманием.
ГЛАВА XIV
«Все живые существа, — говорят они, — в которых есть разумная душа, делятся на три рода: на богов, людей и демонов Боги занимают самое высокое место, люди — самое низкое, демоны же — среднее. Местопребывание богов — небо, местопребывание людей — земля, а демонов — воздух. Соответственно различному достоинству занимаемого ими места различается и природа их. Боги могущественнее и людей, и демонов; люди же стоят ниже и богов, и демонов как по разряду стихий, так и по своему значению. Демоны, таким образом, занимают середину: насколько должны они считаться ниже богов, как имеющие низшее сравнительно с ними местопребывание; настолько же должны считаться выше людей, как поставленные выше их. С богами их роднит бессмертие их тел, а с людьми — душевные страсти. Поэтому, — продолжают они, — нет ничего удивительного в том, что демоны находят удовольствие в бесстыдных зрелищах и в фантазиях поэтов; они увлекаются человеческими наклонностями, от которых далеки и которым всячески чужды боги. Из этого следует, что Платон, объявляя поэтические вымыслы нечестивыми и запрещая их, лишал
О граде Божием 379
наслаждения сценическими играми не богов, которые все добрые и стоят выше этого, а демонов».
Хотя подобные мнения встречаются и у других, но Апулей, Мадаврийский платоник, написал об этом исключительном предмете даже целую книгу, которую озаглавил «О боге Сократа». В этой книге он подробно разбирает и объясняет, какого рода было то божество, которое имел при себе и с которым находился в некоторого рода дружбе Сократ, — божество, предупреждавшее его обычно, как говорят, чтобы он не делал чего–нибудь, когда то, что он думал делать, должно было иметь несчастливый исход. Он говорит совершенно ясно и доказывает с полной основательностью, что это был не бог, а демон, развивая со строгой последовательностью упомянутое мнение Платона о высоком положении богов, низком людей и среднем демонов. Но если это действительно так, то с какой целью решился Платон, изгоняя из гражданского общества поэтов, отнять театральные удовольствия если и не у богов, то, по крайней мере, у демонов, как не с той, чтобы побудить этим человеческую душу, хотя и помещенную пока в смертных членах, презирать из уважения к добродетели мерзкие веления демонов и в высшей степени честно осудить и запретить это, так как со стороны демонов требовать этого было в высшей степени постыдно. Итак, что–нибудь одно: или заблуждался Апулей, и дружественное Сократу божество было не из этого рода; или Платон противоречил сам себе, в одном случае почитая демонов, а в другом устраняя демонские увеселения из наилучшим образом устроенного гражданского общества; или дружба Сократа с демоном не должна считаться приносящей особую честь.
Кстати, и сам Апулей до такой степени краснел из–за этой дружбы, что надписал свою книгу «О боге Сократа», тогда как по содержанию своего исследования, в котором он с такой тщательностью и основательностью проводит различие между богами и демонами, должен
БлаженныйАвгустин 380
был бы надписать «О демоне Сократа». Выставить это ему хотелось лучше в самом исследовании, чем в заглавии книги. Благодаря здравому смыслу, просвещавшему человечество, имя демонов до такой степени внушало всем или почти всем отвращение, что если бы кто–нибудь, не знакомый с рассуждением Апулея, в котором демонам ус–вояется известное почетное положение, прочитал заглавие книги «О демоне Сократа», тот никак не подумал бы, что человек этот был в здравом уме. Но и сам Апулей что нашел в демонах заслуживающего похвалы, кроме тонкости и крепости тел и сравнительно высшего места обитания? Ибо о нравах их, когда говорит о всех демонах вообще, не только не говорит ничего хорошего, а, напротив, очень много говорит плохого; так что, прочитав его книгу, решительно никто не станет удивляться, что они пожелали иметь в числе божественных вещей и сценическую мерзость, и, стараясь выдавать себя за богов, могли услаждаться преступлениями богов; но всякий найдет, что все, что в их культе вызывает смех своей непристойной торжественностью или отвращение — постыдной жестокостью, вполне согласуется с их свойствами.
ГЛАВА XV
Принимая все это в соображение, истинно религиозная и преданная истинному Богу душа, конечно же, не признает демонов лучшими себя только лишь потому, что они имеют лучшие тела. Иначе она признавала бы лучшими себя и множество животных, которые превосходят нас и тонкостью чувств, и большей легкостью и скоростью движений, и силой и долговечностью тел. Какой человек сравнится зрением с орлами и коршунами? Кто обонянием сравнится с
О граде Божием 381
собаками? Кто быстротой движений — с зайцами, оленями, птицами? Кто силой — со львами и слонами? Кто долголетием — со змеями, которые, сбрасывая кожу, сбрасывают, говорят, старость и возвращаются к юности? Как мы лучше всех их своим разумом и мышлением, так должны быть лучше и демонов своей доброй и честной жизнью. Для того божественное провидение и дало тем, кого мы превосходим своим могуществом, некоторые более сильные телесные дары, чтобы и посредством этого напоминать нам, что мы с гораздо большим старанием должны улучшать в себе то, чем их превосходим; и чтобы само телесное превосходство, которое имеют над нами демоны, мы научились презирать, предпочитая этому честную жизнь, дающую нам преимущество над ними, — чтобы мы получили и со своей стороны бессмертие тел, но не такое, с которым соединяется вечность мучений, а такое, которому предшествует чистота душ.
Придавать же высоте места (т. е. тому, что демоны живут в воздухе, а мы — на земле) такое важное значение, чтобы в силу этого признавать за ними превосходство над нами, было бы крайне смешно. Таким образом, мы признавали бы превосходство над собой и всех пернатых. Правда, пернатые, когда устают от полета или когда нуждаются в пище, спускаются на землю для отдыха или корма; чего, говорят, демоны не делают. Но неужели они станут на этом основании утверждать, что как пернатые превосходят нас, так и демоны — самих пернатых?
Если думать так крайне глупо, то нет основания из–за того, что демоны пребывают в высшей стихии, считать их достойными религиозного с нашей стороны поклонения. Как могло выйти то, что воздушные пернатые не только не превосходят нас, земных, но и подчинены нам в силу достоинства разумной души, которая находится в нас; точно так же могло случиться, что и демоны, хотя и более воздушны, чем мы, земные, но отнюдь не лучше нас
БлаженныйАвгустин 382
только потому, что воздух выше земли; наоборот, люди должны считаться выше их на том основании, что их (демонов) отчаяние не может идти ни в какое сравнение с надеждой людей благочестивых. Да и то мнение Платона, по которому он сопоставляет и распределяет четыре стихии так, что между двумя крайними, самым подвижным огнем и неподвижной землею, располагает воздух и воду; так что насколько воздух выше воды, а огонь — воздуха, настолько же и вода выше земли, — само это мнение Платона достаточно убеждает нас, что достоинство живых существ не измеряется степенями стихий. Тот же Апулей называет человека земным животным, хотя он ставится гораздо выше животных водных, между тем как воду Платон ставит выше земли: он, таким образом, дает нам понять, что при определении достоинства душ мы не должны держаться того порядка, который замечается в постепенном усовершенствовании тел; но, возможно, что и лучшая душа может обитать в теле низшем, а худшая — в высшем.
ГЛАВА XVI
Говоря о нравах демонов, тот же самый платоник утверждает, что они волнуются теми же душевными страстями, что и люди, раздражаются оскорблениями, склоняются к милости угодливостью и дарами, любят почет, услаждаются разными священными обрядами и приходят в гнев, если в этих обрядах бывает сделано какое–нибудь упущение. Между прочим, к ним, по словам его, относятся и предсказания авгуров, гаруспиков, прорицателей и снов; от них же происходят и чудеса магов. Давая им краткое определение, он говорит: «Демоны по роду животные, по душе — подвержены страстям, по уму — разумны, по телу — воздушны, по времени — вечны; из этих пяти свойств три первые у них те же, что и у нас, четвертое
О граде Божием 383
принадлежит исключительно им, а пятое — общее у них с богами». Но я нахожу, что и из первых трех, которые у них есть вместе с нами, два общи у них и с богами. Ибо они и богов называют животными, когда, отводя каждому роду существ его стихию, к числу земных относят нас вместе с другими, которые живут и одарены ощущением на земле, к числу водных — рыб и других плавающих, к числу воздушных — демонов, к числу эфирных — богов.
Таким образом, если демоны по роду суть животные, то это роднит их не только с людьми, но и с богами, и со скотами; если они по уму разумны, это роднит их с богами и с людьми; если по времени вечны, это — общее с одними богами; если страстны по душе, страстны только с людьми; если воздушны по телу, то лишь они одни. То, что по роду своему они — животные, в том заслуга небольшая: потому что то же суть и скоты; что они разумны по уму — это не преимущество над нами: потому что и мы разумны; что они вечны по времени — какое в этом добро, если они не блаженны? Лучше временное счастье, чем вечное бедствие. Если же по душе они подвержены страстям, то каким образом это составляет превосходство над нами, когда и мы подвержены им, и этого даже не было бы, если бы мы не были столь жалкими? Они воздушны по телу, но какое это имеет значение, коль скоро какая бы то ни было природа души предпочитается всякому телу; и потому религиозный культ, которым обязана душа, ни в коем случае не может быть обязательным в отношении к предмету, который ниже души.
Прибавь он к отличительным свойствам демонов добродетель, мудрость, счастье и скажи, что у них это вечное и общее с богами, — он сказал бы действительно нечто желательное и весьма почтенное; но и из этого не следовало бы, что мы должны бы были ради этого поклоняться им, как Богу, а скорее следовало бы, что должны познавать Того, от Которого они
БлаженныйАвгустин 384
это получили. Насколько же менее заслуживают божественные почитания воздушные животные при данных условиях, когда они для того разумны, чтобы могли быть жалкими, потому подвержены страстям, что ничтожны, для того вечны, чтобы не могли покончить со своим жалким состоянием.
ГЛАВА XVII
Обходя остальное, остановлюсь на одном том, что, по словам его, демоны имеют общего с ними, т. е. на страстях душевных. Если все четыре стихии наполнены каждая своими животными, огонь и воздух — бессмертными, а вода и земля — смертными; то спрашиваю: почему души демонов волнуются сумятицей и бурями страстей? Ибо это действительная сумятица, которая по–гречески называется гахвоС, почему он и называет их по душе подверженными страстям, так как от слова лабо^ словом раззю (страсть) называется движение души, противное разуму. Почему же в душах демонов это бывает, а в душах скотов — нет? Потому, что если у скотов что–нибудь подобное появляется, оно не бывает сумятицей, так как не бывает противным разуму, которого у скотов нет. В людях же подобную сумятицу производит или глупость, или жалкое их состояние. Мы еще не блаженны тем совершенством мудрости, которая обещана нам в конце, по освобождении от этой смертности. Боги же, говорят, не испытывают этой сумятицы потому, что они не только вечны, но и блаженны. И они представляются имеющими такие же разумные души, но души совершенно чистые от всякой заразы и язвы. Но если боги потому не возмущаются сумятицей, что суть животные блаженные, а не жалкие; а животные не возмущаются потому, что не могут быть ни блаженными, ни жалкими, остается заключить, что демоны, как и люди, потому возмущаются сумятицей, что они не блаженные
О граде Божием 385
животные, а жалкие.Итак, по какому же неразумию или, вернее, безумию некая религия подчиняет нас демонам, между тем как религия истинная освобождает нас от той порочности, которой мы с ними сходны? В ту пору как демоны (в чем вынужден сознаться и Апулей, хотя по большей части щадит их и считает достойными божественных почестей) гневаются, нам истинная религия велит не раздражаться гневом, но обуздывать его. В ту пору как демоны приманиваются дарами, нам истинная религия предписывает не покровительствовать никому вследствие получения даров. В то время как демоны находят удовольствие в почете, нам истинная религия велит не придавать ему никакого значения. В то время как демоны являются по отношению к одним людям ненавистниками, по отношению к другим — друзьями, причем не в силу благоразумного и спокойного суждения, но по расположению душевному и, как сам же он выражается, страстному, нам истинная религия велит любить даже наших врагов. Наконец, истинная религия повелевает нам подавлять в себе всякое волнение сердца и колебание ума, всякую душевную сумятицу и бурю, которые тревожат и волнуют, по его словам, демонов. Какая же после этого причина, кроме глупости и жалкого заблуждения, заставляет тебя унижаться через почитание перед теми, с кем ты не желаешь иметь сходства, и религиозно поклоняться тем, кому не хочешь подражать, между тем как сущность религии — в подражании тому, кому поклоняешься?
ГЛАВА XVIII
Итак, Апулей вместе с другими, держащимися того же образа мыслей, напрасно присваивает демонам ту честь, что, отводя им между эфирным небом и землей промежуточное положение
БлаженныйАвгустин 386
в воздухе и принимая в соображение якобы сказанное Платоном, что никто из богов не входит в общение с людьми, представляет, будто они передают богам молитвы людей, а людям то, чего, согласно молитвам их, успевают добиться от богов. Верившие этому считали непристойным, чтобы люди вступали в сношение с богами, а боги — с людьми; но полагали пристойным, чтобы демоны имели сношение и с богами, и с людьми, с одной стороны, представляя просьбы, и с другой, доставляя то, на что последовало соизволение: так что человек, например, благочестивый и чуждающийся преступной магии, чтобы услышали его боги, должен брать таких ходатаев, которые любят именно то, за нелюбовь к чему он делается достойнее быть услышанным охотно и с готовностью! Так, они любят сценические безобразия, которых не любит целомудрие; любят посредством тысячи уловок преступной магии делать зло, чего не любит невинность. Стало быть, и целомудрие, и невинность, если бы подумали о чем–нибудь просить богов, могли бы получить просимое не в силу своих заслуг, а только благодаря посредничеству своих врагов! Но зачем он пытается оправдать поэтические вымыслы и театральные глумления? Если (по их мнению) чувство стыда, свойственное человеку, так оскорбляет само себя, что не только любит позорное, но и считает его приятным божеству, то мы будем выступать против этого Платона, учителя их и человека, пользующегося у них же таким высоким авторитетом.
ГЛАВА XIX
Что же касается магических искусств, составляющих для некоторых, крайне нечестивых, даже предмет тщеславия, то почему бы мне не сослаться против них на само же общественное мнение? Если они — дело божеств, заслуживающих поклонения, то на каком основании
О граде Божием 387
наказываются с такой строгостью законами? Или, может быть, это христиане установили эти законы, карающие магические искусства? В каком ином смысле, как не в том, что эти преступные вещи считались, несомненно, пагубными для человеческого рода, знаменитый поэт говорит:
Клянусь, дорогая, богами; клянуся тобою, родная,
И милой твоей головою: невольно должна я прибегнуть
К искусствам магическим'?
Тот же самый смысл имеет сказанное им в другом месте:
Видел, в другие места переводят посевы»;
потому что посредством этого вредного и преступного знания, как говорят, чужие урожаи переводились на другие поля. Не в Двенадцати ли еще таблицах, т. е. в древнейших римских законах, было установлено, как упоминает Цицерон, наказание тому, кто это делал? Да, наконец, разве христианскими судьями был обвинен в магии сам Апулей? Знай он магию как искусство божественное, благочестивое и соответствующее действиям божественных сил, он, когда обвиняли его в ней, не только должен был бы в ней сознаться, но и открыто ее защищать, обвиняя скорее законы, запрещавшие и осуждавшие такое, что следовало бы признавать удивительным и заслуживающим уважения. Поступи он так, он склонил бы, пожалуй, судей на сторону своего мнения; или, если бы они остались верными взгляду несправедливых законов и подвергли бы его за защиту и
БлаженныйАвгустин 388
О граде Божием 389
БлаженныйАвгустин 390
ГЛАВА XXI
Конечно (нам скажут), что неизбежная необходимость такой бессмыслицы и нелепости заключается в том, что эфирные–де, боги в своем попечении о человечестве не знали бы решительно ничего, что делают земные люди, если бы им не возвещали о том воздушные демоны; потому что эфир от земли высоко и далеко, а воздух смежен и с эфиром, и с землей. Удивительная мудрость! Представляя всех своих богов наилучшими, что же они думают о них? Думают, что они заботятся о делах человеческих, ибо иначе они оказались бы не заслуживающими почитания; но в то же время полагают, что из–за расстояния они не знают о делах человеческих, чтобы тем самым показать необходимость демонов и этим оправдать почитание их. — так как боги через них–де, только и могут узнавать о том, что делается у людей, и помочь людям там, где это нужно. Но если это так, то добрым богам более известны демоны благодаря общности их тел, чем человек благодаря его доброй душе. Крайне прискорбная необходимость, а лучше сказать — смешная и отвратительная суетность, чтобы не счесть суетным само божество! Ведь если боги в состоянии своим свободным от телесности духом видеть нашу душу, то они не нуждаются для этого в посредничестве демонов. Если же эфирные боги наблюдают телесным образом телесные же проявления душевных движений, как–то: выражения лиц, речи, жесты, и отсюда заключают о том, что передают им демоны, то и они могут легко быть обманутыми ложью демонов. А если божественность богов не может быть обманута демонами, то та же божественность не может не знать и того, что мы делаем. Желал бы я знать, передали ли демоны богам о том, что Платону не понравились поэтические вымыслы о преступлениях богов, и скрыли ли, что они нравятся им; или скрыли и то и другое и захотели, чтобы боги вовсе не знали об этом; или же довели до сведения богов и благочестивую в отношении к богам
О граде Божием 391
мудрость Платона, и свои дерзкие в отношении к богам страстные намерения; или же, наконец, решив оставить неизвестным для богов мнение Платона, не желавшего, чтобы нечестивая разнузданность поэтов бесславила богов вымышленными преступлениями, не постыдились и не побоялись высказать свое собственное непотребство, по которому они любят театрализованные игры, торжественно выводящие напоказ безобразия богов? Из этих четырех поставленных мною вопросов пусть выберут, какой хотят, и пусть вникнут, сколько в каждом из них дается дурных представлений о добрых богах.
Если выберут первый, то вынуждены будут сознаться, что добрые боги не в состоянии были жить с добрым Платоном в то время, как он запрещал оскорблять их, а должны были жить с демонами, приходившими в восторг от наносимых им оскорблений: потому что добрые боги могли знать далеко находящегося от них человека только через посредство злых демонов, а последних, хотя и ближайших к ним по месту, знать не могли. Если же выберут второй вопрос и скажут, что демоны скрыли и то и другое, так что боги остались в полном неведении и относительно благочестивого закона Платона, и относительно святотатственного развлечения демонов: в таком случае что полезного из дел человеческих могут знать через посредство демонов боги, когда не знают и того, что в честь добрых богов, вопреки намерениям злых демонов, дается в виде закона религиозным чувством добрых людей?
Если же выберут третий и ответят, что при посредстве демонов богам стало известным не только мнение Платона, запрещавшего оскорблять богов, но и непотребство демонов, приходивших в восторг от этих оскорблений, то чем будет такого рода сообщение: просто извещением или прямым оскорблением? Да и сами боги: так ли спокойно услышали о том и другом, и так ли равнодушно к тому и другому отнеслись, что не только не лишили доступа к себе коварных демонов, любивших и делавших противное достоинству богов и религиозному чувству Платона, но и пользовались их злым, но близким посредством для передачи даров Платону, хотя и доброму, но от них отдаленному? Ведь ряд стихий сковывал их как бы своего рода цепью так, что они должны были находиться в общении с теми, которые взводили на них хулу, и не могли с тем, кто защищал их могли знать о том и другом и не имели силы изменить относительную тяжесть воздуха и земли!
Если же, наконец, они выберут четвертый вопрос, то это будет хуже всего. Кто, в самом деле, смирится с мыслью, что демоны известили богов о преступных вымыслах поэтов относительно бессмертных богов, о собственной страстной любви демонов ко всему этому и о приятнейшем удовольствии, получаемом от этого ими, но умолчали о том, что Платон с философским мужеством полагал, что все подобное должно быть чуждо наилучшим образом устроенной республике? В таком случае добрые боги вынуждены будут узнавать через подобных вестников только о дурных действиях и свойствах, и притом — не посторонних злодеев, а тех же самых вестников, и лишены будут возможности знать о противоположных тому добрых мнениях философов, хотя первое является оскорблением, а последнее служит к чести самих же богов!
ГЛАВА XXII
Итак, если в каждом из четырех упомянутых случаев даются о богах недостойные представления, то остается признать совершенно невероятным мнение, в котором стараются убедить Апулей и ряд других философов одинакового с ним образа мыслей, будто демоны занимают средину между богами и людьми, как вестники и посредники, от нас передавая наши молитвы, а к нам принося помощь богов; но представляют они из себя духов,
О граде Божием 393
охваченных страстью вредить, совершенно чуждых справедливости, надменных и гордых, мучимых завистью, хитрых и коварных. Хотя они и обитают в воздухе, поскольку, будучи низвергнуты с высоты небесной, в наказание за безвозвратное падение осуждены на заключение в нем как в подходящей для них темнице; тем не менее, в силу только того, что воздух занимает место выше земли и воды, по достоинству своему они не выше людей, которые весьма легко берут над ними верх не земным телом, а благочестием души, коль скоро избирают в помощники истинного Бога.
Но над многими, которые недостойны участия в истинной религии, они действительно господствуют как над пленными и покорными слугами, потому что ложными чудесами или предсказаниями убедили большую часть из них считать себя богами. Некоторых же, кто несколько внимательнее всматривался в их преступный образ действий, убедить в том, что они боги, они не смогли; и потому выдали себя за посредников между богами и людьми, за ходатаев. Но и те люди, которые не думали отдавать им даже и этой чести и не считали их богами, потому что находили злыми, а богов всех представляли добрыми, не осмеливались все же утверждать, что они недостойны божественного почитания. Это главным образом потому, что они не хотели нанести оскорбления народам, которые по застарелому суеверию чтили их столькими обрядами культа и храмами.
ГЛАВА XXIII
Иного образа мыслей относительно их держался и высказывал в своих сочинениях Гермес Египтянин, называемый также Трисмегистом*. Ибо Апулей, хотя богами их и не признавал,
* Трисмегист — Трижды Величайший.
БлаженныйАвгустин 394
не отделил, однако же, почитания их от поклонения верховным богам: потому что приписывал им некоторое посредничество между людьми и богами так, что они казались заступниками людей перед этими богами. Египтянин же этот утверждал, что одних богов сотворил верховный Бог, а других — люди. Услышавший сказанное мною подумает, что речь идет об идолах, так как они — дело рук человеческих. Между тем, он говорил, что видимые и подлежащие ощущению статуи представляют собою как бы тела богов, в телах же этих находятся некоторые привлеченные туда духи, имеющие отчасти силу или причинять вред, или исполнять кое–какие желания тех, кто оказывает им божественную честь и поклонение. Привязывать посредством некоторого искусства невидимых духов к видимым вещам телесного свойства так, чтобы последние были как бы телами одушевленными, изображениями, посвященными и подчиненными тем духам, по словам его, и значит творить богов, и эту великую и удивительную власть творить богов люди, мол, имеют.
Я приведу слова Египтянина, как они переведены на наш язык. «Так как нам, — говорит он, — предстоит речь о сродстве и сообществе между людьми и богами, то узнай, Асклепий, власть и силу человека. Как Господь и Отец есть Творец богов небесных, так человек есть установитель тех богов, которые содержатся в храмах вблизи человека». И немного далее: «В этом подражании божеству человечество осталось верным своей природе и происхождению: как Отец и Господь создал богов вечных, чтобы они были похожи на него, так человечество дало богам свой вид и свое подобие». Когда Асклепий, к которому он по преимуществу обращал речь, в ответ спросил у него: «Ты говоришь о статуях, Трисмегист?», тот продолжил: «О статуях, Асклепий; не правда ли, тебе трудно в это поверить? Да, о статуях, одушевленных чувством и исполненных духа, и проявляющих разнообразную силу; о статуях, заранее
О граде Божием 395
знающих будущее и предсказывающих его посредством жребия, прорицания, снов и множества других вещей, поражающих людей болезнями и исцеляющих эти же самые болезни, приносящих им печаль и радость, в зависимости от их заслуг Разве ты не знаешь, Асклепий, что Египет представляет собою образ неба, а вернее — перевод и низведение на землю всего, что повелевается и что выполняется на небе; и если можно так сказать, то еще вернее — наша страна представляет собою храм всего мира? Но тем не менее, поскольку мудрому прилично знать заранее обо всем, нужно знать и вам. наступит время, когда окажется, что египтяне напрасно по благочестию своему служили божеству с религиозным усердием, и тогда весь их культ, потеряв значение, окажется обманом».
Затем Гермес входит в подробности по этому предмету, предсказывая, очевидно, то время, когда христианская религия, чем она истиннее и святее, тем с большей силой и свободой ниспровергнет все ложные измышления, чтобы благодатью истиннейшего Спасителя освободить человека от тех богов, которых создал сам человек, и подчинить его тому Богу, Который создал самого человека. Но делая такие предсказания, Гермес говорит как друг этих самых демонских глумлений и не называет открыто христианства. Так как предстояло прекращение и уничтожение того, соблюдение чего сохраняло за Египтом подобие неба, он ограничивается исполненным своего рода грустью предсказанием этого, оплакивая такое будущее. Он был из числа тех, о которых говорит апостол, что «как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмыс–ленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку» (Рим. I, 21—21), и прочее, о чем
БлаженныйАвгустин 396
упоминать было бы долго. Ибо он многое говорит об истинном Боге и Создателе мира такого, что содержится в Писаниях. И мне непонятно, каким образом это омрачение сердца довело его до того, что он желал, чтобы люди навсегда оставались рабами богов, которые, по его же словам, людьми же и созданы, и оплакивал, что это в будущем уничтожится Как будто бы есть что–нибудь несчастнее человека, над которым господствуют его же собственные вымыслы?
Гораздо легче допустить, что, почитая богами тех, кого создал, человек сам перестанет быть человеком, чем то, чтобы благодаря его почитанию могли стать богами те, кого создал человек. Скорее возможно, что «человек в чести не пребудет», но по неразумию «уподобится животным, которые погибают» (Пс. Х1ЛШ1, 13), чем что творение человеческое станет выше творения Божия, созданного по образу Божию, т е. самого человека. Поэтому человек действительно изменяет Создавшему его, если дает власть над собою своему же созданию.
Эту–то суетность, этот обман, эти зловредные и святотатственные вещи оплакивал Гермес Египтянин, зная, что наступит время, когда их более не будет; и оплакивал с таким же бесстыдством, с каким неблагоразумием знал. Не Дух Святой открыл ему это, как открывал святым пророкам, которые, предвидя это, с восторгом говорили: «Может ли человек сделать себе богов, которые впрочем не боги?» (Иер. XVI, 20). И в другом месте: «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы» (Зах. XIII, 2). В частности же о Египте, — что прямо касается данного предмета, — святой Исайя пророчествовал так: «И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем» (Ис. XIX, 1), и прочее в том же роде. Из числа таких же пророков были и те, которые, зная о том, что должно совершиться, выражали радость, когда оно совершалось. Таков был Симеон, такова Анна, радовавшиеся о только что совершившемся рождении
О граде Божием 397
Иисуса (Лук. II, 28, 38); такова была Елисавета, узнавшая по Духу о только что совершившемся зачатии Его (Лук. 1,43); таков же был Петр, который, по откровению Отца, сказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Мф. XVI, 1б). А Египтянину этому предсказали время гибели своей, которое должно наступить, те духи, которые и присутствовавшему во плоти Господу с трепетом говорили: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф. VIII, 29). Говорили так потому, что это было для них неожиданно: ибо хотя они и знали, что это будет, но полагали, что будет позже; или потому, что мукой этой называли то презрение, которому подвергались, коль скоро были узнаны. И это было прежде времени, т. е прежде времени суда, на котором они должны будут подвергнуться вечному осуждению вместе со всеми людьми, которые останутся в общении с ними. Так говорит религия, которая не обманывает и не обманывается, — говорит, не подражая ему, который, колеблясь туда и сюда, «увлекается всяким ветром учения» (Еф. IV, 14) и, перемешивая истину с ложью, представляется оплакивающим разрушение религии, которую потом сам же признает заблуждением.
ГЛАВА XXIV
После многих рассуждений он возвращается снова к тому же и говорит о богах, созданных людьми, следующим образом: «Но относительно этого достаточно уже сказанного нами. Возвратимся опять к человеку и к его уму, этому божественному дару, от которого человек получил название разумного животного Не столь удивительно (хотя и удивительно) то, что сказано о человеке. Удивительнее всего удивительного то, что человек смог изобрести боже-
БлаженныйАвгустин 398
ственную природу и дать ей действительное существование. Так как прадеды наши сильно заблуждались в понятии о богах, отличались неверием и отвращением к культу и божественной религии, то изобрели искусство делать богов. Изобретя же это искусство, они придали ему соответствующую природную силу; придавая же последнее, они, так как душ сотворить не могли, то, вызывая души демонов или ангелов, вложили эти души в святые изображения и божественные мистерии, так что посредством их идолы обрели силу делать добро и зло».
Не знаю, смогли бы сами демоны, если бы захотели, высказаться так откровенно, как высказался он. «Так как, — говорит он, — прадеды наши сильно заблуждались в понятии о богах, отличались неверием и отвращением к культу и божественной религии, то изобрели искусство делать богов». Сказал ли он, по крайней мере, что они «немножко заблуждались», и потому изобрели это искусство делать богов; или нашел ли он достаточным сказать просто — «заблуждались», без прибавления — «сильно заблуждались»? Итак, искусство делать богов изобретено этим сильным заблуждением и неверием людей, питавших отвращение к культу и божественной религии. И, однако же, предстоящее падение этого человеческого искусства творить богов, изобретенного сильным заблуждением, неверием и отвращением души от культа и божественной религии, этот ученый муж оплакивает, как падение религии. Не божественная ли сила вынудила его выставить на вид заблуждение своих предков, и не сила ли демонская, с другой стороны, заставила оплакивать предстоящую казнь демонов? Ведь если прадеды его изобрели искусство делать богов вследствие сильного заблуждения относительно понятия о богах, вследствие неверия и отвращения души от культа и истинной религии, то что удивительного, если то, что этим омерзительным искусством было сделано враждебного божественной религии, будет уничтожено божественной же религией, когда истина
О граде Божием 399
исправит блувдение, вера обличит неверие и обращение запретит отвращение? Скажи он без объяснения причин, что прадеды его изобрели искусство делать богов; насколько держимся правильного и благочестивого образа мыслей, пришли бы к заключению, что они никоим образом не дошли бы до этого искусства, или бы не уклонились от истины, если бы мыслил о Боге достойное Бога, если бы обращали внимание свое на культ и религию божественную. Тогда бы мы и показали, что причины этого искусства заключаются в сильном заблуждении людей, в неверии и в отвращении заблуждающейся и неверной души от религии божественной, — бесстыдство сопрягающееся в истине было бы до некоторой степени все же терпимо. Но если сам он, который более всего удивляет в человеке сила этого искусства, давшая ему возможность делать богов, и который считает, что наступит время, когда все эти установленные людьми изображения богов будет предписано уничтожить; если сам он высказывает и определяет с точностью причины, по которым дело дошло до этого говорит, что прадеды его изобрели это искусство делать богов вследствие сильного заблуждения, отвращения от культа и божественной религии. А то что остается говорить, или лучше — делать,а не благодарить посильно Господа Бога нашего, который уничтожил все это причинами, противоположными тем какими оно было установлено? Ибо установило сильное заблуждение, то уничтожила, что установило неверие, то уничтожила в то, что установило отвращение от культа божестнной религии, то уничтожило обращение к единой истинному и святому Богу.
И это не в одном Египте, который оплакивает в Гермесе демонский дух, но и в земле, которая поет Господу песнь новую, как возвестили о том поистине святые и поистине пророческие
БлаженныйАвгустин 400
Писания, в которых говорится: «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля!» (Пс. ХСУ, 1), Само же заглавие этого псалма таково: «На построение дома». Ибо дом Господу, град Божий, который есть святая Церковь, созидается по всей земле после того плена людей (представляющих собой, когда веруют в Бога, как бы живые камни для созидания), в котором находились они, подпав под власть демонов. Ведь из того, что человек делал богов, вовсе не следует, что сам делавший не подпадал под их власть, когда через почитание входил в общение с ними, — общение, думаю, не с бессмысленными идолами, а с лукавыми демонами. Ибо что представляют собою идолы, как не сказанное тем же Писанием: «Есть у них глаза, но не видят» (Пс. СХХХГУ, 16), и что вообще следует сказать обо всем подобном, что, как бы искусно ни было сделано, лишено жизни и чувства? Но нечистые духи, привязанные к тем же самым идолам посредством преступного искусства, вводя в общение с собою души поклонников своих, действительно налагают на них жалкие цепи рабства. Поэтому апостол говорит: «Идол в мире ничто… язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (I Кор. VIII, 4 и X, 20). Итак, после этого плена, в котором держали людей лукавые демоны, созидается дом Божий по всей–земле. Отсюда и получил свое заглавие упомянутый псалом, в котором говорится: «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его! Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс. ХСУ, 1—5).
Итак, скорбевший о том, что наступит время, когда уничтожится культ идолов и господство над почитателями их демонов, выражал вместе с тем по вну-
О граде Божием 401
шению злого духа и желание, чтобы не прекращался никогда этот плен, по миновании которого псалом возвещает созидание дома по всей земле. Гермес предсказывал это со скорбью; псалом предвозвещал с восторгом. А так как победа была на стороне Духа, предвозвещавшего это через святых пророков, то и сам Гермес удивительным образом вынужден был сознаться, что все это, уничтожения чего он не желал и разрушение чего оплакивал, установлено не благоразумными, верующими и благочестивыми людьми, а заблуждающимися, неверующими и отвращающимися культа божественной религии. Хотя он и называет их богами, тем не менее, говоря, что они созданы такими людьми, какими мы ни в коем случае быть не должны, волей–неволей дает понять, что их не следует почитать тем, кто несхож с создавшими их, т. е. людям благоразумным, верующим и благочестивым; и, вместе с тем, показывает, что эти создавшие их люди сами же были виновны в том, что приняли за богов таких, которые богами не были. Ибо истинны пророческие слова: «Может ли человек сделать себе богов, которые впрочем не боги?» (Иер. XVI, 20).
Но хотя Гермес и назвал их богами, богами таких и от таких искусственно созданными; т. е. хотя и представлял созданных людьми богов демонами, прикованными посредством какого–то, уж и не знаю какого, искусства своими страстями к идолам: однако не приписывает им того, что приписывает им платоник Апулей, который представлял их посредниками между богами, созданными Богом, и людьми, тем же Богом сотворенными, с одной стороны, представляющими молитвы, с другой — передающими дары (об этом мы сказали уже достаточно и показали, до какой степени все это несообразно и нелепо). Действительно, было бы крайней глупостью думать, будто боги, сделанные людьми, у богов, которых создал Бог, могли иметь большую силу, чем ту, что имеют сами люди, которых создал тот же самый Бог. Демон, привязанный человеком
БлаженныйАвгустин 402
посредством нечестивого искусства к статуе, делался, пожалуй, богом, но богом — для этого именно, а не для всякого человека. Да и каков был этот бог, которого сделал человек заблуждающийся, неверующий и отвратившийся от истинного Бога?
А если почитаемые в храмах демоны, введенные каким–то неведомым мне искусством в изображения, т. е. в видимые статуи, людьми, сделавшими посредством этого искусства богов потому, что удалились и отвратились от культа религии божественной, — если такие демоны не суть посредники между людьми и богами, как по причине их крайне дурных и постыдных нравов, так и потому, что люди, хотя и заблуждающиеся, неверующие и отвратившиеся от культа и божественной религии, без всякого сомнения лучше тех, кого посредством искусства своего сделали богами, то остается заключить, что если они имеют какую–нибудь силу, имеют ее как демоны, то под видом благодеяния приносят вред, или обольщая, или открыто причиняя зло. Но и в этом отношении они имеют силу лишь тогда и настолько, когда и насколько дозволяет им то высочайшее и таинственное провидение Божие; но во всяком случае не потому, что в качестве посредников между людьми и богами они имеют большое значение для людей. Ибо они решительно не могут состоять в дружбе с теми добрыми богами, которых мы называем ангелами и представляем творениями разумными и святыми небожителями, каковы. — Престолы, Господства, Начала, Силы; своими душевными расположениями они так же далеки от последних, как далеки пороки от добродетелей, злость от доброты.
ГЛАВА XXV
Итак, искать благосклонности или благодеяния богов, вернее, добрых ангелов, следует отнюдь не через предполагаемое посредство демонов, а через уподобление им добрым
О граде Божием 403
расположением души, совместную с ними жизнь, совместное с ними почитание Бога, Которого и они почитают, хотя мы их телесными глазами и не можем видеть. И чем более нравственное состояние наше жалко из–за отличия нашего душевного расположения от их, тем более мы от них далеки в силу преступности нашей жизни, а не по месту, занимаемому телом. Мы разъединяемся не потому, что живем на земле по условиям телесной жизни, а потому, что сердце наше привязано к нечистоте земной. Если же мы исцеляемся и делаемся такими же, как они, то, несомненно, приближаемся к ним, коль скоро веруем, что достигаем, при содействии и с их стороны, блаженства в Том, Кем блаженны и они.
ГЛАВА XXVI
Тут следует заметить, что этот Египтянин, оплакивая наступление времен, когда Египет освободится от этих установлений, обязанных своим происхождением, по его же собственному признанию, людям сильно заблуждающимся, неверующим и отвратившимся от культа божественной религии, между прочим, говорит: «Тогда страна эта, святейшая отчизна капищ и храмов, будет переполнена гробами и мертвыми». Как будто, если бы упомянутые установления оставались, люди не умирали бы, или мертвые погребались бы где–нибудь в другом месте, а не в земле. Ведь, во всяком случае, чем больше проходило бы времени, тем больше увеличивалось бы количество гробов по причине большего числа умерших. Но он скорбел, очевидно, о том, что место храмов и капищ их займут памятники наших мучеников: и тех читателей, которые будут читать это с враждебным к нам и превратным расположением души, старался навести на мысль, что язычники–де, чтили богов в храмах, а мы чтим мертвых в гробах. Таково уж крайнее
БлаженныйАвгустин 404
ослегшение людей нечестивых, что они спотыкаются о горы и не хотят видеть вещей, находящихся у них перед носом; поэтому и не обращают внимания на то, что во всех языческих сочинениях едва ли найдутся (если вообще найдутся) какие–нибудь боги, которые не были бы людьми, и что, следовательно, божественные почести воздавались мертвым. Не буду говорить, что, по словам Варрона, всех умерших они считали подземными богами и что Варрон доказывает это на примере самого культа, который воздавался почти всем умершим; причем упоминает и похоронные игры, как преимущественное доказательство божественности, потому что игры совершались обыкновенно только в честь божеств.
Сам Гермес, о котором идет у нас речь, в той же самой книге, в которой оплакивает якобы предсказываемое им будущее и в которой говорит: «Тогда страна эта, святейшая отчизна капищ и храмов, будет переполнена гробами и мертвыми», сам Гермес там же свидетельствует, что боги Египта были умершими людьми. Сказав, что прадеды его сильно заблуждались в своих представлениях о богах и по неверию и отходу от культа и религии божественной изобрели искусство делать богов, он продолжает: «Изобретя же это искусство, они придали ему соответствующую природную силу; придавая же последнее, они, так как душ сотворить не могли, то, вызывая души демонов или ангелов, вложили эти души в святые изображения и божественные мистерии, так что посредством их идолы обрели силу делать добро и зло»; а затем переходит как бы к подтверждению этого примерами и говорит: «Таков, Асклепий, твой дед, первый изобретатель медицины, которому посвящен храм у горы Ливийской, подле берега крокодилов; в том храме лежит его человек, принадлежащий миру, т. е. тело; а человек остальной, или, вернее, настоящий, если человек настоящий — в чувстве жиз-
О граде Божием 405
ни, человек лучший возвратился на небо и подает больным людям и в настоящее время всякого рода помощь силой своего божества, как прежде подавал ее силой медицинского искусства». Таким образом, он дает понять, что как бога чтили мертвого в том месте, где был его гроб, обманываясь сам и обманывая других, будто он возвратился на небо.
Присоединяя к этому другой пример, он говорит далее: «А Гермес, от которого, как от деда, получил я свое имя? Обосновавшись в отчизне, носящей его же имя, не подает ли он помощи и спасения всем, с разных сторон приходящим туда смертным?» Этот старейший Гермес, т. е. Меркурий, которого он называет своим дедом, считается пребывающим в Гермополи–се, т. е. в городе, носящем его имя. Таким образом, он называет людьми двух богов, Эскулапа и Меркурия. О Эскулапе то же самое думают и греки, и латиняне; Меркурия же многие не считают смертным, однако Гермес уверен, что он был его дедом. Но, может быть, был и иной Меркурий, известный под тем же именем? Я не намерен в данном случае вступать в полемику: тот ли это был, или иной; но и этот, подобно Эскулапу, сделался богом из человека по свидетельству его же внука Трисмегиста, пользующегося у своих таким большим авторитетом.
Затем он прибавляет: «Мы знаем, как много добра делает жена Осириса, Исида, когда она благосклонна, и как много причиняет вреда, когда бывает разгневана». Далее он дает понять, что, по его мнению, демоны, которых сильно заблуждающиеся, неверующие и неблагочестивые люди вложили посредством изобретенного ими искусства в статуи (потому что делавшие таких богов никоим образом не могли сотворить душ), состояли из душ умерших людей; ибо, чтобы показать, что Исида и Осирис были богами из рода тех, которых посредством подобного искусства делают люди, он после приведенных мною слов об Исиде, что она много причиняет вреда, когда бывает
БлаженныйАвгустин 406
разгневана, тотчас же прибавляет: «Ибо богам земным и принадлежащим миру естественно гневаться, так как они созданы людьми и составлены из той и другой природы».
Говоря «из той и другой природы», он подразумевает — из души и тела, так что душой служит демон, телом — статуя. «От этого произошло то, — продолжает он, — что египтяне называют их святыми животными и каждый в отдельности город чтит души тех, кого обоготворили при жизни, так что и живет по их законам, и называется их именем». Чем же вызвано это своего рода слезное челобитие, что страна Египетская, святейшая–де отчизна капищ и храмов, должна будет переполниться гробами мертвых? Ведь лживый дух, по внушению которого Гермес все это говорил, вынужден был его же собственными устами признаться, что и в то время страна эта была уже переполнена гробами и мертвыми, которых почитали как богов! Но устами Гермеса говорила скорбь демонов, которые сокрушались из–за угрожавших им казней в зданиях, посвященных памяти святых мучеников. Ибо во многих местах этого рода они испытывают мучения, выдают себя и изгоняются из человеческих тел, которыми прежде владели.
ГЛАВА XXVII
Впрочем, и самим этим мученикам мы не воздвигаем храмов, не назначаем священников, не устанавливаем богослужений и жертвоприношений, потому что не их самих, а Бога их считаем своим Богом. Чтим, действительно, память их, как святых Божьих людей, которые сражались за истину до смерти телесной, чтобы провозвестить истинную религию, обличив ложные и вымышленные культы; что хотя и понималось некоторыми прежде, но из страха скрывалось. Но слышал ли кто–нибудь из верных, чтобы священник, стоя пред алтарем, построенным даже в
О граде Божием 407
честь и почитание Божие над святым телом мученика, говорил в своих молитвах: «Тебе, Павел (или Петр, или Кипри–ан), приношу жертву?» Перед памятниками их совершается приношение Богу, Который сделал их и людьми, и мучениками, и соединил в небесной чести со святыми своими ангелами, — совершается для того, чтобы таким празднованием и возблагодарить истинного Бога за их победу, и себя, памятуя о них, возбудить к подражанию их подвигам и победам, призвав того же Бога на помощь. Соответственно этому все знаки усердия благочестивых людей к местам мучеников представляют собою выражение почитания памяти о них, но не богослужение или жертвоприношение мертвым, как богам.
Некоторые, впрочем, приносят туда даже кушанья. Хотя лучшие из христиан не делают этого, а во многих странах и вовсе нет такого обычая; однако и те, которые это делают, когда приносят их, молятся и берут назад, чтобы питаться ими или поделиться с нуждающимися, — делают это с мыслью, что они получают там освящение заслугами мучеников во имя Господа мучеников. Никто не признает это жертвоприношением мученикам, кто знает, что и там совершается одно и единственное христианское жертвоприношение. Итак, мы не чтим своих мучеников ни божественными почестями, ни человеческими преступлениями-, мы не совершаем им жертвоприношений, не обращаем в их культ их же постыдных дел.
Об Исиде же, жене Осириса, богине египетской, и о родителях ее, которые все, по описаниям, были царями (когда она приносила этим родителям жертву, то нашла место, заросшее ячменем, и показала колосья его своему мужу, царю, и его советнику, Меркурию; поэтому ее считают еще и Церерой), сколько передается дурного, и уже не поэтами, а мистическими сочинениями египтян, как писал о том, со слов жреца Льва, Александр своей матери Олимпиаде!
БлаженныйАвгустин 408
Пусть, кто хочет и может, прочитает, а кто читал, пусть припомнит и судит сам, каким мертвым людям и за какие дела их был установлен культ, как богам. Пусть же не смеют они, хоть и считают их богами, сравнивать их в каком–либо отношении с нашими мучениками, которых мы, однако же, богами не считаем Как не определили мы своим мученикам священников и не совершаем им жертвоприношений (потому что это — дело неприличное, недолжное и недозволенное, и обязательно только в отношении к единому Богу), так и не забавляем их ни их преступлениями, ни гнуснейшими играми, в которых язычники представляют или действительные постыдные дела своих богов, если они были людьми и совершали их, или вымышленные забавы демонов, если людьми они не были.
Из этого рода демонов Сократ не мог иметь бога, если имел Бога; но весьма возможно, что человеку, чуждому упомянутого искусства делить богов и невинному, дали такого бога те, которые владели этим искусством в совершенстве. Что же из этого следует? Что этих духов нельзя почитать ради жизни блаженной, которая наступит после смерти, в этом не усомнится даже человек ограниченного ума. Но может быть, они скажут, что настоящие боги — добры; из демонов же одни злы, а другие добры; и поэтому признают заслуживающими почитания для достижения нами с их помощью вечной и блаженной жизни тех демонов, которых считают добрыми? К рассмотрению этого мнения мы приступим уже в следующей книге.
О граде Божием 409
КНИГАДЕВЯТАЯ
ГЛАВА I
Некоторые думали, что есть боги и добрые, и злые; некоторые же, будучи о богах лучшего мнения, высказывались о них с таким уважением и похвалами, что не осмеливались считать кого–либо из них злым. Те, по мнению которых одни из богов добры, а другие — злы, именем богов называли и демонов; хотя и богов, гораздо, впрочем, реже, называли демонами; так что у Гомера находят место, где он и самого Юпитера, считающегося царем и главою богов, называет демоном. Те же, слывущие людьми добрыми, по мнению которых все боги добры и своей добротой далеко превосходят людей, приходят в справедливое смущение, видя такие действия демонов, отрицать которых не могут, и полагая, что этих действий ни в коем случае не могут совершать боги, которые, по их представлению, все добры, вынуждены признать различие между богами и демонами: так что все, что в злых делах или душевных расположениях, в которых невидимые духи обнаруживают свою силу, им справедливо не нравится, все это они считают делами демонов, а не богов.
Но так как этих же самых демонов они представляют посредниками между богами и людьми (в непосредственное общение с человеком не входит, говорят они, ни один бог), передающими богам желания людей, а людям — волю богов; и так как мнение это принадлежит первым и известнейшим из философов платоникам, с которыми, как с наилучшими, мы решили вместе искать ответ на вопрос, полезно ли в деле приобретения блаженной жизни, на-
БлаженныйАвгустин 410
О граде Божием 411
ГЛАВА III
Какое же различие между богами и злыми демонами? Платоник Апулей, рассуждая о них и очень много говоря об их воздушных телах, не сказал ничего об их душевных добродетелях, которыми они были бы одарены, если бы были добрыми. Таким образом, он умолчал о том, что служит причиной блаженства, но не смог умолчать о том, что служит признаком несчастья, признав, что ум их, по которому он считает их существами разумными, не напоенный и не укрепленный добродетелью, не только не оказывает никакого сопротивления неразумным душевным страстям, но и сам подвержен своего рода бурным волнениям, как это свойственно умам глупым. Вот подлинные слова его: «По большей части из этой толпы демонов, — говорит он, — поэты, и не без основания, имеют обыкновение выводить в своих сочинениях богов как пылающих ненавистью, так и дружественно расположенных к некоторым людям; этих они делают счастливыми и возвышают, а тех теснят и унижают. Они и милуют, и негодуют, и печалятся, и радуются, и, переживая всяческие состояния человеческого духа, при похожем движении сердца и колебании ума, испытывают страстные волнения, связанные с их помыслами. Все эти тревоги и бури совершенно чужды богам небесным»*.
Оставляют ли эти слова хотя бы малейшие сомнения относительно того, что не какие–нибудь низшие душевные способности, а сами умы демонов, благодаря которым они суть существа разумные, волнуются, по словам Апулея, вихрем страстей, подобно бурному морю? Их нельзя сравнивать даже с мудрыми людьми, которые, хотя по условиям настоящей жизни и терпят такого рода душевные волнения, так как от них не может быть свободной человеческая не-
БлаженныйАвгустин 412
мощь, однако сопротивляются им своим невозмутимым умом, не соглашаясь под их влиянием одобрить или совершить что–либо такое, что уклонилось бы от пути мудрости и закона правды. Их можно сравнить с людьми глупыми и несправедливыми (чтобы не сказать, что они еще хуже их, поскольку старее и неисправимее в силу тяготеющего над ними наказания), на которых они похожи не телами, а нравами; будучи подверженными, как выражается Апулей, волнениям своего ума, они ни одной из сторон своего духа не утверждаются на истине и добродетели, с помощью которых могли бы противостоять мятежным и превратным возбуждениям духа.
ГЛАВА IV
Существуют два мнения философов о тех душевных движениях, которые греки называют павг\, а из наших — одни, например Цицерон, волнениями, другие — возбуждениями или аффектами, некоторые — как бы точнее переводя с греческого — страстями. Эти волнения, или возбуждения, или страсти, по словам некоторых философов, испытывает и мудрец, но они у него обузданы и подчинены разуму, так что власть ума налагает на них своего рода законы, которые указывают им должную меру. Держащиеся такого мнения суть платоники или аристотелики, так как и Аристотель, основавший школу перипатетиков, был учеником Платона. Другие же, например стоики, решительно не допускают, чтобы мудрец испытывал какие бы то ни было страсти. Но Цицерон в книгах о конечной цели добра и зла доказывает, что последние, т. е. стоики, спорят с платониками или перипатетиками скорее из–за слов, чем из–за сущности дела; стоики, например, не хотят называть благами телесные и внешние блага, а называют их удобствами: потому что для человека–де нет другого блага, кроме добродетели, искусства
О граде Божием 413
хорошей жизни, которое существует только в душе.
А те (т. е. платоники и аристотелики) и эти блага называют простым и общеупотребительным словом «благо», но только по сравнению с добродетелью, как нормой правильной жизни, считают их благами малыми и незначительными. Отсюда видно, что какой бы те и другие ни употребляли термин — блага ли, или выгоды, — под этими терминами у них понимается одно и то же, и стоики в этом вопросе щеголяют только новизной слов. Так, по моему мнению, и относительно вопроса о том, испытывает ли мудрый душевные страсти, или же совершенно чужд им, стоики спорят скорее из–за слов, чем из–за сущности дела. Ибо, насколько дело касается существа предмета, а не звука слов, они придерживаются тех же представлений, что и платоники и перипатетики.
Опуская для краткости прочее, чем я мог бы это подтвердить, укажу только на следующее, самое очевидное. Агеллий, человек изящнейшего красноречия и обширной и многосторонней учености, в книгах под заглавием «Аттические ночи» пишет*, что однажды он плыл на корабле с неким известным философом–стоиком. Этот философ (Агеллий рассказывает об этом весьма подробно, я же расскажу кратко), когда поднявшейся в воздухе и на море ужасной бурей корабль начало швырять из стороны в сторону и опасно кренить на борт, побледнел от страха. Это было замечено присутствовавшими, которые, несмотря на близость смерти, с крайним любопытством наблюдали, сохранит ли философ присутствие духа. И вот, когда буря утихла и уверенность в безопасности вызвала разговоры и даже шутки, один из пассажиров, богатый и расточительный азиат, пристал к философу, подсмеиваясь над тем, что тот струсил и побледнел, тогда как он–де оставался спокойным. Но философ привел ответ сократика Аристиппа, который, при подобных
БлаженныйАвгустин 414
обстоятельствах услышав от точно такого же человека точно такие же речи, сказал: «Тебе за душу негоднейшего бездельника не стоило, конечно, тревожиться; но за душу Аристиппа я должен был бояться».
Когда этот ответ заставил богача удалиться, Агел–лий, не с целью уколоть, а из любви к знанию, спросил философа, что было причиной его испуга. Желая научить человека, одушевленного искренним стремлением к знанию, философ тотчас же достал из своего дорожного мешка книгу стоика Эпиктета, содержание которой согласно было с основными положениями Зенона и Хризиппа, известных нам как главные представители школы стоиков. Из этой книги, говорит Агеллий, он прочитал, что, по учению стоиков, когда мысленные образы, называемые ими фантазиями, возникновение и время возникновения которых в нашем уме не зависит от нашей воли, идут от предметов страшных и ужасных, то они неизбежно волнуют ум и мудрого; так что на короткое время он и бледнеет от страха, и подвергается скорби, как страстям, предваряющим деятельность ума и рассудка. Но из этого–де, не следует, чтобы в его уме образовалось дурное расположение, одобрение или сочувствие злу. Последнее они представляют состоящим во власти его, и различие между душой мудрого и душой глупого, с их точки зрения, состоит в том, что душа глупого поддается страстям и подчиняет им ум свой; тогда как душа мудрого, хотя и претерпевает их по необходимости, непоколебимо, однако, сохраняет в своем уме истинное и неизменное представление о том, чего надлежит разумным образом желать или избегать. Вот что припоминает Агеллий из прочитанного в книге Эпиктета, что говорил и думал Эпиктет с точки зрения стоиков. Я изложил это, как умел, — хотя и не так хорошо, как Агеллий, но, по крайней мере, короче и, думаю, яснее, чем он.
О граде Божием 415
Если это так, то между мнением стоиков и других философов о страстях и волнениях духа нет или почти нет различия: те и другие одинаково не допускают их господства над умом мудрого. И стоики говорят, что мудрый не подвержен страстям и волнениям, может быть, потому, что эти страсти и волнения не омрачают никаким заблуждением и не подвергают никакой опасности его мудрость, благодаря которой он и мудр. Но они возникают и в душе мудрого, хотя и не нарушая при этом ясности его мудрости, — возникают под впечатлением того, что стоики называют выгодами или невыгодами и чему не хотят дать имени блага или зла. В самом деле, не придавай упомянутый философ ни малейшей цены тому, потерей чего угрожало ему кораблекрушение, т. е. здоровью и самой жизни, опасность не устрашила бы его до такой степени, что заставила его побледнеть и этим выдать себя. Между тем, он в одно и то же время мог и испытывать смятение, и твердо сохранять в своем уме представление о том, что жизнь и телесное здоровье, потерей которых угрожала ему страшная буря, не составляют такого блага, которое обладающих им людей делало бы добрыми, как делает их такими справедливость.
А что стоики говорят, что эти блага следует называть не благами, а выгодами, то это спор из–за слов, а не исследование сущности дела. Какая, в самом деле, важность в том, точнее ли эти вещи называть благами, когда и стоик бледнеет и пугается не менее, чем перипатетик, из–за опасности потерять то, что не одинаково с последним называет, но одинаково с ним ценит? Ведь оба они, если бы угрожающая этим благам или выгодам опасность понуждала их к бесчестному или злодейскому поступку, так что иначе они не могли бы сохранить их, — оба они, конечно, сказали бы, что предпочитают скорее лишиться того, что служит к поддержанию природы тела в целости и сохранности, нежели совершить то, что было бы нарушением справедливости. Таким
БлаженныйАвгустин 416
образом ум, в котором твердо держится подобное понятие, не допускает никаким волнениям, хотя бы они и возникали в низших частях души, иметь над собой преобладающую силу вопреки разуму; напротив того, он сам господствует над ними и своим несочувствием, а еще более — сопротивлением им, устанавливает царство добродетели. Таким описывает Энея и Вергилий, когда говорит:
Слезы напрасные льются, но ум остается спокойным'.
ГЛАВА V
В данном случае нет необходимости подробно и обстоятельно показывать, как учит об этих страстях божественное Писание, содержащее в себе христианское учение. Ум оно подчиняет управлению и руководству Бога, а страсти — ограничению и обузданию ума, чтобы они обращались на пользу справедливости. Кроме того, мы ставим вопрос не о том, гневается ли ум благочестивый, печалится ли, страшится ли, а о том, что возбуждает его гнев, что вызывает его печаль, чего он страшится. Я не знаю, станет ли кто–нибудь после здравого размышления порицать его за то, что он гневается на грешника, чтобы исправить его, печалится о несчастном, чтобы помочь ему, страшится за находящегося в опасности, чтобы он не погиб? Стоики ведь часто порицают и милосердие; но было бы во много раз почтеннее, если бы вышеупомянутый стоик был тронут милосердием к человеку, нуждающемуся в помощи, нежели поддался страху перед кораблекрушением.
Гораздо лучше, человечнее и куда сообразнее с благочестивыми чувствами высказывается Цицерон в похвале Цезарю, когда говорит: «Из всех твоих добродетелей нет ни одной, которая была
О граде Божием 417
бы удивительнее и привлекательнее твоего милосердия»*.
А что такое милосердие, как не своего рода сострадание нашего сердца к чужому несчастью, — сострадание, вынуждающее нас оказывать посильную помощь? Подобное (сердечное) движение подчиняется разуму, когда милосердие проявляется с сохранением справедливости: когда или подается помощь нуждающемуся, или оказывается прощение раскаивающемуся. Цицерон, этот превосходный оратор, безо всякого колебания называет его добродетелью, между тем как стоики не стыдятся считать пороком: хотя (как это известно из книги знаменитого стоика Эпиктета, написанной в духе Зенона и Хризиппа, самых известных представителей стоической школы) и они допускают такого рода страсти в душе мудрого, которого стараются представить свободным от всех пороков. Отсюда следует, что и стоики не считают их пороками, когда они возникают в мудром, не располагая его ни к чему противному умственной доблести и разуму, и что и у перипатетиков или платоников, и у стоиков мнение одно и то же; но как замечает Туллий», тяга к словопрениям издавна делает греков страстными любителями скорее споров, чем истины.
Впрочем, это еще не разрешает вопроса о том, не относится ли к несовершенству настоящей жизни то, что мы даже и во всех добрых своих действиях испытываем подобного рода душевные движения? Святые ангелы не испытывают, например, ни гнева, когда наказывают тех, которые подлежат наказанию с их стороны в силу вечного божественного закона, ни сострадания, когда являются на помощь к несчастным, ни страха, когда спасают тех из находящихся в опасности, которых любят. Люди, не умея выразить это иначе, применяют
БлаженныйАвгустин 418
и к ним названия этих страстей; но применяют ради некоторого сходства в действиях, а не с целью указать на несовершенство их душевных движений. Так и сам Бог, хотя по Писанию и гневается, однако не подлежит никакой страсти. Ибо под гневом Его разумеются карательные действия, а не возмущенное душевное состояние.
ГЛАВА VI
Отложив пока этот вопрос о святых ангелах, посмотрим, каким образом демоны, представляющие собою, по словам платоников, посредников между богами и людьми, волнуются бурею страстей. Если бы демоны подвергались движениям этого рода так, что ум их оставался бы при этом свободным от них и господствовал над ними, Апулей не сказал бы, что они, «при похожем движении сердца и колебании ума, испытывают страстные волнения, связанные с их помыслами». Значит, сам ум их, т. е. высшая часть души, благодаря которой они суть существа разумные и в которой над мятежными страстями низших частей души, умеряя и обуздывая их, господствовали бы добродетель и мудрость, если бы они у них были, — сам, говорю, ум их волнуется, как сознается упомянутый платоник, бурей страстей. Таким образом, ум демонов подвержен страстям вожделений, страхов, гнева и прочим того же рода. Какая же, спрашивается, часть их природы свободна и обладает мудростью, благодаря которой оц*й были бы угодны богам и служили бы для людей примером добрых нравов, если подверженный порокам страстей и ими подавленный ум их все, что только имеет по природе разумного, направляет ко лжи и обману тем сильнее, чем больше овладевается желанием вредить?
О граде Божием 419
ГЛАВА VII
Кто–нибудь, возможно, возразит, что не из числа всех вообще демонов, но только из числа демонов злых поэты, не слишком уклоняясь от истины, измышляют богов, любящих или ненавидящих тех или иных людей; что о них–то и говорит Апулей, что они в колебании ума испытывают все страстные волнения, связанные с их помыслами. Но как мы можем принять подобное толкование, когда, говоря это, он описывал посредническую между богами и людьми роль не отдельных демонов, а всех вообще, благодаря воздушным телам их? Ведь, по его словам, вымысел поэтов состоит в том, что они из числа этих демонов делают богов, дают им имена богов и по необузданному поэтическому своеволию приставляют их, к кому хотят, в качестве друзей и врагов; тогда как богов представляют чуждыми таких демонских нравов и по их местожительству — небу, и по полноте блаженства. Значит, измышление поэтов состоит в том, что они называют богами тех, кто не боги, и представляют их под именами богов спорящими между собою из–за людей, к которым они пристрастны, любя их или ненавидя. Тем не менее, он говорит, что измышление это недалеко от истины; потому что, назвав именами богов не богов, они описывают демонов такими, каковы они на самом деле.
Из числа таких, по его словам, была известная гомеровская Минерва, принимавшая участие в посреднических собраниях греков для удержания Ахиллеса. Что то была Минерва, это, по его мнению, поэтический вымысел; потому что Минерву он считает богиней и отводит ей место среди богов (которые, на его взгляд, все добры и блаженны) в области высшего эфира, вдали от смертных. Но что какой–нибудь из демонов покровительствовал грекам, а троянцам вредил, а другой, упоминаемый поэтом под именем Венеры или Марса (не делавших ничего подобного и помещаемых Апулеем в небесных обителях), оказывал помощь троянцам
БлаженныйАвгустин 420
против греков, и что эти демоны вступали между собой в борьбу за тех, кого любят, против тех, кого ненавидят, — это, по его признанию, сказано поэтами близко к истине. Ибо подобные вещи говорили они о тех, которые, как выражается он, при подобном человеческому движении сердца и колебании ума, испытывают все страстные волнения, связанные с их помыслами, так что могут любить и ненавидеть не в силу справедливости, а по пристрастию, как похожие на них народные партии на зрелищах любят и ненавидят бойцов со зверьми и возниц. Очевидно, философ–платоник хлопотал о том, чтобы кто–нибудь не подумал, будто подобные вещи, когда они воспеваются поэтами, творятся не демонами–посредниками, а самими богами, имена которых поэты употребляют вымышленно.
ГЛАВА VIII
Впрочем, достаточно обратить внимание на само определение, какое он дает демонам (а определяя, он охватывает их, конечно, всех), когда говорит, что демоны по роду животные, по душе — подвержены страстям, по уму — разумны, по телу — воздушны, по времени — вечны. В числе этих пяти признаков он не указал решительно ни одного, который можно было бы признать общим у демонов только с людьми добрыми, но которого не было бы у злых. Когда же он несколько более подробно описывает людей (о них он говорит в своем месте, как о существах низших и земных, после того, как сказал о богах небесных, чтобы, описав эти два крайние класса, высший и низший, в третьем месте сказать о существах средних, о демонах), он говорит: «Итак, землю населяют люди, одаренные разумом, обладающие даром слова, бессмертные по душе, но со смертными членами, с умом легким и беспокойным, с телами
О граде Божием 421
грубыми и тленными, с нравами различными, с заблуждениями одинаковыми, с упорной смелостью, с упрямой надеждой, с трудом бесполезным, с счастьем изменчивым; смертные поодиночке, они постоянно пребывают в целом своем роде, преемственно изменяясь в новых и новых поколениях; век их скоротечен, мудрость тупа, смерть быстра, жизнь возбуждает сожаление».
Сказав здесь много такого, что относится к большей части людей, разве умолчал он о том, что, как ему было известно, принадлежит немногим: о тупой мудрости? Умолчи он об этом, он не очертил бы в этом описании человеческий род с такой замечательной обстоятельностью. А когда изображал он превосходство богов, то утверждал, что выше всего в них блаженство, которого люди надеются достигнуть мудростью. Таким образом, если бы Апулей хотел представить некоторых демонов добрыми, он при описании их выставил бы на вид что–либо такое, почему можно было бы думать, что у них есть или некоторая доля блаженства, общая с богами, или какая–нибудь мудрость, общая с людьми.
Между тем, он не упомянул о них ничего доброго, чем добрые отличаются от злых. Хотя он и воздержался от более смелого описания их злобы, из опасения оскорбить не столько их самих, сколько их почитателей, однако людям здравомыслящим дал понять, как они должны думать о демонах: потому что богов, которых считал всех добрыми и блаженными, он представил решительно чуждыми их страстей; сопоставил же их с богами только по вечности тел, а по душе весьма ясно выставил похожими не на богов, а на людей, — похожими притом не благом мудрости, обладателями которой могут быть и люди, а волнением страстей, которые господствуют над глупыми и злыми, но которые мудрыми и добрыми обуздываются так, что они скорее предпочитают не иметь страстей вовсе, чем побеждать их. Ибо, если бы он хотел
БлаженныйАвгустин 422
показать, что демонам, наравне с богами, принадлежит вечность не по телу, а по душе, он не отделил бы, конечно, от соучастия в этом и людей, потому что и души людей вечны, как полагал, несомненно, наш платоник. На этом, разумеется, основании, описывая людей, он сказал, что люди бессмертны по душе, но со смертными членами. Таким образом, если люди не имеют общей с богами вечности потому, что по телу смертны, то и демоны имеют ее только потому, что по телу бессмертны.
ГЛАВА IX
Итак, что же это за посредники между богами и людьми, — посредники, с помощью которых люди должны искать себе благоволение богов, — когда они вместе с людьми имеют худшим то, что в животных есть наилучшее, т. е. душу, а вместе с богами лучшим то, что в животных составляет худшее, т. е. тело? Ведь если животное, т. е. существо одушевленное, состоит из тела и души, а из этих двух душа лучше тела; если душа, даже порочная и слабая, лучше самого здорового и крепкого тела, потому что превосходнейшая природа души от грязи пороков не становится ниже тела, подобно тому как и запачканное золото ценится дороже, чем самое чистое серебро или свинец; то эти посредники между богами и людьми, с помощью которых человеческое соединяется с божественным, оказываются разделяющими с богами вечное тело, а с людьми — порочную душу; как будто религия, которая должна, по их представлениям, соединять людей с богами через посредство демонов, заключается в теле, а не есть дело души! Да, наконец, вследствие какого непотребства или в наказание за что эти лживые и обманчивые посредники висят, так сказать, головою вниз, так что низшую часть животного, т. е. тело, разделяют с высшими себя, а высшую часть, т. е. душу, с низшими, — с небесными богами
О граде Божием 423
соединены частью рабствующей, а частью господствующей разделяют бедствия с земными людьми?
Ибо тело — раб, как говорит Саллюстий: «Повелевающее в нас — душа, подчиняющееся же — тело»*.
Саллюстий прибавляет к этому: «Одно у нас общее с богами, а другое — с бессловесными животными»; но прибавляет потому, что говорит о людях, которые, подобно бессловесным животным, имеют тело. Демоны же, которых философы поставили между людьми и богами в качестве посредников, хотя и могут сказать о душе и теле: «Одно у нас общее с богами, а другое — с людьми», но, будучи, как я сказал, как бы перевернутыми и подвешенными головою вниз, с блаженными богами разделяют рабствующее тело, а со злополучными людьми — господствующий дух; в низшей части возвеличены, а в высшей — унижены. Таким образом, если бы кто–нибудь и подумал, что они разделяют с богами вечность, потому что никакая смерть не разлучает их души с телами, на тело их, во всяком случае, нужно смотреть не как на вечную колесницу увенчанных властью и честью, а как на вечную темницу осужденных.
ГЛАВАХ
Плотин пользуется заслуженной известностью, как человек, лучше других (по крайней мере, на сегодняшний день) понявший Платона. Рассуждая о человеческих душах, он говорит: «Милосердный Отец сотворил для них смертные узы». Таким образом, в том, что люди по телу смертны, Плотин видит милосердие Бога Отца, не захотевшего, чтобы люди вечно оставались в бедственных условиях настоящей жизни. Такого милосердия не удостоена нечестивость
БлаженныйАвгустин 424
демонов: при несчастии иметь душу, подверженную страстям, они получили тело не смертное, как люди, а вечное. Они были бы счастливее людей, если бы с людьми разделяли смертное тело, а с богами — блаженный дух. Могли бы они быть такими же, как и люди, если бы наравне с ними удостоились иметь вместе со злополучной душой и смертное тело; но при том лишь условии, если бы у них была какая–нибудь способность к благочестию, чтобы они по крайней мере в смерти могли находить успокоение от бедствий. В настоящем же своем состоянии они по сравнению с людьми не только не счастливее, обладая злополучной душой, но и гораздо несчастнее, ибо заключены в вечные оковы тела. Никакого преуспеяния в благочестии и мудрости, которое могло бы обратить демонов в богов, Апулей не допускал, коль скоро яснейшим образом назвал их демонами вечными.
ГЛАВА XI
Апулей говорит, правда, что и души людей суть демоны; что люди становятся ларами, если жили добродетельно; лемурами, или ларвами, если жили порочно; богами же манами называются–де те, о которых с точностью не известно, были ли они добродетельны или порочны. Но кто, если он человек хоть немножко мыслящий, не поймет, какая в этом мнении открывается пропасть для нравственного развращения? В самом деле, как бы люди ни были непотребны, но, думая, что они после смерти сделаются ларвами, или, по крайней мере, богами–манами, они делаются еще тем хуже, чем более в них желания вредить; так как им внушается мысль, что после смерти к ним будут обращаться даже с некоторыми жертвоприношениями в виде культа, чтобы они причиняли вред. Ибо, по словам его, ларвы суть демоны вредные,
О граде Божием 425
произошедшие из людей. Впрочем, это уже другой вопрос. Но отсюда, по его словам, добрые по–гречески называются е–обсацоуЕ!;, —добрыми душами, т. е. добрыми демонами. Он подтверждает этим мнение, что души людей суть демоны.
ГЛАВА XII
Но в данном случае у нас идет речь о тех демонах, которых, как занимающих среднее положение между богами и людьми, Апулей определяет в их действительной природе, говоря, что они по роду животные, по уму — разумны, по душе — подвержены страстям, по телу — воздушны, по времени — вечны. Показав перед тем различие по месту и достоинству природы между богами, занимающими высочайшее небо, и людьми, населяющими низшую землю, он в заключение говорит: «Таким образом, мы имеем два рода живых существ, четко отличая богов от людей высотой места, непрерывным продолжением жизни, совершенством природы и не допуская между ними никакого сближения: ибо и жилища высшие от низших отделены громадным расстоянием, и жизнь там вечная и непрерывная, а здесь — скоропреходящая и короткая, и духовные способности там возвышены до блаженства, а здесь — унижены до жалкого состояния».
В этих словах я нахожу три противоположности, отличающие две крайние области природы, высшую и низшую. Ибо первоначально указанные три величественные особенности богов он потом, хотя и другими словами, повторяет, чтобы противопоставить им другие три противоположные черты, присущие людям. Относящиеся к богам три особенности следующие: возвышенность места, непрерывное продолжение жизни, совершенство природы. При повторении же их другими словами он противопоставляет им три их противоположности, характерные для че ловеческого состояния. Он говорит. — «И жилища высшие от низших
БлаженныйАвгустин 426
отделены громадным расстоянием (потому что говорил о высоте места), и жизнь там вечная и непрерывная, а здесь — скоропреходящая и короткая (так как говорил о непрерывном продолжении жизни), и духовные силы там возвышены до блаженства, а здесь — унижены до несчастья (ибо говорил о совершенстве природы)». Итак, им указаны три особенности, связанные с богами: возвышенность места, непрерывное продолжение жизни, блаженство; и три их противоположности, относящиеся к людям: низменность места, смертность, злополучие.
ГЛАВА XIII
Из этих трех особенностей, характеризующих богов и людей, относительно места в приложении к демонам не может быть никаких возражений, так как Апулей представляет их занимающими середину. Между самым высшим и низшим вполне естественно предполагается место среднее. Большего внимания требуют две другие, относительно которых нужно показать, каким образом они могут быть или чужды демонам, или принадлежать им, но принадлежать в такой мере, чтобы среднее положение демонов не казалось при этом нарушенным. Чуждыми демонам они быть не могут. Если демоны суть животные разумные, то сказать о них, — как обычно говорят о среднем, что оно не есть ни высшее, ни низшее, — сказать, что они ни блаженны, ни несчастны, подобно деревьям или животным, лишенным разума, мы не можем. Существа, уму которых присущ разум, необходимо должны быть или блаженными, или несчастными. Так же точно не можем мы сказать и того, что демоны ни смертны, ни бессмертны. Все живущее или живет вечно, или оканчивает свою жизнь смертью. Сам Апулей назвал демонов «по времени вечными».
О граде Божием 427
Остается допустить, что эти средние существа имеют одну черту из двух высших и одну — из двух низших. Ибо, если они будут иметь обе низшие или обе высшие, они средними не будут, но или примкнут к высшим существам, или ниспадут в разряд низших. Действительно, если обе эти особенности, как показано, не могут быть чужды демонам, то средними существами демоны останутся в том только случае, если от высшей и низшей сторон будут иметь по одной. Но поскольку от низшей стороны они не могут иметь вечности, которой здесь нет, то эту особенность они имеют от стороны высшей; а чтобы положение их было действительно средним, другая особенность, которую они должны иметь от низшей стороны, есть не что иное, как злополучие. Итак, и по мнению платоников высшим существам, богам, принадлежит или блаженная вечность, или вечное блаженство; низшим, людям, или злополучная смертность, или смертное злополучие; средним, демонам, или злополучная вечность, или вечное злополучие.
Те же пять признаков, с помощью которых Апулей определяет демонов, не представляют их, как он обещал, существами средними: три из этих признаков, говорит он, принадлежат им наравне с нами, а именно — что демоны суть существа по роду животные, по уму разумны, по душе — подверженные страстям; один принадлежит им наравне с богами, тот, что они по времени вечны; и один их собственный, а именно — что они по телу воздушны. Каким же образом они — существа средние, когда с высшими разделяют один признак, а с низшими — три? Кому не видно, насколько они, оставив среднее положение, приближаются и ниспадают к низшим? Можно, впрочем, и при этих признаках представлять их существами средними следующим образом: из пяти указанных Апулеем признаков один, т. е. воздушное тело, принадлежит им как их отличительный признак (подобно тому, как высшие существа, боги, и низшие, люди, имеют, в свою очередь, по одному отличительному: боги — эфирное тело, люди — тело земное); два же общие у них с остальными, а именно — что они существа по роду животные, а по уму разумные. Ибо и сам Апулей, говоря о богах и людях, замечает: «Вы имеете, таким образом, два рода животных». Богов же они обыкновенно представляют не иначе, как существами разумными. Остальные же два признака: что демоны суть существа по душе подверженные страстям, а по времени — вечные, из которых один они разделают с существами низшими, и другой — с высшими, дают им среднее положение, уравновешивая его так, что оно не поднимается до высшего и не ниспадает в низшее. А это и есть злополучная вечность или вечное злополучие демонов. Ибо тот, кто говорит, что демоны — существа, «по душе подверженные страстям», тот говорит по сути и то, что они — существа «злополучные». С другой стороны, поелику (как признают это и они сами) мир управляется провидением высшего Бога, а не слепым случаем, то несчастье демонов никогда не было бы вечным, если бы не была велика их злоба.
Итак, если блаженные правильно называются еибтцоуе^, то демоны, которых они помещают между людьми и богами, не суть е–ибагцоуе^. Какое же место принадлежит добрым демонам, которые, будучи выше людей и ниже богов, первым бы помогали, а последним служили? Ведь если они добры и вечны, они, конечно, и блаженны. А вечное блаженство поднимает их выше существ средних, потому что слишком уравнивает их с богами и слишком отделяет от людей. Отсюда, если добрые демоны бессмертны и блаженны, то их попытки доказать, что они могут быть существами средними между бессмертными и блаженными богами и смертными и несчастными людьми, напрасны. Ибо если то и другое, т. е, блаженство и бессмертие, они разделяют с богами, и ничего подобного — со смертными и несчастными людьми, то не скорее ли они отдаляются от людей и сближаются с богами, чем остаются средними
О граде Божием 429
между теми и другими? Средними существами они были бы в том случае, если бы имели, как свои собственные, два таких признака, которые были бы не оба либо признаками богов, либо людей, а один — признаком богов, другой — признаком людей, подобно тому, как человек есть среднее (существо) между животными и ангелами; так как животное есть существо неразумное и смертное, а ангел — разумное и бессмертное, то человек есть существо среднее, низшее по сравнению с ангелами и высшее по сравнению с животными, разделяя с животными смертность, а с ангелами разум, т. е. представляя собою существо разумно–смертное. Итак, если мы ищем существо среднее между бессмертно–блаженными и смертно–злополучными, то должны искать такое, которое было бы или смертно–блаженным или бессмертно–злополучным.
ГЛАВА XIV
Но может ли человек быть и блаженным, и смертным — вопрос спорный. Одни смотрят на настоящее свое положение униженно и не допускают, чтобы человек мог быть способным к блаженству, пока живет в условиях смертной жизни. Другие, напротив, превозносят себя и осмеливаются утверждать, что смертные, обладая мудростью, могут быть блаженными. Если оь это было так, то почему не они — существа, посредствующие между смертными злополучными и бессмертными блаженными, так как разделяют с бессмертными блаженными блаженство, а со смертными злополучными — смертность? Ведь если они блаженны, то, конечно, не завидуют никому (ибо что злополучнее зависти?) и, насколько могут, содействуют злополучным смертным в приобретении блаженства, дабы последние после смерти смогли стать бессмертными и соединиться с бессмертными и блаженными ангелами.
Блаженный Августин 430
ГЛАВА XV
Если же люди, пока они смертны, необходимо и злополучны, что гораздо правдоподобнее, то нужно искать такого Посредника, Который был бы не только человеком, но и Богом, чтобы блаженная смертность этого Посредника могла возвести людей от смертного злополучия к блаженному бессмертию. Он должен был и сделаться смертным, и в то же время остаться не смертным. И Он сделался смертным не потому, что божественность Слова лишилась силы, а потому, что принял на Себя слабость плоти; но и во плоти Он не остался смертным, а воскресил ее из мертвых: потому что посредничество Его принесло именно те плоды, что сами смертные, ради освобождения которых Он сделался Посредником, не остались в постоянной смерти, хотя и облечены плотью. Для этого Посреднику между нами и Богом и надлежало иметь преходящую смертность и пребывающее блаженство, чтобы через преходящее уподобиться подлежащим смерти, а через пребывающее возвести от мертвых. Поэтому добрые ангелы не могут быть существами, занимающими середину между злополучными смертными и блаженными бессмертными, ибо сами они и блаженны, и бессмертны; но могут быть такими ангелы злые, так как они бессмертны с блаженными и злополучны со смертными. Противоположность им представляет благой Посредник, Который, в отличие от их бессмертия и злополучия, соблаговолил быть на время смертным и при этом остаться вечно блаженным, и, таким образом, уничижением Своей смерти и благостью Своего блаженства ниспроверг этих бессмертно–гордых и злополучно–вредных духов, дабы они тщеславием бессмертия не прельщали к злополучию, — ниспроверг в тех, сердца которых освободил от их нечистейшего господства, очистив верою в Себя.
Итак, что же должен избрать смертный и злополучный, поставленный вдали от бессмертных и блаженных, чтобы достигнуть бессмертия и блаженства? То, что могло бы привлекать
О граде Божием___________________________________________________________431
его в бессмертии демонов, бедственно, а что могло бы оскорблять в смертности Христа, — того более не существует. Там предмет опасения составляет вечное злополучие; здесь смерть не внушает страха, потому что не смогла остаться вечной, но заставляет любить себя вечное блаженство. Посредник бессмертный и злополучный является посредником для того, чтобы преградить доступ к блаженному бессмертию, так как препятствующее этому, т. е. злополучие, остается постоянно; Посредник же смертный и блаженный для того и предложил себя, чтобы, разделив смерть, сделать из мертвых бессмертных (что показал Он на самом себе Своим воскресением) и из злополучных — блаженных (ибо блаженным не переставал быть никогда).
Таким образом, один посредник — посредник злой, разделяющий друзей; другой — Посредник благой, примиряющий врагов. Поэтому посредников–разделителей много, ибо блаженное множество является блаженным через общение с единым Богом, лишенное же этого общения и вследствие этого злополучное множество злых демонов, скорее препятствующее, чем помогающее своим посредничеством достижению блаженства, уже самим, так сказать, своим множеством заграждает себе путь к достижению единого и дающего счастье блага. Чтобы достигнуть этого блага, нам нужен был один Посредник, а не многие, и именно Тот, через общение с Которым мы и блаженны, т. е. несотворенное Слово, Коим сотворено все. Впрочем, Он Посредник не потому, что — Слово: ибо бессмертное и блаженное Слово бесконечно удалено от злополучных смертных, а потому, что — человек. Этим самым Он показал, что для достижения не только блаженного, но и делающего блаженным блага мы не должны искать иных посредников, которые бы могли облегчить нам путь к нему; ибо блаженный и подающий блаженство Бог, сделавшись причастным к нашему человеческому роду, указал нам кратчайший путь дл
Блаженный Августин_________________________________________________________432
приобщения к Его божеству. Освобождая нас от смертности и злополучия, Он приводит нас не к бессмертным и блаженным ангелам, чтобы через общение с ними и мы были блаженны и бессмертны, но к самой Троице, через общение с Которой блаженны и сами ангелы Таким образом, соблаговолив принять образ раба, умаленный по сравнению с ангелами, Он в образе Божием пребыл выше ангелов и стал путем жизни в преисподней, будучи жизнью для небес.
ГЛАВА XVI
Итак, неверно то, что, по словам Апулея, сказал Платон, будто «ни один бог не входит в общение с человеком»*.
В том, говорит он, и проявляется главным образом их величие, что они не оскверняются никаким соприкосновением с людьми. Значит, он признает, что демоны оскверняются; следовательно, они не могут и очищать тех, от которых оскверняются; а потому одинаково нечисты все: демоны от соприкосновения с людьми, а люди — от почитания демонов. Или если демоны могут входить с людьми в соприкосновение и сношение и в то же время не оскверняться, то они лучше богов: потому что последние, если входят в сношение с людьми, оскверняются. Но в том–то, говорит он, и состоит преимущество богов, что никакое соприкосновение с людьми не может осквернить их, как поставленных слишком высоко от людей.
Но сам же Апулей утверждает, что, по изображению Платона, высочайший Бог, Творец всего, Коего мы называем истинным Богом, есть тот «единый,
О граде Божием___________________________________________________________ 433
который не объемлется бедным человеческим словом, как бы оно ни было красноречиво, даже отчасти; понятие об этом Боге едва проблескивает, и то лишь изредка, для мужей мудрых, когда они силой духа, насколько это возможно, отвлекаются от тела, — проблескивает подобно лучу света, на мгновение вспыхивающему в глубочайшем мраке». Если же высочайший Бог, который, поистине, выше всего, хотя бы только изредка, хотя бы подобно лишь лучику света, на мгновение вспыхивающему в глубочайшем мраке, но являет некоторое присутствие Свое в умах мудрых, когда они, насколько возможно, отвлекаются от тела, и при этом может не оскверняться, то каким же образом те боги удалены в более возвышенное место якобы с той только целью, чтобы соприкосновение с людьми их не оскверняло? Как будто те эфирные тела, светом которых земля освещается настолько, насколько это нужно, суть нечто такое, на что нельзя смотреть! Если же небесные светила, которые (у Апулея) называются видимыми богами, не оскверняются, когда смотрят на них, то не оскверняются и демоны, хотя бы и смотрели на них вблизи. Но, может быть, не оскверняясь от человеческих взоров, боги оскверняются от звука человеческого голоса; и вследствие этого имеют в качестве посредников демонов, которые им, поставленным вдали от людей, делают эти звуки известными, чтобы сами они оставались чуждыми всякой скверны?
А что сказать об остальных чувствах? Как демоны не могут оскверняться обонянием, когда присутствуют при испарении живых человеческих тел, так не могли бы оскверняться и сами боги, если бы при этом присутствовали, коль скоро они не оскверняются трупной гарью жертвенных животных. В чувстве вкуса они не имеют никакой нужды, будучи свободными от той необходимости, которой подлежит нуждающаяся в подкреплении смертность, так что голод не вынудит
Блаженный Августин_________________________________________________________ 434
их потребовать от людей пищи. Осязание, положим, зависит от доброй воли. Но хотя упомянутое соприкосновение более всего относится к именно этому чувству, однако, если бы боги захотели войти в сношение с людьми, могли бы входить лишь настолько, чтобы видеть и быть видимыми, слышать и быть слышимыми. Зачем непременно через осязание? Да и люди не осмелились бы пожелать этого, если бы наслаждались созерцанием и беседой с богами или добрыми демонами. Но если бы их и взяло такое любопытство, что они захотели бы осязать, то каким образом мог бы кто–нибудь осязать бога или демона вопреки его воле, когда и воробья можно осязать только пойманного?
Итак, боги могли бы входить в сношение с людьми телесным образом, видя их и, в свою очередь, предоставляя себя видеть им, разговаривая с ними и выслушивая их. Но если, как я сказал, демоны входят подобным образом в сношение с людьми и не оскверняются, а боги, если входят, оскверняются, то демонов представляют они не подлежащими осквернению, а богов — подлежащими. Если же оскверняются и демоны, то что полезного для посмертной блаженной жизни могут они сделать людям, которых, оскверненные сами, они не в состоянии очистить, чтобы, как чистых, могли соединить с чуждыми скверны богами, между которыми и людьми они суть посредники? А если они не в состоянии оказать людям этого благодеяния, то какая людям польза в их дружественном посредничестве? Если только предположить, что люди после смерти не переходят при помощи демонов к богам, а живут с демонами вместе, оставаясь одинаково оскверненными и, вследствие этого, одинаково лишенными блаженства?
Или, быть может, кто–нибудь скажет, что демоны очищают своих друзей наподобие губки или чего–нибудь в этом роде, так что сами делаются тем грязнее, чем чище как бы от
О граде Божием___________________________________________________________ 435
их трения становятся люди? Если так, то боги, избегая близости и соприкосновения с людьми, чтобы не оскверниться, входят в сношение с еще более оскверненными демонами. Или боги оскверненных от людей демонов могут очищать и при этом не оскверняться, а очищать подобным же образом людей и не оскверняться ими не могут? Но думать так может разве тот, кто сам попал в сети лживейших демонов. Затем, если быть видимым и видеть — значит подлежать осквернению, то почему люди видят тех богов, которых Апулей называет видимыми, т. е. светлейшие планеты мира и прочие светила; а демоны, видеть которых, если они не захотят того сами, люди не могут, остаются в большей безопасности от этого осквернения со стороны людей? Если же осквернение не в том, чтобы быть видимым, а в том, чтобы видеть, в таком случае считающие богами светлейшие планеты мира должны утверждать, что эти светила не видят людей, хотя простирают свои лучи до самой земли. Но во всяком случае лучи их, через какую бы нечистую среду ни проходили, не оск^о–няются, а боги, если бы вошли в сношение с людьми, осквернялись бы, даже если соприкосновение было бы необходимым для оказания помощи! Соприкасается же земля с лучами солнца и луны, и света их не оскверняет.
ГЛАВА XVII
Удивляюсь, впрочем, как такие ученые люди, по мнению которых все телесное и чувственное должно быть поставлено ниже бестелесного и идеального, толкуют о телесных соприкосновениях, когда говорят о блаженной жизни. Как примирить это с известными словами Плотина: «Нужно бежать в возлюбленнейшее отечество, где Отец и где все?» «Каким же кораблем, — прибавляет он, — какой повозкой ехать туда? Нужно стать
Блаженный Августин__________________________________________________________436
подобным Богу»*.Итак, если каждый тем ближе становится к Богу, чем более делается подобным Ему, то отдаление от Него есть не что иное, как несходство с Ним. Непоюжей же на бестелесное, вечное и блаженное душа человеческая делается тем больше, чем больше приспляется к временным и преходящим вещам. Чтобы исцелиться от этого, нам нужен посредник; потому что присущей высочайшему бессмертной чистоте не чожет соответствовать смертное и нечистое, присущее низшему. Но посредник нужен не такой, который хотя бы тело имел и бессмертное и близкое к высшим существам, но имел бы больной дух, подобный существам низшим, — эта болезненность побудила бы его скорее позавидовать нашему исцелению, чем помочь нашему выздоровлению.
Нужен такой Посредник, Который, приобщившись к нам смертностью тела, по бессмертной праведности Духа, устраняющей в отношении к высочайшему значение расстояния мест и придающей значение только превосходству подобия, подал бы вам для очищения и освобождения поистине божественную помощь. Как неизменному Богу, Ему во всяком случае нечего было бояться осквернения со стороны человека, в которого Он облекся, или со стороны людей, между которыми Он обращался как человек. Немалую в то же время важность имеет то, чго Своим воплощением Он дал спасительное доказательство того, что, с одной стороны, истинное Божество не может оскверняться плотью, с другой,
* «Отечество наше там, откуда мы пришли, и Отец наш там. Игад, какой же путь, каково бегство? Не ногами нужно согрешать его, ибо ноги всюду переносят нас лишь с одной шли на другую, и не нужно готовить повозку с лошадьми Ии корабль, но следует оставить все это и, будто закрыв глаза заменить телесное зрение и пробудить зрение духовное, которое имеется у всех, но пользуются которым немногие». Плотин. Эннеады. «О прекрасном» (I, б, 8).
О граде Божием___________________________________________________________437
что демоны не должны считаться лучше нас потому, что не имеют плоти. Мы говорим о Том, о Ком проповедует священное Писание, говоря, что един «посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (I Тим. II, 5). Но как о Его божественности, которой Он всегда равен Отцу, так и о Его человеческом естестве, которым Он сделался подобным нам, говорить в настоящем случае несвоевременно.
ГЛАВА XVIII
Те же ложные и лживые посредники–демоны, которые в силу духовной нечистоты множеством своих действий проявляют свое жалкое состояние и злобу, но которые в то же время, благодаря расстояниям телесных мест и легкости воздушных тел, стараются отвращать и отклонять нас от духовного усовершенствования, — те посредники не указывают нам пути к Богу, а, напротив, препятствуют вступить на этот путь. На самом же (предлагаемом ими) пути, — пути в высшей степени ложном и исполненном заблуждения, которого не признает (истинным) путем справедливость: потому что к Богу мы восходим не через телесное возвышение, а через духовное, т. е. через бестелесное уподобление Ему, — на самом этом телесном пути, который друзья демонов пролагают через стихийные сферы, ставя демонов посредствующими между эфирными богами и земными людьми, боги представляются имеющими ту особенность, что не оскверняются соприкосновением с людьми лишь благодаря пространственному расстоянию. Таким образом, выходит, что скорее демоны оскверняются от людей, чем люди очищаются демонами, и что люди могли бы осквернить самих богов, если бы не защищала их высота места! Кто же будет до такой степени несчастен, что станет ожидать очищения для себя на таком пути, где люди представляютс
Блаженный Августин__________________________________________________________438
оскверняющими, демоны оскверняемыми, боги способными к осквернению, а не изберет такого пути, где не встречались бы оскверняющие демоны и где люди бы очищались от скверны не подлежащим скверне Богом для вступления в общество нескверных ангелов?
ГЛАВА XIX
Так как некоторые из этих, если можно так выразиться, демонопочитателей, к числу которых принадлежал и Лабеон, утверждают, будто иные называют ангелами тех, кого они называют демонами, то, чтобы не показалось, что мы спорим из–за слов, я нахожу нужным сказать кое–что о добрых ангелах, которых они не отрицают, но предпочитают называть добрыми демонами, а не ангелами Мы, следуя Писанию, сообразуясь с которым делаемся христианами, признаем ангелов как добрых, так и злых, но добрых демонов не признаем вовсе Где бы в этих книгах ни находили мы имя демонов, оно означает только злых духов. И такое значение слова до такой степени распространено среди народов, что даже из тех, которые называются язычниками и чтут многих богов и демонов, едва ли кто–нибудь, как бы ни был образован и учен, позволил бы себе сказать в похвалу даже слуге: «Ты имеешь демона»; всякий, кому бы захотел он сказать это, воспринял бы его слова не иначе, как брань Эта–то причина и заставляет нас после оскорбления вслух столь многих, даже почти всех, привыкших понимать это слово не иначе, как в худшем смысле, войти в рассмотрение обозначенного предмета, потому что, присоединив имя ангелов, мы можем загладить то оскорбление, которое могло быть причинено названием демонов
О граде Божием___________________________________________________________439
ГЛАВА XX
Впрочем, происхождение этого имени, если мы обратимся к божественным книгам, представляет собою нечто весьма достойное изучения Они называются бсицоУЕ^, словом греческим, и названы так от знания Просвещенный же Духом Святым апостол говорит — «Знание надмевает, а любовь назидает» (I Кор. VIII, 1). Слова эти нужно понимать в том смысле, что знание полезно лишь тогда, когда есть любовь; без любви же оно надмевает, т е приводит к безмерно напыщенной гордости. Таким образом, демоны имеют знание без любви, и потому–то они так надменны, т е. горды, что старались присвоить себе божеские почести и религиозное служение, приличные, как им самим известно, только истинному Богу, и делают это до сих пор, насколько могут и где могут. Какую же силу над гордостью демонов, по праву владевших человеческим родом, имеет божественное смирение, явившееся в образе раба, этого не знают души людей, надменные нечистотой превозношения, но на демонов похожие только гордостью, но не знанием.
ГЛАВА XXI
Сами же демоны знают это так хорошо, что Господу, облеченному слабостью плоти, говорили: «Что Тебе до нас, Ипсус Назарянин? Ты пришел погубить нас!» (Марк. 1,24; Мф. VIII, 29) Эти слова ясно показывают, что в демонах было великое знание, но не было любви. Они боялись угрожавшего им наказания от Него, но не любили в Нем правды Он дал себя узнать им, однако же, настолько, насколько пожелал; а пожелал настолько, насколько было нужно. Дал узнать себя не так, как святым ангелам, которые в силу того, что Он — Слово Божие, участвуют в блаженной вечности Его; но дал узнать себя так, как надлежало дать
Блаженный Августин__________________________________________________________442
сотворены высшим Богом, а блаженными представляют не через самих себя, а через общение с Тем, Кем созданы, то они говорят то же, что и мы, какими бы именами при этом ни пользовались. Что таково мнение всех или, по крайней мере, лучших платоников, это можно увидеть из их сочинений. Да и относительно самого имени бога, которым они называют такого рода бессмертные и блаженные создания, между ними и нами особых разногласий нет. И в своих священных книгах мы читаем: «Бог богов, Господь возглаголал» (Пс.ХПХ, 1). И в другом месте: «Славьте Бога богов» (Пс. СХХХУ, 2). А там, где говорится: «Страшен Он паче всех богов» (Пс. ХСУ, 4), указывается далее, почему так сказано: «Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил»; т. е. имеются в виду те, которых язычники считают богами. Под влиянием этого–то страха бесы говорили Господу: «Ты пришел погубить нас!» В словах же: «Бог богов» нельзя, конечно же, разуметь Бога бесов. То же самое Писание богами именует и людей из числа народа Божия. Поэтому под Тем, о Ком сказано «Бог богов», можно разуметь Бога именно таких богов.
Но нас могут спросить: если богами называются люди потому, что они — из народа Божия, к которому Бог говорил через ангелов или людей; то не тем ли более достойны этого названия те бессмертные, которые наслаждаются блаженством, которого люди желают достигнуть почитанием Бога? На это мы можем ответить, что священное Писание не случайно с большей ясностью богами называет людей, чем этих бессмертных и блаженных, с которыми сравниться нам обещано только по воскресении. Причина в том, чтобы слабость веры не дерзнула кого–нибудь из них, ввиду их превосходства, счесть богом для нас. В отношении к человеку избежать этого нетрудно. Для того с большей определенностью люди из народа Божия и должны были быть названы богами, чтобы они знали и твердо веровали, что их Бог есть Тот, о Котором сказано: «Бог богов»; потому что хотя богами называются и
О граде Божием____________________________________________________________443
те бессмертные и блаженные, которые на небесах, однако не называются богами богов, т. е. богами людей, живущих в народе Божием. Поэтому и апостол говорит: «Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, — так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (I Кор. VIII, 5,6).
Итак, нет смысла спорить о названии, когда само дело настолько ясно, что не возбуждает ни малейшего сомнения; но с одной оговоркой. Тех из числа этих блаженных бессмертных, которые посылались, чтобы возвещать людям волю Божию, мы называем ангелами; они же этого не допускают. Они полагают, что служение это отправляется не теми, кого они называют богами, т. е. бессмертными и блаженными, а демонами, которых они решаются называть только бессмертными, но не блаженными, или если бессмертными и блаженными, то только добрыми демонами, а не богами, которых помещают высоко и удаляют от соприкосновения с людьми. Хотя и в данном случае спор кажется также спором из–за имени, но имя демонов до такой степени омерзительно, что мы должны всячески устранить его от святых ангелов.
Закончим же настоящую книгу на том, что бессмертные и блаженные существа, какое бы имя они ни носили, но если они — существа сотворенные и созданные, не суть посредники для злополучных смертных в деле возведения их к бессмертному блаженству; потому что различие в том и другом разделяет их. Те же посредники, которые с высшими существами имеют общее бессмертие, а с низшими — злополучие, — те, поскольку злополучны в наказание за злобу, скорее могут завидовать нам в блаженстве, которого сами не имеют, чем сообщать его нам. Друзья демонов не могут предоставить никакого сколько–нибудь
Блаженный Августин__________________________________________________________444
серьезного доказательства того, почему бы мы должны были почитать как помощников тех, которых должны скорее избегать как обманщиков! О тех же, кого они считают добрыми и не только бессмертными, но и блаженными, достойными под именем богов почитания жертвами и жертвоприношениями ради получения блаженной посмертной жизни, — о тех, кто бы они ни были и какого бы названия ни были достойны, мы в следующей книге с помощью Божией покажем, что они сами желают, чтобы подобным религиозным служением почитался только единый Бог, Которым они сотворены и через общение с Которым блаженны.
О граде Божием____________________________________________________________445
КНИГА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА I
Каждому, кто способен так или иначе пользоваться разумом, ясно, что все люди желают быть блаженными. Но как только немощь смертных углубляется в исследование вопроса о том, кто блажен или что делает его блаженным, возникает много жарких споров. В этих спорах философы истощили свое ученое рвение и извели свой досуг; излагать эти споры и входить в их разрешение было бы и долго, и бесполезно. Если читающий настоящую книгу помнит, что мы сказали в восьмой книге относительно выбора философов, с которыми можно было бы войти в обсуждение вопроса о том, можем ли мы достигать блаженной посмертной жизни посредством религиозного служения и жертвоприношений единому Богу, или же посредством служения многим богам, в таком случае для него нет надобности повторять все это опять; если же он несколько подзабыл, то может освежить свою память вторичным прочтением упомянутой книги. Из числа всех философов мы выбрали платоников, заслуженно пользующихся наибольшей известностью как потому, что они в состоянии были возвыситься до понимания того, что человеческая душа, — хотя она безусловно и разумна, — не может быть блаженной иначе, как только вследствие общения со светом того Бога, Который создал мир и ее саму, так и потому, что они не признавали возможным, чтобы того, чего жаждут все люди, т. е. блаженной жизни, мог достигать кто–либо, кто чистотой непорочной любви не прилеплялся бы к единому высочайшему существу, которое есть неизменяемый Бог.
Блаженный Августин_________________________________________________________446
Но и платоники, поддавшись ли суете и заблуждению народов, или, как говорит апостол, осуетившись в своих умствованиях (Рим. I, 21), полагали или хотели казаться полагающими, что следует почитать многих богов; так что некоторые из них даже думали, что божеские почести, выражаемые в культе и жертвоприношениях, надлежит воздавать и демонам (против чего мы отчасти уже выдвинули несколько возражений). Поэтому теперь, насколько поможет в этом Бог, нужно подвергнуть рассмотрению и обсуждению следующий вопрос: какого рода религии или почитания могут желать от нас те блаженные и бессмертные существа, составляющие небесные Престолы, Господства, Начала, Власти, которых платоники называют богами, а некоторых из них — добрыми демонами, или же вместе с нами — ангелами; т. е, говоря прямее, желают ли они, чтобы только их Богу, Который — Бог и для нас, или также и им мы совершали священнодействия и приносили жертвы или отправляли религиозные обряды, которыми освящались бы или некоторые стороны нашей жизни, или мы сами?
Божественности или, говоря точнее, божеству приличествует то почитание, для обозначения которого одним словом я, когда нужно, прибегаю к греческому термину Атреюс, так как латинское слово си1сш представляется мне недостаточно выразительным для того, что я хочу сказать. Наши писатели, где только в священных Писаниях встречается слово Хатрега, переводят его словом зегашз. Но то служение, которое подобает людям и относительно которого апостол заповедует, чтобы рабы повиновались господам своим (Еф. VI, 5), по–гречески обозначается обычно другим словом, словом же 1атреш, согласно со словоупотреблением передавших нам божественные Писания, или всегда, или так часто, что почти всегда называется служение, имеющее место в богопочитании. Почитание же, если оно обозначается только словом си!Ш5, представляется подобающим не одному лишь Богу.
О граде Божием___________________________________________________________447
Говорится, что мы почитаем (со!еге) и людей, которых с почтением вспоминаем или в честь которых совершаем празднества. Да и не то лишь признается предметом почитания (соН), чему мы повинуемся в силу религиозного смирения, но и нечто такое, что подчинено нам. Так, от этого слова взяты названия: а§псо!ае (земледельцы), со!ош (поселяне), тсо!ае (обыватели). И сами боги называются сое11со!ае (небожители) именно потому, что они населяют (со!апг) небо, т. е. не от почитания, а от местожительства: они как бы своего рода поселяне неба, — не в том смысле, в каком поселянами называются люди, находящиеся под властью землевладельцев, права состояния которых, как состояния земледельческого, обусловливаются рождением на земле, принадлежащей владельцу, а в том, в каком говорит один великий латинский писатель: То древний был город, владели им колоны Тира'.
Здесь колонами он их называет от поселения, а не от земледелия. Поэтому новые города, основанные большими городами, как бы рои пчел от ульев, называются колониями. Отсюда, хотя совершенно верно, что почитание (сЫсиз) в строгом смысле этого слова приличествует одному только Богу, но так как этот термин употребляется в применении и к другим предметам, то почитание, подобающее Богу, не может быть выражено по–латыни одним этим термином.
По–видимому, термин религия (ге11§ю) гораздо точнее обозначает не какое–либо вообще почитание, а именно богопочитание; поэтому наши писатели этим словом переводят греческое слово врцакеш. Но так как по употреблению этого слова у латинян не только неученых, но и ученейших, требуется соблюдать религию и в отношениях родства,
Блаженный Августин__________________________________________________________448
свойства и других связей, то этим словом не устраняется двусмысленность, когда речь идет о почитании, подобающем божеству, и под религией требуется понимать именно то почитание, которое должно оказываться только Богу: слово это представляется неуместным образом перенесенным от обязательного уважения к связям человеческого родства. Разумеется богопочитание в собственном смысле обыкновенно и под именем р1е1аз (благочестие), которое греки называют ешерекх. Но этим именем обозначаются и чувства, обязательные в отношении к родителям. А по народному словоупотреблению имя благочестия применяется и к делам милосердия; произошло это, по моему мнению, потому, что творлть дела милосердия заповедует и Бог, и говорит, что они угодны Ему вместо жертвоприношений или даже более, чем жертвоприношения. В силу такого словоупотребления благочестивым называется и сам Бог.
В обыденной речи, впрочем, греки не называют Его ешерлу, хотя по большей части и употребляют слово ешерекх в смысле милосердия. Поэтому в некоторых местах Писания, чтобы яснее было видно различие, они предпочли употреблять термин не ешереш, по своему смыслу означающий благое почитание, а ееохтсреш, означающий почитание Бога. Мы не можем одним словом передать ни того, ни другого. Итак, что по–гречески называется 1асге1а, а по латыни переводится служением, но служением, которым мы почитаем Бога; или что по–гречески называется Эрткжеих, а по–латыни религией, но религией в применении к Богу; или, наконец, что греки называют вешереш, но чего мы одним словом выразить не можем, а можем назвать почитанием Бога, — все это мы считаем обязательным только в отношении к Богу, Который есть истинный Бог и своих почитателей делает богами. Итак, кто бы ни были те бессмертные и блаженные существа, которые пребывают в небесных обителях, они
О граде Божием___________________________________________________________449
не должны почитаться, если не любят нас и не желают нам блаженства. Если же любят и желают нам блаженства, то желают, конечно, нам быть блаженными от того же источника, от которого блаженны и сами; или они блаженны от одного источника, а мы — от другого?
ГЛАВА II
Относительно этого вопроса, впрочем, между нами и этими превосходнейшими философами (платониками) существует полное согласие. Они вполне допускали и в своих сочинениях различным образом развивали мысль, что эти бессмертные и блаженные существа блаженны от того же, от чего делаемся блаженными и мы, — от некоего отражения умного света, который для них есть Бог и нечто иное, чем они, — света, которым они просвещаются так, что сияют сами, и через общение с которым являются совершенными и блаженными. Плотин, разъясняя мысль Платона, часто утверждал, что та душа, которую они считают душой мира, блаженна от того же источника, от которого (блаженна) и наша; что есть некий отличный от нее свет, которым она создана и духовно озаряемая которым духовно сияет. Подобие этому бестелесному (свету) он указывает в видимых великих небесных светилах: свет представляет собою как бы солнце, а душа — как бы луну. Ибо луна, как они полагают, светится светом, отраженным от солнца.
Итак, этот великий платоник говорит, что разумная душа (или, лучше, умная душа, к роду которой он относит и души тех бессмертных и блаженных существ, которые, в чем он нисколько не сомневался, обитают в небесных жилищах) выше себя не имеет иной природы, кроме Бога, Который сотворил мир и Которым создана и она; и что тем премирным существам блаженная жизнь и свет познания истины
Блаженный Августин__________________________________________________________450
сообщаются оттуда же, откуда и нам. В этом отношении он согласен с Евангелием, в котором читаем: «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан. I, 6—9). В этом различении достаточно ясно показывается, что разумная, или умная, душа, какой была душа Иоанна, не могла быть светом сама по себе, но сияла вследствие общения с другим, истинным Светом. Это подтверждает и сам Иоанн, когда, давая свидетельство о Нем, говорит: «И от полноты Его все мы приняли» (Иоан. 1,16).
ГЛАВА III
Если это так, то, — если бы платоники или какие–либо другие философы, мыслившие подобным образом, познав Бога, прославили и возблагодарили Его как Бога, а не суетились в своих умствованиях, не служили бы отчасти причиной народных заблуждений, а отчасти не робели бы возвысить свой голос против них, — они, конечно, признали бы, что как те бессмертные и блаженные существа, так равно и мы, смертные и злополучные, чтобы могли быть бессмертными и блаженными, должны почитать единого Бога богов, Который — Бог и для нас, и для них.
Ему обязаны совершать или в некоторых таинствах, или в себе самих то служение, которое по–гречески называется Аятрекх. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности составляем Его храм, так как Он удостоил нас чести обитать и в согласии всех, и в каждом в отдельности, не расширяясь в массе и не умаляясь в единицах. Сердце наше — Его алтарь, когда оно возвышается до Него. Его умилостивляем мы единородным Его Священником; Ему приносим кровавые жертвы, когда боремся за Его истину до смерти; Ему мы возжигаем
О граде Божием___________________________________________________________451
приятнейший фимиам, когда пред очами Его пламенеем благочестивой и святой любовью; Ему посвящаем и возвращаем Его дары в нас: наши воспоминания; Его благодеяния освящаем празднествами и установленными днями, чтобы в свиток времен не проникало неблагодарное забвение; Ему приносим жертву смирения и хвалы на алтарь сердца огнем пламенной любви. Очищаемся от всякой скверны грехов и злых вожделений и освящаемся Его именем, чтобы видеть Его, как может быть он видим, и соединиться с Ним. Ибо Он — источник нашего блаженства; Он — предел всех желаний. Избирая (еНдегиез), а точнее (так как мы теряли Его по небрежению) — вторично избирая (геНдетез) Его (откуда, говорят, и происходит слово религия), мы стремимся к Нему любовью, чтобы, достигнув, успокоиться; потому и становимся блаженными, что делаемся с достижением этой цели совершенными. Ибо наше благо, относительно конечной цели которого между философами существует великое разногласие, состоит не в чем ином, как в том, чтобы быть соединенными с Ним; в Его бестелесных объятиях, если так можно выразиться, умная душа исполняется и оплодотворяется истинными добродетелями. Это благо нам заповедуется любить всем сердцем, всей душой и всеми силами. К этому благу мы должны приводиться теми, которые нас любят, и в то же время вести тех, кого любим сами.
Так исполняются те две заповеди, в которых заключается весь закон и все пророки: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. XXII, 37, 39). Так как человек уже научился любить самого себя, то ему и указана цель, к которой он должен направлять все свои действия, чтобы быть блаженным. Ведь тот, кто любит самого себя, желает именно того, чтобы быть
Блаженный Августин__________________________________________________________452
блаженным. Достижение этой цели и указано в единении с Богом. Итак, когда человеку, уже знающему, как любить самого себя, заповедуется любить ближнего, как самого себя, то что другое ему заповедуется, как не то, чтобы он, насколько может, содействовал ближнему любить Бога? Вот это и есть богопочитание, это и есть истинная религия, это и есть благочестие, это и есть служение, приличествующее только Богу! Итак, если какая–нибудь бессмертная власть, какой бы силой она ни была одарена, любит нас, — она желает нам для нашего блаженства быть подчиненными Тому, Кому подчинена сама и, вследствие этого подчинения, блаженна. Следовательно, если она не почитает Бога, она злополучна, потому что не имеет Бога; а если почитает Бога, то не желает, чтобы почитали ее саму вместо Бога, а скорее помогает и силами любви содействует тому божественному определению, в котором написано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исх. XXII, 20).
ГЛАВА IV
Умолчу пока о другом, что относится к религиозному служению, которым выражается почитание Бога; замечу только, что нет человека, который бы осмелился утверждать, что следует приносить жертву кому–либо, кроме Бога. С течением времени было взято многое из божественного культа и стало употребляться для выражения почтения к людям или в силу крайней униженности, или ради пагубной лести; но так, однако же, что те, к кому все это относилось, продолжали считаться людьми, хотя и достойными почитания и благоговейного уважения, или даже, если им приписывалось слишком уж многое, и обоготворения. Но приходил ли кто–нибудь к мысли, что жертвы должны приноситься кому–либо, кроме того,
О граде Божием_________________________________________________________453
кого он или знал, или считал, или мыслил богом? А насколько древне богопочитание, выражаемое в жертвах, это показывают два брата, Каин и Авель, из которых жертву старшего Бог отверг, а жертву младшего принял.
ГЛАВА V
Но кто настолько безумен, что полагает, будто Бог нуждается в том, что предлагается ему в жертвах? Божественное Писание свидетельствует об этом во многих местах; чтобы не слишком распространяться, достаточно напомнить следующие слова псалма: «Я сказал Господу: Ты — Господь мой; блага мои Тебе не нужны» (Пс. XV, 2). Поэтому следует думать, что Бог не нуждается не только в животных или вообще в каком–либо тленном и земном предмете, но даже и в самой человеческой праведности, и что все то, в чем выражается истинное почитание Бога, полезно человеку, а не Богу. Не скажет же, конечно, никто, что был полезен источнику, когда пил из него, или свету, когда видел его. Если древними праотцами совершались жертвоприношения животных, — о чем народ Божий теперь только читает, но чего уже не делает, — это нужно понимать так, что подобные жертвоприношения были знаком того, в чем выражается наше желание быть в общении с Богом и помогать ближнему в достижении той же самой цели. Видимая жертва представляет собою таинство, т. е. священный знак жертвы невидимой; поэтому некто, кающийся у пророка (или, возможно, это был сам пророк), старающийся умилостивить Бога за свои грехи, говорит: «Жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. Ь, 18, 19). Пророк говорит, что Бог жертвы не желает, и в то же время показывает, что Он
Блаженный Августин_________________________________________________________ 454
желает жертвы: как же понимать это? Не желает Бог жертвы в смысле закланного животного, но желает жертвы в смысле сокрушенного сердца. Тем, чего, как говорит пророк, Бог не желает, указывается на то, чего, как прибавляет пророк, Он желает.
Таким образом, по словам пророка, Бог не желает жертв в том смысле, в каком Он желает их по верованию людей глупых, якобы ради Своего собственного удовольствия. Если бы Бог не хотел, чтобы эти жертвы, которых Он желает, и одна из числа которых есть сокрушенное и смиренное скорбью раскаяния сердце, обозначались жертвами, которых Он, как думают, желает для собственного удовольствия, то, конечно, не заповедал бы в Ветхом завете этих последних. И они потому и должны были в известное и определенное время измениться, чтобы угодными Богу или приятными Ему в нас считались не они, а, напротив, те, прообразом которых они служили. Поэтому Бог говорит словами другого псалма: «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов, и пью ли кровь козлов?» (Пс. ХЫХ, 12, 13). Он как бы так говорит: «Ведь если бы все это было Мне необходимо, Я не стал бы просить у тебя того, что находится в Моей власти». Затем прибавляя, что означают такого рода жертвы, говорит: «Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (ПсХПХ, 14,15).
Подобным образом говорит Он и устами другого пророка: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам первенца моего за преступление мое и плод чрева моего — за грех души моей?» О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред -
О граде Божием_________________________________________________________455
Богом твоим» (Мих. VI, 6—8). И в словах этого пророка различается то и другое и ясно показывается, что Бог не требует самих по себе тех жертв, которыми обозначаются жертвы, которых Он требует. В послании, озаглавленном «К Евреям», апостол говорит: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. XIII, 16). И в словах: «Я милости хочу, а не жертвы» (Ос. VI, 6) нужно понимать не что иное, как жертву, заранее определенную жертвой, так как то, что всеми называется жертвою, есть знак истинной жертвы. Милость же — жертва, конечно, истинная; поэтому и сказано то, что несколько выше было мною приведено: «Таковые жертвы благоугодны Богу». Итак, все, что различным образом предписано было насчет жертв в скинии или храме, — все это служило для обозначения любви к Богу и ближнему; ибо «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. XXII, 40).
ГЛАВА VI
Поэтому истинной жертвой бывает всякое дело, которое совершается нами из желания быть в святом общении с Богом, т. е. дело, имеющее отношение к тому конечному благу, которым мы могли бы быть истинно блаженными. Отсюда и само милосердие, которое оказывается человеку, не составляет жертвы, если оно совершается не ради Бога. Ибо хотя жертва приносится человеком, она тем не менее — дело божественное (гез <3шпа), так что древние называли ее и этим именем. Поэтому и сам человек, посвященный и обещанный Богу, есть жертва, насколько он умирает для мира, чтобы жить для Бога. К милосердию же относится и то, что каждый совершает над самим собою. Поэтому написано: благоутождая Богу,
Блаженный Августин__________________________________________________________456
милосердствуй о душе своей (Сир. XXX, 24). Даже тело наше становится жертвой, когда мы очищаем его умеренностью, если делаем это так, как должны делать ради Бога, т. е. предавая свои члены не греху в орудие неправды, а Богу в орудия праведности (Рим. VI, 13). Убеждая поступать так, апостол говорит: «Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. XII, 1). Если же тело, которым душа пользуется как последним слугой или инструментом, становится жертвой, когда правильное и доброе пользование им имеет отношение к Богу, то во сколько же раз более становится жертвой сама душа, когда она возносится к Богу так, что, воспламенившись любовью к Нему, снимает с себя образ мирской похоти, и, подчинившись Ему, как бы преобразуется по Его непреложному образу, угождая Ему тем, что получила от красоты Его? «Не сообразуйтесь с веком сим, — продолжает апостол, — но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. XII, 2).
Итак, если истинные жертвы суть дела милосердия или к нам самим, или к ближним, имеющим отношение к Богу; дела же милосердия совершаются не иначе, как ради того, чтобы мы освободились от злополучия и стали блаженными, что достигается только при помощи блага., о котором сказано: «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. 1ХХП, 28), то само собой следует, что весь этот искупленный град, т. е. собор и общество святых, приносится во всеобщую жертву Богу тем великим Священником, Который принес и самого Себя за нас в страдании в образе раба, чтобы мы для такой Главы были телом. Этот образ раба Он принес в жертву; в нем принес Он и самого Себя; в силу этого образа Он — Посредник: в нем Он и Священник, и Жертва. Поэтому, увещая, чтобы мы представили свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу, в разумное служение Богу, — чтобы не
О граде Божием_________________________________________________________457
сообразовывались с веком сим, но преображались обновлением ума своего, чтобы познавать, в чем состоит воля Божия и в каком отношении сами мы составляем благую, угодную и совершенную жертву, апостол говорит: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. XII, 3—5). «Мы многие составляем одно тело во Христе». Вот жертва христианская! Это–то Церковь и выражает известным для верующих таинством алтаря, которым показывается ей, что в том, что приносит, приносится она сама.
ГЛАВА VII
Так как бессмертные и блаженные существа, обитающие в небесных жилищах и вместе утешающиеся общением со своим Творцом, вечностью Которого они крепки, истиной непоколебимы, дарами святы, любят нас, смертных и злополучных, из милосердия, чтобы мы стали бессмертными и блаженными, то они не желают, конечно, чтобы жертву мы приносили им, а не Тому, Кому вместе с нами и они сами приносят жертву. С ними составляем мы один град Божий, к которому обращены слова псалма: «Славное возвещается о тебе, град Божий!» (Пс. ЬХХХУ!, 3). Одна часть его, которая в нас, странствует; другая, которая в них, подает помощь. Из этого горнего града, в котором законом служит умная и непреложная воля Божия, из этого в своем роде сената (сипа), — так как в нем пребывает забота (сига) о нас, — снизошло к нам при посредстве ангелов то святое Писание, в котором сказано: «Приносящий жертву богам, кроме
Блаженный Августин_____________________________________________________458
одного Господа, да будет истреблен» (Исх. XXII, 20). Это Писание, этот закон, эти заповеди подтверждаются столькими чудесами, что совершенно очевидно, кому хотели бы видеть нас приносящими жертву те бессмертные и блаженные существа, которые желают нам того же, чего и себе.
ГЛАВА VIII
Если бы я обратился к давно минувшим временам, то вынужден был бы рассказывать гораздо пространнее, чем это нужно, о том, какие совершены были чудеса в подтверждение обетовании Божиих, которыми Бог за тысячу лет предсказал Аврааму, что в семени его благословятся все будущие народы (Быт. XVIII, 18). Кто, в самом деле, не удивится тому, что бесплодная жена Авраама родила сына в таких преклонных летах, когда уже не может рожать и плодовитая женщина; что при жертвоприношении того же Авраама пламя, явившееся с неба, прошло между разделенными надвое жертвами (Быт. XV, 15); что ангелами, которых Авраам гостеприимно принял как людей и от которых получил обетование о будущем потомстве, была ему предсказана гибель содомян от небесного огня (Быт. XVIII, 20); что теми же самыми ангелами возвещено было чудесное от этой погибели спасение сына его брата, Лота (Быт. XIX, 17), жена которого, оглянувшаяся в пути назад, превращена была мгновенно в соль, таинственно поучая тем, что на пути спасения никто не должен желать прошлого?
А сколько чудесного было совершено Моисеем в Египте для освобождения народа Божия от ига рабства, причем дозволено было совершить некоторые чудеса и волхвам фараона, т. е. египетского царя, угнетавшего этот народ, чтобы тем чудеснее побеждены были они Моисеем (Исх. VII, 10)? Они действовали при помощи волхвований и чародейства, которым
О граде Божием_________________________________________________________459
преданы злые ангелы, т. е. демоны; но Моисей с помощью ангелов легко превзошел их, будучи настолько же могущественнее их, насколько и праведнее во имя Господа, сотворившего небо и землю. Затем, когда на третьей казни искусство волхвов оказалось бессильным, Моисеем по великому и таинственному распоряжению было произведено десять казней, которыми жестокие сердца фараона и египтян доведены были до согласия отпустить народ Божий. Но они тотчас же раскаялись, и когда выступили вслед за вышедшими евреями, а евреи проходили по расступившемуся морю как по суше, были покрыты и потоплены сомкнувшимися снова волнами (Исх. XIV, 22).
Что сказать о тех чудесах, которые дивным божественным действием совершены были в то время, когда тот же народ странствовал в пустыне, — о том, как вода, которую нельзя было пить, потеряла свой горький вкус и утоляла жаждущих, когда по велению Божию в нее положено было дерево (Исх. XV, 2 5); как для голодных сходила с неба манна (Исх. XVI, 14), которая, если собирали ее сверх указанной меры, гнила и червивела, а собранная накануне субботы в двойном количестве (так как в субботу собирать не дозволялось), не подвергалась ни малейшему гниению; как в то время, когда явились желавшие мяса, которым, казалось, невозможно было удовлетворить такое множество народа, стан наполнился птицами, и желавшие мяса насытились им до отвращения (Числ. XI, 31); как вышедшие навстречу евреям враги, перекрывшие им путь и вступившие с ними в сражение, по молитве Моисея, простершего свои руки наподобие креста, были разбиты, причем не погиб ни один еврей (Исх. XVII, 11); как явившиеся в народе Божием мятежники, отделившиеся от свыше учрежденного общества, для видимого примера невидимой кары поглощены были разверзшейся землей живыми (Числ. XV, 32); как камень по удару жезла источил обильные воды (Исх. XVII, 6); как умиравшие от смертоносных укусов змей, бывших
Блаженный Августин_____________________________________________________460
справедливейшим наказанием за грехи, выздоравливали, когда взирали на повешенного на дерево медного змия (Числ. XXI, б—9), так что змий этот был и помощью для угнетенного бедствием народа, и вместе с тем знаком смертью разрушенной, как бы ко кресту пригвожденной смерти? Этого змия, сохраненного в память события, потом, когда заблуждающийся народ начал его почитать как идола, уничтожил к великой похвале за свое благочестие царь Езекия, служивший Богу своей религиозной властью (IV Цар. XVIII, 4).
ГЛАВА IX
Такие и многие другие им подобные чудеса (рассказывать обо всех их заняло бы слишком много времени) совершались к прославлению почитания единого Бога и к запрету культа многих богов! И совершались они силой простой, соединенной с благочестивым упованием веры, а не волхвованиями и прорицаниями, составленными по правилам науки, измышленной нечестивым любопытством, — науки, известной или под именем магии, или под более мерзким названием гоэтии, или под названием более почетным — теургии. Такие названия дают этой науке те, которые стараются установить в этого рода вещах различие, и из людей, преданных непозволительным искусствам, одних считают заслуживающими осуждения, а именно тех, которых считают преданными гоэтии и которых народ называет просто: злодеями; а других хотят представить заслуживающими похвалы, именно тех, которые занимаются теургией; хотя как те, так и другие одинаково преданы лживым обрядам демонов, выдаваемых за ангелов.
Так, некоторое якобы очищение души через теургию допускает и Порфирий, хотя делает это осторожно и, так сказать, стыдливо; он не признает, что это искусство возвращает
О граде Божием_________________________________________________________461
кого–нибудь к Богу. Он явно колеблется между двумя сменяющими друг друга настроениями: пороком святотатственного любопытства и воспоминанием о внушениях философии. То он убеждает остерегаться этой науки, как науки ложной, по своему действию вредной и преследуемой законами; то, как бы делая уступку ее почитателям, говорит, что она полезна для очищения если не умной части души, которой воспринимаются истины духовных предметов, не имеющих ничего телесного, то по крайней мере части душевной, которой воспринимаются образы телесных предметов. Посредством теургических освящений, называемых телетами, говорит он, эта часть души делается способной к сношению с духами и ангелами и к видению богов. Но для умной стороны души, как сознается он сам, от теургических телетов не получается никакого очищения, которое делало бы ее способной к видению Бога и к восприятию того, что существует действительно. Отсюда понятно, каких богов или какое видение получается от теургических освящений, если в нем, как сознается Порфирий, не видно того, что существует действительно. Затем, по его словам, разумная (или, как он предпочитает говорить, — умная) часть души может проникать в высшую область, хотя бы ее душевная часть и не была очищена никакой теургической наукой; часть же душевная, хотя и очищается теургами, но не настолько, чтобы могла достигать бессмертия и блаженства.
Итак, хотя он различает демонов и ангелов, говоря, что демонам принадлежат места воздушные, а ангелам — эфирные или огненные; хотя убеждает пользоваться дружелюбием всякого демона, чтобы с его помощью каждый после смерти мог хоть немножко подняться от земли, утверждая, с другой стороны, что к высшему сообществу ангелов приводит другой путь; однако он достаточно ясно указывает
Блаженный Августин_____________________________________________________462
на то, что следует избегать общения с демонами, когда говорит, что душа, терпя после смерти наказания, с ужасом отвращается от культа демонов, которыми была обманута. При этом он не мог отрицать, что теургия, которую он выставляет как бы примирительницей с богами и ангелами, является орудием таких сил, которые или сами ненавидят, или служат искусству людей, ненавидящих очищение души. Он приводит по этому предмету жалобу какого–то халдея. «Один добродетельный человек в Халдее, — говорит он, — жалуется, что успехи его в великом подвиге очищения души становятся тщетными по той причине, что проникнутый ненавистью к нему и весьма сведущий в этом деле человек заклял священными заклинаниями силы, чтобы они не слушали его молений. Таким образом, — замечает Порфирий, — тот заклял, а этот не разрешил». Из этого его примера видно, что теургия представляет собою в руках богов и людей искусство совершать как доброе, так и худое, — что даже и боги испытывают те волнения и страсти, которые Апулей приписывает демонам и людям, отделяя богов от людей только высотой эфирных престолов и защищая по этому предмету мнение Платона.
ГЛАВАХ
Вот и другой платоник, которого считают еще более ученым, Порфирий, говорит, что посредством какого–то теургического знания могут стать орудием страстей и подчиниться душевным волнениям сами боги; потому что их можно священными молитвами заклясть и заставить бояться подавать душе очищение; причем требующий зла может навести на них такой ужас, от которого посредством того же теургического знания не в состоянии освободить их и предоставить возможность оказать благодеяние другой, просящий блага.
О граде Божием_________________________________________________________463
Кто, кроме самого несчастнейшего раба демонов и человека, решительно чуждого благодати истинного Освободителя, не поймет, что все, это — измышления лживых демонов? Ведь если бы люди имели на этот раз дело с богами добрыми, у последних больше веса имел бы тот, кто желал очищения души, чем тот, кто этому препятствовал. А если бы человек, о котором шла речь, показался богам недостойным очищения души, они во всяком случае должны были бы отказаться от содействия ему не из робости перед злобным теургом или, как говорит Порфирий, из страха перед более сильным божеством, а по свободному волеизъявлению.
А между тем, удивительное дело: этот добродеятельный халдей, желавший очистить душу теургическими обрядами, не нашел никакого высшего бога, который или навел бы на оробевших богов еще больший ужас и принудил бы их этим помочь в добром деле, или укротил бы держащего их в страхе бога и тем дал бы им свободу делать добро; если, разумеется, у самого добродеятельного теурга не нашлось заклинаний, посредством которых он мог бы очистить прежде самих богов, призываемых им в качестве очистителей души, от язвы этого страха! Ибо почему же нельзя допустить такого могущественнейшего бога, которым бы они были очищены, если может быть допущен такой, которым они были устрашены? Или разве бог, который принимает моления человека со злобным сердцем и страхом удерживает богов от благодеяний, есть, а бога, который бы выслушивал молитвы человека с сердцем доброжелательным и освобождал богов от опасения оказывать помощь в добре, нет?
Так вот какова эта знаменитая теургия, вот каково это пресловутое очищение души! В ней более вымогает нечистая ненависть, чем вымаливает чистая доброжелательность. Не побуждает ли она остерегаться и отворачиваться от лживости злых духов и слушать
Блаженный Августин_____________________________________________________464
спасительное учение! А что занимающиеся этими мерзкими очищениями, совершаемыми посредством святотатственных обрядов, видят будто бы очами / очищенного духа некоторые, по словам Порфирия, прекрасные образы ангелов ли, или богов (если только, впрочем, они видят что–нибудь подобное), так это то, о чем говорит апостол: «И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (II Кор. XI, 14). Эти видения есть дело того, кто, желая уловить несчастные души мерзкими обрядами многих и ложных богов и отвратить их от почитания истинного Бога, которым они единственно очищаются и спасаются, подобно тому, как говорится о Протее: В различных является видах», то преследует как враг, то лживо приходит на помощь, но вред причиняет и там и здесь.
ГЛАВА XI
Гораздо лучше рассуждает этот Порфирий в своем письме к египтянину Анебону, в котором под видом человека, ищущего вразумления и ответа на занимающие его вопросы, разглашает и опровергает святотатственные знания. Хотя в письме этом он делает неблагоприятный отзыв о всех демонах, говоря, что они по безрассудности вбирают в себя влажные испарения и потому живут не в эфире, а в воздухе под луной и на самой луне; но ту лживость и злобу, то непотребство, которые справедливо возмущали его, не осмеливается приписывать всем демонам. Так, вслед за другими, он называет некоторых из них демонами благосклонными, хотя всех признает неразумными. С другой стороны, он выражает
О граде Божием____________________________________________________________465
удивление, что жертвы не только привлекают богов, но и принуждают их и заставляют насильно делать то, чего хотят люди; и если различие между богами и демонами заключается в телесности и бестелесности, то каким–де образом можно считать богами солнце, луну и прочие видимые небесные светила, которые, по его мнению, несомненно телесны; а если они боги, то каким образом одни из них называются благодетельными, а другие злобными, и каким образом, будучи телесными, они присоединяются к бестелесным.
Он также задает, как бы сомневаясь, вопрос и о том, обладают ли прорицатели и люди, совершающие некоторые чудеса, более могущественной душой, или к ним приходят извне какие–то духи, с помощью которых они бывают в состоянии совершать эти чудеса. Со своей стороны он считает более вероятным предположение, что эти духи приходят извне, потому что упомянутые люди связывают некоторых, отпирают замкнутые двери, совершают другие подобного рода чудеса, употребляя для этого камни и травы. Поэтому, по словам его, иные полагают, что существует какой–то особый род существ, исполняющий в подобных случаях человеческие желания, — род по своей природе лукавый, являющийся под всевозможными формами и образами, принимающий вид то богов, то демонов, то душ умерших людей; что именно он и делает все то, что кажется добрым или худым, хотя в истинно добром не оказывает никакой помощи, даже не имеет представления о нем; ревностных же поборников добродетели вынуждает достигать его путем тяжких испытаний и жертв, всячески вредит им и мешает; что, наконец, он преисполнен дерзости и гордости, услаждается смрадом, увлекается лестью.
Все это об этом роде лживых и злых духов, которые входят в душу человека извне и потешаются над усыпленными и бодрствующими человеческими чувствами, Порфирий
Блаженный Августин_________________________________________________________466
высказывает не как положительные свои убеждения, а как остроумные предположения или вещи сомнительные, утверждая, что якобы так думают другие. Такому философу трудно и постигнуть, и с уверенностью опровергнуть всю эту дьявольщину, которую любая старушка–христианка узнаёт сразу и презирает с полной свободой. А может быть, он опасался оскорбить того, кому писал, т. е. Анебона, знаменитейшего жреца этого культа, равно как и других поклонников подобных вещей, как вещей божественных и относящихся к почитанию богов.
Вытекают, однако же, сами собою (и он, как бы подвергая их исследованию, упоминает о них) такие вещи, которые, по здравом размышлении, не могут быть приписаны никому, кроме злых и лживых сил. Так, он спрашивает, почему те, к которым обращаются с молитвой, как к лучшим, вынуждаются, как худшие, исполнять несправедливые человеческие распоряжения? Почему не выслушивают они молитв возбужденного нечистой страстью, хотя сами, не задумываясь, подталкивают того или иного на кровосмешение? Почему приказывают своим жрецам удаляться от животных из опасения, как бы не оскверниться испарениями тела, а между тем сами привлекаются как другими испарениями, так и смрадом жертвенных животных, — служителю возбраняют прикасаться к трупам, а сами по большей части чествуются трупами? Что значит, что человек, подверженный какому–либо пороку, угрожает этим не демону или какой–нибудь душе умершего, а солнцу, луне и вообще какому бы то ни было небесному светилу, и наводит на них ложный страх, чтобы добиться от них истины? Угрожают и небу вступить с ним в борьбу, высказывают и другие такого рода невозможные для человека вещи, чтобы боги, как самые бессмысленные дети, испугавшись этих ложных и смешных угроз, исполняли то, что им приказывается.
Он также говорит, что некий Херемон, человек весьма сведущий в такого рода священных, или лучше — святотатственных вещах, писал, будто обряды, совершаемые у египтян, имеют чрезвычайную силу и заставляют богов делать то, что им приказывают посредством громко высказываемого недовольства Исидой или мужем ее Осирисом, когда заклинающий человек угрожает разгласить таинства или уничтожить культ, и в последнем случае даже разорвать на части Осириса, если они не исполнят приказаний. Порфирий не без основания удивляется, что человек расточает богам такие пустые и бессмысленные угрозы, и богам не каким–нибудь, а небесным и сияющим лучезарным светом; и его угрозы не остаются–без последствий, но имеют принудительную силу и, наводя ужас, заставляют исполнять то, чего он желает. Но при этом, под видом человека удивляющегося и исследующего причины подобных вещей, он дает понять, что делают это те духи, род которых, якобы следуя чужому мнению, он описал выше, — духи лживые не по природе, как полагает он, а по испорченности, которые принимают вид богов и душ умерших людей и не являются только в виде демонов, а в действительности суть именно демоны. И все то, что кажется ему совершающимся на земле людьми с помощью различных средств, приводящих в действие способные к тому силы: с помощью трав, камней, животных, каких–либо звуков и слов, разных выдумок и штук, даже наблюдений за движениями звезд в обращении неба, — все это — дело этих же самых демонов, глумящихся над покорными им душами и обращающих человеческие заблуждения в потешные для себя забавы.
Итак, Порфирий или в самом деле испытывал сомнения и исследовал подобные вещи и потому упоминал о том, что служит к изобличению и опровержению, и представлял все это делом не тех сил, которые помогают нам в деле приобретения блаженной жизни,
Блаженный Августин_____________________________________________________468
а демонов–обманщиков; или же (чтобы быть лучшего мнения об этом философе) не хотел преданного подобным заблуждениям египтянина, мнившего себя человеком, знающим нечто великое, обижать, так сказать, гордым авторитетом ученого и смущать открытым спором, а хотел вызвать его на обсуждение этих вещей под видом смиренного человека, исследующего и желающего поучиться, — хотел показать ему, насколько нужно презирать и даже избегать этого. Наконец, уже в заключении письма, он просит египтянина разъяснить ему, какой путь указывает египетская мудрость к блаженной жизни. При этом, между прочим, он говорит, что те, по–видимому, напрасно ищут мудрости, которые обращаются к богам для того, чтобы тревожить божествен* ный ум или ради достижения преходящих благ, или ради приобретения имущества, или ради браков, или ради торговли, или ради чего–либо еще в подобном роде. Да и сами божества, к которым они обращаются, хотя и предсказывают о прочих вещах нечто истинное, но поскольку не дают относительно блаженства никаких верных и достаточно пригодных указаний, суть не боги и даже не добрые демоны, но или тот род, который называется лживым, или же чистейший человеческий вымысел.
ГЛАВА XII
Но поелику посредством этих знаний творятся такие вещи, которые превышают человеческие возможности, то остается предположить, что предсказываемое и совершаемое, по–видимому, чудесно и говорит об участии некоей силы как бы свыше, но не относится при этом, однако, к почитанию единого Бога, быть в общении с Которым составляет единственное блаженнотворящее благо, как это признают и с достаточной основательностью доказывают и платоники; (все это) благоразумие требует считать глумлением со стороны злых демонов
О граде Божием________________________________________________________469
и лукавыми ловушками, которые надлежит устранять истинным благочестием. Относительно же тех чудес, которые совершаются или через ангелов, или каким–либо иным сверхъестественным образом, но так, что обращают умы к почитанию и к религии единого Бога, в Котором одном заключается блаженная жизнь, — относительно этих чудес надлежит веровать, что они совершаются действием Божиим теми и через тех, которые нас любят истинно и благочестиво. При этом не следует слушать тех, которые не признают, что невидимый Бог совершает видимые чудеса. Ведь и по их мнению сотворил же Бог мир, видимость которого они ни в коем случае не могут отрицать. А все, что ни совершается чудесного в этом мире, все это — несомненно меньше, чем весь этот мир, т. е. небо, земля и все, что в них существует; все это сотворено, конечно, Богом. И как сам сотворивший, так и способ, которым Он сотворил, сокровенны и непостижимы для человека.
Итак, хотя чудеса видимой природы и потеряли свою цену по той причине, что мы их видим постоянно, однако, если обратить на них мудрое внимание, они окажутся удивительнее самого необыкновенного и редкого (чуда). Да и сам человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком. Поэтому Бог, сотворивший видимые небо и землю, не гнушается творить видимые чудеса на небе и на земле, посредством которых возбуждает к почитанию невидимого Себя душу, еще преданную видимым предметам; но где и когда сотворить их, непреложный совет для этого находится в Нем самом, в планах Которого все будущие времена суть времена уже существующие. Ибо, давая движение временным предметам, сам Он не движется во времени; что должно быть совершено, Он знает так же, как и совершенное; внимает призывающим так же, как видит и имеющих призывать. И когда внимают ангелы Его, внимает в них Он как в истинном,
Блаженный Августин__________________________________________________________470
нерукотворенном Своем храме, как внимает и в святых людях Своих; во времени осуществляются Его же веления, предусмотренные Его вечным законом.
ГЛАВА XIII
Не следует смущаться, что, будучи невидимым, Он, как повествуется, часто являлся праотцам. Ибо как звук, при посредстве которого слышится мысль, возникающая в безмолвии сознания, не есть то, что есть сама эта мысль; так и тот образ, в котором был видим Бог, невидимый по природе, не был тем, что есть Он сам. И тем не менее в телесном образе был видим сам Бог, как в звуке голоса слышится сама мысль. Знали и праотцы, что, видя в телесном образе невидимого Бога, они видели не то, чем Он был. Так, Моисей разговаривал с Ним (лицом к лицу), и, однако, же просил: «Если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя» (Исх. XXXIII, 1 У). Поэтому, когда надлежало грозным образом объявить через ангелов закон Божий и объявить не одному человеку или немногим мудрецам, а целому роду и многочисленному народу, то перед этим народом совершены были великие чудеса на горе, где этот закон был дан через посредство одного в присутствии множества людей, стоявших в страхе и ужасе перед тем, что совершалось. Ибо израильский народ поверил Моисею не так, как поверили лакедемоняне своему Ликургу, думая, будто те законы, которые были им составлены, он получил от Юпитера или Аполлона. Когда еврейскому народу давался закон, которым повелевалось почитать единого Бога, то в присутствии самого народа, — насколько божественное провидение посчитало это нужным, — чудесными явлениями и землетрясениями было показано, что при этом даровании закона тварь служила Творцу.
О граде Божием____________________________________________________________471
ГЛАВА XIV
Как идет правильно поставленное образование одного человека, так и образование рода человеческого, насколько это касалось народа Божия, совершалось в известные периоды времени, как бы по возрастам, возводя его от временного и видимого к пониманию вечного и невидимого; так что и в то время, когда в качестве божественных обещались видимые награды, все же заповедалось почитание единого Бога, чтобы человеческий ум даже ради самых земных благодеяний преходящей жизни не покорствовал никому, кроме истинного Творца души и Господа. Ибо никто, кроме безумного, не станет отрицать, что все, чем могут служить людям или ангелы, или люди, находится во власти единого Всемогущего.
Как известно, о провидении рассуждал и платоник Плотин: он говорил, что от высочайшего Бога, красота которого непостижима и невыразима для человека, оно простирается до самых земных и низших предметов; и, приводя в качестве примера красоту маленьких цветов и листочков, утверждал, что все это, столь презренное и скоропреходящее, не могло бы иметь такого совершенства форм, если бы не получало образования оттуда, где пребывает непостижимая и непреложная, все в себе содержащая форма*. На это указывает и Господь Иисус, когда говорит: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (Мф. VI, 28—30). Итак, хорошо, что человеческая душа, еще нетвердая вследствие земных желаний, учится даже тех низших благ, которых желает
' Плотин. Эннеады. «О провидении» (III, 2; III, У).
Блаженный Августин__________________________________________________________472
временно, которые необходимы только для земной преходящей жизни и достойны презрения по сравнению с вечными благами будущей жизни, ожидать только от единого Бога, чтобы при желании даже и этого рода благ она не отклонялась от Того, к Кому приходит она путем презрения и отречения от них.
ГЛАВА XV
Итак, божественному провидению было угодно расположить течение времен таким образом, что, как я сказал и как читаем в Деяниях апостольских, закон о почитании единого Бога дан был «при служении Ангелов» (Деян. VII, 53). В лице их (ангелов) видимо являлся сам Бог, — не Своей субстанцией, для поврежденных очей остающейся всегда невидимой, но посредством известных признаков через подчиненную Творцу тварь; и говорил членораздельными звуками человеческого языка во времени Тот, Кто по природе своей не телесно, а духовно, не чувственно, а разумно, не временно, а, так сказать, вечно не начинает и не перестает говорить; и говорил такое, что слушают ушами не тела, а ума Его служители и вестники, которые, будучи бессмертно блаженными, наслаждаются Его непреложной истиной, — слушают, что должно быть сделано, и немедленно и без каких–либо затруднений проводят в область видимого и чувственного. Но закон этот был дан применительно к условиям времени, так что, как сказано, первоначально содержал в себе земные обетования, прообразовывавшие собою обетования вечные, которые видимыми таинствами совершали многие, но понимали немногие. Почитание же единого Бога предписывалось там яснейшими свидетельствами и закона, и природы; и предписывалось почитание единого не из числа многих, а Того единого, Кто сотворил небо и землю, всякую душу и всякий дух, который не есть то, что сам Он. Ибо Он — Творец, а это все сотворено и нуждаетс
О граде Божием_________________________________________________________473
в сотворившем для того, чтобы существовать и поддерживаться в добром состоянии.
ГЛАВА XVI
От каких же ангелов должны мы ожидать блаженной и вечной жизни? От тех ли, которые желают, чтобы их почитали религиозным образом, требуя себе культов и жертвоприношений; или же от тех, которые говорят, что все это почитание приличествует Богу–Творцу, учат, что истинное благочестие должно все это воздавать Тому, от созерцания Которого они блаженны сами и обещают быть блаженными и нам? Это созерцание Бога есть созерцание такой красоты и достойно такой любви, что человека, одаренного в изобилии всевозможными благами, но этого блага лишенного, Плотин безо всякого колебания называет человеком самым несчастным. Поэтому если одни из ангелов возбуждают чудесными знамениями к почитанию Бога, а другие — к почитанию самих себя, и притом так, что первые запрещают почитание последних, а эти не осмеливаются запрещать почитание Бога, то пусть скажут нам платоники или какие бы там ни были философы, теурги, или лучше — периурги (ибо все эти знания более достойны такого названия), каким из этих ангелов должны мы верить больше?
Затем пусть скажут нам люди, если только в них есть хоть немного природного смысла, благодаря которому они созданы, как существа разумные, — пусть, говорю, скажут: тем ли богам или ангелам должны мы приносить жертвы, которые приказывают приносить их себе самим, или же Тому единому, Которому повелевают приносить воспрещающие приносить их и себе, и другим? Если бы даже ни те, ни другие из них не совершали чудес, а одни-
Блаженный Августин_____________________________________________________474
приказывали бы приносить жертвы себе, другие же воспрещали бы приносить себе, а велели бы приносить только одному Богу, то благочестие само должно было бы усмотреть, что в этом случае происходит от гордости и что — от истинной религии.
Скажу даже больше: если бы на человеческий ум действовали чудесами только те ангелы, которые жертв требуют себе, а те, которые это воспрещают и велят приносить жертвы только одному Богу, решительно не были бы одарены силой совершать чудеса, то и в таком случае авторитет этих последних должен был бы быть поставлен выше; не по указанию, конечно, телесного чувства, а на основании разума. Если же Бог в подтверждение изрекаемой Им истины устроил так, что через этих бессмертных вестников, проповедующих не о гордости своей, а о Его величии, творил чудеса даже большие, несомненнейшие и яснейшие, чтобы те, которые жертв требуют себе, не могли легко склонять к ложной религии людей благочестивых, но еще не окрепших, представляя их чувствам нечто изумительное; то кто же будет настолько безумным, чтобы не видеть истины, которой он должен следовать, там, где он находит больше такого, что возбуждает его удивление?
В самом деле, чудеса языческих богов, о которых рассказывает нам история (я понимаю под ними не те чудовищные явления, которые время от времени совершаются по сокровенным, предустановленным и узаконенным божественным провидением мировым причинам, и которые, как утверждает лживая хитрость демонов, якобы предотвращаются и умиротворяются демонскими обрядами, как–то: необыкновенные рождения животных или чрезвычайные явления на небе и на земле, то наводящие только ужас, то причиняющие действительный вред; а те чудеса, которые очевидно совершаются силой и властью этих богов, как рассказывается, например, что изображения богов–пенатов, которые бежавший
О граде Божием_________________________________________________________475
Эней вывез из Трои, переходили с места на место; что Тарквиний пересек бритвой оселок; что эпидаврский змей пристал в качестве спутника к Эскуланию, плывшему на корабле в Рим; что корабль, на котором везли кумир фригийской Матери, несмотря на все усилия людей и волов остававшийся неподвижным, сдвинула с места и потащила в доказательство своего целомудрия одна женщина, зацепив его поясом; что дева–весталка, которую подозревали в нарушении целомудрия, устранила это подозрение, наполнив решето водой из Тибра и не пролив ее), — все эти и подобные им чудеса ни в каком отношении не могут сравниться по своей силе и величию с теми чудесами, которые, как мы читаем, совершались в народе Божием. Во сколько же раз менее могут сравниться с ними те, которые признаны запрещенными и подлежащими уголовному наказанию законами самих этих народов, которые почитают подобных богов, т. е. чудеса магические или теургические? Очень многие из них, мерещась, обманывают человеческие чувства, издеваясь над ними представлением несуществующих образов, как бывает, например, когда сводят с неба луну, как говорит Лукан: Пока она пеной покроет взошедшие только посевы'.
А если некоторые, по действительности своей, и кажутся подходящими к иным действиям, совершаемым благочестивыми, то цель, которая отличает их, дает видеть, что наши несравненно их выше. Те чудеса указывают на многих богов, которые тем менее должны почитаться жертвами, чем более они требуют их; а наши указывают на единого Бога, Который свидетельствами Своих Писаний и возбранением такого рода жертв показывает, что Он не нуждается ни в чем подобном.
Блаженный Августин_____________________________________________________476
Итак, если ангелы требуют жертв себе, то выше их должны быть поставлены те ангелы, которые этих жертв требуют не себе, а Богу, Творцу всего, Которому сами служат. Этим они показывают, насколько искренне любят нас, когда желают, чтобы мы были покорны Тому, от лицезрения Которого они блаженны сами, и чтобы достигли Того, от Кого сами они не отступили. Если же ангелы, которые желают, чтобы жертвы приносились не единому Богу, а богам многим, требуют жертв не себе, а тем богам, ангелами которых они являются, то даже и в этом случае выше них должны быть поставлены те ангелы, которые суть ангелы единого Бога богов и которые велят приносить жертвы Ему одному, а всякому другому воспрещают, — коль скоро из тех никто не запрещает приносить жертвы Тому, Кому одному велят приносить эти. Но если те не суть ни ангелы добрые, ни ангелы добрых богов (как с полной ясностью это показывает их горделивая лживость), а суть злые демоны, требующие, чтобы жертвами мы чтили не единого и высочайшего Бога, а их самих, то где должны мы искать против них помощи, как не в едином Боге, Которому служат ангелы добрые, — ангелы, повелевающие служить жертвоприношениями не себе, а Богу, жертвой Которому мы должны быть и сами?
ГЛАВА XVII
Далее, данный в ангельских изречениях закон Божий, в котором велелось чтить религиозными установлениями единого Бога богов и воспрещалось почитание прочих богов, положен был в ковчеге, который был назван ковчегом завета. Этим названием давалось понять, что не Бога, Которого чтили всеми теми жертвоприношениями, заключал или содержал в себе этот ковчег, когда с места ковчега давались Его ответы и некоторые доступные чувствам человека знамения; но что отсюда изрекались заветы Его воли
О граде Божием_________________________________________________________477
А когда закон был написан на каменных скрижалях и положен, как я упомянул, в ковчег, который во время странствования по пустыне с должным благоговением носили священники вместе со скинией, называемой также скинией завета (Исх. XIII, 21), было новое знамение, состоявшее в том, что днем являлось облако, которое ночью светилось, как огонь. Когда это облако двигалось, двигался и стан, а когда оно останавливалось, останавливался и стан (Исх. ХЬ, 34). Кроме этих знамений, о которых я сказал, и голосов, которые слышались с места, где находился ковчег, в пользу этого закона свидетельствовали и другие великие чудеса. Так, когда при вступлении в обетованную землю завета его несли через Иордан, то река, остановившись в верхней части, дала возможность пройти по суше и ковчегу, и народу (Нав. III, 1). Затем стены города, который, по обычаю язычников почитая многих богов, встретил евреев враждебно, мгновенно пали, когда вокруг него обнесен был семь раз ковчег; хотя к стенам не прикасалась ни одна рука и их не разбивала ни одна стенобитная машина (Нав. VI, 19). После этого, когда евреи уже были в обетованной земле и тот же ковчег за их грехи был взят в плен врагами, взявшие его в плен поместили его с честью в храм наиболее почитаемого своего бога, и выйдя, заперли; но с наступлением утра нашли идола, которому молились, ниспровергнутым и обезображенным (I Цар. V, 1). Затем, смущенные чудесами и постыднейшим образом наказанные, они возвратили ковчег завета тому народу, у которого он был взят. И как возвратили! Они положили его на колесницу, впрягли в нее молодых коров, отлучив от них сосавших их телят, и дозволили им идти куда хотят, желая испытать этим силу Божию. И вот телицы, неуклонно направляя свой путь к евреям и не откликаясь на мычание голодных детенышей, сами привезли великую святыню к ее почитателям (I Цар. VI, 7).
Блаженный Августин_________________________________________________________478
Такие и подобные им чудеса были малыми для Бога, но великими для спасительного устрашения и научения смертных.
Мы хвалим философов, в особенности платоников, как державшихся по сравнению с другими более здравого образа мыслей, за то, что они, как я упоминал ранее, учили, что божественное провидение печется даже о земных и низменных предметах; они основывались при этом на гармонической красоте, замечаемой не только в телах животных, но даже и в растениях. Во сколько же раз очевиднее свидетельствуют о Божестве эти чудеса, которыми сопровождается проповедь о Нем? А эти чудеса подтверждают ту религию, которая запрещает приносить жертвы всему небесному, земному и преисподнему, но велит приносить их только единому Богу, Который один делает нас блаженными, любя нас и будучи любим нами, — Который, отводя определенные времена для жертвоприношений и предсказывая их изменения на лучшие через наилучшего Священника Своего, свидетельствует тем, что Он не желает этих жертв, а указывает ими на лучшие; и указывает не для того, чтобы этого рода почестями возвыситься Самому, а для того, чтобы, воспламенив огнем любви к Нему, возбудить нас к почитанию Его и к соединению с Ним, что составляет благо для нас, а не для Него.
ГЛАВА XVIII
Но, быть может, кто–нибудь скажет, что эти чудеса ложны, что их не было и что написанное о них — обман? Говорящий так, если он отрицает любую возможность верить относительно этого предмета каким бы то ни было книгам, может сказать и о богах вообще, что они не заботятся о смертном. Ибо почитать себя они заставили не чем иным, как именно силой чудесных действий, о которых рассказывает история язычников, боги которых в — состоянии
О граде Божием________________________________________________________ 479
были выказать себя скорее заслуживающими удивления, чем доказать свою полезность. Поэтому в настоящем своем сочинении, десятая книга которого находится теперь у нас под руками, мы поставили своей задачей опровергать не тех, которые отрицают всякую божественную силу или утверждают, что она не охраняет человеческих дел; но тех, которые нашему Богу, Творцу святого и славнейшего града, предпочитают своих богов, не зная, что Он–то и есть невидимый и непреложный Творец настоящего видимого и изменчивого мира и истиннейший Податель блаженной жизни, — блаженной не от того, что создано Им, а от Него самого.
Его истинный пророк говорит-. «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. 1ХХИ, 28). О конечном благе, к достижению которого должны быть направлены все усилия человека, идет речь у философов. Но пророк не говорит: «Благо для меня — иметь в изобилии богатства, возвышаться над другими пурпуром, скипетром и диадемой»; или, как не постыдились сказать некоторые из философов: «Благо для меня — телесное удовольствие»; не говорит даже, как гораздо лучше говорят лучшие из них: «Благо для меня — моя душевная добродетель». А говорит он: «Мне благо приближаться к Богу». Этими словами он учит о Том, Которому одному убеждали приносить жертвы святые ангелы Его, подтверждая свои слова чудесами. Поэтому и сам он стал жертвою Того, к Которому пламенел, охваченный умными огнем, и стремился святым желанием в невыразимые и бестелесные Его объятия. Если же почитатели многих богов (какими бы они своих богов ни представляли) верят на основании гражданской истории или магических и теургических книг, что их богами совершались чудеса, то какое же основание они имеют не верить нашим священным книгам относительно упомянутых чудес, когда им тем более нужно верить, чем выше Тот, Кому одному учат они приносить жертвы?
Блаженный Августин_____________________________________________________480
ГЛАВА XIX
Те же, которые полагают, что видимые жертвы подобают иным богам, а Ему, как невидимому, подобают невидимые, как большему — большие, как лучшему — лучшие, каковы суть движения чистого сердца и доброй воли, — те не знают, что жертвы первого рода — знаки жертв второго рода, как звуки слов — знаки вещей. Как молясь и славословя, мы обращаемся со словами к Тому, Кому приносим свои сердечные чувства, обозначаемые этими словами, так же точно, принося жертву, мы знаем, что видимую жертву должно приносить не кому иному, как Тому, невидимой жертвой Которому мы в своих сердцах должны быть сами. В этих случаях нам способствуют, сорадуются и помогают по возможности ангелы и все высшие и могущественнейшие по своей благости и благочестию силы. Но если бы мы захотели предложить нечто подобное им самим, они встретили бы это с неудовольствием; они все это положительно запрещают, когда посылаются к нам так, что мы чувствуем их присутствие. В священных книгах есть тому примеры. Некоторые думали было, что ангелам надлежит воздавать поклонением или жертвоприношением почести, подобающие Богу, но ангелы уговорили их не делать этого, а велели воздавать эту честь Тому, Кому одному считали ее приличной (Апок. XIX; XXII). Святым ангелам подражали в этом отношении и святые люди Божий. Так, Павел и Варнава, совершившие в Ликаонии некоторое чудо исцеления, приняты были там за богов и ликаонцы хотели было принести им жертвы; но они, отказавшись от этого со смиренным благочестием, проповедали ликаонцам Бога, в Которого веровали (Деян. XIV).
Гордость лживых духов требует себе этих почестей потому, что эти почести, как им известно, приличествуют истинному Богу. Не в трупном смраде, как говорит Порфирий и как полагают некоторые, находят они удовольствие, а в божеских почестях. Смрада весьма достаточно
О граде Божием_________________________________________________________481
для них всюду и, если бы они захотели его больше, могли бы найти себе сами. Следовательно, присваивающие себе божественное достоинство духи услаждаются не дымом от горения какого–нибудь тела, а душой молящегося, над которой, обольстив и подчинив ее себе, они господствуют, преграждая ей путь к истинному Богу и таким образом препятствуя человеку быть жертвою Богу, пока он приносит жертву кому–либо, кроме Бога.
ГЛАВА XX
Поэтому этот истинный Посредник, Который, приняв образ раба, сделался Посредником между Богом и людьми, человек Христос Иисус хотя в образе Бога и принимает жертву вместе с Отцом, с Которым Он — Бог единый, однако в образе раба предпочел скорее быть жертвой Сам, чем принимать ее, дабы и по этому поводу кто–нибудь не подумал, что жертва приличествует какой–нибудь твари. Таким образом, Он — и Священник, приносящий жертву, и в то же время Сам — приносимая Жертва. Повседневным таинством этого Он благоволил быть жертвоприношению Церкви, которая, будучи телом этой Главы, считает приносимой через Него саму себя. Ветхозаветные жертвы святых были многоразличными и разнообразными знаками этой истинной жертвы; она одна изображалась множеством их, как многими именами называется одна вещь, когда усиленно стараются обратить на нее внимание. Эта высочайшая и истинная жертва заменила собою все ложные жертвы.
ГЛАВА XXI
Но когда времена были таким образом установлены и предопределены, была дозволена власть и демонам — варварски враждовать против града Божия, возбуждая против
Блаженный Августин____________________________________________________ 482
него людей, над которыми они господствуют, и не только принимать жертвы от предлагающих и требовать от желающих, но и силой, путем преследования вымогать их от нежелающих; власть эта, однако же, оказалась не только неопасной для Церкви, но даже и полезной, восполняя число мучеников, которые представляют собой тем более славных и почетных граждан града Божия, чем мужественнее, даже до крови, противоборствуют греху бесчестья. Если бы это допускало церковное словоупотребление, мы назвали бы их более изящным именем: своими героями. Имя это взято от Юноны, которая по–гречески называется Гера, и потому какой–то из ее сыновей (уж и не вспомню, какой) в греческой мифологии был назван Героем; в мифе этом заключался якобы тот таинственный смысл, что Юноне отводился воздух (аег), где вместе с демонами помещались и герои, именем которых называют души умерших людей, совершивших при жизни нечто доблестное и славное. Но наши мученики, если бы, как я заметил, это допускало церковное словоупотребление, назывались бы героями не потому, что они имеют общение с демонами в воздухе, а потому, напротив, что победили этих демонов, т. е. эти воздушные власти, а в лице их и саму Юнону, которую, — что бы по их представлению она ни означала, — поэты во всяком случае не напрасно представляют враждебной добродетелям и завистливой к сильным мужам, жаждущим неба. Вергилий, впрочем, незадачливо отступает и преклоняется перед нею; так что хотя она и говорит у него: Эней побеждает меня'; но самому Энею Гелен дает якобы благочестивый совет, говоря:
О граде Божием________________________________________________________483
Юноне обет принеси и дары и, явивши покорность, Владычицу эту смиреньем скорее смиришь..*
На основании этих слов Порфирий, следуя, впрочем, не своему, а чужому мнению, говорит, что добрый бог или гений не входит в человека, если предварительно не бывает умилостивлен бог злой. Злые божества у них представляются как бы сильнее добрых, потому что злые, если их не умилостивить, препятствуют добрым оказывать помощь; так что добрые не могут быть полезными, если не хотят того злые, а злые, напротив, могут вредить так, что добрые не в состоянии противодействовать им. Не таков путь, указываемый истинной и истинно святой религией: не так побеждают Юнону, т. е. завистливые к добродетелям благочестивых воздушные власти, наши мученики. Наши герои, если бы можно было назвать их этим именем, преодолевают Геру (Юнону) не «дарами, являя покорность», а божественными добродетелями. И Сципиону было дано прозвание Африканского за то, что он победил Африку военной доблестью, а не за то, что он умилостивил врагов дарами, дабы получить от них пощаду.
ГЛАВА XXII
Исповедующие истинную религию люди Божий изгоняют враждебную и противную благочестию воздушную власть посредством заклинания, а не умилостивления; и побеждают искушения враждебной силы посредством молитвы, но молитвы не ей, а Богу. Она побеждает или подчиняет себе всякого не иначе, как общением во грехе. Потому и сама побеждается именем Того, Кто принял на Себя и представлял Собою человека без греха, чтобы в этом Священнике и в этой Жертве получалось отпущение грехов, т. е. через Посредника между
Блаженный Августин____________________________________________________ 484
Богом и людьми, человека Христа Иисуса, через Которого мы примиряемся с Богом по очищении от грехов. Ибо людей от Бога отделяют грехи, очищение от которых в настоящей жизни происходит не по нашей добродетели, а по божественному милосердию, по божественному снисхождению, а не по нашей власти. Да и сама добродетель, какова бы она ни была, хотя и называется нашей, подается нам божественной благостью. Мы много бы приписали себе в этой плоти, если бы наша жизнь к отделению ее не была делом милости. Для того и дарована нам Посредником благодать, чтобы, оскверненные плотью греха, мы очищались подобием плоти греха. Этой божественной благодатью, которою Бог явил к нам великое Свое милосердие, мы водимся и в настоящей жизни через веру, и в будущей достигаем полного совершенства через лицезрение самой непреложной Истины.
ГЛАВА XXIII
И Порфирий говорит, что божественными оракулами дан был ответ, что мы не очищаемся телегами солнца и луны; так что из этого–де, видно, что человек не может быть очищен телегами никаких богов. Чьи, в самом деле, телеты очищают, если не очищают телеты солнца и луны, которых считают в числе главных небесных богов? Тем же оракулом, говорит он далее, было сказано, что очищать могут начала, — сказано, вероятно, для того, чтобы, услышав, что телеты солнца и луны не очищают, не подумали, что очистительную силу имеют телеты какого–нибудь другого бога из толпы многих.
Мы знаем, о каких началах говорит этот платоник. Он говорит о Боге–Отце и Боге–Сыне, которого по–гречески называет умом (уо^), или мыслью, Отца; о Духе же Святом
О граде Божием_________________________________________________________485
он или не говорит ничего, или же говорит весьма туманно, потому что кого он подразумевает под средним между тем и другим, не понимаю. Если бы, рассуждая о трех главных субстанциях, он подразумевал, подобно Плотину, под третьей природу души, то, конечно, не назвал бы ее средним между тем и другим, т. е. средним между Отцом и Сыном. Ибо Плотин природу души ставил ниже ума Отца; а Порфирий, говоря о среднем, ставит его не ниже, а между ними. В этом случае он говорит, несомненно, о том, что мы называем Духом Святым, Духом не только Отца и Сына, но и их обоих, — говорит так, как думал или хотел (думать). Ведь философы выражаются языком свободным и в трудных для понимания предметах не боятся оскорблять слух благочестивых людей. Нам же следует говорить сообразно с правилом веры, чтобы произвольным употреблением слов не породить нечестивого мнения о тех предметах, которые ими обозначаются.
ГЛАВА XXIV
Итак, мы, когда ведем речь о Боге, не говорим, что существуют два или три начала, как равно непозволительно говорить, что существуют два или три Бога; хотя, когда ведем речь о ком–либо одном, об Отце или Сыне, или Духе Святом, то признаем, что каждый из них в частности есть Бог, но вместе с тем мы не говорим, как говорят еретики–савеллиане, будто Отец — то же, что и Сын, Дух Святой — то же, что Отец и Сын; а говорим, что Отец есть Отец Сына, Сын — Сын Отца, Дух Святой — Дух Отца и Сына, но ни Отец и ни Сын. Итак, верно, что человек может получить очищение только от Начала, хотя у них говорится о началах во множественном числе. Но Порфирий, бывший в порабощении у завистливых властей, за которых стыдился, но которых не осмеливался по рицать открыто,
Блаженный Августин_____________________________________________________486
не хотел понять, что это Начало есть Господь Христос, воплощением Которого мы очищаемся. Он презрел Его за ту плоть, которую Господь принял на Себя ради очистительной за нас жертвы; не понял этого великого таинства по причине той гордости, которую разрушил своим уничижением истинный и благой Посредник, явивший Себя для смертных в той смертности, неимением которой наиболее гордились злые и ложные посредники и несчастным людям обещали обманчивую помощь, как бессмертные — смертным.
Итак, благой и истинный Посредник показал, что зло есть грех, а не субстанция или природа плоти, потому что ее вместе с человеческой душой можно было и принять, и носить, и сложить в смерти, и изменить на лучшее в воскресении; что и самой смерти, хотя она была наказанием за грех, но которую, будучи безгрешным, претерпел Он за наши грехи, не следует избегать в состоянии греха, а напротив, коль скоро представляется случай, переносить ее за правду. Потому Он и смог разрешить наши грехи своей смертью, что умер, и умер не за Свой грех. Порфи–рий не узнал в Нем Начала, потому что в таком случае он узнал бы, что Он — Начало очистительное. Не плоть или душа человеческая это начало, а Слово, Которым сотворено все. Плоть очищает себя не через себя, а через Слово, Которым она воспринята, когда «Слово стало плотию и обитало с нами» (Иоан. I, 14). Ибо, говоря о таинственном вкушении Своей плоти, Спаситель, — когда не понявшие Его слов и оскорбленные ими удалились от Него, говоря: «Какие странные слова! кто может это слушать?» (Иоан. VI, 60), — отвечал оставшимся: «Дух животворит, плоть не пользует ни мало» (Иоан. VI, 63).
Таким образом, Начало, приняв душу и плоть, очищает плоть и душу верующих. Поэтому на вопрос иудеев, кто Он, Спаситель отвечал, что Он — «от начала Сущий» (Иоан. VIII, 25). Будучи плотскими, слабыми, подверженными греху и омраченными неведением, мы,
О граде Божием_________________________________________________________487
конечно, не могли бы понять этого, если бы не были очищены и исцелены Им; потому что мы и были, и вместе с тем — не были. Были людьми, но не были праведными. В воплощении же Его была человеческая природа, но она была праведная, а не грешная. В этом и состояло посредничество, которым простерта была рука помощи падшим и лежащим; это — семя, вмещение ангелами (Гал. III, 19), в изречениях которых был дан закон, повелевавший почитать единого Бога, и обетования будущего пришествия этого Посредника.
ГЛАВА XXV
Через веру в это таинство могли очищаться благочестивой жизнью и древние праведники, жившие не только раньше того времени, когда еврейскому народу был дан закон (так как их не оставляли Бог и ангелы), но и во времена самого закона; хотя и казалось, что под видом духовных предметов они имеют плотские обетования, почему и завет тот называется Ветхим. Были в то время и пророки, предрекавшие то же самое обетование, какое и ангелы; из их числа был и тот, которого столь возвышенное и божественное изречение о конечном человеческом благе я привел несколько выше: «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. ЬХХИ, 28). В псалме его достаточно ясно указывается различие между двумя заветами, Ветхим и Новым. Видя, что плотские и земные обетования в изобилии изливаются на нечестивых, пророк говорит, что ноги его едва двигались, стопы чуть не спотыкались, точно бы он служил Богу напрасно, так как презирающие Его наслаждаются всем тем, чего он желал от Него; и он трудился над исследованием этого предмета, желая понять, почему это так, пока не вошел в святилище Бога и не уразумел последней судьбы тех, которые
Блаженный Августин_____________________________________________________488
казались ему, заблуждавшемуся, счастливыми. Тогда он понял, что то, чем превозносились они, ниспровергнуто, исчезло и погибло из–за их безнравственности и что весь блеск их временного счастья оказался сном пробуждающегося, который находит внезапно разрушенными виденные им во сне обманчивые радости. И так как на этой земле, в земном граде, они казались великими, он говорит: «Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их» (Пс. 1ХХ11,20). Но что ему полезно было искать даже и земного только у Бога, во власти Которого находится все, это он показывает, говоря: «Как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою» (Пс. ЬХХИ, 22, 23). «Как скот», говорит, неразумный, т. е. я должен был от Тебя желать того, что не могло быть общим у меня с нечестивыми, а не того, чем в изобилии пользуются они и при виде чего я думал, что служил Тебе напрасно: так как все это имели и они, не хотевшие служить Тебе. Однако «я всегда с Тобою», потому что в желании даже и этих предметов не искал иных богов.
И потому говорится далее: «Ты держишь меня за правую руку; Ты руководишь меня советом Твоим» (Пс. 1ХХИ, 23,24), т. е. все, чем изобиловали нечестивые и при виде чего он едва было не пал, — все то относится как бы к левой руке. «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле» (Пс. ЬХХП, 25). Он укоряет самого себя и выражает справедливое недовольство собою, потому что имея на небе, как понял впоследствии, столь великое благо, искал на земле от своего Бога преходящее счастье, скорогибнущее и, так сказать, непрочное. «Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего» (Пс. ООШ, 26); изнемогает, конечно, добром для низшего ради высшего. Почему в другом псалме говорится: «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни» (Пс. ЬХХХШ, У); и еще в другом: «Истаевает душа моя о спасении Твоем» (СХУШ, 81). Однако же, хотя он говорит о том
О граде Божием_________________________________________________________489
и о другой, т. е. и о сердце, и о плоти, не прибавляет: «Бог твердыня сердца и плоти», а говорит: «Бог твердыня сердца моего»; ибо через сердце очищается и плоть. Поэтому Господь говорит: «Очисти прежде внутренность… чтобы чиста была и внешность» (Мф. XXIII, 26). Затем своей частью пророк называет самого Бога, — не что–нибудь, происходящее от Него, а Его самого: «Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек», так как из всего, что избирают для себя люди, он предпочел избрать самого Бога. «Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя» (Пс. ЬХХИ, 27), т. е. всякого, желающего отдаться разврату со многими богами. Отсюда вытекает тот вывод, ради которого представлялась необходимость в прочих изречениях этого псалма: «А мне благо приближаться к Богу!», т. е. не ходить далеко, не развратничать со многими. Но прилепиться к Нему вполне будет возможно только тогда, когда станет свободным все, что должно быть свободным. В настоящее же время возможно лишь то, о чем говорится далее: «На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои» (Пс. 1ХХП, 28).
«Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. VIII, 24, 25). Пребывая в этой надежде, мы должны делать то, о чем говорится далее, и быть в своем роде ангелами Божиими, т. е. вестниками, воспевающими волю Божию и славословящими славу и благодать Божию. Сказав: «На Господа Бога я возложил упование мое», пророк прибавляет: «Чтобы возвещать все дела Твои». Вот это и есть славнейший град Божий. Он знает и почитает единого Бога. Об этом граде возвещали святые ангелы, приглашавшие в общество его и нас и желавшие, чтобы и мы были в нем его гражданами. Эти ангелы желали, чтобы мы почитали не их самих, как святых богов, а вместе с ними — их и нашего Бога, и не им приносили
Блаженный Августин_____________________________________________________490
жертвы, а вместе с ними были жертвой Богу. Итак, для всякого, рассуждающего об этом предмете без лукавого упрямства несомненно, что все бессмертно–блаженные существа, которые не завидуют нам (ибо если бы завидовали, то не были бы и блаженными), а напротив — любят нас, чтобы сделать и нас блаженными, гораздо более покровительствуют и помогают нам, когда мы вместе с ними чтим единого Бога Отца, и Сына, и Святого Духа, чем если бы чтили жертвами их самих.
ГЛАВА XXVI
Не знаю почему, но Порфирий, как мне кажется, стыдился своих друзей–теургов. Ибо каков бы ни был его образ мыслей об известном предмете, он не защищал его с надлежащей искренностью против многобожия. Между прочим, он говорит, что есть одни ангелы, которые, нисходя к теургам, возвещают им божественное; и есть другие, которые открывают на земле то, что относится к Отцу: Его высоту и глубину. Вероятное ли в таком случае дело, чтобы те ангелы, служение которых состоит в объявлении воли Отца, желали, чтобы мы подчинялись не Тому, волю Которого они нам возвещают? На этот раз и сам платоник дает превосходный совет: скорее подражать им, чем их призывать. Итак, мы не должны бояться, что оскорбим бессмертные и блаженные существа, подчиненные единому Богу, не принося им жертв. Ибо зная, что их следует приносить только единому истинному Богу, единением с Которым они блаженны сами, они, без сомнения, не желают, чтобы мы приносили их им, посредством ли какого–либо символического действия, или в виде самого обозначаемого таинственным действием. Противоположное этому желание прилично только высокомерию гордых и злополучных демонов, с которыми не имеет
О граде Божием_________________________________________________________491
ничего общего благочестие ангелов, покорных Богу и блаженных не от чего другого, как от единения с Ним. Для достижения этого блага и нами нужно, чтобы они помогали нам с искренним благорасположением — не настаивали, чтобы мы подчинялись им, и возвещали бы нам о Том, под властью Кого мы мирно жили бы в общении с ними.
Что же ты, философ, боишься возвысить свободный голос против завистливых властей в пользу истинных добродетелей и даров истинного Бога? Ты отличил ангелов, возвещающих волю Отца, от ангелов, которые нисходят к теургам, привлекаемые каким–то, уж не знаю каким, искусством. К чему же ты почитаешь последних в такой степени, что говоришь, что они возвещают божественное? О чем божественном возвещают те, которые не возвещают воли Отца? Ведь именно их завистливый человек и обязал священными заклинаниями не помогать очищению души; так что добродетельный и желавший душевного очищения не мог, как говоришь ты, разрешить их от этого обязательства и возвратить им власть. Неужели ты еще сомневаешься в том, что это злые демоны? Или, может быть, ты притворяешься, что не знаешь, из опасения оскорбить теургов, от которых ты узнал эти вредные и глупые вещи, как великое благодеяние? Неужели осмеливаешься еще эту завистливую, не скажу власть, а заразу, не госпожу, но напротив, как и сам признаешь, рабу завистливых возвышать сквозь воздушное пространство на небо и помещать даже между звездными вашими богами, бесславя эти самые звезды подобным позором?
ГЛАВА XXVII
Гораздо человечнее и сноснее заблуждался твой единоверец, платоник Апулей. Он хотя и почитал демонов, занимающих место ниже луны, но вольно или
Блаженный Августин__________________________________________________________492
невольно должен был признать, что только эти демоны подвержены страстям и волнениям ума; богов же высших и небесных, обитающих в эфирных пространствах, видимых ли то, блистающих своим светом, каковы: солнце, луна и прочие небесные светила, или тех, которых признавал невидимыми, по возможности представлял чуждыми всяких страстных волнений. Не от Платона, а от халдейских учителей научился ты отводить человеческим порокам эфирные или огненные высоты мира и небесные тверди, чтобы представить возможным, что ваши боги изрекали теургам такие божественные вещи. Себя, однако же, ты ставишь выше этих вещей в силу своей умной жизни. Для тебя–де, как философа, теургические очищения не представляются необходимыми; но ты вводишь их для других. Чтобы отплатить, так сказать, своим учителям, ты тех, которые не могут философствовать, уговариваешь на то, что сам, как человек способный к более возвышенному, признаешь бесполезным; чтобы все, чуждые философской добродетели, — добродетели крайне трудной и доступной немногим, — полагаясь на твой авторитет, искали теургов, от которых очищались бы если не в умной, то в чувствительной части души; а так как число таких, для которых философствование — дело трудное, весьма велико, то большинство вынуждено было идти к тайным и недозволенным твоим учителям, а не в платоновские школы. Что очищенные посредством теургического искусства в духовной части души идут не к Отцу, а будут обитать в эфирных странах среди эфирных богов, это наобещали тебе нечистейшие демоны, выдающие себя за богов, проповедником и ангелом которых ты являешься.
Этого не слышит то множество людей, для освобождения которых от власти демонов явился Христос. В Нем они получают милосерднейшее очищение и ума, и души, и тела. Ибо для того Он принял на Себя всего человека, кроме греха, чтобы спасти от язвы
О граде Божием_________________________________________________________493
грехов все, из чего состоит человек. О, если бы и ты познал Его и полное свое исцеление доверил Ему, а не своей человеческой, немощной и слабой добродетели и опаснейшему любопытству! Он, Которого, как пишешь и ты, признавали святым и бессмертным и ваши оракулы, не обманул бы тебя. О Нем, правда, поэтически, под вымышленным образом другого лица, но довольно верно говорит и знаменитейший поэт, если слова его относятся именно к Нему: Под руководством твоим преступлений последствия, Если какие остались, уйдут, искупленные, Землю навеки очистив от страха всегдашнего'.
Поэт разумеет, без сомнения, если не преступления, то последствия преступлений, которые по причине немощей настоящей жизни могут оставаться даже и в людях, сделавших большие успехи в добродетели, и которые исцеляются только тем Спасителем, о Коем говорит этот стих. В четвертом стихе той же эклогии Вергилий показывает, что сказал это не от самого себя, говоря: Время исполнилось: срок подошел прориианъя кумейского.
Отсюда видно, что слова его — пророчество кумейской сивиллы. Но теурги, или лучше — демоны, принимающие вид и образ богов, скорее оскверняют, чем очищают человеческую душу лживостью призраков и лукавой обманчивостью пустых образов. Ибо каким образом могут очистить человеческую душу те, у кого собственная нечиста? Если бы они могли это, их не связали бы заклинания завистливого человека и от благодеяния, дарования которого от них ожидали, они не удерживались бы страхом или
Блаженный Августин____________________________________________________ 494
не отказывались бы из зависти. Достаточно, впрочем, твоих слов, что теургические очищения не могут очистить души разумной, т. е. нашего ума, а душу чувственную, т. е. низшую по сравнению с умом часть души, хотя и могут, по твоим словам, очищать, не могут, однако, как сознаешься ты сам, сделать вечной и блаженной. Христос же обещает вечную жизнь; потому и стремится к Нему мир вопреки вашей досаде, к вашему удивлению и изумлению. Что пользы, что ты не отрицаешь, что теургическая наука вводит в заблуждение, что многих она обманывает слепыми и неразумными верованиями и что прибегать к началам и ангелам совершением обрядов и молитвой — очевиднейшее заблуждение; если затем, как бы из опасения, чтобы твой труд изучения этой науки не показался потерянным, направляешь людей к теургам, чтобы с помощью последних очищали чувственную душу те, которые не живут душой умной?
ГЛАВА XXVIII
Итак, ты вводишь людей в заблуждение. Ты не стыдишься такого великого зла, хотя и выдаешь себя за любителя мудрости. Если бы ты любил ее истинно и как следует, ты познал бы Христа, Божию силу и Божию премудрость и не устранился бы от Его спасительного уничижения, кичась гордостью суетного знания. Сознаешься, впрочем, и ты, что чувственная душа может очищаться добродетелью воздержания и помимо теургического искусства и телетов, изучением которых ты занимался, как оказывается, напрасно. Иногда утверждаешь даже, что телеты не возвышают души после смерти; так что и той части души, которую мы называем чувственной, они, оказывается, не приносят никакой пользы. Тем не менее, ты толкуешь и твердишь о них на разные лады с той, по моему мнению, целью, чтобы показаться человеком
О граде Божием_________________________________________________________495
якобы опытным в подобных вещах, угодить любопытствующим относительно этих непозволительных искусств и возбудить к ним любопытство у других. Но хорошо уже то, что ты говоришь, что этого искусства следует остерегаться как потому, что оно преследуется законом, так и потому, что оно опасно само по себе. О, если бы несчастные услышали от тебя только эти слова и затем или бежали прочь от этих искусств, или совершенно к ним не приступали, чтобы не увлечься ими! Говоришь, наконец, что неведение и многие пороки могут быть очищены не через телеты, а только через гохгрисоу уеу, т. е. мыслью, или умом, Отца, который знает Отчую волю. Но ты не веришь, что этот ум есть Христос: ты презираешь Его за тело, принятое от женщины, и за позор креста; т. е. считаешь себя способным, презрев и отвергнув низменное, уловить высочайшую мудрость в небесных высотах.
Между тем, Христос исполняет то, что предрекли о Нем святые пророки: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» (I Кор. I, 19; Исх. XXIX, 14). Губит и отвергает Он в них не Свою премудрость, не премудрость, которую даровал Он, а ту, которую присваивают себе люди, не имеющие Его премудрости. Поэтому, приведя упомянутое пророческое свидетельство, апостол говорит: «Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (I Кор. I, 20—25). Это–то немудрое и немощное и презирают люди мнимо–мудрые
Блаженный Августин_____________________________________________________496
и крепкие добродетелью. Но оно — благодать Божия, которая исцеляет немощных, не гордящихся своим ложным блаженством, а напротив, смиренно сознающих свое истинное злополучие.
ГЛАВА XXIX
Ты говоришь об Отце и Его Сыне, Которого называешь мыслью, или умом, Отца, и о среднем между тем и другим, разумея под этим, по нашему мнению, Святого Духа, и по вашему обыкновению называешь их тремя богами. Хотя вы употребляете и на этот раз выражения неточные, однако же некоторым образом, как бы сквозь тень легкого призрака, видите, где следует искать точку опоры; но не хотите признать воплощения неизменяемого Сына Божия, Которое спасает нас, дабы мы могли достигнуть того, во что веруем или что до некоторой степени понимаем. Да как бы там ни было, хотя бы издали, хотя бы и затуманенным взором вы видите то отечество, в котором надлежит водвориться, но не вступаете на тот путь, который ведет туда. Впрочем, ты признаешь благодать, когда говоришь, что немногим дано постигать Бога путем умной добродетели. Не говоришь «немногим было угодно» или «немногие хотели»; а говоришь «немногим дано», чем признаешь, несомненно, божественную благодать и недостаточность для этого человеческих сил. Ты говоришь о ней даже яснее, употребляя само это слово, когда, следуя мнению Платона, утверждаешь и сам, что в настоящей жизни человек ни в коем случае не достигает совершенства в мудрости, но что все, чего живущим согласно с умом недостает здесь, божественное провидение и благодать может восполнить в жизни будущей.
О, если бы ты познал благодать Божию через Иисуса Христа, Господа нашего и Его воплощение, в котором Он принял на себя душу и тело человека, — ты
О граде Божием_________________________________________________________497
мог бы видеть величайший пример этой благодати! Но что я делаю? Я знаю, что напрасно трачу слова, говоря с мертвым. Но это лишь насколько касается тебя; насколько же это касается тех, которые высоко тебя ценят и уважают или из некоторой любви к мудрости, или из любопытства к искусствам, которых тебе не следовало изучать, и с которыми, обращаясь к тебе, я по преимуществу веду речь, очень может быть и не напрасно. Благодать Божия лучше и не могла высказаться, как высказалась в том, что единородный Сын Божий, непреложно в Себе пребывающий, облекся в человека и даровал нам упование Своей любви при посредстве человека, дабы через Него люди приходили к Тому, Который был столь далек от них, как бессмертный от смертных, блаженный от злополучных. И поскольку Он от природы вложил в нас желание быть блаженными и бессмертными, то, пребывая блаженным и приняв на себя смертного, чтобы дать нам то, что мы любим, страданиями Своими научил нас презирать то, чего мы боимся.
Но чтобы эта истина могла удовлетворить вас, нужно смирение; а склонить вас к этому смирению весьма трудно. Что, в самом деле, невероятного, в особенности для вас, держащихся таких воззрений, которые сами по себе должны были бы приводить вас к подобной вере, — что, говорю, невероятного, если проповедуется, что Бог принял душу и тело человека? Ведь приписываете же вы умной душе, которая во всяком случае есть душа человеческая, столько, что утверждаете, будто она может быть одинаковой по субстанции с тем умом Отца, который вы признаете Сыном Божиим? Что же, следовательно, невероятного в том, если какая–нибудь одна умная душа была Им воспринята некоторым неизреченным и необыкновенным образом для спасения многих? А что тело соединимо с душой, — чтобы получился полный человек, — это мы знаем из опыта нашей собственной природы. Не будь явление это самым обыкновенным,
Блаженный Августин_____________________________________________________498
оно было бы, без сомнения, еще более невероятным. Ведь гораздо легче поверить тому, что соединяется хотя и человеческое с божественным и изменчивое с неизменяемым, но, во всяком случае, духовное с духовным, или, как вы обыкновенно выражаетесь, бестелесное с бестелесным, чем тому, что тело соединяется с бестелесным.
Или, может быть, камнем преткновения для вас служит необычное рождение тела от девы? Но что Чудесный рожден чудесно, это не только не должно' было останавливать вас, а, скорее, должно было вести к принятию христианства. Или вас озадачивает то, что Он вознес на небо тело, которое оставил после смерти и изменил на лучшее воскресением, сделав его нетленным и бессмертным? Быть может, вы отказываетесь этому верить потому, что Порфирий в книгах «О возвращении души», из которых приведены мною многие цитаты, весьма часто советует избегать всякого тела, чтобы душа могла пребывать блаженной с Богом? Но вам скорее следовало бы исправить в этом пункте самого Порфирия, особенно из–за тех невероятных представлений, которые вы имеете вместе с ним о душе настоящего видимого мира, этой столь необъятной телесной громады. Вслед за Платоном вы называете этот мир живым существом — существом блаженным и даже вечным. Каким же образом этот мир никогда не разрешится от тела и никогда не перестанет быть блаженным, если для блаженства души требуется избегать всякого тела? Равным образом вы не только признаете в своих книгах солнце и прочие светила телами, — в чем не преминут с вами согласиться и сказать то же самое и все люди, — но на основании высшего, как вы полагаете, знания, утверждаете даже, что они — существа живые, блаженные и вечные вместе с этими телами.
Что же значит, что когда внушается вам христианская вера, вы забываете тогда или притворяетесь
О граде Божием_________________________________________________________499
незнающими того, о чем рассуждаете и чему обыкновенно учите? Почему из–за своих мнений, которые вы сами же опровергаете, вы не хотите быть христианами, как не потому, что Христос явился в уничижении, а вы горды? Какими будут тела святых в воскресении, вопрос этот гораздо тщательнее может быть обсужден людьми, глубоко знающими священное Писание; мы нисколько не сомневаемся, однако же, что они будут вечными, и будут такими, каким было и тело Христово в Его воскресении. Но какими бы эти тела ни были, коль скоро проповедуется, что они будут нетленными, бессмертными и ничем не мешающими тому созерцанию души, которым она устремляется к Богу; коль скоро и сами вы говорите, что в небесах существуют бессмертные тела бессмертно–блаженных, то почему вы думаете (а думаете вы так, чтобы казаться людьми, избегающими христианской веры якобы на разумном основании), что всякое тело должно исчезнуть, чтобы мы были блаженными, если не потому, что Христос — повторяю опять — явился в смирении, а вы горды?
Быть может, вы стыдитесь исправиться? И ~т> опять–таки порок гордых. Ученым–де людям стыдно из учеников Платона сделаться учениками Христа, Который своим Духом научил рыбака рассуждать и говорить так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан. I, 1—5). Один платоник, как слышали мы часто от святого старца Симплициана, бывшего впоследствии епископом медиоланской церкви, говорил, что это начало святого Евангелия, носящего название «Евангелие от Иоанна», должно бы быть начертано золотыми буквами и выставлено во всех церквях на самых видных местах. Но на взгляд гордых, этот Бог и Учитель потому и не имеет цены,
Блаженный Августин_____________________________________________________500
что «Слово стало плотию и обитало с нами»; так что для этих несчастных людей мало того, что они болеют, — они самой болезнью своей еще и гордятся, и стыдятся врачевания, от которого могли бы выздороветь Так делают они не для того, чтобы подняться, а чтобы, падая, еще сильнее разбиться.
ГЛАВА XXX
Если исправлять что–либо после Платона представляется вам делом недостойным, то зачем исправил кое–что, к тому же и немало, сам Порфирий? Известно, что, по мнению Платона, души людей после смерти возвращаются даже в тела животных. Этого мнения держался и учитель Порфирия Плотин; но Порфирию оно совершенно справедливо не понравилось. Он, со своей стороны, полагал, что души людей входят в тела людей же, но не в свои, которые они оставили, а в другие, новые. Ему казалось стыдным верить, что мать, превращенная в мула, может, пожалуй, возить на себе сына; но не казалось стыдным думать, что мать, превращенная в девицу, может быть, пожалуй, женой сына. Не гораздо ли благочестивее верить тому, чему учили святые и нелживые ангелы, о чем говорили пророки по вдохновению Духа Божия, что проповедовал Тот, о Котором, как о грядущем Спасителе, предсказывали предпосланные вестники, и чему учили посланные Им апостолы, наполнившие Евангелием весь мир? Не гораздо ли, говорю, благочестивее верить тому, что души людей возвращаются в свои собственные тела, чем тому, что они возвращаются в тела совершенно иные?
Впрочем, Порфирий, как я сказал, в значительной степени исправил это мнение: он думал, что людские души могут входить только в людей; звериные же тюрьмы для них он разрушил и говорил даже, что Бог для того дал миру душу, чтобы, познавая зло материи,
О граде Божием_________________________________________________________501
она стремилась обратно к Отцу и никогда уже не подпадала оскверняющему соприкосновению с этим злом. Хотя в этом отношении он рассуждает и не так, как следует, потому что душа дана телу скорее для того, чтобы делать добро, а зло она не узнала бы, если бы его не делала; тем не менее, он исправил мнение других платоников в том немаловажном отношении, что признал, что душа, очищенная от всякого зла и пребывающая с Отцом, никогда уже более не испытает зла. Этим мнением он совершенно устранил другое, считающееся по преимуществу платоновским, а именно: будто мертвые являются постоянно из живых, а живые — из мертвых; и показал ложность того, что, следуя Платону, говорит Вергилий, будто очищенные души, будучи посланы в елисейские поля (именем которых в мифологии означаются радости блаженных), призываются к реке Лете для того, чтобы получить там забвение прошлого: Лишенные памяти видят небесный свод сызнова И снова желать начинают в тела возвратиться».
Порфирию справедливо это не нравилось. И в самом деле, глупо верить, будто в той жизни, которая не могла бы быть и блаженной, если бы не была вечной, души желают мерзости тленных тел и возвращаются в них оттуда, как будто высшее очищение производит то действие, что душа стремится к нечистоте! Ибо если совершенное очищение состоит в том, что души забывают о всяком зле, а забвение зла производит желание тел, в которых душа могла бы снова предаваться злу: в таком случае высшее счастье будет, очевидно, причиной несчастья, совершенство мудрости — причиной глупости и высшая чистота — причиной нечистоты. И в действительности душа не будет блаженной там, где, пока она там будет,
Блаженный Августин_____________________________________________________502
нужно обманывать ее, чтобы она была блаженной. Она не будет блаженной, если не будет уверенной в своем блаженстве. А чтобы она была уверенной, она должна будет иметь ложное убеждение, что вечно будет блаженной; потому что некогда она снова будет несчастной. А для кого ложь будет источником радости, каким образом для того возможна радость истинная? Порфирий принял это во внимание и говорил, что очищенная душа стремится к Отцу, чтобы никогда уже не подпадать под оскверняющее соприкосновение со злом.
Итак, некоторые из платоников ложно полагают, будто необходим этот круг, по которому проходят и снова к тому же возвращаются те же самые. Да если бы это было и так, какая была бы польза от этого знания? Разве уж не осмелятся ли платоники ставить себя выше нас на том основании, что мы еще в настоящей жизни не знаем того, чего они, чистейшие и мудрейшие, не будут знать в будущей, лучшей жизни, и будут блаженными вследствие ложного убеждения? Если говорить так значит говорить величайшую нелепость и глупость, то мнение Порфирия заслуживает, конечно, предпочтения по сравнению с мнением тех, которые предполагают кругообращения душ с блаженством и злополучием, вечно сменяющими одно другое. А если это так, то в лице Порфирия мы имеем платоника, который противоречит Платону к лучшему: он усмотрел то, чего не видел тот, и не уклонился от внесения поправок после такого учителя, но истину поставил выше человека.
ГЛАВА XXXI
Итак, почему бы нам относительно предметов, исследовать которые мы не в состоянии при помощи человеческого разума, не верить скорее Божеству, Которое и саму душу называет не совечною Богу, а сотворенною, которой прежде не было? Если платоники не хотят этому
О граде Божием_________________________________________________________503
верить, то на том, по их мнению, достаточном основании, что не бывшее вечным прежде не может сделаться вечным после. Хотя Платон весьма ясно говорит и о мире, и о сотворенных Богом в мире богах, что они начали быть и имеют начало; однако утверждает, что они не будут иметь конца, а по могущественнейшей воле Демиурга пребудут вечными. Но они решили понимать это в том смысле, что в данном–де случае понимается начало не во времени, а в преемстве. «Если бы, — говорят они, — нога от вечности стояла на песке, то от вечности был бы под нею и след; тем не менее, никто не усомнился бы, что след сделан ногою и что ни один из этих двух предметов не был раньше другого; таким образом, — прибавляют они, — и мир, и созданные в нем боги могли существовать вечно при вечном существовании сотворившего их, и в то же время быть сотворенными». Но если душа существовала вечно, не следует ли сказать, что вечно существовало и ее несчастье? Если же нечто, чего от вечности в ней не было, начало существовать во времени, то почему же не могло случиться так, что начала существовать во времени и сама она, хотя прежде ее и не было? С другой стороны, блаженство ее, имеющее быть после испытания зла более надежным и, как сам же он признается, бесконечным, несомненно началось во времени; несмотря на это, оно будет существовать всегда, хотя прежде его и не было.
Таким образом, разрушается вся та аргументация, на основании которой они думают, что нет ничего, что не могло бы быть бесконечным по времени, кроме того, что не имеет начала во времени. Оказалось, что есть блаженство души, которое, имея начало во времени, конца во времени иметь не будет. Таким образом, человеческая немощь должна уступить божественному авторитету; и мы должны относительно истинного благочестия верить тем блаженным и бессмертным существам, которые не требуют себе почитания,
Блаженный Августин_____________________________________________________504
приличествующего, как они знают, их Богу, Который и для нас — Бог, и велят, чтобы жертвы мы приносили только Тому, жертвой Кому вместе с ними должны быть и мы (как часто я говорил и буду говорить еще). Этой жертвой мы должны быть Ему через того Священника, Который, приняв на себя человека и милостиво согласившись быть в нем священником, удостоил сделаться за нас жертвой даже до смерти.
ГЛАВА XXXII
Такова религия, которая представляет собой всеобщий путь к душевному спасению; так как ни в одной религии, кроме этой, его получить нельзя. Это, так сказать, путь царский, который один ведет к тому царству, что не на временной поверхности колеблется, а утверждено на незыблемом основании вечности. Когда же Порфирий в конце первой книги «О возвращении души» говорит, что еще не образовалось никакой философской школы, которая представляла бы собой общий путь к спасению души, и что сведений об этом пути он, основательно изучив историю, не получил ни из какой истинной философии: ни из обычаев и учения индийцев, ни из посвящений халдеев, ни из другого какого–либо источника, то этим он признает, что какой–то путь существует, только он еще не пришел к его познанию. Таким образом, его не удовлетворило то, чему относительно спасения души он старался научиться с таким усердием и что, как ему казалось, он узнал и усвоил. Он чувствовал, что ему недостает еще какого–то высшего авторитета, которому он должен был бы следовать в таком важном деле. А когда он говорил, что ни из какой истинной философии он не узнал еще такой доктрины, которая содержала бы всеобщий путь к душевному спасению, то этим, по моему мнению,
О граде Божием_________________________________________________________505
достаточно показал, что или та философия, которой он был последователем, не есть истинная философия, или она не содержит в себе такого пути.
Да и каким образом она может быть истинной, если не содержит в себе этого пути? Ибо какой иной всеобщий путь существует к спасению души, кроме того, на котором спасаются все души и помимо которого не спасается ни одна душа? А когда он говорит: «ни из обычаев и учения индийцев, ни из посвящений халдеев, ни из другого какого–либо источника», то яснейшим образом показывает, что ни в том, чему научился он у индийцев, ни в том, что узнал от халдеев, такого всеобщего пути к спасению души не содержится; и не в состоянии был скрыть, что заимствовал у халдеев те божественные изречения, о которых упоминает постоянно. Какой же путь подразумевает он под всеобщим путем к спасению души, который еще не получил посредством исторического изучения ни из какой истиннейшей философии и ни из каких учений упомянутых народов, которые считаются великими и как бы божественными: так как у них по преимуществу было развито любопытство к познанию и почитанию некоторых ангелов? Какой это всеобщий путь, как не тот, который был указан свыше не каждому народу как путь особенный, а всем народам как путь общий?
А что такой путь действительно существует, в этом не сомневался этот одаренный недюжинными способностями человек. Он верил, что божественное провидение не могло оставить человеческий род без такого всеобщего пути к душевному спасению. Он говорил, что путь такой есть, но что это столь благое и великое пособие им еще не найдено, еще не познано. И не удивительно. Порфирий жил еще в такое время, когда на этот всеобщий путь к спасению души, который есть не что иное, как христианская религия, попущено было нападать почитателям идолов и демонов и земным царям для увеличени
Блаженный Августин_____________________________________________________506
числа и увековечения памяти мучеников, т. е. свидетелей истины, показавших, что за благочестивую веру и ради доказательства истины надлежит терпеть всякое телесное зло*.
Порфирий видел это и полагал, что вследствие такого рода преследований путь этот скоро погибнет и что, следовательно, он не есть всеобщий путь к душевному спасению; он не понимал, что те страдания, которые поражали его и которым он сам опасался подвергнуться в случае избрания этого пути, служат скорее подтверждением и сильнейшим свидетельством в его пользу.
Итак, вот этот всеобщий, указанный божественным милосердием всем народам путь к спасению человеческой души. Для некоторых он уже открылся, для некоторых же откроется впоследствии. И не надлежало, и не будет необходимости сказать ему: «Почему только теперь? Почему так поздно?» Ибо для человеческого ума непостижимы пути Открывающего. Это сознавал и Порфирий, когда говорил, что этот дар Божий еще не получен и что он не имел еще о нем сведений. Он не считал возможным сомневаться в действительности его только потому, что не уверовал в него или не узнал его. Итак, говорю, вот этот всеобщий путь к душевному спасению, о котором верный Авраам получил божественное обетование: «Благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. XXII, 18). Хотя он был родом халдей, но чтобы он мог получить такого рода обетования и чтобы от него распространилось семя, преподанное «чрез Ангелов, рукою посредника» (Гал. III, 19), в котором заключается этот всеобщий, данный всем народам путь ко спасению души, ему велено было оставить свою землю, свой род и дом отца своего. Освободившись, таким образом, от халдейских суеверий, ' Порфирий жил при Диоклетиане, во времена жестоких преследований христиан.
О граде Божием_________________________________________________________507
он стал потом почитателем единого истинного Бога и непреложно уверовал в Его обетования. Вот тот небесный путь, о котором в святом пророчестве сказано: «Боже! будь милостив к нам и благослови нас; освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое» (Пс. ЪХУ1, 2, 3).
Поэтому гораздо позднее, по принятии плоти от семени Авраама, сам Спаситель говорит о Себе: «Я семь путь и истина и жизнь» (Иоан. XIV, 6). Вот тот всеобщий путь, о котором гораздо раньше этого сказано было пророком: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима» (Ис. II, 2, 3). Итак, этот путь не есть путь одного народа, а всех народов. Закон и слова Господа не остались на Сионе и в Иерусалиме, а выступили оттуда, чтобы распространиться по всей вселенной. Поэтому сам Ходатай после Своего воскресения говорит ужаснувшимся ученикам Своим: «Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лук. XXIV, 44—47).
Итак, вот всеобщий путь к спасению души, который святые ангелы и святые пророки указывали и предрекали сперва немногим людям, приобретавшим, где это было для них возможно, благодать Божию, а потом и еврейскому народу, сама священная республика которого была, так сказать, пророчеством и предвозвещением града Божия, который дол-
Блаженный Августин_____________________________________________________508
жен был составиться из всех народов, — указывали скинией, храмом, священством и жертвами, предрекали некоторыми ясными, а некоторыми и таинственными изречениями. Явившийся же во плоти сам Ходатай и Его блаженные апостолы, открывая благодать Нового завета, яснее указали то, что в прежние времена обозначаемо было с некоторой сокровенностью применительно к возрастам человеческого рода, как это угодно было расположить премудрому Богу; причем подтверждением служили чудесные божественные дела, о некоторых из которых я уже упомянул выше. Не только совершались явления ангелов и звучали слова небесных служителей, но и люди чистосердечно благочестивые, действуя словом Божиим, изгоняли нечистых духов из тела и чувств человека; исцеляли телесные недостатки и болезни, заставляли исполнять божественные повеления диких животных, птиц небесных, деревья, стихии, светила; подчиняли себе силы ада; воскрешали мертвых. Не говорю уже об особенных и чрезвычайных чудесах самого Спасителя, а главное — о чуде Его рождения и воскресения. В первом Он показал тайну непорочности матери, а во втором пример тех, которые в конце веков воскреснут. Этот путь очищает всего человека и готовит смертного к бессмертию во всех частях, из которых состоит человек. Ибо истиннейший и могущественнейший Очиститель и Спаситель затем и принял на Себя всего человека, чтобы не искали иного очищения для той части, которую Порфирий называет умной, иного для той, которую он называет чувственной, и иного — для самого тела. Помимо этого пути, который всегда был открыт роду человеческому: отчасти — когда все это предвозвещалось, как должное совершиться, отчасти — когда возвещалось, как уже совершившееся, — никто не спасся, никто не спасается и никто не спасется.
Порфирий говорит, что изучение истории еще не дало ему сведений о всеобщем пути к душевному спасению. Но что же можно найти
О граде Божием________________________________________________________509
более славного и более верного по сравнению с историей, которая победила весь мир с таким возвышенным авторитетом и в которой повествуется о столь великом прошлом, а равно предсказывается о таком будущем, из которого многое мы видим уже совершившимся, а что еще не совершилось, должно, безусловно, совершиться? Порфирий или какие бы там ни были платоники не могут же относительно этого пути презирать предсказания и пророчества о земных, будто бы имеющих отношение к настоящей смертной жизни предметах, как заслуженно относятся они с презрением ко всяким другим предсказаниям и пророчествам, совершаемым при помощи каких бы то ни было способов или искусств. Они отрицают, что эти последние следует считать делом великих людей или вообще делом великим. И справедливо. Такие пророчества и прорицания или совершаются вследствие предвидения некоторых низших причин подобно тому, как с помощью медицинской науки на основании симптомов делаются предположения об исходе болезни; или же возвещаются нечистыми демонами как их собственные действия, право на которые они некоторым образом присваивают себе как по отношению к умам и желаниям людей нечестивых, чтобы руководить ими в исполнении этих желаний, так и по отношению к низшей материи немощной человеческой природы.
Не о таких вещах старались пророчествовать, как о вещах великих, святые люди, шедшие по всеобщему пути душевного спасения; хотя и подобные вещи не ускользали от них и часто, чтобы им верили, они предсказывали о таком, что не могло быть доступным для чувств смертных и быть легко объяснимым опытностью. Было другое, поистине великое и божественное, что, познав, насколько то было дано, волю Божию, они предсказывали как имеющее быть. В Писаниях, указывающих этот путь, предсказаны и обетованы: Христос,
Блаженный Августин_____________________________________________________510
имеющий прийти во плоти, и то, что совершилось в Нем и исполнилось во имя Его; покаяние людей и обращение их воли к Богу; прощение грехов; благодать праведности; вера благочестивых и по всей вселенной множество верующих в истинное Божество; ниспровержение почитания идолов и демонов, и укрепление через искушения; очищение преуспевающих и освобождение их от всякого зла; день суда; воскресение мертвых; вечное осуждение общества нечестивых и вечное царство славнейшего града Божия, наслаждающегося бессмертно лицезрением Бога. Из всего этого мы видим столь многое исполнившимся, что с истинным благочестием надеемся на исполнение и остального. Те, которые, согласно свидетельству священных Писаний, предсказывающих и подтверждающих этот путь, не верят и потому не понимают, что этот путь прямо приводит к самому видению Бога и к вечному общению с Ним, могут нападать на этот путь, но уничтожить его не могут.
Поэтому в оконченных уже десяти книгах мы, хотя и не вполне удовлетворили требованиям иных, удовлетворили, насколько истинному Богу и Господу угодно было помочь нам в этом, любви некоторых, опровергнув возражения нечестивых, которые своих богов предпочитают Создателю святого града, рассуждать о котором мы поставили своей задачей. Из этих десяти книг первые пять были направлены против тех, которые думают, что богов следует почитать ради благ настоящей жизни, последние же пять — против тех, которые полагают, что почитание богов следует сохранить ради жизни, которая должна наступить после смерти. Теперь, согласно данному в первой книге обещанию, я изложу с помощью Божией то, что считаю нужным сказать о начале, распространении и предназначенном конце обоих градов, которые, как мы сказали, переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке.
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Градом Божиим мы называем град, о котором свидетельствует то самое Писание, которое, по воле высочайшего провидения возвышаясь над всеми без исключения писаниями всех народов божественным авторитетом, а не случайно производимым впечатлением на человеческие души, покорило себе всякого рода человеческие умы. В этом Писании говорится: «Славное возвещается о тебе, град Божий!» (Пс. КХХХУ1, 3). И в другом псалме читаем: «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его» (Пс. ХЬУП, 2). В том же псалме, немного ниже: «Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего; Бог утвердит его на веки» (Пс. ХЬУИ, 9). И еще в другом псалме: «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его; он не поколеблется» (Пс. ХЬУ, 5, 6) Из этих и других того же рода свидетельств, которые приводить все было бы слишком долго, мы знаем, что существует некоторый град Божий, гражданами которого мы страстно желаем быть в силу той любви, которую вдохнул в нас Основатель его.
Граждане земного града предпочитают своих богов этому Основателю града святого, не ведая, что Он есть Бог богов, — богов не ложных, т. е. нечестивых и гордых, которые, лишившись Его неизменяемого и общего всем света и ограничившись жалким могуществом, создают для себя некоторым образом частные владения и от обольщенных подданных требуют божеских почестей, а богов благочестивых и святых, находящих больше удовольствия в том, чтобы себя самих подчинять одному Богу,
Блаженный Августин_____________________________________________________512
чем многих — себе, и самим почитать Бога, чем быть почитаемыми вместо Бога. Но врагам этого святого града мы ответили с помощью Господа и Царя нашего как могли в предыдущих десяти книгах. Теперь же, зная, чего от меня ждут, и не забывая о своей обязанности, начну говорить со всегдашним упованием на помощь того же Господа и Царя нашего о начале, распространении и предназначенном конце обоих градов, земного и небесного, о которых я сказал, что они в настоящем веке некоторым образом переплетены и друг с другом смешаны; и прежде всего скажу о первоначальных основах двух этих градов в предшествовавшем им разделении ангелов.
ГЛАВА II
Дело великое и в высшей степени трудное, поняв и узнав по опыту изменчивость всей вообще твари, телесной и бестелесной, отвлечься от нее усилием ума и возвыситься до неизменяемой сущности Бога, и там от самого Бога научиться, что вся природа, которая не есть то, что Он, Им сотворена. В этом случае Бог говорит с человеком не через какое–либо телесное творение, производя шум в телесных ушах сотрясением воздушного пространства, находящегося между говорящим и слушающим, и не посредством чего–либо чувственного, что принимало бы форму, подобную телам, как во сне, или иным каким–либо подобным образом; ибо и в таком случае Он говорит как бы телесным ушам, потому что говорит как бы через тело и как бы при существовании промежутков между местами тел, так как видения этого рода во многом подобны телам. Но говорит Он самой истиной, если кто способен слушать умом, а не телом. Говорит Он в этом случае к той части человека, которая в человеке лучше остальных, из которых, как известно, состоит человек, и лучше которой есть
О граде Божием________________________________________________________513
только сам Бог. Ибо коль скоро существует прямое убеждение, а если оно невозможно, то по крайней мере вера, что человек создан по образу Божию, то частью, которой он наиболее приближается к верховному Богу, будет, конечно, та часть его, которой он возвышается над своими низшими частями, общими у него даже с животными.
Но так как сам ум, которому от природы присущи разум и понимание, обессилен некоторыми омрачающими и застарелыми пороками, то не только для того, чтобы этот неизменяемый свет привлек его, давая ему наслаждение, но даже и для того, чтобы он мог просто вынести его, ум прежде всего должен быть напоен и очищен верой, пока, день ото дня обновляемый и врачуемый, сделается способным к восприятию столь великого счастья. Но чтобы в этой вере человек надежнее шел к истине, сама Истина — Бог, Сын Божий, восприняв человечество и не утеряв Божества, упрочил и утвердил эту саму веру, чтобы она была путем к Богу человека через Богочеловека. Он–то и есть Посредник между Богом и человеком — человек Иисус Христос. Вот почему Он — посредник, почему — человек и почему — путь. Если между тем, кто стремится чего–либо достигнуть, и целью, к которой он стремится, содействует путь, то существует и надежда на достижение цели. А если пути нет или путь, которым следует идти, неизвестен, то что пользы знать, куда следует идти? Единственный же совершенно надежный путь состоит в том, что Он же есть и Бог, и человек: как Бог — Он цель, к которой идут, как человек — Он путь, по которому идут.
ГЛАВА III
Он, говоривший, насколько считал достаточным, сначала через пророков, потом лично Сам, после же — через апостолов, произвел также и Писание, называемое каноническим и обладающее великим авторитетом. Этому Писанию
Блаженный Августин_____________________________________________________514
мы доверяем в тех вещах, незнание которых вредно, но и знания которых мы не в состоянии достигнуть сами. Ибо если на основании собственного свидетельства может быть познано нами то, что не удалено от наших чувств, внутренних или даже внешних, и что потому называется подлежащим чувствам (ргаезеппа) в том смысле, как называется подлежащим зрению то, что находится перед глазами; то в отношении того, что удалено от наших чувств, поскольку мы не можем знать его при помощи собственного свидетельства, мы непременно требуем постороннего свидетельства и верим тем, относительно которых не сомневаемся, что оно не удалено или не было удалено от их чувств. Итак, как относительно предметов видимых, которых мы не видим сами, мы доверяем видевшим их и так же точно поступаем и в отношении остальных вещей, подлежащих тому или иному телесному чувству, так и в отношении того, что чувствуется душой или умом (ибо и это совершенно справедливо называется чувством (зепйиз); откуда происходит и само слово (зепгеппа)), т. е. в отношении тех невидимых вещей, которые удалены от нашего внутреннего чувства, мы должны верить тем, которые познали поставленное в этом бестелесном свете и созерцают в нем пребывающее.
ГЛАВА IV
Из всего видимого величайшее есть мир; из всего невидимого величайшее — Бог. Что существует мир, это мы видим, что есть Бог, этому мы верим. А что Бог сотворил мир, тут мы никому не можем поверить, кроме самого же Бога. Но где же слышали Его? Пока нигде лучше, как только в священном Писании, в котором пророк Его сказал. — «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1). Но разве пророк присутствовал
О граде Божием_________________________________________________________515
при творении Богом неба и земли? Пророка при том не было, но была Премудрость Божия, через Которую сотворено все, Которая затем вселяется в святые души, наставляет друзей Божиих и пророков и внутренним образом, бессловесно повествует им о делах Своих. Говорят им также и ангелы Божий, которые «всегда видят лице Отца» (Мф. XVIII, 10) и возвещают, кому надлежит, волю Отца. Из числа их был и тот пророк, который сказал и написал: «В начале сотворил Бог небо и землю». Пророк этот был до такой степени надежным свидетелем, чтобы верить через него Богу, что тем же Духом Божиим, от Которого по откровению узнал упомянутое, задолго предсказал и саму будущую веру нашу.
Но почему же вечному Богу пришла в некое время мысль сотворить небо и землю, которых Он прежде не творил? Если говорящие так желают представить мир вечным, без всякого начала, и не сотворенным Богом, то они далеко уклонились от истины и безумствуют в смертной болезни безбожия. Ибо, помимо пророческих слов, сам мир некоторым образом молчаливо, своею в высшей степени стройной подвижностью и изменяемостью и прекраснейшим видом всего видимого вещает как о том, что он сотворен, так и о том, что мог быть сотворенным только неизреченно и невидимо великим и неизреченно и невидимо прекрасным Богом. Те же, которые хотя и признают, что мир сотворен Богом, однако же не хотят представлять его временным, а только имеющим начало, его произведшее; так что он был сотворен некоторым едва понятным образом от вечности, — те, хотя и высказывают нечто, чем думают якобы защитить Бога от упрека в случайной нечаянности, чтобы, мол, кто не подумал, будто Ему внезапно пришло на ум сотворить мир, о котором Он прежде не думал, и будто Он принял новое решение, тогда как Сам ни в чем не изменяем; как такие могут оправдать
Блаженный Августин_____________________________________________________516
свое основное положение в применении к другим вещам, я не понимаю.
Если они утверждают, что душа совечна Богу, то они никоим образом не могут объяснить, откуда произошло новое для нее несчастье, которого она никогда прежде от вечности не знала. Если же они скажут, что ее счастье и несчастье чередовались от вечности, то неизбежно должны сказать, что и сама она от вечности подвержена переменам. Отсюда у них вытекает та нелепость, что душа даже и тогда, когда называется блаженной, нисколько не блаженна, если предвидит предстоящее ей несчастье и позор; а если не предвидит, что будет подлежащей позору и несчастной, и полагает, что будет вечно блаженной, то она блаженна вследствие ложного представления. Глупее этого ничего не может быть сказано.
Но если они полагают, что хотя несчастье души вместе с ее блаженством и чередовалось в течение прежних безграничных веков, но что теперь, будучи раз освобожденной, душа не подвержена более несчастью: в таком случае они должны согласиться, что прежде она никогда не была поистине блаженной, а теперь начала быть блаженной некоторым новым неложным блаженством и, следовательно, признать, что с ней совершилось нечто новое, и притом нечто величайшее и прекраснейшее, чего никогда прежде от вечности с ней не было. Если при этом они станут отрицать, что это новое состояние души имеет свое основание в вечном совете Бога, то они вместе с тем будут отрицать и то, что Он виновник ее блаженства; что свойственно богопротивному нечестию. Если же скажут, что Бог принял новое решение, чтобы душа на будущее время была вечно блаженной, то как они докажут, что Он чужд изменяемости, которой они также не желают допустить? Далее, если они признают, что хотя душа и сотворена во времени, но не перестанет существовать ни в какой момент времени, подобно тому, как число имеет начало,
О граде Божием_________________________________________________________517
но не имеет конца; и что вследствие этого, раз испытав несчастье, она, будучи освобождена от него, никогда потом не будет несчастной; то они, конечно, не усомнятся, что это возможно только при неизменяемости совета Божия. В таком случае пусть верят, что и мир мог быть сотворенным во времени, но что и Бог, творя мир, тем не менее не изменил из–за этого Своего вечного совета и воли.
ГЛАВА V
Далее, соглашающиеся с тем, что Бог есть Творец мира, но спрашивающие, что мы можем ответить относительно времени сотворения мира, должны подумать, что они сами ответят относительно пространства, занимаемого миром. Ибо как возможен вопрос о том, почему именно тогда, а не прежде сотворен мир, так возможен вопрос и о том, почему мир именно здесь, а не где–нибудь в другом месте. Если они представляют себе безграничные пространства времени до мира, в которых, как им кажется, Бог не мог оставаться недеятельным, то подобным же образом они могут представлять себе и безграничные пространства места; и если кто–нибудь скажет, что Всемогущий не мог быть недеятельным в них, то не будут ли они вынуждены вместе с Эпикуром бредить о бесчисленных мирах? Различие будет состоять только в том, что Эпикур утверждает, что миры рождаются и разрушаются вследствие случайного движения атомов; а они, если не желают, чтобы Бог оставался праздным в безграничной неизмеримости пространств, распростертых вне и вокруг мира, будут утверждать, что эти миры сотворены действием Бога и так же, как, по их мнению, и настоящий мир, не могут разрушиться ни по какой причине. Ибо мы ведем речь с теми, которые вместе с нами мыслят, что Бог бестелесен и есть Творец всех существ, которые не суть то, что Он
Блаженный Августин_____________________________________________________518
сам, входить же в подобные рассуждения о религии с другими совершенно не стоит, особенно ввиду того, что и у тех, которые считают необходимым отправлять культ многим богам, первые превосходят прочих философов известностью и авторитетом не по чему–либо иному, как потому, что они, хотя и весьма далеки от истины, все же ближе к ней, чем остальные
Разве уж не скажут ли они, что сущность Божия, которую они не заключают, не ограничивают, не распространяют в пространстве, но которую признают, как это и прилично мыслить о Боге, при бестелесном присутствии неделимо находящуюся повсюду, — разве уж не скажут ли, что сущность эта не присутствует в столь великих пространствах вне мира, а занимает только одно, в сравнении с собственной бесконечностью слишком ничтожное пространство, в котором существует мир? Но я не думаю, чтобы они дошли до такого пустословия Итак, если они скажут, что сотворен один мир, хотя по своей телесной массе и чрезвычайно огромный, но мир — конечный, пространством своим ограниченный, и сотворен действием Божиим, то что ответят они о безграничных пространствах вне мира, чтобы объяснить, почему Бог перестал в них действовать, то же самое пусть ответят себе и о бесконечных временах до мира, чтобы объяснить то, почему Бог в эти времена оставался без действия.
Из того, что из бесконечных и во все стороны открытых пространств не было никакого основания предпочесть это, а не другое, не следует непременно, чтобы Бог случайно, а не по божественному соображению устроил мир не в другом каком месте, а именно в том, в котором он существует, хотя та божественная причина, по которой это совершалось, не может быть понята никаким человеческим умом Также точно и из того, что времена, предшествовавшие миру, протекали одинаково в безграничные пространства минувшего и не было никакой разницы, которая давала бы основание предпочесть одно время другому,
О граде Божием_________________________________________________________519
не следует, чтобы с Богом случилось нечто неожиданное, что Он сотворил мир именно в это, а не в прежнее время. Если же они скажут, что люди ломают головы над пустяками, когда воображают себе бесконечные пространства, так как вне мира нет пространства, то мы ответим им, что таким же образом люди представляют себе вздор, когда воображают протекшие времена, в которые Бог пребывал без действия: потому что прежде мира не было никакого времени
ГЛАВА VI
Действительно, если справедливо, что вечность и время различаются тем, что время не бывает без некоторой подвижной изменчивости, а в вечности нет никакого изменения, то кто не поймет, что времени бы не было, если бы не было творения, которое изменило нечто некоторым движением? Моменты этого движения и изменения, поскольку они совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими более краткими или более продолжительными промежутками, и образуют время. Итак, если Бог, в вечности Которого нет никакого изменения, есть Творец и Устроитель времени, то я не понимаю, каким образом можно утверждать, что Он сотворил мир по прошествии некоего количество времени' Разве что сказать, что и прежде мира существовало некоторое творение, движение которого давало течение времени? Но если священные и в высшей степени достоверные Писания говорят: «В начале сотворил Бог небо и землю», чтобы дать понять, что прежде Он ничего не творил, потому что если бы Он сотворил нечто прежде всего сотворенного им, то и было бы сказано, что Он именно это нечто сотворил в начале, то нет никакого сомнения, что мир сотворен не во времени, но вместе с временем. Ибо что происходит во времени, то происходит после одного и прежде другого времени, — после того, которое прошло, и прежде того,
Блаженный Августин______________________________________________________520
которое должно наступить; но никакого прошедшего времени быть не могло, потому что не было никакой твари, движение и изменение которой определяло бы время. Но несомненно, что мир сотворен вместе с временем, если при сотворении его произошло изменяющееся движение, как представляет это тот порядок первых шести или семи дней, при которых упоминаются утро и вечер, пока все, что сотворил Бог в эти шесть дней, не завершено было днем седьмым, и пока в седьмой день, с указанием на великую тайну, не упоминается о покое Божием. Какого рода эти дни — представить это нам или крайне трудно, или даже совсем невозможно, а тем более невозможно об этом говорить.
ГЛАВА VII
Мы видим, что обыкновенные наши дни имеют вечер вследствие захода солнца, а утро — вследствие восхода солнца; но из тех дней первые три прошли без солнца, о сотворении которого говорится в день четвертый. Повествуется, правда, что с первых же пор словом Божиим был сотворен свет, и что Бог отделил свет от тьмы и назвал этот свет днем, а тьму ночью. Но какого свойства был этот свет каким именно движением и какого рода вечер и утро производил он, — это недоступно нашему разумению и не может быть понято нами соответственно тому, как оно есть; хотя мы должны этому верить без колебания. Может быть, это некоторый телесный свет, находящийся в высших частях мира вдали от наших взоров, или же тот, которым впоследствии было вожжено солнце; а может быть, именем света обозначается святой град, состоящий из святых ангелов и блаженных духов, о котором говорит апостол: «Вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам» (Гал. ГУ, 26). Ибо в другом месте он же говорит: «Все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни
О граде Божием_________________________________________________________521
тьмы» (I Фес. V, 5). Мы можем, пожалуй, до известной степени правильно подразумевать под этим утро и вечер последнего дня. Ибо знание твари по сравнению со знанием Творца представляет собой некоторого рода сумерки, которые потом просветляются и обращаются в утро, когда знание это обращается к прославлению и любви Творца; и ночи не бывает там, где Творец не оставляется любовью твари.
Кстати, и Писание никогда не употребляет слова ночь, когда перечисляет по порядку дни творения. Оно нигде не говорит, что была ночь, но «был вечер, и было утро: день один» (Быт. I, 5). Таков и день второй, таковы и прочие дни. Знание твари само по себе гораздо, так сказать, тусклее, чем когда оно приобретается при свете Премудрости Божией, — при помощи как бы самого искусства, которым она сотворена. Вот почему оно приличнее может быть названо вечером, чем ночью; хотя, как я сказал, оно переходит в утро, когда относится к прославлению и любви Творца. И когда оно является как сознание себя самой, то это день один; когда переходит к познанию тверди, которая называется небом, между водами высшими и низшими — второй день; когда переходит к познанию земли, моря и всего рождающегося, связанного с землей корнями — день третий; когда к познанию светил, большого и меньшего, и всех „ звезд — день четвертый; когда к познанию всех происходящих из воды животных и животных летающих — день пятый; а когда к познанию всех животных земных и самого человека — день шестой.
ГЛАВА VIII
Когда же Бог почил в седьмой день от всех дел Своих и освятил его, то этот покой отнюдь не следует понимать по–детски, будто бы утомился, творя, Бог, Который «повелел, и сотворилось» (Пс. СХЬУШ, 5), — повелел Словом умным и вечным, а не звучащим и
Блаженный Августин_____________________________________________________522
временным. Покой Божий означает покой тех, которые успокаиваются в Боге. Так радость дома означает радость веселящихся в доме, хотя бы радовал их не сам дом, а что–нибудь другое. Если же сам дом веселит обитателей своей красотой, то он называется веселым не только по тому словоупотреблению, по которому мы через содержание обозначаем содержимое, как, например, когда говорим: театры рукоплещут, луга ревут, между тем как в театрах рукоплещут люди, а в лугах ревут быки; но и по тому (словоупотреблению), по которому через причину обозначается действие, как, например, письмо называем радостным для обозначения радости тех, которых оно радует при чтении его.
Итак, пророк употребляет вполне соответствующее выражение, когда повествует, что Бог почил, обозначая этим покой тех, которые в Нем успокаиваются и которых Он сам успокаивает. Пророчество обещает людям, к которым оно обращено и ради которых оно написано, что по совершении добрых дел, которые в них и через них производит Бог, они будут иметь вечный покой в Боге, если прежде, в настоящей жизни, некоторым образом приблизятся к Нему через веры. Это самое у древнего народа Божия прообразовано по заповеди Божией покоем субботнего дня; о чем я считаю нужным поговорить обстоятельнее в своем месте.
ГЛАВА IX
Так как я предположил говорить о происхождении святого града и предварительно посчитал нужным сказать о том, что относится к святым ангелам, составляющим большую и тем блаженнейшую часть этого града, что она никогда не странствовала в чужбине, то ныне, с помощью Божией, я и постараюсь разъяснить, насколько это покажется необходимым,
О граде Божием_________________________________________________________523
имеющиеся божественные свидетельства об этом предмете. Когда Священное писание говорит о сотворении мира, оно не говорит очевидным образом ни о том, сотворены ли ангелы, ни о том, в каком порядке сотворены Но если они совершенно не опущены, то разумеются или под именем неба, когда говорится — «В начале сотворил Бог небо и землю»; или, скорее, под именем того света, о котором я упоминал. А что они не опущены, это я полагаю на том основании, что написано, что в седьмой день Бог почил от всех Своих дел, сотворенных Им; между тем как книга начинается словами: «В начале сотворил Бог небо и землю», чтобы дать понять, что прежде неба и земли не было сотворено ничего другого
Итак, если Бог начал с неба и земли, и земля эта, сотворенная Им в начале, как вслед затем рассказывает Писание, была безвидна и пуста и была тьма над бездною, т. е. над некоторым неразличимым смешением земли и воды; потому что не был еще сотворен свет, а где нет света, там необходимо — тьма; и если дальнейшее творение упорядочило потом все, что, как повествуется, совершено было в шесть дней, то каким образом могли бы быть опущены ангелы, как бы не бывшие в числе дел Божиих, от которых Он почил в седьмой день? А что ангелы суть творения Божий, то хотя в данном месте, не будучи совершенно обойдено, это высказывается неясно, зато в других местах Священное писание выражается однозначно. Так, (в книге Даниила) в песне трех отроков в печи огненной при перечислении дел Божиих упомянуты и ангелы. И в псалме поется: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинство Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались повелел, и сотворилось» (Пс. СХ1УШ, 1—5). И здесь по откровению свыше сказано весьма ясно, что ангелы
Блаженный Августин_____________________________________________________524
сотворены Богом, потому что они упомянуты в числе небесных творений и ко всем относятся слова: «Он повелел, и сотворилось».
Кто же осмелится думать, что ангелы были сотворены после всего того, что перечислено в шестидневном творении? А если кто и безумствует в этом роде, то его суетность опровергает имеющее такой же авторитет другое Писание, в котором Бог говорит: «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божий восклицали от радости»' (Иов. XXXVIII, 7). Следовательно, ангелы уже были, когда сотворены были звезды. Они (звезды) были сотворены, когда был четвертый день. Итак, скажем ли, что они (ангелы) были сотворены в третий день? Нет! Ибо перед глазами то, что было сотворено в этот день. Тогда земля отделена была от воды, эти две стихии восприняли различные свойственные им формы и земля произвела все, что связано с ней корнями. Но не сотворены ли они во второй день? И этого не могло быть: ибо тогда между водой низшей и высшей сотворена была твердь, названная небом; на которой сотворены были в четвертый день звезды.
Итак, если ангелы принадлежат к творениям Божиим, созданным в те дни, то они, несомненно, суть тот свет, который получил наименование дня, но дня, который, для обозначения единства его, не был назван «день первый», но — «день один», и не какой иной день. — второй ли, или третий, или прочие, — но повторяется тот же самый день, один для пополнения шестеричного и седьмеричного числа, ради шестеричного и семеричного познания: шестеричного — по отношению к творениям, созданным Богом, семеричного — относительно покоя Божия. Ибо когда Бог сказал: «Да будет свет, И стал свет», то если под
* У Августина говорится не о ликовании, а о сотворении звезд (в данном же случае идет речь о «положении основания земли») и восклицании ангелов.
О граде Божием_________________________________________________________525
этим светом справедливо подразумевается творение ангелов, они, несомненно, сотворены участниками вечного Света, Который есть сама неизменяемая Премудрость Божия, сотворившая все и называемая нами единородным Сыном Божиим; так что, просвещенные Светом, Которым сотворены, они сделались светом и названы днем по сопричастности к неизменяемому Свету и Дню, Который есть Слово Божие, Коим и сами они сотворены. Ибо Тот «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан. 1,9), просвещает и всякого чистого ангела; так что последний есть свет не сам в себе, но в Боге. Но если ангел отвращается от Него, то делается нечистым, каковы все, называющиеся нечистыми духами, которые уже не свет в Господе, но сами в себе тьма, как лишенные сопричастности вечному Свету. Ибо зло не есть какая–либо сущность; но потеря добра получила название зла.
ГЛАВАХ
Есть только одно простое и потому единственно неизменяемое Благо — Бог. Этим Благом сотворены все блага, но не простые, а потому и изменяемые. Я говорю сотворены, т. е. соделаны, а не рождены. Ибо рожденное от простого блага равно просто и есть то же, что и то, от которого оно рождено. Этих двух мы называем Отцом и Сыном, и эти два вместе с Духом Святым суть единый Бог. Сей Дух Отца и Сына в Священном писании называется Святым Духом в некотором особенном смысле этого слова. И Он есть иной, чем Отец и Сын, потому что Он ни Отец, ни Сын; но говорю — иной, а не иное, потому что и это Благо одинаково просто, неизменяемо и совечно. И эта Троица есть один Бог и не теряет своей простоты от того, что Троица. Ибо эту природу Блага мы называем простой не потому, что в ней или один
Блаженный Августин_____________________________________________________526
Отец, или один Сын, или один Дух Святой; и не потому, чтобы эта Троица существовала только по имени без самостоятельности лиц, как думали еретики–са–веллиане. Но Она называется простой по той причине, что то, что имеет, и есть Она сама, за исключением того, что говорится о каждом лице по отношению к другому. Ибо хотя Отец имеет Сына, однако же Он не есть Сын; и Сын имеет Отца, и тем не менее Он не Отец. Итак, насколько говорится о Ком–либо из них в отношении к Нему же, Он есть то, что имеет; так, например, сам Он по себе называется живым, как имеющий жизнь, и эта жизнь есть сам Он.
Поэтому простою называется та природа, которой несвойственно иметь что–либо такое, что она могла бы потерять; или в которой иное содержащее и иное — содержимое: как, например, сосуд и какая–либо жидкость, или тело и цвет, или воздух и свет, или теплота, или душа и мудрость. Ибо ни один из этих предметов не есть то, что он имеет или содержит. Ни сосуд не есть жидкость, ни тело — цвет, ни воздух — свет или теплота, ни душа — мудрость. Поэтому они могут лишиться этих вещей, которые они имеют, перейти в другие состояния или изменить свойства: сосуд, например, может освободиться от жидкости, которой он наполнен; тело может потерять цвет; воздух может омрачиться или охладеть; душа — сделаться неразумной. Но если тело будет нетленным, как обещается это святым в воскресении, то хотя оно и будет иметь неутрачиваемое свойство самого нетления, однако, поскольку телесная субстанция останется, не будет само нетление. Ибо нетление в каждой отдельной части тела будет цельным и не будет там большим, а здесь меньшим: потому что ни одна часть не будет нетленнее другой; но само тело в целом будет больше, нежели в части; однако же, хотя в нем одна часть будет объемистей, другая меньшей, более объемистая часть не будет нетленнее той, которая меньше.
О граде Божием_________________________________________________________527
Итак, одно есть тело, которое не во всякой своей части есть целое тело; и иное — нетление, которое в каждой части есть целое: потому что каждая часть нетленного тела, хотя она и не равна прочим частям, в равной степени нетленна. Например: из–за того, что палец меньше целой руки, рука не будет нетленнее пальца. Итак, хотя рука и палец не равны, нетленность руки и пальца одинаковы. А потому, хотя нетленность неотделима от нетленного тела, однако же одно дело — субстанция, называемая телом, и иное — ее свойство, называемое нетлением. И, следовательно, она сама не есть то, что имеет. Также точно и душа, когда она будет освобождена навеки, однако же будет мудрой через общение с неизменяемой мудростью, которая не есть то же, что сама душа. Ибо и воздух, если бы он никогда не был оставляем светом, разлитым в нем, не перестал бы быть иным по отношению к свету, которым он освещается. Я не хочу этим сказать, что душа есть воздух; так думали некоторые, не способные представить себе бестелесную сущность. Но душа и воздух, несмотря на великое между ними различие, имеют некоторое сходство, так что не будет несообразностью сказать, что бестелесная душа просвещается бестелесным светом простой Премудрости Божией так же точно, как телесный воздух освещается телесным светом; и как воздух, оставленный этим светом, помрачается (ибо так называемая тьма какого–либо телесного места есть не что иное, как воздух, не имеющий света), так помрачается и душа, лишенная света Премудрости.
Итак, соответственно этому и истинно божественное потому и называется простым, что в нем не одно дело свойство, и совсем иное — субстанция; и что оно не по общению с другим божественно, премудро и блаженно. Впрочем, в Священном писании Дух премудрости называется многочастным (Прем. VII, 22), потому что Он многое имеет в себе; но то, что Он имеет, есть так же и Отец, и это все — один. Ибо существуют не многие, но одна
Блаженный Августин_____________________________________________________528
Премудрость, заключающая в Себе некоторые неизмеримые и бесконечные сокровища разумных вещей, в числе которых все невидимые и неизменяемые основы вещей, видимых и невидимых, через Нее же сотворенных. Ибо Бог не творил ничего не зная, как не творит, строго говоря, даже и какой–либо человек–художник; если же Он сотворил все зная, то, без сомнения, Он сотворил то, что знал. Отсюда вытекает нечто удивительное, но тем не менее — истинное, а именно: что этот мир не мог бы быть известным нам, если бы не существовал; но если бы Богу он не был известен, то и не мог бы существовать.
ГЛАВА XI
Если это так, то те духи, которых мы называем ангелами, никоим образом не были первоначально в известный промежуток времени духами тьмы; но вместе с тем, как были сотворены, сотворены были светом. Ибо они были сотворены не только так, чтобы как–нибудь существовали и как–нибудь жили: но были вместе с тем и просвещены, чтобы жили разумно и блаженно. Отвратившись от этого просвещения, некоторые из ангелов не удержали за собой преимущества жизни разумной и блаженной, которая, без всякого сомнения, в силу того, что вечна — беззаботна и спокойна относительно своей вечности; но и умную, хотя и неблагоразумную жизнь имеют так, что не могут потерять ее, если бы даже пожелали. В какой же степени они были участниками в вышеупомянутой мудрости прежде, чем согрешили? Разве может кто–нибудь определить это? Каким образом могли бы мы сказать, что по участию в этой мудрости они были равны тем ангелам, которые потому–то поистине и вполне блаженны, что не ошибаются в вечности своего блаженства? Будь они равны в ней с
О граде Божием___________________________________________________________529
Теми, и они также одинаково пребывали бы блаженными вечностью этого блаженства; потому что одинаково были бы уверены в ней. Можно было эту жизнь назвать жизнью, пока она продолжалась, но нельзя было назвать ее жизнью вечной, если она должна была прекратиться. Ведь (вечная) жизнь называется жизнью потому, что существо живет, а вечной потому, что не имеет конца.
Поэтому хотя не все, что вечно, непременно и блаженно (ибо вечным называется и огонь, назначенный для наказания), тем не менее, если поистине и вполне блаженная жизнь есть только жизнь вечная, то такой жизнью не была жизнь этих духов: потому что она прекратилась и, следовательно, не была вечной, знали ли они о том, или, не зная, представляли себе нечто другое. Знай они, — им не позволял бы быть блаженными страх, а не знай — не позволяло бы заблуждение в том, что они блаженны. Если же неведение их было такого рода, что они ложному и неверному не верили, но не имели точного представления ни о том, вечно ли будет их блаженство, ни о том, что оно когда–нибудь будет иметь свой конец; то само сомнение в столь великом счастье исключало ту полноту блаженной жизни, какая, как мы верим, свойственна святым ангелам. Ибо слову блаженная жизнь мы не придаем такого крайне узкого значения, чтобы называть блаженным одного Бога, Который, разумеется, поистине столь блажен, что большего блаженства и быть не может. Что по сравнению с Ним блаженство ангелов, блаженных в своем роде высшим блаженством, какое только возможно для ангелов?
ГЛАВА XII
Что касается разумной и наделенной умом твари, то мы полагаем, что не одни ангелы должны называться блаженными. Ибо кто осмелится отрицать, что
Блаженный Августин__________________________________________________________530
первые люди были в раю блаженными до греха, хотя и не были уверены, будет ли блаженство их продолжительно, или оно будет вечно (а оно было бы вечно, если бы они не согрешили); когда и в настоящее время, безо всякой мысли о превозношении, называем блаженными тех, о которых знаем, что они в надежде на будущее бессмертие проводят земную жизнь праведно и благочестиво, без преступления, отягощающего совесть, и легко склоняют милосердие Божие к грехам своей немощи? Хотя и убеждены они в награде за свое постоянство, однако относительно самого постоянства — не уверены. Ибо кто из людей может знать, что он до конца пребудет непоколебимым в укреплении и в преуспеянии в справедливости, если посредством какого–либо откровения не будет обнадежен Тем, Который относительно этого праведным и таинственным судом Своим хотя не всех предуведомляет, никого, однако же, не обманывает? Итак, что касается наслаждения настоящим благом, то первый человек в раю был блаженнее, чем всякий праведник в настоящей смертной немощи; но в том, что касается надежды будущего, то всякий, кому не предположительно, но с достоверной истиной известно, что он будет обитать в чуждом всякой скорби обществе ангелов без конца, наслаждаясь в то же время общением с высочайшим Богом, — всякий, при каких угодно телесных страданиях, будет блаженнее, чем был тот первый человек, не уверенный в великом счастье рая.
ГЛАВА XIII
Отсюда уже всякому ясно, что блаженство, к которому, как к своей истинной цели, стремится разумная природа, обусловливается соединением того и другого, а именно: она должна беспечально наслаждаться неизменяемым Благом, Которое есть Бог, и в
О граде Божием_______________________________________________________________531
то же время не должна ни подвергаться какому–либо сомнению, ни обманываться каким–либо заблуждением относительно того, что будет вечно пребывать в Нем. С благочестивой верой мы думаем, что ангелы света обладают этим блаженством; но само собой следует, что ангелы согрешившие, лишившиеся этого света вследствие своей развращенности, не обладали им и прежде, чем они пали; хотя и нужно полагать, что они обладали некоторым, хотя относительно будущей судьбы и неизвестным, блаженством, если жили какое–то время до падения А если покажется несообразным, что, когда сотворены были ангелы, одни из них сотворены были так, что не получили предвидения относительно своего постоянства или падения, а другие так, что с положительнейшей достоверностью знали вечность своего блаженства, а между тем все от начала сотворены были с равным блаженством и пребывали такими, пока те ангелы, которые ныне злы, не отпали по своей воле от этого света умственной и нравственной чистоты, то, конечно же, еще гораздо несообразнее думать, будто святые ангелы не уверены в вечном своем блаженстве и относительно самих себя не знают того, что мы смогли узнать о них с помощью Святых писаний. Ибо кто из православных христиан не знает, что из добрых ангелов не будет более никакого нового дьявола, равно как и того, что и дьявол не возвратится более в сообщество добрых ангелов?
В Евангелии истина обещает святым и верным, что они будут равны ангелам Божиим (Мф. XXII, 30); им обещается также, что они войдут в жизнь вечную (Мф. XXII, 4б). Таким образом, если мы уверены, что никогда не отпадем от этого бессмертного счастья, а они не уверены, то мы уже будем иметь преимущество перед ними, а не будем равными им. Но поелику истина никогда не обманывает и мы будем равными им, то, несомненно, и они уверены в вечности своего счастья. Поелику же те другие (падшие духи)
Блаженный Августин_________________________________________________________ 532
не имели точного об этом знания; ибо счастье их, в котором они были уверены, не было вечным, так как должно было иметь конец, то остается предположить, что ангелы были и неравны между собой, или, если равны, то добрые ангелы только после падения злых достигли определенного знания относительно своего вечного счастья.
Разве, возможно, кто–нибудь скажет, что сказанное Господом о дьяволе в Евангелии: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине» (Иоан. VIII, 44) следует понимать не в том только смысле, что он был человекоубийцей от начала, т. е. от начала человеческого рода, с того момента, когда сотворен был человек, которого он мог бы убить посредством обольщения. Но он–де не устоял в истине от начала своего сотворения, и потому никогда не был блаженным вместе со святыми ангелами; так как отказывался быть в подчинении своему Создателю, находил гордое удовольствие как бы в своем особом личном могуществе, а через то являлся лицемерным и лживым, потому что никогда не мог уйти от силы Всемогущего и не желал в благочестивом подчинении сохранять то, что действительно есть, усиливаясь по гордой надменности ложно изображать то, чего не было. В этом–де смысле должно пониматься и сказанное блаженным апостолом Иоанном: «Сначала диавол согрешил» (I Иоан. III, 8), т. е. что с того момента, когда был сотворен, он отрекся от истины, которой может обладать только благочестивая и преданная Богу воля.
Кто удовлетворяется таким мнением, тот еще не единомыслен с известными еретиками, т. е. манихе–ями. Впрочем, и некоторые другие зловредные ереси придерживаются того образа мыслей, что дьявол как бы от некоторого противоположного (Богу) начала получил свою собственную в известном роде злую природу. В суетности своей они доходят до такого безумия, что, хотя уважают одинаково с нами
О граде Божием______________________________________________________________533
вышеприведенные евангельские слова, не обращают внимания на то, что Господь не сказал: «Диавол чужд был истине», но сказал: «Не устоял в истине». Этим Он хотел дать понять, что диявол отпал от истины; а если бы устоял в ней, то, сделавшись ее участником, пребывал бы блаженным вместе со святыми ангелами.
ГЛАВА XIV
Затем, как бы отвечая на вопрос наш: откуда видно, что диявол не устоял в истине, — Господь показывает, откуда, и говорит: «Ибо нет в нем истины» (Иоан. VIII, 44). Она была бы в нем, если бы он устоял в ней. Оборот речи довольно редкий. Словами о том, что он не устоял в истине, ибо нет в нем истины, дается как бы такая мысль, что он не устоял в истине потому, что в нем не было истины; между тем как главнейшей причиной, что в нем нет истины, является то, что он не устоял в истине. Подобный оборот употреблен и в псалме: «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня» (Пс. XVI, 6). По–видимому, следовало бы сказать: «Услышь меня, ибо я взываю к Тебе». Но он сказал: «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня»; а затем, как бы отвечая на вопрос: чем он докажет, что он воззвал, указывает на произведенное его воззванием к Богу действие, — на то, что Бог услышал его. Он как бы говорит так: я показываю здесь, что я воззвал, поелику Ты услышал меня.
ГЛАВА XV
Так и относительно известных слов Иоанна о дияволе: «Сначала диавол согрешил», они не понимают, что если это естественное дело, то оно никоим образом не составляет греха. А в таком случае что сказать относительно пророческих свидетельств, — того ли, что говорит Исайя,
Блаженный Августин__________________________________________________________534
выводя диявола под образом князя вавилонского: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» (Ис. XIV, 12); или того, что говорит Иезекииль: «Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями» (Иез. XXVIII, 13)? Из этих слов видно, | что он некогда был без греха. Ибо несколько далее! говорится ему с большей выразительностью: «Ты со- \ вершен был в путях твоих со дня сотворения твое- ] го» (Иез. XXVIII, 15). Если эти слова не могут иметь \ другого, более точного по смыслу значения, то и «не устоял в истине» мы должны понимать в том смысле, что он пребывал в истине, но не остался в ней. И на основании этого выражение «Сначала ди–авол согрешил» следует понимать так, что он согрешает не от того начала, когда он был сотворен, но от начала греха, потому что грех получил начало от его гордости.
Равным образом и то, что написано в книге Иова, когда речь идет о дияволе: «Это — верх путей Божи–их: только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой»* (Иов. XI, 14), согласно с чем, по–видимому, говорит и псалом, в котором читаем: «Там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем» (Пс. С1 И, 26), должно пониматься нами не в том смысле, будто он с самого начала создан был таким, чтобы над ним издевались ангелы, а в том, что он подпал этому наказанию после греха. Итак, по началу своему он есть создание Господне; ибо даже в числе последних и низших животных нет никакого естества, которого бы он не сотворил: от Него всякая мера, всякий вид, всякий порядок, без которых нельзя ни указать, ни вообразить ни одной вещи, а тем более — ангельской твари, которая достоинством своей природы превосходит все остальное, созданное Богом.
* У Августина: «Сотворенный на поругание ангелов».
О граде Божием_______________________________________________________________535
ГЛАВА XVI
Ибо в ряду того, что каким–либо образом существует, но что не есть Бог, Которым оно сотворено, живущее ставится выше неживущего, равно как и имеющее силу рождать и даже желать ставится выше того, что не имеет такого побуждения. И между живущими существами чувствующие ставятся выше нечувствующих, как животные, например, выше деревьев. И между чувствующими разумные ставятся выше неразумных, как люди, например, выше животных. И между разумными бессмертные ставятся выше смертных, как ангелы выше людей. Все это ставится одно выше другого в силу порядка природы. Но есть и другие мерки для оценки вещей по той личной пользе, которую они приносят тому или другому. Так бывает, что мы иные бесчувственные вещи предпочитаем другим, обладающим чувствами, и до такой степени, что будь это в нашей власти, мы решили бы вовсе уничтожить их в природе или по незнанию того места, какое они занимают в ней, или при знании этого места, потому что ставим их ниже наших удобств. Ибо кто не предпочел бы иметь в своем доме хлеб, а не мышей, деньги, а не блох? Да и что удивительного, когда при оценке даже людей, природа которых поистине отличается высоким достоинством, по большей части дороже ценится конь, чем раб, и дороже драгоценный камень, чем служанка?
Таким образом, при свободе суждений существует большое различие между разумным основанием мыслителя и потребностью нуждающегося или удовольствием желающего; в то время как первое направлено к тому, что само по себе имеет цену в различных степенях вещей, потребность обращает внимание на то, к чему она стремится; первое ищет того, что открывается истинным для света умственного, а удовольствие ищет того, что приятно ласкает телесные чувства. Однако же у разумных природ как бы некоторый своего рода вес воли и любви имеет столь великое значение,
Блаженный Августин__________________________________________________________536
что хотя в порядке природы ангелы предпочитаются людям, однако же по закону справедливости добрые люди предпочитаются злым ангелам.
ГЛАВА XVII
Итак, мы ошибаемся, когда полагаем, что выражение: «Это — верх путей Божиих» относится не к природе, а к злобе дьявола; потому что нет сомнения, что пороку злобы предшествовала неповрежденная природа. Порок же до такой степени противен природе, что не вредит ей. Отступить от Бога не было бы пороком, если бы природе, для которой это составляет порок, не соответствовало более быть с Богом. Вот почему даже злая воля служит сильным свидетельством доброй природы. Но Бог — как лучший Творец доброй природы, так и справедливейший распорядитель злой воли: когда она злоупотребляет доброй природой. Он пользуется для самого добра злой волей. Вследствие этого Он устроил так, что дьявол, сотворенный Им добрым, но сделавшийся злым по своей воле, униженный, находится в поругании Его ангелов в том смысле, что искушения его служат к пользе святых, которым он желает нанести ими вред. А так как Бог, созидая его, без сомнения знал будущую злобу его и предвидел, какие блага извлечет Он из злых его дел, то псалом и говорит: «Там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем», чтобы дать понять, что в то самое время, когда Он сотворил его, и по своей благости сотворил добрым, Он уже по своему предвидению заранее подготавливал то, как воспользоваться им и злым.
ГЛАВА XVIII
Бог не создал никого, — не говорю из ангелов, но даже из людей, о ком Он знал наперед, что он станет злым, и в то же время не знал бы, какую благую пользу
О граде Божием_______________________________________________________________537
извлечет Он из него и таким образом украсит ряд веков, как какой–нибудь превосходнейший стих своего рода как бы антитезами. Ибо так называемые антитезы, которые по–латыни называются противоположениями, или еще выразительней — противопоставлениями, служат наилучшим украшением речи. У нас не употребляется это слово, хотя самими украшениями этого рода пользуется не только латинская речь, но и языки всех народов. Такими антитезами и апостол Павел во втором послании к Коринфянам увлекательно говорит в том месте, где читаем: «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (II Кор. VI, 7—10). Итак, как взаимное сопоставление противоположностей придает красоту речи, так из сопоставления противоположностей, из своего рода красноречия не слов, а вещей, образуется красота мира. Это весьма ясно выражено и в книге Екклесиаста, когда говорится о том, что как злому противопоставляется благое и смерти — жизнь, так и грешник — добродетельному: одному всегда противопоставляется другое (Сир. ХХХШ, 15).
ГЛАВА XIX
Темнота божественной речи полезна в том отношении, что она приводит к весьма многим истинным суждениям и вводит в свет знания, когда один понимает ее так, другой иначе. Но нужно, чтобы смысл, заключающийся в темном месте, подтверждался или очевидностью вещей, или другими местами, менее сомнительными; или, если говорится о многом, что-
Блаженный Августин__________________________________________________________538
бы вытекала та мысль, которую имел в виду писатель; а если она ускользает, то чтобы разъяснение темного места дало некоторые другие истины. Поэтому мне не представляется несообразным с делами Божиими мнение, что под тем сотворением первого света подразумевается создание ангелов, а разделение между святыми и нечистыми ангелами — там, где сказано: «И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Быт. 1,4, 5).
Подобное разделение мог произвести один Тот, Кто в состоянии был прежде, чем они пали, предвидеть, что они падут и пребудут в мрачной гордости, лишившись света истины. Ибо разделение между известными нам днем и ночью, т. е. между земным светом и земной тьмой, Он повелел произвести так хорошо знакомым нашим чувствам светилам небесным: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи». И немного далее: «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы» (Быт. I, 14, 16—18). Но между тем светом, который есть святое общество ангелов, светящееся духовно в свете истины, и противоположной ему тьмой, т. е. отвратительнейшими душами злых ангелов, уклонившихся от света правды, мог положить разделение только Он сам, для Которого не могло быть тайным или неизвестным будущее зло, — зло не природы, но воли.
ГЛАВА XX
Затем не следует обойти молчанием и того, что после сказанного Богом, — «Да будет свет. И стал свет», тотчас же прибавлено: «И увидел Бог свет, что он хорош», а не после того, как Он положил разделение
О граде Божием_______________________________________________________________539
между светом и тьмой и назвал свет днем, а тьму ночью. Это для того, чтобы не показалось, будто вместе со светом Он дал свидетельство своего благоволения и такой тьме. Ибо там, где речь идет о тьме безупречной, между которой и светом, видимым для наших глаз, полагают разделение светила небесные, — там не прежде, а после замечается, что увидел Бог, что это хорошо: «И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». То и другое ему угодно, потому что то и другое без греха. Но там, где Бог сказал: «Да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош», и после этого замечается: «И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью», — там не прибавлено вслед за этим: «И увидел Бог, что это хорошо». Это для того, чтобы не назвать добром и то и другое, так как одно из этого было злом по собственной вине, а не по природе. Поэтому Творцу в этом случае и приятен один только свет; а тьма ангельская, хотя и должна была войти в мировой порядок, не должна была, однако, получить ободрения.
ГЛАВА XXI
Что высказывается в изречении, употребляемом при всяком случае: «Увидел Бог, что это хорошо», как не одобрение творения, созданного соответственно художеству, которое есть Премудрость Божия? Но Бог не только тогда узнал, что оно добро, когда оно было сотворено: ничего этого и не было бы, если бы оно не было Ему известно. Итак, когда Бог видит, что добро то, чего ни в коем случае не было бы, если бы Он не видел его прежде, чем оно явилось, то Он учит, а не учится, что это добро. Платон употребляет еще более смелое выражение, а именно: что Бог был восхищен и обрадован по окончании творения вселенной.
Блаженный Августин _________________________________________________________540
И он в этом случае не до такой степени безумствует, чтобы думать, будто Бог сделался блаженнее вследствие нового Своего творения; он хотел этим показать, что художник был доволен тем уже сотворенным, чем был доволен в идее, соответственно которой оно должно было быть сотворено.
Знание Божие отнюдь не имеет такого разнообразия, чтобы в нем иначе представлялось то, чего еще нет, иначе то, что уже есть, и иначе то, что будет. Ибо Бог презирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее не по–нашему, но некоторым иным образом, далеко превосходящим образ нашего мышления. Не переходя мыслью от одного к другому, Он видит совершенно неизменяемым образом. Из того, что совершается во времени, будущее, например, еще не существует, настоящее как бы существует, прошедшее уже не существует; но Он все это обнимает в постоянном и вечном настоящем. И не иначе созерцает Он глазами, и иначе — умом: потому что Он не состоит из души и тела; не иначе теперь, не иначе — прежде и не иначе — после: потому что Его знание не изменяется, как наше, по различию времени: настоящего, прошедшего и будущего, ибо у Него «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. I, 17). От мысли к мысли не переходит намерение Того, в чьем бестелесном созерцании все, что Он знает, существует одновременно и вместе. Он так знает времена безо всяких представлений временного свойства, как приводит в движение временное безо всяких движений временного свойства. И потому там, где Он видел добрым то, что сотворил, там Он видел и доброе, чтобы сотворить его. И то, что Он увидел сотворенным, не удвоило Его знания или не увеличило его в некоторой части, так как бы Он имел менее знания прежде, чем сотворил то, что увидел: Он не действовал бы с таким совершенством, если бы не было так совершенно Его знание, к которому ничего не прибавилось от дел Его.
О граде Божием 541
Вот почему, если бы нам нужно было дать представление о Том, Кто сотворил свет, достаточно было сказать: «Бог сотворил свет». Но если нужно дать представление не только о Том, Кто сотворил, но и том, посредством чего сотворил, нужно выразиться так: «Сказал Бог: да будет свет. И стал свет», чтобы мы знали не только то, что Бог сотворил свет, но и то, что Он сотворил его через Свое Слово. Но так как нам нужно было указать на три вещи, особенно важные для познания твари, а именно: кто сотворил ее, через что сотворил, почему сотворил; то и говорится: «Сказал Бог да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош». Итак, если мы спросим, кто сотворил? ответ будет: Бог. Если спросим: через что сотворил? сказал: да будет. Если спросим: почему сотворил? потому что — это хорошо. Нет творца превосходнее Бога, ни художества действительнее Слова Божия, ни причины лучше той, чтобы благо было сотворено благим Богом. И Платон самой главной причиной сотворения мира признает то, что благие творения должны были произойти от благого Бога, — читал ли он это, или, может быть, узнал от тех, которые читали, или при своем весьма проницательном уме узрел невидимое Божие, видимое через творения, или научился у тех, которые додумались до этого.
ГЛАВА XXII
Этой причины, т. е. благости Божией, стремившейся к созданию благ, этой, говорю, причины, столь справедливой и столь достаточной, что она, тщательно взвешенная и благочестиво обдуманная, полагает конец всем спорам исследователей о начале мира, не признавали некоторые еретики. Это на том основании, что бедной и непрочной смертности теперешней плоти, бывшей следствием справедливого наказания, наносит вред весьма многое, когда ей не
Блаженный Августин__________________________________________________________542
соответствует, например, огонь, или холод, или дикие звери, или что–либо в том же роде. Они не обращают внимания даже на то, какое значение имеют эти вещи в своем месте и по своей природе, в каком прекрасном порядке располагаются и насколько каждая вносит свою долю красоты в как бы своего рода общую республику, или сколько они доставляют выгод и нам самим, если пользуемся ими благоразумно и соответствующим образом; так что даже яды, пагубные при ненадлежащем употреблении, обращаются в спасительные лекарства при соответствующем их употреблении; и наоборот, те вещи, которые доставляют удовольствие, например: пища, питье, даже сам свет, могут оказаться вредными при неумеренном и неблаговременном пользовании ими.
Этим божественное провидение учит нас не порицать вещи безрассудно, но прилежно исследовать их пользу; и там, где наш разум или наша слабость окажутся недостаточными, считать эту пользу сокрытой так, как были сокрыты те вещи, которые мы с трудом смогли обрести. Ибо и само сокрытие пользы есть или упражнение нашей скромности, или унижение надменности — потому что решительно никакая природа не есть зло, и само это имя (зло) показывает только лишение добра; но на переходе от земных вещей к небесным и от видимых к невидимым существуют блага одни лучшие других, — для того различные, чтобы были всякие. Бог такой же великий Художник в великом, как и не меньший в малом. Это малое должно измеряться не по своей величине, которая ничтожна, но по мудрости Художника. Пример — наружность человека. Кажется, почти ничего не отнимается у тела, если остричь одну бровь, а между тем, как много отнимается у красоты, которая заключается не в массе, а в равенстве и симметрии членов!
Не следует, конечно, особенно удивляться тому, что те, которые думают, что есть некоторая злая природа, возникшая и распространившаяся от некоторого своего противоположного начала, не хотят допустить упомянутую причину творения вещей, — что благой Бог сотворил доброе, — полагая, что к великой мировой деятельности Он скорее был вынужден внешним образом со стороны воюющего против Него зла; что для обуздания и одоления зла Он смешал со злом Свою добрую природу, которая, позорнейшим образом запятнанная и подвергшаяся жесточайшему пленению и угнетению, с большим трудом едва очищает и освобождает, хотя и не все: то, что Он не смог очистить от этого осквернения, будет покровом и узами для побежденного и заключенного врага. Манихеи не безумствовали бы или, вернее, не сумасбродствовали бы так, если бы верили, что природа Божия, какова она есть, неизменяема и совершенно нетленна, и потому ей ничто не может вредить; а душу, которая по своей воле могла перемениться к худшему и вследствие греха подвергнуться повреждению и лишиться света неизменяемой истины, с христианским здравомыслием признавали бы не частью Бога и не той же природы, какова она у Бога, но сотворенною Им и далеко не равной Творцу.
ГЛАВА XXIII
Но гораздо более нужно удивляться тому, что даже некоторые из тех, которые верят вместе с нами, что существует только одно начало всех вещей и что всякая природа, которая не есть то, что Бог, могла быть сотворена только Им, — даже из этих некоторые не пожелали прямо и просто верить в такую добрую и простую причину сотворения мира, то есть что благой Бог сотворил благо и что то, что было после Бога, не было то же, что Бог, хотя было благом, которое могло быть сотворено только благим Богом. Они
Блаженный Августин__________________________________________________________544
говорят, что души, хотя и не представляющие собой части Бога и сотворенные Богом, согрешили отступлением от Творца и в различных степенях соответственно различию грехов при переходе от неба до земли получили в наказание различные тела, как бы темницы; что таким–де образом получился мир и причиной творения мира было не то, что сотворено было благо, а то, что обуздано было зло.
За это справедливо укоряют Оригена. Это он утверждал и писал в книгах, которые он называет тщп Архюу, т. е. «О началах». При этом я не могу достаточно надивиться, как такой ученый и так много упражнявшийся в церковных писаниях человек не обратил прежде всего внимания на то, что это противоречит прямому намерению Писания, обладающего столь великим авторитетом, которое при всех делах Божи–их прибавляет: «И увидел Бог, что это хорошо»; а по завершении всего говорит: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. I, 31). Оно хотело дать понять, что нет никакой другой причины сотворения мира, кроме той, чтобы добро произошло от благого Бога. Если бы никто не согрешил, мир был бы украшен и наполнен только добрыми природами; а если и есть грех, то от этого не все еще наполнено грехом, потому что гораздо большее число добрых существ на небесах соблюдает порядок своей природы. И злая воля, не пожелавшая соблюдать порядок природы, не ускользнет еще вследствие этого от законов праведного Бога, все направляющего к добру. Ибо как картина с черным цветом, положенным на надлежащем месте, так и совокупность вещей, если кто сможет окинуть ее взором, представляется прекрасной даже с грешниками, хотя безобразие их, когда они рассматриваются сами по себе, делает их гнусными*.
* «Не стоит уподобляться тем невежам, которые ругают художника: дескать, почему не все краски на его картине сочны и ярки, почему там свет, а здесь тень. Неужто они лучше него разбираются в живописи и картина бы выиграла, если бы была, скажем, сплошь ярко–красной? Да и любой город, как бы он хорошо ни управлялся, не мог бы существовать, если бы его жители были во всем между собой равны. Есть и такие, которые искренне возмущаются, когда действующие лица в драме не сплошь герои, но есть еще и слуги, и крестьяне, и шуты. Но ведь и они — неотъемлемая часть действа: оставь одних героев — и что останется от самой драмы?» Плотин. Эннеады. «О провидении (I)» (III, 2,11).
О граде Божием_______________________________________________________________545
Затем Ориген и другие, придерживавшиеся того же образа мыслей, должны были обратить внимание на то, что если бы это мнение было истинно, то мир был бы сотворен для того, чтобы души принимали тела как своего рода смирительные дома, в которые заключались по мере своих грехов: высшие и легчайшие те, которые согрешили меньше, а низшие и более тяжелые те, которые согрешили больше; тела земные, которых нет ничего ниже и тяжелее, должны были бы скорее иметь демоны, которые хуже, чем даже злые люди. А между тем, — чтобы дать нам понять, что нравственные качества душ должны оцениваться не свойствами тел, — злейшие демоны получили воздушные тела; человек же, хотя и злой в настоящее время, но злость которого гораздо меньше и умереннее, несомненно, еще до греха получил тело из праха.
Можно ли сказать глупость большую той, например, что, созидая это солнце, чтобы оно было одно в одном мире, художник–Бог имел в виду не красоту или даже благосостояние вещей телесных, но что это произошло скорее потому, что одна душа согрешила так, что заслужила заключение в именно таком теле? Случись, что подобным образом и одинаково согрешили бы не одна, а две, и даже не две, а десять или сто душ, мир этот, стало быть, имел бы сто солнц. Что этого не произошло, зависело не от удивительной предусмотрительности Творца, направленной к
Блаженный Августин__________________________________________________________546
благосостоянию и красоте телесных вещей, а от простой случайности, — от того, что падение одной души остановилось на такой степени, что она одна заслужила подобное тело. Говоря без околичностей, в обуздании нуждаются не падшие души, относительно которых они не знают, что говорят, а сами они, которые так думают, слишком далеко уклоняясь от истины. Итак, в этих трех ответах, указанных мной выше, на вопросы о какой–либо твари: кто сотворил ее, через что сотворил и почему сотворил, — в ответах: Бог, через Слово, потому что — добро, не содержится ли глубокое указание нам на саму Троицу, т. е Отца и Сына и Святого Духа? Или, быть может, встречается что–либо, не допускающее понимания этого в упомянутом месте Писаний? Вопрос этот требует продолжительной беседы и не следует ожидать от нас, чтобы мы объяснили все в одной книге.
ГЛАВА XXIV
Веруем, непоколебимо содержим и искренне проповедуем, что Отец родил Слово, т. е. Премудрость, через Которую все сотворено, единородного Сына, единый — единого, вечный — совечного, высочайше благой — равно благого; и что Дух Святой есть вместе Дух Отца и Сына и Сам единосущен и совечен обоим; и что все это есть Троица по свойству лиц, и один Бог по нераздельному божеству, как и один всемогущий по нераздельному всемогуществу; но так, однако же, что, когда спрашивается об одном из Них, говорим в ответ, что каждый из Них есть и Бог, и всемогущий, а когда обо всех вместе, — то не три Бога или три всемогущих, но один всемогущий Бог: таково в трех нераздельное единство, и так оно должно быть исповедуемо. Но может ли Святой Дух благого Отца и благого Сына на том основании, что Он — общий Им обоим, правильно называться благостью • обоих, — об этом я не дерзаю поспешно высказать необдуманное суждение:
О граде Божием_______________________________________________________________547
с большей смелостью я назвал бы Его святостью обоих, — не в смысле свойства обоих, но представляя, что и Он также субстанция и третье лицо в Троице.
На последнее с большой вероятностью наводит меня то, что хотя Отец — дух и Сын — дух, Отец — свят и Сын — свят, однако собственно Дух называется Духом Святым, как святость субстанциальная и сосубстанциальная обоим. Но если божественная благость есть святость, то будет прямым логическим выводом, а не смелостью предположения, думать, что в повествовании о творениях Божиих, когда речь идет о том, кто сотворил ту или иную тварь, через что сотворил, для чего сотворил, некоторым таинственным образом выражения; возбуждающим наше внимание, дается нам уразумевать ту же Троицу. То, конечно, Отец Слова, Кто сказал: «Да будет». А что сотворилось, когда Он говорил, то, без сомнения, сотворено через Слово. Выражение же «Увидел Бог, что это хорошо», достаточно ясно показывают, что Бог без всякой необходимости, без всякого соображения о какой–либо собственной пользе, но по одной Своей благости сотворил то, что сотворено, т. е. сотворил потому, что хорошо. Для того об этом и говорится после творения, чтобы показать, что сотворенное соответствует благости, по которой оно сотворено. Если под этой благостью справедливо понимается Святой Дух, то в творениях Божиих нам открывается вся Троица. Отсюда и в святом граде Божием, который в небесах состоит из ангелов святых, различается начало, образование и блаженство. Спросите, откуда он? — Бог просвещает его; откуда его блаженство? — Богом наслаждается. Существуя, имеет определенный вид бытия; созерцая, просвещается; прилепляясь, увеселяется. Есть, созерцает, любит. В вечности Божией получает крепость; в истине Божи–ей сияет светом, в благости Божией радуется.
Блаженный Августин__________________________________________________________548
ГЛАВА XXV
В силу этого же и философы, насколько это можно понять, решили разделить систему философии на три части, или вернее — успели заметить, что она делится на три части (ибо не сами они установили, что это так, а скорее нашли, что — так), из которых первая называется физикой, другая логикой, третья этикой. В переводе на латинский язык имена этих частей так часто употреблялись в сочинениях многих, что они могут быть названы естественной, рациональной и моральной: мы кратко касались их в восьмой книге. Из этого не следует, что философы в этих трех частях мыслили о Троице что–либо достойное Бога; хотя известно, что первым, открывшим и введшим в употребление это разделение философии был Платон, который только Бога признавал и творцом всех существ, и подателем знания, и вдохновителем любви, с которой хорошо и блаженно проводится жизнь. Но хотя разные философы различно думали и о природе вещей, и о способах исследования истины, и о конечном благе, к которому мы должны направлять все, что ни делаем, тем не менее, все усилия их мысли вращаются вокруг этих трех великих и общих вопросов,
В мнениях каждого из них по каждому из этих вопросов множество разногласий; тем не менее, никто из них не сомневается, что существует некоторая причина природы, форма знания, высшее благо жизни. Так же точно и для каждого человека–художника, чтобы он мог что–либо создать, ставятся три условия: природа, искусство, польза; природа измеряется природными дарованиями, искусство — знанием, польза — плодом. Я знаю, что слово плод указывает на употребление, а польза — на пользование, и что между ними то различие, что то, что мы употребляем, доставляет нам удовольствие само по себе, безотносительно к чему–либо другому; а то, чем пользу-
О граде Божием_______________________________________________________________549
емся, то нужно нам для чего–либо другого. Поэтому временными вещами скорее следует пользоваться, чем употреблять их (для удовольствия), чтобы получить право наслаждаться вечными. Не так нужно делать, как некоторые развращенные, которые желают употреблять (для удовольствия) деньги, а пользоваться Богом: не деньги тратят ради Бога, а почитают самого Бога ради денег. Впрочем, в более обычной речи мы говорим, что и плодами пользуемся, и в пользе находим плод. Даже в собственном смысле плодами называем плоды полей, которыми, во всяком случае, мы все пользуемся временно.
Итак, в этом последнем смысле я употребил слово польза, говоря о тех трех условиях, которые ставятся для человека, как–то-, природа, искусство и польза. Соответственно этому, для достижения блаженной жизни философами, как я сказал, была изобретена трехчастная система: естественная соответственно природе, рациональная — познанию и моральная — пользе. Будь наша природа от нас, мы, конечно, сами рождали бы нашу мудрость, а не старались бы приобретать ее через науку, изучая ее; имей наша любовь источник в нас самих и к нам же относись, ее было бы достаточно для блаженной жизни и не было бы нужды в ином благе для нашего наслаждения. При данных же условиях, поскольку наша природа виновником своего бытия имеет Бога, мы, несомненно, для познания истины должны своим учителем полагать Его; для того, чтобы быть блаженными, в Нем же искать подателя внутреннего удовольствия.
ГЛАВА XXVI
И сами мы в себе узнаем образ Бога, т. е. высочайшей Троицы, — образ, правда, неравный, даже весьма отличный, не совечный и, чтобы кратко выразить все, не той же сущности, что Бог, хотя в вещах, Им созданных, наиболее по природе своей к Богу
Блаженный Августин__________________________________________________________550
приближающийся, — образ, требующий пока усовершенствования, чтобы быть ближайшим к Богу и по подобию. Ибо и мы существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание. Относительно этих трех вещей, которые я только что перечислил, мы не опасаемся обмануться какой–нибудь ложью, имеющей вид правдоподобия. Мы не ощущаем их каким–либо телесным чувством, как ощущаем те вещи, которые вне нас, как ощущаем, например, цвет — зрением, звук — слухом, запах — обонянием, поедаемое — вкусом, твердое и мягкое — посредством осязания. Они не из этих чувственных вещей, образы которых, весьма на них похожие, хотя уже и не телесные, вращаются в нашей мысли, удерживаются нашей памятью и возбуждают в нас стремление к ним. Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в высшей степени несомненно, что я существую, что я это знаю, что я люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: «А что если ты обманываешься?» Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться: я, следовательно, существую, если обманываюсь.
Итак, поскольку я существую, если обманываюсь, то каким образом я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, коль скоро обманываюсь? Так как я должен существовать, чтобы обманываться, то нет никакого сомнения, что я не обманываюсь в том, что знаю о своем существовании. Из этого следует, что я не обманываюсь и в том, что я знаю то, что я знаю. Ибо как я знаю о том, что существую, так равно знаю и то, что я знаю. Поскольку же эти две вещи я люблю, то к этим двум вещам, которые я знаю, присоединяю и эту самую любовь как третью, равную с ними по достоинству, ибо я не обманываюсь, что я люблю, если я не обманываюсь
О граде Божием_______________________________________________________________551
и в том, что люблю; хотя если бы даже последнее и было ложно, во всяком случае было бы истинно то, что я люблю ложное. На каком основании стали бы упрекать меня в любви к ложному или удерживать от этой любви, если бы было ложно то, что я его люблю. Если же упомянутое истинно и достоверно, то кто может сомневаться, что когда его любят, истинна и достоверна и сама к нему любовь? Затем, нет никого, кто не желал бы существовать, как нет никого, кто не хотел бы быть блаженным. Ибо каким образом может быть кто–нибудь блаженным, если не будет существовать?
ГЛАВА XXVII
По некоторому естественному влечению само существование до такой степени привлекательно, что и несчастные не желают уничтожения и тогда, когда чувствуют себя несчастными, желают прекращения не своего существования, а своего бедствия. Если бы даже тем, которые и самим себе кажутся несчастнейшими, и на самом деле таковы, и не только мудрыми, как глупые, но даже и теми, которые считают себя блаженными, признаются несчастными, потому что бедны и нищи, — если бы даже этим кто–либо предложил бессмертие, с которым не умерло бы и само их несчастье, предупредив, что они, если не пожелают навсегда пребывать в этом несчастье, обратятся в ничтожество и никогда не возвратятся к бытию, а погибнут совершенно, то, наверно, и они возликовали бы и предпочли бы всегдашнее существование на этом условии совершенному небытию.
Лучший свидетель этого — их собственное чувство. Ибо почему они боятся умирать и предпочитают жить в этой нужде, а не окончить ее смертью, как не потому, что природа, очевидно, избегает небытия? И потому, зная, что умрут, они как великого благо-
Блаженный Августин__________________________________________________________552
деяния ждут, что им оказано будет то милосердие, что они подольше поживут в этом самом несчастье и позже умрут. Этим они доказывают, с какой великой радостью они приняли бы даже такое бессмертие, которое не положило бы конца их несчастью. Да и а самые неразумные животные, от громадных драко- | нов до ничтожных червячков, не наделенные даром понимать это, не показывают ли всевозможными движениями, что они желают существовать и потому избегают погибели? Да и деревья и все молодые побеги, у которых нет никакой способности избегать гибели посредством явных движений, для безопасного распространения ветвей по воздуху разве не впускают корни поглубже в землю, чтобы извлекать оттуда питание и благодаря этому известным образом сохранять свое бытие? Наконец, и те тела, у которых нет не только чувства, но даже никакой растительной жизни, то поднимаются вверх, то опускаются вниз, то держатся в средних пространствах, чтобы сохранить свое бытие там, где они могут существовать сообразно со своей природой.
А как велика любовь к знанию и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает плакать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства. Эта великая и удивительная способность не свойственна никому из смертных одушевленных существ, кроме человека. Некоторые из животных владеют гораздо более острым, чем мы, чувством зрения для созерцания обычного дневного света; но для них недоступен этот бестелесный свет, который известным образом озаряет наш ум, дабы мы могли правильно судить обо всех этих вещах: для нас это возможно настолько, насколько мы воспринимаем этот свет.
Впрочем, и чувствам неразумных животных присуще если и не знание, то, по крайней мере, некоторое подобие знания. Прочие телесные вещи названы
О граде Божием_______________________________________________________________553
чувственными не потому, что чувствуют, а потому, что подлежат чувствам. Из них в деревьях нечто подобное чувствам представляет то, что они питаются и рождают. И эти все телесные вещи имеют свои сокрытые в природе причины. Свои формы, придающие красоту устройству этого видимого мира, они представляют для очищения чувствам; так что кажется, будто они желают быть познаваемы взамен того, что сами не могут познавать. Но мы так воспринимаем их телесным чувством, что судим о них уже не телесным чувством. Ибо у нас есть иное чувство — (чувство) внутреннего человека, далеко превосходящее прочие, посредством которого мы различаем справедливое и несправедливое: справедливое — когда оно имеет известный созерцаемый умом вид, несправедливое — когда не имеет его. Для деятельности этого чувства не нужны ни острота глазного зрачка, ни отверстие уха, ни продушины ноздрей, ни проба ртом и никакое другое телесное прикосновение. Благодаря ему я убежден, что я существую и что знаю об этом; благодаря ему я люблю это и уверен, что люблю.
ГЛАВА XXVIII
Относительно этих двух, бытия и знания, насколько они в нас составляют предмет любви и насколько некоторое подобие их обнаруживается даже в других, стоящих ниже нас вещах, мы, насколько требовалось это задачей предпринятого нами труда, сказали достаточно. Но о любви, которой они любимы, мы еще не сказали, должна ли сама эта любовь быть любимой. Ее любят; и это мы видим из того, что в людях, которых заслуженно любят, сама она более всего и любима. Не тот человек по справедливости называется добрым, который знает, что такое добро, а тот, который любит. Да почему мы в себе самих чувствуем, что любим и саму любовь, которой любим то,
Блаженный Августин__________________________________________________________554
что доброго мы любим. Есть и любовь, которой мы любим то, чего не следует любить; и эту любовь ненавидит в себе тот, кто ту любит, которая любит, что должно любить. Обе эти любви могут быть в одном человеке, и благо для человека заключается в том, чтобы он развивал в себе то, чем мы хорошо живем, и уничтожал то, чем живем худо, пока не излечится совершенно и не изменится в доброе все, чем мы живем. Если бы мы были животными, то мы любили бы плотскую жизнь и все, что отвечает чувству плоти; это было бы для нас достаточным благом и мы, довольствуясь этим благом, не искали бы ничего другого. Так же точно, если бы мы были деревьями, мы, конечно, ничего не любили бы движением чувства, хотя казались бы стремящимися к тому, если бы были более плодовиты. А будь мы камнями, или волной, или ветром, или пламенем, или чем–либо другим в том же роде без всякого чувства и жизни, — и в таком случае у нас не было бы недостатка в некотором стремлении к своему месту и порядку. Ибо нечто подобное любви представляет собой удельный вес тел, по которому они или опускаются от тяжести вниз, или по легкости стремятся вверх. Удельный вес так же уносит тело, как любовь уносит душу, куда бы она ни уносилась.
Итак, поскольку мы люди, созданные по образу Творца своего, у Которого и вечность истинна, и истина вечна, и любовь вечна и истинна, и Который сам есть вечная, истинная и достохвальная Троица, не–слиянная и нераздельная; то в тех вещах, которые ниже нас, но которые сами не могли бы ни существовать каким бы то ни было образом, ни удерживать какой–либо вид, ни стремиться к какому–нибудь порядку, ни удерживать его, если бы не были сотворены Тем, Кому свойственно высочайшее бытие, Который высочайше премудр, высочайше благ, — в этих вещах, неустанно пробегая все сотворенное Им, мы должны разыскивать как бы некоторые следы Его,
О граде Божием_______________________________________________________________555
отпечатленные Им в одном месте более, в другом — менее; созерцая же в самих себе образ Его, возвратимся в самих себя, как известный евангельский младший сын (Лук. XV, 18), и воспрянем, чтобы вернуться к Тому, от Которого удалились вследствие греха. Там бытие наше не будет иметь смерти; там знание наше не будет заблуждаться; там любовь наша не будет иметь преткновения.
Пока мы считаем эти три вещи несомненными и своими и относительно их верим не другим свидетелям, а сами ощущаем их непосредственно и созерцаем их внутренним достовернейшим взором; но долго ли все это будет продолжаться и не прекратится ли когда–нибудь, и к чему оно придет, если будет идти хорошо или дурно, — на все это, так как сами мы не может этого знать, мы требуем или имеем других свидетелей. Почему относительно достоверности этих свидетелей не может быть никакого сомнения, — об этом более тщательно мы поговорим после. В настоящей же книге мы, насколько возможно, продолжим, что начали говорить о граде Божием, который не странствует в этой смертной жизни, а всегда бессмертен в небесах, т. е. о святых ангелах, преданных Богу, которые никогда не были и не будут отступниками, между которыми и теми, что сделались тьмой, отступив от вечного света, Бог от начала, как мы уже сказали, положил разделение.
ГЛАВА XXIX
Эти святые ангелы познают Бога не через слышимые слова, но через само присутствие неизменяемой Истины, т. е. через единородное Его Слово; познают и само Слово, и Отца, и Святого Духа. А что эта Троица есть неразделенная, что отдельные Лица составляют в ней единое существо, что все они суть не три Бога, но один Бог, — они знают это лучше, чем знае мы самих себя.
Блаженный Августин__________________________________________________________556
И само творение они познают там, т. е. в премудрости Божией, как в идее, по которой оно сотворено, лучше, чем в нем самом; а соответственно этому и самих себя они познают там лучше, чем в самих себе, хотя познают себя и в самих себе. Ибо они сотворены и суть иное, чем Тот, Который сотворил их. Поэтому там они познают себя как бы в дневном сознании, а в самих себе — как бы в вечернем, как это сказано нами выше. Ибо великая разница в том, познается ли что–либо в идее, по которой оно сотворено, или же в себе самом. Так, одним образом познается правильность линий или истинность фигур, когда она умственно созерцается, и другим, когда чертится в пыли; одним образом справедливость — в неизменяемой Истине, и другим — в душе справедливого. Так познают они и остальные вещи, например твердь между водами высшими и низшими, называемую небом; собрание вод внизу, обнажение земли и произрастание трав и деревьев; сотворение солнца, луны и звезд; рождение из воды животных, т. е. птиц, рыб и зверей, равно и сотворение всех ходящих по земле, и самого человека, превосходящего на земле все вещи. Все это иначе познается ангелами в Слове Божием, в Котором оно имеет свои неизмененные основы и законы, по которым сотворено; и иначе познается в себе самих. Там это знание — яснее, как знание в идее; здесь темнее, как знание произведения. А когда эти дела относятся к славе и почитанию самого Создателя, они блистают светом в умах созерцающих, как утро.
ГЛАВА XXX
Все это, как повествует Писание, ради совершенства числа шесть через шестикратное повторение того же дня совершается в шесть дней. Это не потому, что для Бога необходима была продолжительность
О граде Божием_______________________________________________________________557
времени, — как бы Он не мог сотворить разом все, что после соответствующими движениями производило бы времена, — но потому, что числом шесть обозначено совершенство творения. Ибо число шесть первое составляется из своих частей, т. е. из части шестой, третьей и половины. Эти части суть один, два и три; сложенные вместе, они составляют шесть. Но при этом рассмотрении чисел должны пониматься те их части, относительно которых может быть сказано, какую часть числа они составляют, т. е. половина, треть, четверть, и которые потом получают наименование от известного числа. Например, хотя в числе девять четыре составляют некоторую часть, но о четырех нельзя сказать, что это часть девяти; об одном же это можно сказать, потому что один есть девятая его часть; может быть это сказано и о трех, так как три составляют третью часть девяти. Но обе эти части, девятая и третья, т. е. один и три, будучи соединены в одно число, далеко не достигают до всего числа, до девяти. Так же точно и в числе десять число четыре составляет известную часть, но нельзя сказать какую; а об одном это может быть сказано, потому что один есть десятая часть десяти. Имеет это число и пятую часть, которая есть два; имеет и половину, которая есть пять. Но эти три части числа десяти: десятая, пятая и половина, т. е. один, два и пять, сложенные вместе, не составляют десяти и равняются восьми. Части же числа двенадцать, сложенные в одну сумму, превышают это число. Оно имеет шестую часть, которую составляют два; имеет четвертую часть, состоящую из трех; имеет третью, состоящую из четырех, имеет и половину, состоящую из шести. Но один, два, три, четыре и шесть — не двенадцать, а более, т. е. шестнадцать.
Я нашел необходимым вкратце упомянуть об этом, чтобы показать совершенство числа шесть, которое первое, как я сказал, составляется из соединения частей своих в одну сумму. В это шестерич-
Блаженный Августин__________________________________________________________558
ное число Бог совершил Свое творение. Не следует поэтому пренебрегать числами. Внимательно вникающие в них хорошо знают, какое великое значение нужно придавать им во многих местах Священного писания. Не напрасно в славословии Бога сказано, что Он все расположил мерой, числом и весом (Прем. XI, 21).
ГЛАВА XXXI
На седьмой же день, т. е. на тот же, семь раз повторенный день, — число, которое в другом отношении также совершенно, — выпадает покой Божий, и при этом в первый раз упоминается освящение. Таким образом, Бог не пожелал освятить этот день в каких–либо делах Своих, но в покое, не имеющем вечера: потому что нет более никакой твари, которая, одним образом познавая себя в Слове Божием и другим — в самой себе, могла бы производить различное знание, подобное дню и вечеру. О совершенстве числа семь может быть сказано весьма многое; но книга эта уже и так слишком растянута, и я опасаюсь, чтобы не могло показаться, будто, воспользовавшись удобным случаем, я хочу разбрасывать свое знание скорее с легкомыслием, чем с пользой. Нужно соблюдать правила умеренности и важности, чтобы не сказали о нас, что, говоря много о числе, мы позабыли меру и важность. Итак, достаточно упомянуть, что три есть первое совершенно неравное число, а четыре — первое совершенно равное: из них–то и состоит число семь. Потому оно часто употребляется вместо числа неопределенного, например: «Семь раз упадет праведник, и встанет» (Притч. XXIV, 16), т. е. сколько бы раз праведный ни падал, он не погибнет.
Это, впрочем, нужно понимать не относительно проступков, но относительно напастей, приводящих
О граде Божием_______________________________________________________________559
к смирению. И еще: «Семикратно в день прославляю Тебя» (Пс. СХУШ, 1б4); что в другом месте выражено иным образом: «Хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс. XXXIII, 2). И многое в этом роде находится в Священном писании, в котором число семь, как я сказал, употребляется обыкновенно для обозначения целой совокупности какой–либо вещи. Поэтому тем же числом часто обозначается Святой Дух, о Котором Господь говорит: «Наставит вас на всякую истину» (Иоан. XVI, 13). Этим числом обозначается и покой Божий, которым успокаивается и человек в Боге. Ибо в целом, т. е. в полном совершенстве, заключается покой, а в части — труд. Мы трудимся, пока познаем отчасти, «когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (I Кор. XIII, 10). Из–за этого происходит так, что даже эти Писания мы изучаем с трудом. Между тем как святые ангелы, об общении и соединении с которыми мы воздыхаем в этом труднейшем странствовании, обладают как вечностью пребывания, так и легкостью познавания, и блаженством покоя. Они без затруднения помогают нам: потому что их духовные, чистые и свободные движения их не утомляют.
ГЛАВА XXXII
Кто–нибудь может затеять спор и начать утверждать, что не святые ангелы разумеются в том месте Писания, где сказано: «Да будет свет. И стал свет»; и будет думать или говорить, что тогда впервые сотворен был какой–нибудь телесный свет; ангелы же сотворены прежде, и не только прежде тверди, созданной между водами и водами и названной небом, но даже прежде того, о чем сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю»; и что выражение «в начале» не значит, будто бы здесь речь о том, что сотворено было прежде всего: потому что еще прежде Бог со-
Блаженный Августин__________________________________________________________560
творил ангелов, а (значит) то, что Он сотворил все в Премудрости, именно в Своем Слове, Которое и в ' Писании называется Началом, как и сам Он в Евангелии на вопрос иудеев, кто Он, ответил, что Он — Начало (Иоан. VIII, 25).
Но я не стану поддерживать спора защитой противоположного мнения, особенно потому, что вполне доволен, что уже в самом начале священной книги Бытия содержится указание на Троицу. Ибо после того, как говорится: «В начале сотворил Бог небо и землю», — с целью дать понять, что Отец творил в Сыне, как свидетельствует псалом, в котором читаем: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро»* (Пс. С1 П, 24), — посте этого совершенно уместно упоминается и Святой Дух. Вслед за тем, как упомянуто, какого свойства в начале Бог сотворил землю, или массу, или материю для образования будущего мира, (который) Он назвал именем неба и земли, и прибавлено: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною», — вслед за тем, чтобы закончить упоминание о Троице, говорится: «И Дух Божий носился над водою» (Быт. I, 2). Итак, пусть каждый понимает, как хочет. Вопрос столь глубок, что может для упражнения читателей, не уклоняющихся от правила веры, вызывать различные решения. Пусть только никто не подвергает сомнению, что существуют в небесах святые ангелы, хотя и не совечные Богу, тем не менее — непоколебимые и твердые в своем вечном и истинном блаженстве. Уча, что к обществу их принадлежат дети Его, Господь не только говорит: «Как Ангелы Божий на небесах» (Мф. XXII, 30), но и показывает, каким созерцанием наслаждаются сами ангелы, говоря: «Говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. XVIII, 10).
* У Августина: «Все сотворил Ты премудростью».
О граде Божием_______________________________________________________________561
ГЛАВА XXXIII
Апостол Петр яснейшим образом показывает, что некоторые ангелы согрешили и низвергнуты в преисподнюю мира сего, служащего для них своего рода темницей до будущего последнего осуждения их в день суда, когда говорит, что Бог «ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (II Пет. II, 4). Кто может сомневаться, что Бог или в Своем предвидении, или самим делом положил разделение между этими и другими ангелами? Кто станет возражать против того, что последние справедливо называются светом, когда даже мы, еще живущие в вере и еще надеющиеся на равенство с ними, но не достигшие его, названы апостолом светом: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе» (Еф. V, 8)? А тьмой с полной ясностью называются падшие ангелы, — это хорошо знают те, которые понимают или верят, что они хуже неверных людей. Пусть в известном месте этой книги, где читаем: «Да будет свет. И стал свет», следует понимать и иной свет; пусть и в том месте, где написано: «И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Быт. 1,2, 3), говорится о другой тьме. Во всяком случае, мы полагаем, что есть два ангельские общества: одно наслаждается Богом, другое кичится гордостью; одно, которому говорится: «Поклонитесь пред Ним, все боги»* (Пс. ХСЛТ, 7), другое, князь которого говорит: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне» (Мф. IV, 9); одно — пылающее святой любовью к Богу, другое — курящееся нечистой любовью к собственному величию; первое из них, соответственно тому, как написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. IV, 6), обитает на небе небес, а другое, низвергнутое оттуда, мечется в этом низшем воздушном небе;
' У Августина: «Поклонитесь Ему все ангелы Его».
Блаженный Августин__________________________________________________________562
первое в светлом благочестии наслаждается покоем, а второе волнуется мрачными страстями; первое по мановению Божию смиренно является на помощь и праведно мстит, а другое горит страстью порабощать и вредить; первое — слуга Божией благости, чтобы помогать по желанию, а другое обуздывается могуществом Божиим, чтобы не вредило настолько, насколько желает вредить; первое насмехается над вторым, ибо то против своей воли приносит пользу своими преследованиями, а последнее завидует первому, собирающему в отечество своих странников.
Итак, если мы высказали мнение, что в известной книге, которая называется книгой Бытия, под именем света и тьмы подразумеваются эти два ангельские общества, неравные между собой и противоположные друг другу, из которых одно — доброе по природе и праведное по направлению воли, а другое — доброе по природе, но превратное по направлению воли, — общества, яснейшие указания на которые содержатся в других местах божественных Писаний, то, хотя бы в приведенном месте писатель подразумевал и нечто другое, темнота его выражений во всяком случае исследована нами не без пользы.
Хотя мы и не в состоянии были точно понять мысль писателя этой книги, однако же не уклонились от правила веры, которое достаточно известно верующим на основании других священных Писаний того же авторитета. Пусть здесь упоминаются только телесные творения Божий; но они, тем не менее, имеют некоторое сходство с духовными, вследствие чего апостол говорит: «Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы» (I Фес. V, 5). Если же и писатель подразумевал именно это, то задача нашего исследования выполнена как нельзя лучше: нужно полагать, что человек Божий, наделенный необычной и божественной мудростью, или лучше
О граде Божием_______________________________________________________________563
Божиих, совершенных, по словам его, в шесть дней, не мог никоим образом опустить и ангелов. «В начале (потому ли, что Он сотворил их сначала, или, как приличнее понимать «в начале», — потому, что сотворил в единородном Слове), — говорит Писание, — сотворил Бог небо и землю». Этими словами обозначена вся совокупность тварей, или, что более вероятно, тварь духовная и телесная, или две великие части мира, которыми обнимается все сотворенное; так что писатель сперва хотел сказать о всей совокупности творения, а потом проследил части его по порядку таинственного числа дней.
ГЛАВА XXXIV
Некоторые думали, что именем вод названы многочисленные сонмы ангелов, и смысл слов: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» (Быт. I, 6) якобы тот, что под водой выше тверди должны пониматься ангелы, а ниже ее — или эти видимые воды, или масса злых ангелов, или же племена всех людей. Если это так, то в данном месте указывается не то, когда сотворены ангелы, а то, когда они разделены. Но некоторые (что свойственно преврат–нейшей и нечестивой суетности) отрицают даже, что воды сотворены Богом, на том основании, что в Писании нигде не сказано: «И сказал Бог: да будет вода». То же самое и с подобной же суетностью они могут сказать и относительно земли; потому что нигде не написано: «Сказал Бог: да будет земля». Но, говорят они, написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». В таком случае здесь же должно разуметь и воду: та и другая обозначены вместе одним именем. «Его — море, — как читаем в псалме, — и Он создал его, и сушу образовали руки Его» (Пс. ХСГУ, 5).
Но те же, которые под именем вод, находящихся превыше' небес, хотят понимать ангелов, принима-
Блаженный Августин__________________________________________________________564
ют в соображение вес стихий и потому не думают, чтобы жидкая и тяжелая природа воды могла быть помещена в высших пространствах мира. Имей они сами возможность на свой манер сотворить человека, они не вложили бы ему в голову слизи, которая по–гречески называется фХеуца и которая в элементах нашего тела заменяет воды. Искусство Божие указало здесь самое пригодное помещение для слизи; а по их предположению это так нелепо, что, если бы мы не знали этого, а в упомянутой книге было бы написано, что Бог в части человеческого тела, высшей всех остальных, поместил влагу, жидкую и холодную, и потому тяжелую, — эти испытатели стихий решительно не поверили бы этому; а если бы подчинились авторитету того же Писания, стали бы утверждать, что здесь следует понимать нечто иное. Но если бы мы прилежно стали исследовать и рассматривать в отдельности все, что написано в этой божественной книге о сотворении мира, то нам пришлось бы и много говорить, и далеко уклониться от плана предпринятого сочинения. Насколько казалось необходимым, мы уже достаточно сказали о тех двух различных и друг другу противоположных обществах ангелов, которые представляют собой известные первоосновы двух градов и в среде человеческой, о которых я предположил говорить далее. Поэтому закончим, наконец, настоящую книгу.
КНИГАДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Прежде чем приступить к рассмотрению сотворения человека, в процессе которого уяснится происхождение двух градов в отношении к разумным смертным существам подобно тому, как оно уяснилось в предыдущей книге в отношении к ангелам, я считаю необходимым предварительно сказать кое–что о самих ангелах, чтобы посредством этого, насколько возможно, доказать, сколь прилично и сообразно говорится об общении людей с ангелами: чтобы справедливо признавались не четыре града, то есть два града ангельских и столько же человеческих, а только два, то есть общества, из которых одно состоит из добрых, а другое из злых, — не ангелов только, но и людей.
Не следует сомневаться в том, что противоположные стремления добрых и злых ангелов произошли не от различия природы и происхождения, ибо тех и других сотворил Бог, благой Творец и Создатель всех существ, а от воли и желаний. В то время как одни постоянно пребывают в общем для всех Благе, Которым служит для них сам Бог, в Его вечности, истине и любви, — другие, более услаждаясь своей властью, как будто бы сами они служат для себя своим благом, уклонились от общего для всех Блага, дающего блаженство, к собственному, и обладая тщеславной надменностью вместо высочайшей верности, пустым лукавством вместо несомненной истины, стремлением к разделению вместо нераздельной любви, сделались гордыми, лживыми и завистливыми. Таким образом, причиной блаженства первых является то, что они преданы Богу. Отсюда, как от противного,
Блаженный Августин__________________________________________________________566
следует заключить о причине несчастий последних, которая состоит в том, что они не преданы Богу. Поэтому, если спрашивают: почему те блаженны, правильный ответ будет такой: потому что они преданы Богу; а когда спрашивают: почему эти несчастны, — правильным ответом будет: потому что они не преданы Богу. Для разумной или умной твари только Бог является тем Благом, через Которое она бывает блаженной. Итак, хотя не всякая тварь может быть блаженной (ибо этого дара не достигают или не полу — " I чают звери, деревья, камни и прочее в этом же роде), однако, которая может, та может не сама по себе, так как сотворена из ничего, а через Того, Кем сотворена. С достижением Его она блаженна, с утратой Его — несчастна. Тот же, кто блажен не через другое благо, а через самого себя, тот не может сам быть несчастным уже потому, что не может утратить самого себя.
Итак, мы говорим, что нет неизменяемого блага, кроме единого, истинного и блаженного Бога; созданное же Им хотя и добро, потому что оно — от Него, но изменчиво, потому что создано не из Него, а из ничего. Оно не есть самое высшее добро: потому что Бог есть благо, высшее его; но немаловажно и то изменяемое добро, которое, чтобы быть блаженным, может привязываться к неизменяемому Благу, до такой степени служащему благом для него, что без Него оно необходимо было бы несчастным. Но прочие в этом мире творения не есть лучшие только потому, что не могут быть несчастными. Нельзя назвать прочие члены нашего тела лучшими по сравнению с глазами потому, что они не могут быть слепыми. Как природа чувствующая, хотя и страдающая, лучше камня, который никоим образом не может страдать, так и природа разумная, если она даже и несчастна, превосходнее той, которая лишена разума и чувства, а потому и не подвергается несчастью.
А если это так, то для той твари, которая сотворена с таким преимуществом, что хотя сама она и из-
О граде Божием_______________________________________________________________567
меняема, однако через привязанность к неизменяемому Благу, т. е. к высочайшему Богу, получает блаженство и удовлетворяет своей потребности только тогда, когда бывает блаженной, причем так, что удовлетворять ее может только Бог, — для такой твари главный порок — не прилепляться к Богу. Всякий же порок вредит природе и потому противоестественен. Таким образом, та другая тварь отличается от этой, преданной Богу, не природой, а пороком; хотя и этот порок показывает, как велика и каких похвал заслуживает сама природа. Ибо чей порицается порок, природа того, несомненно, восхваляется. Это и служит справедливым укором пороку, что им обезображивается природа, достойная похвалы. Поэтому как в том случае, когда слепота называется пороком глаза, указывается на то, что к природе глаза относится зрение; равно и когда глухота называется пороком ушей, указывается, что к природе их относится слух; так и когда пороком ангельской твари называется то, что она не предана Богу, этим ясно показывается, что ее природе свойственно быть преданной Богу. А сколь великой похвалой служит, далее, быть преданным Богу, чтобы жить с Ним, мудрствовать Им, радоваться Им и наслаждаться таким Благом бессмертно, без заблуждения и беспечально? Кто достойным образом может представить это в мысли или выразить словом? Итак, поскольку всякий порок вредит природе, то самим пороком злых ангелов, тем что они не преданы Богу, достаточно показывается, что Бог сотворил их природу такой доброй, что для нее вредно не быть с Богом.
ГЛАВА II
Это сказано нами затем, чтобы кто–либо, читая наши рассуждения о павших ангелах, не подумал, будто они могли получить как бы от другого начала
Блаженный Августин__________________________________________________________568
иную природу и что Бог не бьи Творцом их природы. От этого нечестивого заблуждения тем скорее и легче освободится всякий, чем яснее будет в состоянии понять то, что Бог сказал через ангела, когда посылал Моисея к сынам Израилевым: «Я семь Сущий» (Исх. III, 14). Ибо будучи высочайшей сущностью, т. е. обладая высочайшим и неизменяемым бытием, Бог дал бытие тем вещам, которые сотворил из ничего; но бытие не высочайшее, каким представляется Он сам, а одним дал большее, другим — меньшее, и таким образом распределил природы существ по степеням. Ибо как от мудрствования получила название мудрость, так от существования (еззе) называется сущность (еззепйа), — именем, правда, новым, которым не пользовались древние латинские авторы, но уже употребительным в наши времена, чтобы и наш язык имел то, что греки называют оших. Ибо это слово в буквальном переводе значит сущность. Поэтому той природе, которая имеет высочайшее бытие и которой создано все существующее, противна только та природа, которая не имеет бытия. Существующему противоположно несуществующее. Поэтому и Богу, высочайшей сущности и Творцу всех и всякого рода сущностей, не противна никакая сущность.
ГЛАВА III
Врагами же Божиими называются в Писаниях те, которые не по природе, а вследствие пороков противятся Его власти, не будучи в силах вредить Ему, но нанося вред себе. Они враги по желанию сопротивления, а не по силе делать вред; потому что Бог неизменяем и нетленен. Поэтому порок, по которому противятся Богу те, которые называются Его врагами, составляет зло не для Бога, а для них самих. И это не почему–либо другому, а только потому, что он портит в них природное благо. Таким образом, не
О граде Божием_______________________________________________________________569
природа противна Богу, а порок. Ибо то, что составляет зло, противно добру. А кто станет отрицать, что Бог есть высочайшее Благо? Итак, порок противен Богу, как противно зло добру. Затем и та природа, которую портит порок, есть добро; поэтому нет сомнения — он противен и этому добру; но Богу он противен лишь как зло добру; а для природы, которую портит, он не только зло, но и вредное зло. Ибо никакое зло не может быть вредным для Бога; но оно вредно для природ изменяемых и тленных, но вместе с тем — добрых, как это доказывается присутствием самих пороков. Ибо, не будь они добрыми, им не могли бы вредить пороки. А в чем заключается вред, причиняемый им пороками, как не в том, что пороки отнимают у них чистоту, красоту, здоровье, добродетель и все те блага природы, которые обыкновенно от порока исчезают или умаляются? Не будь их совсем, отнятием блага порок не наносил бы вреда, и потому не был бы и пороком. Ибо порок быть и не вредить не может. Отсюда следует, что хотя порок не может вредить неизменяемому Благу, однако он может вредить только благу, потому что он бывает только там, где вредит.
То же самое можно выразить и так: порок и не может быть в высочайшем Благе, и может быть только в каком–либо благе. Следовательно, одно благо может где–либо быть, но одно зло нигде не бывает; потому что и те природы, которые испорчены порочной злой волей, насколько они порочны, — злы, а насколько они суть природы, — благи. Даже и в том случае, когда порочная природа подвергается наказаниям, добро заключается не только в том, что она — природа, но и в том, что она не остается безнаказанной; потому что это справедливо, а все справедливое, без сомнения, есть благо. Ведь никто не терпит наказания за природные пороки, но только за произвольные. Ибо и тот порок, который, укрепившись вследствие привычки и слишком
Блаженный Августин__________________________________________________________570
сильного развития, стал как бы природным, имеет начало от воли. Мы говорим, впрочем, в настоящем случае о пороках той природы, которая обладает умом, воспринимающим разумный свет, с помощью которого отличает справедливое от несправедливого.
ГЛАВА IV
Ибо странно было бы пороки (несовершенства)животных, деревьев и других изменчивых и временных вещей, лишенных разума, чувства или жизни, портящие их разрушимую природу, считать достойными осуждения; потому что эти творения по воле Творца получили такой образ бытия для того, чтобы, исчезая и снова появляясь, представлять собой низшую степень красоты времен, в своем роде соответствующую известным частям этого мира. Ибо не было нужды уравнивать земное с небесным и не было причины первому не существовать в мире только потому, что последнее — лучше. Поэтому, когда там, где было прилично этому быть, одно появляется на месте другого, меньшее уступает большему, побежденное принимает свойства победившего, — это представляет собой порядок преходящих вещей. Красота этого порядка не привлекает нас потому, что мы, составляя, вследствие нашего смертного состояния, часть его, не можем объять его во всей его совокупности, которой вполне соответствуют части, возбуждающие наше недовольство. Поэтому нам совершенно справедливо внушается верить в творческий промысел там, где сами мы не в состоянии видеть его, чтобы по пустому человеческому безрассудству мы не дерзали укорять в чем–либо произведение столь великого Художника. Впрочем, и эти непроизвольные и ненаказуемые пороки земных предметов, если разумно вникнем в дело, в силу той же причины служат указанием на доброту этих природ, из которых нет ни одной, которая не имела бы Бога своим Творцом и Создателем; потому что мы также бываем недовольны, если порок уничтожает и в них то, что нравится нам в их природе.
Иногда, впрочем, людям не нравятся и сами природы, когда они причиняют им вред и когда люди имеют в виду не природу, а собственную пользу; каковы, например, были те животные, которые в большом числе карали гордость египтян (Исх. VIII). Но в таком случае они могут порицать и солнце; потому что некоторые преступники и не платящие долгов выставляются по решению судей на солнце. Не с точки зрения нашей выгоды или невыгоды, но рассматриваемая сама по себе природа воздает славу своему Художнику. Так и природа вечного огня, несомненно, достойна восхваления, хотя она будет служить для наказания осужденных грешников. Ибо что прекраснее пылающего, полного силы, светящегося огня? Что полезнее его теплоты, целебной силы и способности варить? Хотя и нет ничего мучительнее его жжения. Итак, будучи при ином применении пагубным, он при соответствующем употреблении оказывается чрезвычайно полезным. Ибо кто может выразить словами пользу его в этом мире? Нечего, конечно, слушать тех, которые хвалят в огне свет, но порицают жар, — хвалят и порицают не по природе, а с точки зрения своей выгоды или невыгоды. Видеть они хотят, но гореть не желают. Они не обращают внимания на то, что тот же самый свет, который нравится и им, вреден для слабых глаз вследствие несоответствия; а в том жаре, который им не нравится, без вреда живут, вследствие соответствия, некоторые животные*.
Блаженный Августин__________________________________________________________572
ГЛАВА V
Итак, все природы, поскольку существуют и потому имеют свою меру, свой вид и некоторое взаимное согласие между собой, истинно добры. И находясь там, где должны быть в порядке природы, они сохраняют свое бытие в той мере, в какой оно ими получено. Не получив же бытия вечного, переходят сообразно с пользой и изменением тех тварей, которым подчиняются по законам Творца, в лучшее или худшее состояние, стремясь, по божественному промышлению, к тому концу, который указан им в системе уравнения вселенной; так что и такое повреждение, которое приводит изменяемые и смертные природы к гибели, не уничтожает их бытия, которое они имели прежде, в такой степени, чтобы отсюда не могло произойти то, что должно быть. А если это так, то Бог, обладающий высочайшим бытием и создавший всякую сущность, не имеющую высочайшего бытия (потому что и не должно быть равным Ему то, что создано из ничего и что никоим образом не могло бы быть, если бы не было создано Им), не должен порицаться за встречающиеся какие–либо недостатки, но должен восхваляться при рассмотрении всякого естества.
ГЛАВА VI
Поэтому истинной причиной блаженства добрых ангелов служит то, что они прилепляются к Тому, Кто обладает высочайшим бытием. А если искать причину злополучия злых ангелов, она на деле окажется тем, что, отвратившись от обладающего высочайшим бытием, они обратились к самим себе, не имеющим высшего бытия. А как назвать этот порок, как не гордыней? Ибо начало греха — гордыня (Сир. X, 15). Они не захотели сохранить у Него силу свою (Пс. ЬУШ, 10); и вот, вместо того, чтобы в большей мере иметь бы-
О граде Божием_______________________________________________________________573
тие, если бы они были преданы Ему, обладающему высочайшим бытием, они, предпочитая Ему себя, предпочли то, что обладает бытием в меньшей мере. Вот что составляет первое умаление, первое оскудение и первый порок той природы, которая сотворена так, что хотя не имеет высочайшего бытия, однако для приобретения блаженства могла пользоваться имеющим высочайшее бытие. Отвратившись же от последнего, она хотя и не превратилась в ничто, но стала иметь бытие в меньшей мере, почему и сделалась несчастной.
Если же начать доискиваться причины, по которой произошла злая воля, то не найдется ни одной. Ибо что делает волю злой, когда она же и совершает злое дело? Злая воля служит причиной злых деяний, причин же для злой воли не существует. Ибо, если бы таковая существовала, она или имела бы какую–либо волю, или нет. Если бы имела, то имела бы или добрую, или злую; если добрую, то как бы произвела злую? Ведь в этом бы случае добрая воля была бы причиной греха, что нелепо Если же производящее злую волю само имеет злую волю, то что тогда произвело эту последнюю? В чем же тогда причина первой злой воли? Ведь не может же первая злая воля быть произведена другой злой волей, которая предшествовала бы первой. Если ответят, что она ничем не была произведена, ибо существовала всегда, то спрошу: в какой природе? Если ни в какой, то ее не было вовсе, а если в какой–то, то портила и разрушала ее, причиняла вред и лишала добра. Поэтому злая воля не могла быть в злой природе, но только в доброй, причем в изменяемой, ибо только изменяемой и может вредить порок. Ибо если бы не вредил, то и не был бы пороком, а значит, и нельзя было бы сказать, что речь идет о злой воле. Далее, если он вредил, то вредил, конечно, путем лишения или умаления добра. Следовательно, злая воля не могла быть вечной в том, в чем предварительно было природное добро, которого злая воля могла
Блаженный Августин__________________________________________________________574
лишить через причинение вреда. Но если, таким образом, она не была вечной, то спрашивается, кто ее произвел? Остается допустить, что злую волю произвело то, в чем не было никакой воли.
Опять же спрошу: это последнее — выше ли первой, или ниже, или равно ей? Если выше, то и лучше; каким же тогда образом оно лишено воли, когда не только должно обладать ею, но и, как высшее, обладать волей более доброй? То же следует сказать и о равном. Остается предположить, что оно — ниже, в чем нет никакой воли, и что оно и произвело злую волю в ангельской природе, которая первой согрешила. Но так как и само это низшее, пускай бы это было и самое последнее из земного, составляет природу и сущность, то и оно должно быть добрым, имеющим меру и вид в своем роде и порядке. Итак, каким образом что–либо доброе может производить злую волю? Как, говорю, добро может быть причиной зла? Ибо когда воля, оставив высшее, обращается к низшему, она делается злой не потому, что обратилась ко злу, но потому, что само ее обращение имеет превратное свойство. Поэтому не что–либо низшее сделало волю злой, но сама воля, сделавшись злой, превратно и беспорядочно обратилась к низшему.
Если двое, чьи плоть и дух находятся в одинаковом состоянии, обращают внимание на красоту какого–нибудь тела, и один из них склоняется к непозволительному наслаждению, а другой непоколебимо сохраняет свою целомудренную волю, то в чем же виновно красивое тело? Или, быть может, виновата плоть согрешившего? Но чем она хуже плоти другого? Или виновен дух? Но почему не в обоих? Разве сказать, что один из них поддался искушению злого духа, согласившись с ним как бы против своей воли? В таком случае спрошу, что произвело в нем это согласие, эту злую волю? Для большей ясности представим, что оба подверглись искушению, но один поддался, а другой устоял. Какой вывод следует из этого,
О граде Божием_______________________________________________________________575
как не тот, что один захотел лишиться целомудрия, а другой — нет. А почему, как не по собственной воле, тем более, что состояние тела и духа у них изначально было одинаковым? Глаза обоих одинаково видели, дух обоих равно подвергался искушению; желающие знать, что сделало волю одного из них злой, не находят ничего. Если сказать, что он сам и сделал ее злой, то чем он сам был до того, как не доброй природой, Творцом которой был Бог, неизменяемое Благо? Тот, кто утверждает, что поддавшийся искушению сам создал в себе злую волю, потому что прежде злой воли он был, безусловно, добр, тот пусть спросит себя, почему он сделал ее таковой: потому ли, что она — природа, или потому, что она — из ничего? И тогда он поймет, что злая воля появилась не потому, что она — природа, а потому, что природа ее создана из ничего. Если бы природа была причиной злой воли, то мы вынуждены были бы признать, что от добра происходит зло и что добро — причина зла, коль скоро добрая природа производит злую волю. Но как может добрая природа произвести злую волю прежде, чем у нее самой появится злая воля?
ГЛАВА VII
Итак, пусть никто не ищет причины, производящей злую волю (сашат еШаетет), так как она не производящая, а изводящая (уничтожающая — поп еШаеш, зес! (Зепаеш); потому что и злая воля не есть восполнение (еГгессю), но убывание (йегеспо). Ибо уклониться (убыть — йейсеге) от обладающего высочайшим бытием к имеющему бытие в меньшей степени и означает начать иметь злую волю. Затем желать найти причину этих уклонений, — причину, как я сказал, не производящую, а уничтожающую, — было бы то же самое, как если бы кто–либо захотел видеть мрак или слышать безмолвие. То и другое нам известно,
Блаженный Августин_________________ _____576
но известно не в проявлении, а в отсутствии проявления. Итак, пусть никто не спрашивает у меня о том, о чем я знаю, что я этого не знаю; разве только с целью научиться у меня незнанию того, о чем следует знать, что это знать невозможно. Ибо то, что познается не в проявлении, а по отсутствию проявления, то, если так можно выразиться, познается некоторым образом через незнание, чтобы сознательно не зналось. Ибо когда взор и телесного ока пробегает по телесным образам, то видит мрак только там, где перестает что–либо видеть*. Так же точно и ощущение безмолвия составляет принадлежность слуха, хотя и чувствуется не иначе, как отсутствием слуха. Равным образом и духовные проявления, хотя наш ум мысленно и созерцает, но где их нет, там мы учимся через незнание». Ибо «кто усмотрит погрешности свои» (Пс. XVIII, 13)?
ГЛАВА VIII
Что я твердо знаю, так это то, что божественная природа никогда, нигде и ни в каком отношении не может иметь убыли; а то, что создано из ничего, может убывать. Однако коль скоро последнее в большей мере обладает бытием и делает добро (ибо только в этом случае оно делает нечто), то имеет производящие причины; а коль скоро оно уклоняется и потому
* «Так бывает, когда глаз, дабы узреть тьму, отвращается от света: при свете тьма была для него невидима, но и без света он ничего не может видеть; единственно, что он может без света, — это не–видеть, и вот это–то невиденье и оказывается для него видением тьмы». Плотин. Эннеады. «О природе и источнике зла» (1,8.9).
" Т. е. учимся не знать то, что «воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного (неправомерного) умозаключения, и поверить в него почти невозможно». Платон. Тимей.
О граде Божием_______________________________________________________________577
делает зло (ибо что в таком случае оно делает, кроме суетного?), то имеет причины уничтожающие. Знаю также, что в том, в ком бывает злая воля, в том бывает то, чего не было бы, если бы он того не пожелал; а потому и справедливому наказанию подвергаются не необходимые, а произвольные уклонения. Ибо уклонения, уклонения не ко злу, но — злые уклонения; т. е. не к злым природам, а злые потому, что происходят вопреки порядку природ от высочайшего бытия к низшему. Корыстолюбие, например, порок не золота, а человека, имеющего превратную любовь к золоту, оставившего правду, которую он должен ценить несравненно выше золота. Так же точно невоздержание есть порок не красивых и привлекательных тел, а души, которая имеет превратную любовь к телесным наслаждениям, презрев воздержание, через которое мы духовно соединяемся с тем, что, оставаясь неизменным, более прекрасно и привлекательно. И тщеславие есть порок не человеческой похвалы, а души, которая имеет превратную любовь к похвалам со стороны людей, пренебрегая свидетельствами своей совести. Равным образом и гордость есть порок не дающего власть и не самой власти, а души, которая имеет превратную любовь к своей власти, презрев более справедливую власть сильнейшего. Поэтому, кто имеет превратную любовь к благу какой–либо природы, тот, хотя бы и достиг его, и сам делается злым при обладании благом, и (становится) несчастным, как лишившийся блага лучшего.
ГЛАВА IX
Итак, если нет никакой производящей или, если можно так выразиться, бытийной (еззегшаНз) причины злой воли, потому что от нее самой начинается зло изменяемых духов, умаляющее или извращающее благо их природы; а эту волю производит только уклонение, по которому оставляется Бог,
Блаженный Августин__________________________________________________________578
но причины для которого не оказывается вовсе; то, если бы мы сказали, что таким же образом нет причины производящей и добрую волю, следовало бы опасаться, что могут подумать, будто добрая воля добрых ангелов не создана, а совечна Богу. Но если они сами созданы, то каким образом можно назвать ее несозданной? Затем, если она создана, то создана ли она вместе с ними, или они сперва были без нее? Но если вместе с ними, то несомненно, что она создана Тем, Кем и сами они, и как только были созданы, то к Тому, Кем созданы, привязались любовью, с которою созданы. Те же другие потому отделились от их сообщества, что эти пребыли в той же доброй воле, а те, отступив от нее, изменились именно вследствие злой воли, уклонившись этим самым от доброй, от которой, конечно, не уклонились бы, если бы не захотели.
Если же добрые ангелы были прежде без доброй воли и сами создали ее в себе без божественного содействия, то это значило бы, что сами они сделали себя лучшими, чем их создал Бог. Да не будет. Ибо какими они были без доброй воли, если не злыми? Или, если они не были злыми по причине того, что не было в них злой воли (потому что они не могли отступить от той, которую еще не начали иметь), то во всяком случае они еще не были такими столь добрыми, какими начали быть, когда стали иметь добрую волю. Или, если они не могли сделать себя самих лучшими, чем создал их Тот, лучше Которого никто не может что–либо сделать; то, конечно, только при содействующей помощи Творца они могли иметь и добрую волю, чтобы быть через нее лучшими. И так как их добрая воля сделала то, что они стали обращаться не к себе самим, имеющим в меньшей мере бытие, а к Тому, Кто обладает высочайшим бытием, и, привязываясь к нему, стали получать в большей мере бытие и через причастность Ему жить мудро и блаженно, то что другое обнаруживается из этого, как не то, что всякая добрая воля была бы недостаточной, оставаясь при одном только желании, если бы Тот, Кто, создав из ничего добрую природу, способную к восприятию Его, не сделал ее через восполнение Собою лучшей, предварительно возбудив в ней к Себе горячее стремление?
Следует рассмотреть и следующее: если добрые ангелы сами создали в себе добрую волю, то создали ли ее какой–либо волей, или безо всякой воли? Если без воли, то вовсе ее не создали. А если какой–либо волей, то злой или доброй? Если злой, то как злая воля могла произвести волю добрую? Если доброй, то они уже имели ее. А кто создал эту последнюю, если не Тот, Кто сотворил их с доброй волей, т. е. с чистой любовью, которой они могли бы влечься к Нему, — создал, творя их природу и даруя им вместе с тем благодать? Таким образом, следует верить, что святые ангелы никогда не были без доброй воли, то есть без любви Божией. А те, которые, будучи созданы добрыми, стали злыми по собственной воле, которую добрая природа создала только после произвольного отступления от добра, так что причиной зла было не добро, а отступление от добра, — те или получили благодать божественной любви в меньшей мере, чем устоявшие в ней, или же, если те и другие были сотворены одинаково добрыми, когда по злой воле пали, устоявшие вследствие большого вспомоществования достигли той полноты блаженства, из которой никогда не могут ниспасть, как мы об этом говорили еще в предыдущей книге.
Таким образом, с должной хвалой Творцу следует сознаться, что не в применении к одним только святым людям, но и о святых ангелах можно сказать, что любовь Божия разлита в них Духом Святым, данным им (Рим. V, 5), и что не только для людей, но первоначально и по преимуществу для ангелов было благом то, о чем написано: «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. ЬХХИ, 28). Для кого это благо является общим, те имеют святое сообщество
Блаженный Августин__________________________________________________________580
и с Тем, к Кому прилепляются, и между собой, и составляют один град Бога, служащий и живой Ему жертвой, и живым Ему храмом.
Как сказал я об ангелах, так считаю теперь нужным сказать и о том, как произошла через сотворение тем же Богом и та часть этого града, которая составляется для соединения с бессмертными ангелами из смертных людей и пока, подлежа смерти, странствует по земле или покоится в особых жилищах и место пребывания душ в среде скончавшихся. Ибо род человеческий получил начало от одного человека, которого первоначально создал Бог по свидетельству Священного писания, справедливо имеющего необычайный авторитет во всем мире и между всеми народами, о вере которых в него, между прочими истинами, само оно предсказало с истинною божественностью.
ГЛАВАХ
Итак, оставим предположения людей, которые сами не знают, что говорят о происхождении рода человеческого. Некоторые как о самом мире верили, так и о людях думали, будто они были всегда. Поэтому и Апулей, описывая этот род животных, говорит, — «Каждый в отдельности — они смертны, но в своей совокупности в целом роде — вечны»*.
Им возражали, что если род человеческий существовал вечно, то каким образом их история могла говорить истину, повествуя о том, кто и что изобрел, кто были первые основатели свободных и других наук и искусств или кем в первый раз начала населяться та или другая страна, часть земли или остров? На это они отвечают, что через известные промежутки времени хотя и не вся,
О граде Божием_______________________________________________________________581
но большая часть земли так опустошается потопами и истребляется огнем, что число людей сводится к незначительному количеству, от которого затем снова рождается прежнее их число, и таким образом то и дело появляется и созидается как бы в первый раз то, что в действительности восстанавливается, будучи разрушенным и истребленным упомянутыми чрезвычайными опустошениями*; а что касается, мол, человека, то он мог произойти не иначе, как только от человека. Но они говорят то, что думают, а не то, что знают.
Обманывают их и некоторые крайне лживые сочинения, представляющие, будто история обнимает собой многие тысячи лет», между тем как согласно Священным писаниям от сотворения человека мы еще не насчитываем и полных шести тысяч лет. Отсюда (чтобы не рассуждать долго о том, как опровергаются эти пустые сочинения, в которых представляется гораздо большее число тысячелетий, и не доказывать, что они решительно не заслуживают никакого доверия) и известное письмо Александра Великого к матери его Олимпиаде. Он писал это письмо, излагая рассказ некоего египетского жреца, заимствованный последним из сочинений, считавшихся у них священными, и обнимающий царства, известные и в греческой истории. Из числа этих царств, царство ассирийское, согласно упомянутому письму Александра, насчитывает более пяти тысяч лет; по греческой же истории оно имеет около тысячи трехсот лет со времени царствования Бела; этого царя вышеупомянутый египтянин ставит в самом начале этого царства. Персидское же и македонское царства продолжались до времени самого Александра, с которым он говорил, более восьми тысяч лет; между тем как греки македонскому царству вплоть до смерти Александра отводили четыреста во-
Блаженный Августин__________________________________________________________582
семьдесят пять лет, а персидскому, до разрушения его тем же Александром, насчитывали двести тридцать три года. Таким образом, последние числа несравненно меньше египетских и не могут сравняться с ними, даже если увеличить их втрое.
Говорят, будто египтяне имели некогда столь короткие годы, что каждый из них ограничивался четырьмя месяцами*; так что более полный и более правильный год, какой теперь имеем и мы, и они, равняются трем их древним годам. Но и при этом греческая история, как я сказал, не может быть согласована с египетской относительно летосчисления. А потому скорее следует верить греческой, так как она не превышает истинного числа лет, содержащихся в наших Священных писаниях. Затем, если это пользующееся особой известностью письмо Александра очень далеко в отношении определения времени от достоверности, то тем менее следует верить тем сочинениям, которые, полные как бы басенной старины, они хотели противопоставить авторитету наиболее известных и божественных книг, которые предсказали, что весь мир будет верить им и которым действительно весь мир стал верить, как было предсказано. Истинность своего повествования о прошедшем они доказали точным исполнением предвозвещенного ими будущего.
ГЛАВА XI
Другие же, не считая этот мир вечным, или признают не один только этот мир, а бесчисленное множество миров», или же, признавая один мир, думают, что он бесчисленное количество раз по истечении известного ряда веков возрождается и погибает»*.
"' См. ниже, кн. XVIII, гл. 41.
О граде Божием_______________________________________________________________583
Последние приходят к неизбежному выводу, что человеческий род получает первоначальное существование не посредством рождения от людей. Ибо те, о которых мы выше говорили, утверждают, что после потопов и истребления стран огнем, которые они не считают повсеместными, всегда остается несколько людей для восстановления прежнего их количества. Но эти не могут думать, чтобы в мире во время гибели его сохранилось хоть сколько–нибудь людей. Признавая сам мир возрождающимся из своей материи, они полагают также, что и род человеческий возрождается в нем из его элементов, а потом уже человеческое поколение размножается от родителей, как размножаются и поколения других животных.
ГЛАВА XII
Что мы ответили, когда речь шла о происхождении мира, тем, которые хотят представлять мир вечным, но получившим начало своего бытия, как это яснейшим образом признает и Платон (хотя некоторые полагают, что он говорил одно, а думал совсем другое), то же самое я мог бы сказать в ответ и относительно первого создания человека тем, которые останавливаются в недоумении перед вопросом: почему человек не сотворен ранее в неисчислимые и бесконечные времена, а создан так поздно, что по свидетельству Священных писаний прошло менее шести тысяч лет с того времени, как он начал существовать. Если их озадачивает краткость времени, если им кажется, что прошло слишком мало лет с того момента, когда по свидетельству наших писаний был сотворен человек, то пусть примут во внимание, что ничто не долговременно, что имеет какой–нибудь последний предел, и что все определенные пространства веков, если сравнить их с бес-
Блаженный Августин__________________________________________________________584
предельной вечностью, должны считаться не малыми, а равными нулю. Поэтому если бы мы сказали, что с того времени, как Бог создал человека, прошло не пять или шесть, а шестьдесят или шестьсот тысяч, шесть или шестьдесят миллионов лет; или стали бы увеличивать эту сумму во столько раз, что не нашли бы и названия для обозначения количества лет со времени создания Богом человека то и тогда можно было бы спросить: почему Бог не создал его раньше? Безначально–вечный покой Божий, предшествовавший сотворению человека, таков, что если сравнить с ним какое бы то ни было громадное и невыразимое словами количество веков, имеющее, однако, известные пределы, которыми оно ограничивается, сравнение не будет соответствовать даже сравнению малейшей капли воды с совокупностью вод всех морей и океанов.
Пусть первый из этих двух предметов крайне мал, а другой чрезвычайно велик; но оба они имеют границы. То же количество времени, которое имеет какое–либо начало и ограничивается каким–либо пределом, сколько бы мы ни увеличивали его, в сравнении с тем, что не имеет начала, должно почитаться самым малейшим или, вернее, ничтожным. Если от этого времени, уменьшая его число, хотя бы и такое громадное, что для него нет даже названия, мы отнимали бы одну за другой самые малейшие частицы, ведя исчисление назад к его началу, подобно тому, как при отнятии дней человека, начиная с того дня, в который он теперь живет, до того, в который он родился, — уменьшение это когда–нибудь дойдет до начала. Но если от пространства, не имеющего начала, отнимать одно за другим, ведя исчисление назад, — не говорю небольшие количества, состоящие из часов, месяцев, лет, — но и такие громадные пространства, какие обнимает та сумма веков, которая не может быть исчислена никакими математиками, но которая, однако, при постепенном отнятии малых
О граде Божием______________________________________________________________585
частиц уничтожается; и если отнимать их не раз и не два или еще чаще, а постоянно: что из этого выйдет, коль скоро никогда нельзя дойти до начала, которого совершенно нет? Поэтому, о чем мы теперь, по истечении пяти с лишком тысяч лет, спрашиваем, о том же с любопытством могут спрашивать и потомки через шестьсот тысяч лет, если на столько времени продлится жизнь смертных людей, — то рождающихся, то умирающих, — и их невежественная немощь. Могли поднимать этот вопрос и те, которые жили прежде нас. Мог, наконец, и сам первый человек или на другой день после своего создания, или в тот же день спрашивать, почему он не был создан ранее. Но если бы он был создан ранее, этот спор о начале временных вещей имел бы те же самые основания и прежде, и теперь, и впоследствии.
ГЛАВА XIII
Философы этого мира полагали, что можно или должно решить этот спор не иначе, как допустив кругообращения времен, в которые одно и то же постоянно возобновляется и повторяется в природе вещей, и утверждали, что и впоследствии беспрерывно будут совершаться кругообращения наступающих и проходящих веков, будут ли это кругообращения в мире постоянно пребывающем, или он, возрождаясь и погибая через известные промежутки, будет всегда представлять в виде нового то, что уже прежде было и что будет опять. Это — насмешка над бессмертной душой, и вывести ее из унизительного состояния даже в том случае, если она достигла мудрости, они решительно не могут: потому что она постоянно стремится к мнимому блаженству, но беспрестанно возвращается к истинному несчастью. Ибо как можно назвать истинным то блаженство, на вечность которого никогда нельзя надеяться, потому что душа
Блаженный Августин__________________________________________________________586
или по крайнему невежеству не знает, что ей в действительности угрожает несчастье, или несчастнейшим образом страшится его при обладании блаженством? А если она никогда потом не возвратится к несчастьям и от бедственного состояния переходит к блаженству, то, значит, бывает нечто новое во времени, не имеющее временного предела. Но почему в этом случае не то же бывает и с миром? Почему то же не бывает и с человеком, созданным в мире? Почему бы ему в здравом учении стезею правого пути не избежать каких–то мнимых кругообращений, изобретенных ложными и коварными мудрецами?
Некоторые полагают, будто бы и то, что написано в первой главе книги Соломона, называемой Екклесиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. I, 9, 10), сказано об этих кругообращениях, возвращающих и восстанавливающих все в одном и том же виде*.
Но он сказал это или о том, о чем говорил выше, то есть о поколениях, из которых одни проходят, другие приходят, о круговых движениях солнца, о течениях рек или, пожалуй, о родах всех вещей, которые появляются и исчезают. Были, например, люди и прежде нас, существуют они и вместе с нами, будут и после нас; так же точно те или другие животные и деревья. Самые чрезвычайные явления, выходящие из ряда обыкновенных, хотя отличаются одни от других и о некоторых рассказывается, что они были только один раз, насколько они вообще чудесны и чрезвычайны, непременно и прежде были и будут; ничего нового и небывалого не представляет собой то, что чрезвычайные явления бывают под солнцем. Некоторые, впрочем, толковали эти слова в том смысле, будто Премудрый хотел дать понять, что уже
О граде Божием_______________________________________________________________587
все было сделано в предопределении Божием и потому ничто не ново под солнцем.
Во всяком случае, с правою верой несовместима мысль, будто этими словами Соломон обозначил те кругообращения, которые, по их мнению, повторяют те же самые времена и те же самые временные вещи так, что, например, как в известный век философ Платон учил учеников в городе Афинах в школе, называвшейся Академией, так и за несметное число веков прежде через весьма обширные, но определенные периоды, повторялись тот же Платон, тот же город, та же школа и те же ученики; и впоследствии, по прошествии бесчисленных веков, снова должны повториться. Чуждо, говорю, это нашей вере. Ибо Христос однажды умер за грехи наши; восстав же, «уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. VI, 9); и мы по воскресении «всегда с Господом будем» (I Фес. IV, 17), Которому одному только мы говорим то, что внушается в священном псалме: «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек» (Пс. XI, 8). Вполне соответствующим этому считаю и последующее слова: «Повсюду ходят нечестивые» (Пс. XI, 9): не потому, что жизнь их будет проходить через воображаемые ими круги, а потому, что таков именно путь их заблуждения, т. е. ложное учение.
ГЛАВА XIV
Что же удивительного, если они, блуждая в этих круговращениях, не находят ни входа, ни выхода? Они не знают, ни откуда начался, ни чем окончится род человеческий и наша смертность; потому что не могут постигнуть высоты Божией: как Он, будучи Сам вечным и безначальным, начав, однако же, с некоторого момента, сотворил во времени и времена, и человека, которого прежде никогда не создавал, и сотворил не по новому и внезапному, а по вечному и
Блаженный Августин__________________________________________________________588
неизменному решению. Кто в состоянии исследовать и испытать эту неисследимую и неиспытуемую высоту, по которой Бог во времени по неизменяемой воле создал временного человека, прежде которого не было никого из людей, и от одного человека размножил род человеческий? Ибо и псалом, предпослав слова: «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек» (Пс. XI, 8), и затем отразив тех, в безумном и нечестивом учении которых нисколько не предоставляется душе вечного освобождения и блаженства, прибавив: «Повсюду ходят нечестивые» (Пс. XI, 9), как будто бы ему (Давиду) говорили: «Чему это ты веруешь, каких держишься мыслей и мнений? Разве можно думать, что Бог внезапно восхотел создать человека, которого никогда прежде в бесконечной вечности не создавал, — Бог, с Которым не может случиться ничего нового, в Котором нет ничего изменяемого?», — непосредственно затем отвечает, обращая речь к самому Богу: «Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились»" (Пс. XI, 9). Пусть, говорит, люди думают, что хотят; пусть воображают, что им угодно; пусть ведут, как им угодно, свои рассуждения. «По высоте Твоей», которую никто из людей не может постигнуть, «возвысил Ты сынов человеческих». Это чрезвычайная высота, что Бог был вечно, что в первый раз восхотел создать человека, которого никогда прежде не создавал, с некоторого времени, и что не изменил при этом Своего совета и воли.
ГЛАВА XV
Я не дерзаю сказать, что Господь Бог некогда не был Господом. Не могу сомневаться я и в том, что человека никогда прежде не было, что человек был сотворен в первый раз в некоторый момент времени. Но когда размышляю о том, какой же вещи Господь всегда был Господом, если не всегда была тварь, — боюсь сказать что–нибудь утвердительным образом. Обращаюсь я к себе самому и вспоминаю сказанное о том, что нет человека, способного познать совет Божий, помыслить, чего хочет Бог; ибо помыслы смертных боязливы, мнения обманчивы, тленное же тело отягощает душу и земное жилище обременяет многозаботливый ум (Прем. IX, 13—15).
' У Августина: «По высоте Твоей возвысил Ты сынов человеческих».
О граде Божием_______________________________________________________________589
Итак, если я скажу, что из этого многого (потому, без сомнения, многого, что я не могу найти того, что одно из этого или кроме этого, о чем я, может быть, и не помышляю, действительно истинно), о чем я размышляю в этом земном жилище, всегда была тварь, Господом которой всегда был Тот, Кто всегда есть Господь и всегда был Господом, но в одно время — одна, в другое — другая, чтобы какую–либо из них не назвать нам совечной Творцу: то грозит нелепый и чуждый свету истины вывод, что тварь то в те, то в • другие времена, одна исчезая, а другая появляясь вместо нее, всегда была смертной, а бессмертной начала быть только тогда, когда настал наш век, в который сотворены и ангелы, если действительно их обозначает тот первозданный свет или, скорее, то небо, о котором сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1); хотя их не было прежде, чем они были сотворены, чтобы кто–либо не подумал, что они совечны Богу, если они, как бессмертные, будут признаны бывшими всегда. Если же скажу, что ангелы были сотворены не во времени, но были прежде всех времен и Господом их всегда был Бог, всегда бывший Господом; то меня могут спросить: «Если они сотворены прежде всех времен, то могли ли всегда быть те, которые были сотворены?»
На это, пожалуй, может быть такой ответ: «Каким образом они могли быть не всегда, когда то, что бывает во всякое время, вполне сообразно называетс
Блаженный Августин__________________________________________________________590
всегда существующим?» А они настолько были во всякое время, что даже были сотворены прежде всех времен (это, впрочем, справедливо в том случае, если от неба начались времена, а ангелы уже были прежде неба). Но если время началось не от неба, но было и прежде неба, хотя не состояло из часов, дней, месяцев и годов (ибо эти измерения пространства времени, обыкновенно и в собственном смысле называемые временами, начались с движения небесных светил, почему и Бог при творении их сказал: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт. I, 14)), а обнаруживалось в некотором изменяющемся движении, в котором одно приходило раньше, другое позже, потому что не могло быть вместе; если, следовательно, прежде неба в ангельских движениях происходило нечто подобное и потому уже было временем, и ангелы с того момента, как были сотворены, имели движение во времени: то и в таком случае они были во всякое время, так как вместе с ними были созданы и времена. А кто может сказать, что не всегда было то, что было во всякое время?
Но если я дам такой ответ, мне скажут: «Каким же образом они не совечны Творцу, если всегда был Он и всегда были они? Как можно называть их сотворенными, когда они представляются всегда бывшими?» Что ответить на это? Не сказать ли, что они и всегда были, потому что были во всякое время или как созданные вместе со временем, или как такие, вместе с которыми созданы времена; и вместе с тем — сотворены? Мы не скажем, что не сотворены и сами времена; но никто не станет сомневаться в том, что во всякое время было время. Ибо если не во всякое время было время, то, значит, было время, когда не было никакого времени. А кто, пусть даже самый безрассудный, скажет это? Мы можем вполне правильно сказать: «Было время, когда не было Рима; было время,
О граде Божием______________________________________________________________591
когда не было Иерусалима; было время, когда не было Авраама; было время, когда не было человека» и т. п. Затем, если мир создан не с началом времени, а после некоторого времени, мы можем сказать: «Было время, когда не было мира». Но сказать: «Было время, когда не было никакого времени», было бы так же нелепо, как если бы кто сказал: «Был человек, когда не было никакого человека», или: «Был этот мир, когда не было этого мира». Конечно, если понимать в одном случае одно, а в другом другое, можно некоторым образом употребить и такое выражение, имея в виду следующее: «Был–де другой человек, когда не было этого человека». В таком случае мы можем правильно сказать: «Было другое время, когда не было этого времени». Но кто, хотя бы и самый сумасбродный, скажет: «Было время, когда не было никакого времени?»
Поэтому, как время мы называем сотворенным, хотя оно называется бывшим всегда, потому что время было во всякое время; так если и ангелы были всегда, то из этого еще не следует, что они не были сотворены. Они потому называются бывшими всегда, что были во всякое время; а во всякое время были потому, что без них никоим образом не могли быть сами времена. Ибо где нет никакой твари, через изменяющиеся движения которой образуются времена, там совершенно не может быть времен. Поэтому, хотя они и всегда были, тем не менее, они сотворены; и из того, что они всегда были, вовсе не следует, что они совечны Творцу. Ибо Он был всегда в неизменяемой вечности, а они сотворены, хотя и называются бывшими всегда потому, что были во всякое время и без них никоим образом не могли бы быть времена. Но так как течение времени образуется через изменения, то время не может быть совечным неизменяемой вечности. А поэтому, хотя бессмертие ангелов не оканчивается во времени и не может быть ни прошедшим, как бы
Блаженный Августин_________________________________________________________592
его уже не было, ни будущим, как бы оно еще не настало: тем не менее, их движения, которые дают образование временам, переходят из будущего в прошедшее; а потому они не могут быть совечны–ми Творцу, о Котором нельзя сказать, что в Его движении или было то, чего уже нет, или будет то, чего еще нет.
Таким образом, если Бог всегда был Господом, то Он всегда имел тварь, служившую Его владычеству; но не рожденную от Него тварь, а созданную Им из ничего и не совечную Ему: ибо Он был прежде нее, хотя ни в какое время не был без нее, предваряя ее не преходящим временем, а пребывающей вечностью. Но если я так отвечу тем, которые спрашивают, каким образом Он всегда был Творцом, всегда был Господом, если не всегда была тварь, которая служила Ему; или каким образом она сотворена, а не совечна Творцу, если была всегда, то боюсь, что меня скорее сочтут за утверждающего то, чего я не знаю, нежели за учащего тому, что знаю. Поэтому возвращаюсь к тому, что наш Творец благоволил дать нам знать; а что Он даровал в этой жизни знать мудрейшим или знание чего предоставил в другой жизни вполне совершенным, то признаю превышающим мои силы. Но все же я нашел нужным поговорить об этом, ничего не утверждая, чтобы читающие видели, от каких опасных вопросов они должны воздерживаться, и чтобы не считали себя ко всему способными, а напротив, поняли бы, как спасительно повиноваться заповеди апостола, говорящего: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. XII, 3). Если младенец питается сообразно со своими силами, то, повзрослев, он сможет воспринимать больше; если же он превышает в этом свои силы, то изнеможет прежде, нежели вырастет.
О граде Божием______________________________________________________________593
ГЛАВА XVI
Признаюсь, я понятия не имею, какие века прошли прежде сотворения рода человеческого; но не сомневаюсь, что решительно нет никакой твари, совеч–ной Творцу. И апостол говорит о временах вечных, и притом не о будущих, а, что более удивительно, о прошедших. Вот его слова: «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил Свое слово» (Тит. 1,2, 3) Таким образом, по его словам, прежде были времена вечные, которые, однако, не были совечными Богу. Если же Он прежде вековых времен не только был, но и обещал жизнь вечную, которую явил в надлежащее время, то что другое это означает, как не Слово Его? Ибо это Слово и есть жизнь вечная. Как же иначе Он обетовал, обещая, без сомнения, людям, которых еще не было прежде вековых времен, как не так, что в вечности Его и в самом Слове Его, совечном Ему, уже предопределено было то, что должно было быть в свое время?
ГЛАВА XVII
Не сомневаюсь я и в том, что прежде сотворения первого человека никогда не было никакого человека, ни того же самого, несколько раз возвращавшегося через какие–то кругообращения, ни какого–либо другого, подобного ему по природе. От этой веры не могут отклонить меня и аргументы философов, из которых самым остроумным признается тот, согласно которому утверждают, что ничто неопределенное не может быть постигнуто никаким знанием, а потому, говорят, Бог имеет у Себя все конечные основания всех конечных вещей, сознаваемых Им. Благость же Его ни в какое время не должна представляться праздной так, чтобы Его действие, которому предшествовало
Блаженный Августин__________________________________________________________594
вечное неделание, казалось временным, как будто бы Бог вследствие раскаяния в своей прежней безначальной бездеятельности приступил к творению. Поэтому, говорят, необходимо должно повторяться постоянно одно и то же, и постоянно проходить, чтобы снова повториться или при постоянном пребывании изменяющегося мира, который всегда был, однако был создан без начала времени, или при постоянно повторяющемся и долженствующем постоянно повторяться создании и разрушении его в известные моменты. А иначе, мол, признавая Бога когда–либо в первый раз начавшим Свое творение, мы придем к мысли, что Он некоторым образом осудил Свою прежнюю бездеятельность как праздную и леностную и вследствие этого Ему неугодную, и потому изменил ее. Если же представлять, что Он всегда творил хотя временное, но то одно, то другое, и таким образом дошел, наконец, до творения человека, которого никогда прежде не творил, то окажется, что не в силу знания, которым, как они думают, не может быть охвачено что–либо неопределенное, а как бы па внушению минуты, — как пришло на ум, по какому–то случайному непостоянству, — Он создал то, что создал. Затем, говорят, если допустить те кругообращения, в которые, — при пребывании ли мира, или же при включении и им своих повторяющихся происхождений и разрушений в эти кругообращения, — повторяются одни и те же временные явления; то не приписывается Богу ни бездеятельный, и притом столь продолжительный и безначальный покой, ни непредвиденная случайность Его дел. Ибо если бы не повторялось одно и то же, то бесконечное не могло бы быть объято в своем разнообразии никаким Его знанием или предвидением.
Если бы разум и не был в состоянии опровергнуть этих доказательств, которыми нечестивые стараются совратить наше простое благочестие с прямого пути, чтобы мы блуждали с ними окрест, то их должна осмеять вера.
О граде Божием_______________________________________________________________595
Но при помощи Господа Бога нашего здравый ум разрывает эти вращающиеся круги, измышленные воображением. Главным образом они заблуждаются и предпочитают ходить ложным окольным путем, а не истинным и прямым, потому, что измеряют своим человеческим изменяемым и ограниченным умом ум божественный, совершенно неизменяемый, объемлющий всякую бесконечность и исчисляющий все бесчисленное без чередования мыслей. С ними происходит то, что говорит апостол: «Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно» (II Кор. X, 12). Когда им приходит на ум сделать что–либо новое, они делают это по новому решению (потому что имеют изменяемый ум); так и Бога, Которого они не могут постигнуть, а представляют вместо Него самих себя, они сравнивают не Его с Ним же, а самих себя, и не с Ним, но с собой. Нам же неприлично думать, что в одном расположении находится Бог, когда Он покоится, и в другом, когда действует; потому что о Нем нельзя сказать даже того, чтобы Он был в том или ином расположении, как будто бы в Его природе может происходить нечто такое, чего не было прежде. Ибо кто имеет то или другое расположение, тот, очевидно, испытывает известное состояние, а все то, что испытывает подобное, изменяемо.
Итак, с мыслью о Его покое не должна соединяться мысль о праздности, лености и бездействии, равно как с мыслью о деятельности Его не должна соединяться мысль о труде, напряжении и старании. Он может действовать, покоясь, и покоиться, действуя. Он может совершать новое дело не по новому, но по вечному намерению; и не по раскаянию в прежнем неделании Он начинает делать то, чего прежде не делал. Но если прежде покоился, а потом стал делать (я не знаю, как это может быть понято человеком), то, без сомнения, называемое «прежде» и «потом» было по отношению к вещам прежде не бывшим и потом явившимся. В Нем же последующая воля не изменила и не уничтожила
Блаженный Августин__________________________________________________________596
предшествующую, как другую волю; но одной и той же вечной и неизменяемой волей Он создал то, чтобы созданные Им вещи не были прежде, пока они не были, и чтобы были потом, когда они начали быть. Через это Он удивительным образом показал могущим видеть, что Он не имел нужды в тварях, но создал их по единой благости, так как и без них Он пребывал в безначальной вечности не менее блаженным.
ГЛАВА XVIII
Что же касается другого их мнения, согласно которому бесконечное не может быть объято даже божественным видением, то им остается дерзнуть утверждать, что Бог не знает всех чисел, и погрузиться, таким образом, и в эту бездну глубокого нечестия. Всем известно, что числа бесконечны, потому что какое бы число ты ни признал их завершением, оно не только может увеличиться через прибавление другого числа, но как бы велико ни было и какое бы большое количество ни обнимало в самом счете и в науке счисления, не только может удваиваться, но даже умножаться. Но всякое число ограничивается своими свойствами и никакое из них не может быть равным какому–либо другому. Таким образом, они не равны одно другому и различны, каждое из них в отдельности, конечно, но все вместе — бесконечны.
Итак, неужели Бог не знает всех чисел вследствие их бесконечности и неужели ведение Божие простирается лишь на некоторую сумму, а остальные числа не знает? Кто даже из самых безрассудных людей скажет это? Но не решатся презирать числа и признавать их не подлежащими божественному ведению те, для которых имеет значение авторитет Платона, внушающего, что Бог на основании чисел сотворил мир;
О граде Божием_______________________________________________________________597
да и у нас читается о Боге, что Он расположил все мерою, числом и весом (Прем. XI, 21). О Нем говорит и пророк: «Кто выводит воинство их счетом?» (Ис. ХЬ, 26); и Спаситель в Евангелии говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. X, 30). Итак, мы не должны сомневаться в том, что Ему известно всякое число. «Разум Его, — как поется в псалме, — неизмерим» (Пс. СХ1ЛЛ, 5).
Поэтому бесконечность числа, хотя бы и не было числа бесконечным числам, не может быть необъем–лемой для Того, у Кого нет числа разуму. Все, что объемлется знанием, ограничивается сознанием познающего; так же точно и всякая бесконечность бывает некоторым неизреченным образом ограниченной в Боге, потому что она не необъятна для Его ведения. Поэтому если бесконечность чисел не может быть бесконечной для ведения Божия, которым она охватывается; то кто такие мы, людишки, дерзающие положить предел Его ведению, говоря, что если бы в одни и те же кругообращения времен не повторялись одни и те же временные явления, то Бог не мог бы все созданное Им ни предвидеть, чтобы создать, ни знать, когда уже создал, — Бог, премудрость Которого, простая в многоразличии и единообразная в многообразии, обнимает все необъятное столь необъятным ведением, что если бы Он пожелал постоянно создавать новое и несходное с предшествующим, то и это для Него не могло бы быть беспорядочным и непредвиденным! И предвидел бы Он это не с ближайшего времени, но содержал бы в вечном предвидении.
ГЛАВА XIX
Так ли это, и так называемые века веков соединены между собой непрерывной последовательностью, сменяясь одни другими, несходные взаимно, но упорядоченные, — причем
Блаженный Августин__________________________________________________________598
неизменно пребывают в своем блаженном бессмертии без конца только те, которые освобождаются от злополучия; или же под веками веков понимаются века, пребывающие с постоянной неизменностью в премудрости Божией и как бы служащие производящими причинами тех веков, которые проходят со временем, — я решать не берусь. Может быть, века можно назвать веком, так что век века будет обозначать то же, что и века веков; подобно тому, как и небом неба называется нечто иное, как небеса небес. Ибо Господь небом назвал твердь, выше которой находятся воды (Быт. I, 8); тем не менее, в псалме говорится: «Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес» (Пс. СХЬУШ, 4).
Какое из этих двух значений могут иметь века веков, или они имеют какое–то еще, отличное от этих двух, — вопрос весьма глубокий. Но для того вопроса, которым мы теперь занимаемся, не столь и важно, если мы оставим его пока без разрешения, — в состоянии ли бы мы были сказать относительно его что–либо определенное, или же через тщательное рассмотрение его сделались бы только более осторожными, чтобы не решиться при такой темноте предмета что–либо утверждать. В данном случае мы ведем речь против мнения, утверждающего существование подобных кругообращений, по которым якобы необходимо повторяется одно и то же через известные периоды времени. Какое бы из указанных мнений о веках веков ни было верным, это не имеет никакого отношения к этим кругообращениям. Будут ли эти века веков не повторяющими одно и то же, а выступающими один из другого упорядочение при неизменном пребывании в блаженстве тех, которые бесповоротно освободились от несчастий; или же это века веков вечные, как бы господствующие над подчиненными им веками временными: в том и другом случае не имеют места вышеупомянутые кругообращения, возвращающие одно и то же, потому что вполне опровергаются вечной жизнью святых.
О граде Божием_______________________________________________________________599
ГЛАВА XX
В самом деле, чей благочестивый слух может допустить, чтобы после жизни, пройденной со столькими и такими великими бедствиями (если, впрочем, следует называть жизнью эту жизнь, которая, скорее есть смерть, и притом столь тяжкая, что смерти, освобождающей от нее, боятся из любви к этой смерти), чтобы после таких великих, многих и ужасных зол, от которых, притом, через истинное благочестие и мудрость мы были некогда очищены и освобождены, мы достигали лицезрения Божия и делались блаженными созерцанием бестелесного света через участие в неизменном бессмертии Того, к достижению Которого горим любовью, только для того, чтобы потом по необходимости лишиться Его, и, лишившись и низвергнувшись из этой вечности, истины и счастья, подверглись адской смертности, позорному безрассудству и гнусным злополучиям, в которых Бога оставляют, истину ненавидят, блаженство находят в гнусном непотребстве; и чтобы это в одном и том же виде повторялось бесконечное число раз прежде и повторялось бесконечное число раз после в известные периоды прошлых и будущих веков? И все это только ради того, чтобы этими определенными кругообращениями, в которых все постоянно то проходит, то снова возвращается, через наше мнимое блаженство и истинное злосчастье, хотя и чередующиеся, но вследствие беспрестанной смены одного другим — постоянные, сделались известными Богу дела Его; потому что Он якобы не может ни почить от дел, ни исследовать Своим ведением бесконечное! Кто может слушать подобные вещи? Кто этому поверит? Кто это допустит? Если бы это было справедливо, то не только благоразумнее было бы молчать об этом, но даже было бы (выражу свою мысль, как могу) ученее не знать этого. Если там мы будем блаженными потому, что не будем этого понимать, то
Блаженный Августин__________________________________________________________600
зачем нам здесь через знание этого еще более увеличивать наше злосчастье? А если там мы по необходимости должны будем знать об этом, то пусть не будем знать по крайней мере здесь, чтобы более счастливым было здесь ожидание, нежели там — достижение высшего Блага: по крайней мере здесь ожидается должная последовать вечная жизнь, а там познается хотя и блаженная жизнь, но не вечная, а должная некогда быть утраченной.
Говорят, что никто не может достигнуть этого блаженства, если изучением настоящей жизни не уяснит для себя этих кругообращений, в которых блаженство и несчастье попеременно следуют одно за другим. Но в таком случае каким образом они утверждают, что чем больше кто–либо любит Бога, тем легче достигнет блаженства, — они, которые учат тому, что ослабляет эту самую любовь? У кого, в самом деле, не ослабеет и не охладится любовь к Богу, когда он представит себе, что по необходимости должен будет оставить Его и станет держаться образа мыслей противного Его истине и мудрости, и притом в такое время, когда, достигнув блаженства, достигнет, по мере своих способностей, полного познания Его? Никто не может искренне любить и человека–друга, если будет знать, что тот станет его врагом. Нет, неправда то, чем нам угрожают, — будто истинные несчастья будут продолжаться без конца, и только часто и также без конца прерываться промежутками мнимого блаженства. Ибо что лживее и обманчивее этого блаженства, когда мы и при таком свете истины не будем знать о будущем бедствии; тогда более сведущею будет наша настоящая злополучность, при которой мы знаем о будущем блаженстве. Если же там не будет сокрыто от нас грозящее бедствие, то более блаженно проводит душа злополучные времена, по прошествии которых она достигнет блаженства, нежели блаженные, по окончании которых она возвратится к злополучию. Таким образом, ожидание нашего несчастья бывает счастливо,
О граде Божием_______________________________________________________________601
а ожидание счастья — несчастно. И выходит, что так как здесь мы терпим настоящие бедствия, а там боимся предстоящих, то скорее мы можем быть постоянно несчастными, нежели когда–либо блаженными.
Но поелику это ложно, как гласит благочестие и доказывает истина (ибо она неложно обещает нам истинное блаженство, которое будет обеспечено навсегда и не будет прервано никаким несчастьем), то мы, следуя прямому пути, которым служит для нас Христос, направим, с помощью этого Вождя и Спасителя, свою веру и ум в сторону от суетного и безрассудного круговращения нечестивых. Если платоник Порфирий не захотел последовать мнению своих об этих кругообращениях и непрерывных попеременных нисхождениях и возвращениях душ, и либо по убеждению в ложности самого мнения, либо же принимая во внимание христианские времена, предпочел сказать то, о чем я упоминал в десятой книге, а именно: что душа посылается в мир для познания зла, чтобы, очистившись и освободившись от него, она, когда возвратится к Отцу, уже ничему подобному не подвергалась, то во сколько раз более должны мы отвращаться и удаляться от этой лжи, враждебной христианской вере? После же того, как эти кругообращения опровергнуты и ложь их доказана, никакая необходимость не вынуждает нас думать, будто нет начала времени, с которого появился род человеческий, так как, мол, вследствие каких–то кругообращений нет якобы в вещах ничего нового, чего бы не было прежде в определенные периоды времен и чего не имело бы быть впоследствии. Ибо если душа освобождается затем, чтобы никогда не возвращаться к несчастьям, как никогда она не освобождалась прежде, то с ней совершается нечто такое, чего никогда прежде не было и что весьма велико, то есть представляет собой никогда не прекращающееся вечное блаженство. Если же такая новизна, которая не
Блаженный Августин__________________________________________________________602
повторялась и не будет повторяться ни в каком кругообращении, бывает в бессмертной природе, то на каком основании утверждают, что она не может быть в вещах смертных?
Скажут, что для души блаженство не новость, потому что она возвращается к Тому, в Котором была всегда; в таком случае новость — это само освобождение, потому что она освобождается от злополучия, в котором никогда прежде не была, и новость само это злополучие, которого никогда не было прежде. Если эта новизна не входит в порядок вещей, управляемых божественным провидением, а скорее происходит случайно, то где в таком случае эти определенные и правильные кругообращения, в которых не бывает ничего нового, но повторяется то же, что было и прежде? А если эта новизна не исключается из порядка вещей, управляемых божественным провидением, то посылается ли душа, или она ниспала, во всяком случае может быть нечто новое, чего не было прежде, но что, однако же, не чуждо порядку вещей. И если душа по неблагоразумию могла причинить себе новое несчастье, которое не было непредвиденным божественным провидением, так что оно могло включить это несчастье в порядок вещей и не непредвиденно освободить от него душу, то с каким безрассудством человеческой суетности мы осмеливаемся утверждать, будто божество не может творить вещей новых, не для него, а для мира, — таких, которых никогда прежде не творило, но которые никогда не были для него непредусмотренными?
Скажут, что хотя освобожденные души и не возвратятся к злополучию, тем не менее, когда это бывает, в мире не совершается ничего нового: потому что постоянно то одни, то другие освобождались, освобождаются и будут освобождаться постоянно. Но если это так, то они должны по крайней мере допустить, что творятся новые души, с которыми бывает новое злополучия и новое освобождение. Если же признают их не новыми, но от вечности существующими, из которых ежедневно
О граде Божием______________________________________________________________603
образуются новые люди, от тела которых эти души, при мудрой жизни, освобождаются так, что никогда не возвращаются к несчастьям, то непременно должны будут допустить бесконечное их множество. Ибо как бы велико ни было конечное число душ, оно не могло бы быть достаточным для прошедших бесконечных веков, чтобы из него постоянно происходили люди, души которых всегда освобождались бы от этой смертности с тем, чтобы никогда потом не возвращаться к ней. А в таком случае они решительно не будут в состоянии объяснить, каким образом оказывается бесконечное число душ в ряду тех тварей, которые для того, чтобы быть известными Богу, признаются ими конечными. Итак, поелику упомянутые круговращения, в которых душа представлялась по необходимости имеющей возвращаться к одним и тем же несчастьям, нами опровергнуты, то ничего не остается более приличного для благочестия, как верить, что для Бога нет невозможности вновь производить то, чего Он никогда не производил, и в силу неизреченного предвидения иметь неизменяемую волю. Что же касается, далее, того, может ли постоянно увеличиваться число душ освобожденных, и не имеющих более возвратяться к злополучиям, это пусть решат сами те, которые с такой тонкостью рассуждают об ограничении бесконечности вещей; мы же сделаем свой вывод из обоих возможных решений. Если может, то на каком основании утверждают, будто не могут быть сотворены вещи, которые никогда прежде не были сотворены, если число освобожденных душ, никогда не бывшее прежде, не только однажды было сотворено, но никогда не перестанет создаваться? Если же должно быть какое–либо определенное число освобожденных душ, которые никогда не будут возвращаться к несчастью, и если это число не должно более увеличиваться, то каково бы оно ни было, во всяком
Блаженный Августин__________________________________________________________604
случае его никогда прежде не было; и возрастать, и достигнуть определенного количества своего оно не могло без какого–либо начала; равным образом, и начала этого когда–нибудь прежде не было. Итак, чтобы быть этому началу, был сотворен человек, прежде которого не было никакого человека.
ГЛАВА XXI
Итак, я прояснил, насколько мог, этот весьма трудный вопрос о вечности Бога, творящего новое без какого–либо изменения воли. Теперь нетрудно увидеть, насколько лучше то, что род человеческий Он размножил от одного человека, которого создал первым, чем если бы этот род начался от многих. Из животных одних Он сотворил живущими особняком, как бы одиноко блуждающими, ищущими по преимуществу уединения, каковы: орлы, коршуны, львы, волки и подобные им; других — влекущимися друг к другу, предпочитающих жить обществами и стадами, каковы: голуби, скворцы, олени, дикие козы и прочие того же рода. Оба рода Он размножил, однако же, не от отдельных особей, а повелел одновременно быть многим. Но человека, природу которого Он сотворил как бы средней между ангелами и животными так, что если бы он, покорный Творцу своему, как истинному Господу, с благоговейным послушанием соблюдал заповедь Его, то мог бы перейти в общество ангелов, без посредства смерти достигнув блаженного и нескончаемого бессмертия, а если бы в силу своей свободной воли высокомерием и непослушанием оскорбил Господа Бога своего, то обреченный смерти, жил бы подобно животным, как раб похоти и осужденный на вечное мучение после смерти, — человека Он сотворил только одного и единственного. Это не для того, конечно, чтобы оставить его одиноким, без человеческого общества, но чтобы тем самым сильнее возбудить в нем
О граде Божием_______________________________________________________________605
стремление к общественному единству и к узам согласия, коль скоро люди соединены между собой не только сходством природы, но и связями родства, потому что. и жену, которая должна была соединиться с мужем, Ему угодно было создать не так, как его, но из него же самого, чтобы весь род человеческий распространился от одного человека.
ГЛАВА XXII
Бог знал, что человек согрешит и, будучи уже повинным смерти, произведет смертное потомство, в котором до того усилится бешенство греха, что более спокойно и мирно будут жить между собой лишенные разумной воли животные одного рода, которых с самого начала Он во множестве произвел из воды и земли, чем люди, род которых распространился от одного для побуждения к согласию. Ибо никогда ни львы между собой, ни драконы друг с другом не вели таких войн, какие вели люди. Но предвидел Он также, что множество благочестивых будет призвано Его благодатью к усыновлению и, после отпущения грехов и оправдания Духом Святым, соединится в вечном мире со святыми ангелами, когда истребится последний враг — смерть. Этому–то обществу и должно было принести пользу представление о том, что Бог произвел род человеческий от одного человека для указания людям того, как приятно Ему единство в среде множества.
ГЛАВА XXIII
Итак, Бог создал человека по образу Своему. Ибо Он сотворил ему такую душу, (благодаря) которой человек по уму и пониманию превосходил бы всех животных земных, водных и летающих, не имевших подобного ума. Он образовал мужа из
Блаженный Августин__________________________________________________________606
земного праха и сообщил ему посредством дуновения такого свойства душу, о которой я сказал, создав ли ее уже прежде, или, вернее, создав ее посредством дуновения и решив, что это дуновение, которое Он сотворил, дунув (ибо что другое значит вдунуть, если не сделать дуновение?), было душой человека. Затем Он, как Бог, создал ему из ребра, взятого из его бока, жену для деторождения. Все это не следует, конечно, представлять в телесном виде, подобно тому, что наблюдаем мы обыкновенно у художников, которые телесными членами производят из какого–либо земного вещества то, что в состоянии сделать посредством старания и искусства Руки Божий означают могущество Бога, Который и видимое производит невидимо. Но это считают скорее баснословным, чем истинным, те, кто силу и премудрость Божию, которая может и даже порождает семена произвести без семян, измеряют по этим обычным повседневным действиям, на самом же деле они неверно представляют себе первоначальное творение, потому что не знают его. Как будто бы и то самое, что им известно о зачатии и рождении, не кажется еще более невероятным, когда рассказывается таким людям, которые с этим не знакомы, хотя и это очень многие приписывают более телесным причинам природы, чем действиям божественного ума.
ГЛАВА XXIV
Но в настоящих книгах мы не имеем никакого дела с теми, которые не верят, что божественный ум творит это и печется об этом. Те же, которые верят своему Платону, что не верховным Богом, сотворившим мир, а другими, меньшими, сотворенными Им*,
О граде Божием_______________________________________________________________607
созданы с Его соизволения или повеления все смертные животные, среди которых человек занимает главное и ближайшее к богам место — те, если освободятся от суеверия, из–за которого стараются чем–нибудь оправдать свои священнослужения и жертвоприношения мнимым своим творцам, легко освободятся и от этого заблуждения. С религиозным чувством несогласно думать и утверждать, что есть какой–нибудь творец даже самой ничтожной и смертной природы, помимо Бога, и притом прежде, чем такой мог быть познан. Ангелы же, которых они предпочитают называть богами, если по Его повелению или соизволению и прилагают свой труд к тому, что рождается в мире, не называются у нас творцами животных точно так же, как не называются земледельцы творцами плодов и деревьев.
ГЛАВА XXV
Иное дело вид, который извне придается какому–нибудь телесному веществу, как делают это гончары и ремесленники и такого рода художники, которые рисуют и лепят формы, подобные телам животных; и иное дело тот, который имеет причины, действующие изнутри по тайной и сокровенной воле природы живой и разумной, которая из небытия творит не только естественные виды тел, но и сами души живых существ. Первый из вышеупомянутых видов может быть приписан всякому художнику; второй же — только Художнику единственному, Богу, Который создал мир и ангелов, когда еще не было никакого мира и никаких ангелов. От какой божественной и, так сказать, производительной силы, несозданной, но могущей создавать, получили вид при создании мира округленность неба и округленность солнца, от той же божественной силы получили вид и округленность глаза, и округленность яблока, и прочие
Блаженный Августин__________________________________________________________608
природные формы, которые мы видим во всех предметах и которые даются не извне, а внутренней силой Творца, Который сказал: «Не наполняю ли Я небо и землю?» (Иер. XXIII, 24). Я не знаю, какое содействие оказали Творцу первоначально созданные ангелы при создании Им прочих тварей, и поэтому не решаюсь приписать им то, что, быть может, выше их сил, и не считаю себя вправе отказывать в том, что для них возможно. Но творение и образование всех природ, от которого зависит то, что они во всех отношениях суть природы, я приписываю, хотя бы и при их содействии, тому Богу, Которому и сами они считают себя обязанными приносить благодарение за свое бытие.
Таким образом, мы не только земледельцев не считаем творцами каких–либо плодов, так как читаем «Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (I Кор. III, 7), но и саму землю, хотя она и кажется плодородной матерью всего, выводя наружу всходящие семена и укрепляя коренья, ибо читаем: «Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело» (I Кор. XV, 38). Таким же образом мы не считаем себя вправе и женщину считать создательницей своего плода, а называем Создателем его Того, Кто сказал одному из рабов Своих: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя» (Иер I, 5). И хотя душа беременной может как бы облекать плод в некоторые качества, подобно тому, как сделал Иаков посредством пестрых прутьев, чтобы рождался скот пестрого цвета (Быт. XXX, 37—39), однако она не производит рождаемую природу, как не произвела и себя саму.
Итак, какие бы телесные или растительные причины ни имели места при рождении тварей через действия ангелов ли, или людей, или каких–либо животных, какие бы желания или душевные движения матери ни были в состоянии отпечатываться в чертах зародышей, сами природы, которые являются с теми или иными свойствами и качествами
О граде Божием_______________________________________________________________609
по роду своему, производит высочайший Бог, Чье сокровенное могущество, проникая все своим неоскверняемым присутствием, дает бытие всему, что так или иначе имеет бытие. Ибо без Его творчества оно не только не было бы таким или другим, но и не было бы вовсе. Поэтому, если на основании того вида, который художник придает извне телесным предметам, мы говорим, что Рим или Александрия имели своими строителями не архитекторов и рабочих, а царей, по воле, решению и распоряжению которых они были построены, а именно, первый — Ромулом, а второй — Александром, то тем более мы должны называть творцом природы одного только Бога, Который и не производит ничего из такого материала, которого Сам не создает, и не имеет рабочих помимо тех, которых Сам же сотворил; и если Он отнимет от вещей Свою производительную силу, то их не будет так же, как не было их до их сотворения. Но говорю «до» в смысле вечности, а не времени. Ибо кто другой мог быть творцом времен, кроме Того, Кто создал то, движением чего задается течение времени?
ГЛАВА XXVI
Платон, впрочем, полагал, что меньшие боги, созданные верховным Богом, творили прочих животных так, что бессмертную часть брали от Него, а смертную созидали сами. Поэтому он признавал их творцами не душ, а тел. Но так как Порфирий говорит, что ради очищения души следует избегать всякого тела, и вместе с Платоном и другими платониками полагает, что те, которые жили невоздержанно и нечестиво, возвращаются в смертные тела, чтобы претерпевать наказания, причем, согласно Платону, даже в тела животных, а согласно Порфирию — только людей, то, чтобы
Блаженный Августин _________________________________________________________610
быть последовательными, они должны сказать, что эти боги, которых они полагают нужным почитать как наших творцов, суть устроители наших оков и тюрем, и не создают нас, а заключают в исправительные дома и налагают на нас самые тяжелые кандалы. Таким образом, платоники или не должны угрожать душам наказанием посредством этих тел, или не внушать нам необходимости почитания тех, дела рук которых они убеждают по возможности избегать. Впрочем, то и другое ложно, ибо и души не несут таких наказаний, и Творца имеют совсем другого. Ведь если жизнь в этом теле дается только в качестве наказания, то каким образом тот же Платон говорит, что мир не мог бы быть прекраснейшим и самым лучшим, если бы не был наполнен всякого рода существами, смертными и бессмертными? Если же наше бытие, хотя мы и созданы смертными, есть Божий дар, то каким образом может служить наказанием возвращение в тела? И если Бог, о чем постоянно напоминает Платон, содержит в вечном уме образы как всего мира, так и всех существ, то каким образом Он не сотворил всего Сам? Или Он не захотел быть Творцом некоторых тварей, хотя для их сотворения Его неизреченный и достохвальный ум владел надлежащим искусством?
ГЛАВА XXVII
Истинная католическая религия справедливо признает и проповедует, что Он — Творец всех животных в целом, т. е. и их душ, и их тел. Стоящий во главе их (земных животных) человек, созданный Им по образу Его, создан один или по той причине, которую я привел выше, или, возможно, по какой–то другой, неизвестной и более важной, но одиноким не оставлен. Нет никакого другого рода существ до такой степени любящего раздоры
О граде Божием ______________________________________________________________611
вследствие порока и в то же время столь общительного по природе. Природа же наша ничем не могла так предостерегать от порока несогласия до его возникновения или излечивать от него после его обнаружения, как напоминанием о том прародителе, которого Бог для того и сотворил одним, чтобы это побудило к сохранению согласия многих. Сотворением же ему жены из ребра ясно было показано, какой любовью должны быть соединены муж и жена. Эти дела Божий необычны, ибо были первыми. Те же, которые не верят им, не должны верить никаким чудесам, потому что чудеса и не назывались бы чудесами, если бы совершались обыкновенным естественным порядком. Под управлением божественного провидения ничто не происходит без причины, хотя бы сама причина и укрывалась от нас. В одном из священных псалмов говорится: «Приидите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения на земле»* (Пс. ХЬУ, 9). Но почему жена была создана из ребра мужа и что знаменовало это первое в своем роде чудо, об этом мы поговорим в другом месте.
Так как пора уже закончить эту книгу, то ограничимся пока тем положением, что в первом человеке получили свое начало хотя еще не обнаружившиеся, но уже существовавшие в предвидении Божием два общества, как бы два града в человеческом обществе. Ибо от него должны были произойти люди, из которых одни должны были быть присоединены для наказания к обществу ангелов злых, а другие для награды к обществу добрых по сокровенному и праведному суду Божию. Если Писание говорит: «Все пути Господни — милость и истина» (Пс. XXIV, 10), то не может быть несправедливой Его благодать и жестоким Его правосудие.
* У Августина: «Приидите и видите дела Господа, — какие произвел Он чудеса на земле».
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА 1
Так как мы уже разрешили весьма трудные вопросы о происхождении настоящего мира и начале рода человеческого, то теперь порядок изложения требует предположенного нами рассуждения о падении первого человека или, вернее, первых людей, и о происхождении и распространении смерти между людьми. Ибо Бог создал людей не как ангелов, — не так, чтобы и согрешив они вовсе не могли умирать, но так, что, исполни они долг повиновения, получили бы без посредства смерти ангельское бессмертие и блаженную вечность, а не исполни они этого долга, смерть послужила бы для них справедливым наказанием. Об этом, впрочем, мы уже сказали несколько слов в предыдущей книге.
ГЛАВА II
Но я считаю нужным остановиться несколько подробнее на самом роде смерти. Хотя человеческая душа справедливо признается бессмертной, однако и для нее существует некоторая своего рода смерть. Она потому называется бессмертной, что не перестает в известном виде и в некоторой степени жить и чувствовать; тело же называется смертным потому, что может вполне лишиться жизни и совершенно не в состоянии жить само по себе. Но смерть души бывает тогда, когда ее оставляет Бог; подобно тому, как смерть тела случается тогда, когда его оставляет душа. Следовательно, смерть души и тела, то есть смерть всего человека, бывает тогда, когда оставляет тело душа, оставленная Богом.
О граде Божием______________________________________________________________ 613
Ибо в таком случае ни она не живет Богом, ни тело не живет ею. За такого рода смертью всего человека следует та, которую авторитет божественных Писаний назвал второю смертью (Апок. XXI, 8). На нее указал и Спаситель, когда сказал: «Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. X, 28). Так как это случится не прежде, чем после такого соединения души с телом, что их уже никоим образом нельзя будет отделить друг от друга, то может показаться странным, что говорится об умерщвлении тела такой смертью, при которой оно не оставляется душой, но подвергается мучениям, будучи одушевленным и чувствующим. Ибо то последнее и вечное наказание, о котором мы скажем подробнее в своем месте, справедливо называется смертью души, потому что она не живет Богом; но как можно назвать его смертью тела, когда оно будет жить душой? Ведь иначе оно не могло бы чувствовать тех самых телесных мучений, которые будут после воскресения. Разве что, коль скоро всякого рода жизнь составляет некоторое добро, а страдание — зло, то не следует называть тело живущим, если душа существует в нем не ради жизни, а ради страданий?
Итак, душа живет Богом, когда живет хорошо, ибо она не может жить хорошо, если Бог не содействует в ней тому, что хорошо; тело же живет душой, когда душа живет в теле, живет ли она при этом, или не живет Богом, Ибо жизнь в телах нечестивых есть жизнь не души, а тела. Такую жизнь могут сообщать им даже умершие, то есть оставленные Богом души, своей собственной, какой бы то ни было жизнью, вследствие которой они и бессмертны. Но при последнем осуждении, хотя человек и не перестанет чувствовать, однако, так как само чувство не будет доставлять приятного удовольствия и благотворного покоя, но будет мучительным вследствие страданий, то жизнь эту справедливо следует называть скорее смертью, чем жизнью. Второй же смертью она называется потому, что бывает после той первой, вследствие которой происходит разделение соединенных природ:
Блаженный Августин__________________________________________________________614
Бога и души или души и тела. Таким образом, о первой телесной смерти можно сказать, что она добра для добрых и зла для злых. Вторая же ни для кого не бывает доброй, так как никто из добрых ей не подвергается.
ГЛАВА III
Но возникает вопрос, который не следует обходить: действительно ли смерть, посредством которой разлучаются душаитело, служит добром для добрых? Ведь если так, то как можно утверждать, что она есть наказание за грех? Ибо первые люди, конечно, не подверглись бы ей, если бы не согрешили. Каким же образом она могла бы быть добром для добрых, если подвергнуться ей могли только злые? Притом, если подвергнуться ей могли только злые, то для добрых бы не должно было быть не только доброй смерти, но и никакой. Зачем как–либо наказывать тех, в которых нет ничего достойного наказания? Поэтому следует признать, что хотя первые люди были сотворены так, что если бы они не согрешили, не испытали бы никакого рода смерти: тем не менее, став первыми грешниками, были наказаны смертью так, что и все происшедшее от них потомство подверглось томуже наказанию. Но родиться от них могло иное, чем были они сами Ибо сообразно с важностью этой вины осуждение изменило природу к худшему так, что бывшее прежде впервых согрешивших людях наказанием, стало являться в прочих людях, при их рождении, как естественное следствие.
Человек от человека происходит не так, как произошел человек из праха. Прах был веществом для создания человека, а человек, рождая, бывает отцом для человека. Тело не то же, что земля, хотя тело создано из земли; а человек, как он бывает отцом человека, так бывает и потомком человека же. Так как от первого человека через женщину должен был произойти весь род человеческий после того, как эта супружеская чета уже получила божественный приговор о своем осуждении, то чем
О граде Божием______________________________________________________________ 615
человек сделался, — не при своем сотворении, но когда согрешил и был наказан, — то самое он и родил, насколько это касается именно происхождения греха и смерти. За грех или в наказание человек был низведен до младенческого слабоумия или до такой душевной и телесной немощи, которую мы наблюдаем в детях. Богу было угодно, чтобы это было первоначальным состоянием тех детей, родителей которых Он низвел до животной жизни и смерти, как написано: «Человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают» (Пс. ХЬУШ, 1 У). Различие разве что в том, что младенцев мы видим еще более слабыми, как по телесной силе, так и по силежеланий, нежели самые слабые детеныши животных; потому что сила человеческая тем более обнаруживает превосходство над прочими животными, чем более она сдерживает свое стремление, подобно стреле, оттягиваемой в противоположную сторону при натяжении лука. Итак, за непозволительную самонадеянность и в справедливое осуждение первый человек не ниспал или не был низведен до этого первоначального младенческого состояния; но в нем так повредилась и изменилась человеческая природа, что он стал испытывать в членах противоборствующее и неповинующееся вожделение и подвергаться неизбежной смерти; а затем и рождать то, чем сделался сам вследствие порока и наказания, то есть подлежащим греху и смерти. Если же, по благодати Ходатая, дети освобождаются от этих уз греха, то они могут подвергаться только той одной смерти, которая отделяет душу от тела; во вторую же смерть, служащую бесконечным наказанием, будучи освобождены от уз греха, не переходят.
ГЛАВА IV
Но если кого–либо смущает то, почему и этой смерти, коль скоро она служит наказанием за грех, подвергаются те, виновность которых уничтожает-
Блаженный Августин__________________________________________________________616
ся благодатью, то этот вопрос уже рассмотрен и разрешен в другом нашем сочинении, которое мы написали о крещении младенцев». Там сказано, что душе потому оставляется испытание через разлучение с телом даже после уничтожения уз греха, что если бы за таинством возрождения тотчас последовало бы бессмертие тела, то ослабела бы сама вера, которая тогда бывает верой, когда с надеждой ожидают того, чего еще не видит в действительности. Силой же веры и подвигом веры, по крайней мере в прежние времена, побеждался даже страх смерти, что особенно обнаружилось в святых мучениках.
Подобный подвиг не имел бы, конечно, никакой пользы и никакой славы, — потому что совсем не было бы и самого подвига, — если бы после купели возрождения святые уже не могли подвергаться телесной смерти. При крещении же детей кто не стал бы прибегать к благодати Христовой единственно ради того, чтобы отрешиться от тела? Не только не испытывалась бы вера посредством невидимой награды, но и не было бы самой веры, если бы получали награду за свои дела тотчас после того, как начали ее искать. Теперь же, по более великой и чудной благодати Спасителя, кара греха обратилась на пользу правды. И тогда было сказано человеку: умрешь, если согрешишь; теперь же говорится мученику: умирай, чтобы не согрешить. Тогда было сказано: если вы преступите заповедь, то смертью умрете; теперь говорится: если откажетесь от смерти, тем преступите заповедь. Чего тогда следовало бояться, чтобы не согрешить, то теперь нужно принимать, чтобы не согрешить. Таким образом, и само наказание пороков переходит по неизреченному милосердию Божию в орудие добродетели, и даже наказание грешника становится заслугою праведного. Ибо тогда смерть была приобретена посредством греха, а теперь посредством смерти совершается правда. Но последнее — в святых
О граде Божием______________________________________________________________ 617
мучениках, которым мучители предлагали одно из двух: или оставить веру, или подвергнуться смерти. Ибо праведные предпочитают за веру подвергнуться тому, чему первые грешники подверглись за неверие. Если бы те не согрешили, то не умерли бы; а эти согрешат, если не умрут. Итак, те умерли потому, что согрешили: эти не грешат потому, что умирают. Вследствие вины первых это обратилось в наказание; а вследствие того, что это было наказанием для них, оно не обращается в вину, это не потому, что смерть, бывшая прежде злом, сделалась каким–либо добром, а потому, что Бог даровал вере такую благодать, что смерть, которая, как известно, противоположна жизни, сделалась средством для достижения жизни.
ГЛАВА V
Когда апостол хотел показать, сколько вреда может принести грех при отсутствии божественной благодати, то не усомнился даже закон, которым воспрещается грех назвать силой греха. «Жало смерти, — говорит он, — грех; а сила греха — закон» (I Кор. XV, 56). И это совершенно справедливо. Ибо через запрещение усиливается стремление к недозволенному действию, когда не настолько любят правду, чтобы любовью к ней побеждалось желание грешить. А чтобы истинная правда была любима и чтобы привлекала к себе, для этого нужно содействие божественной благодати. Но чтобы закон, названный силой греха, не был признан вследствие этого злом, то в другом месте, рассматривая того же рода вопрос, он говорит: «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак: но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим. VII, 12, 13). «Крайне» сказал он потому, что
Блаженный Августин__________________________________________________________618
присоединяется еще и упорство, когда при усилении стремления ко греху презирается и сам закон.
Почему мы решили остановиться на этом? Потому, что как закон не есть зло, хотя он усиливает вожделение грешащих, так и смерть не есть добро, хотя она увеличивает славу претерпевающих ее; когда или тот нарушается вследствие бесчестья и делает упорствующими, или когда эта претерпевается за истину и делает мучениками. Поэтому, хотя закон и добр, потому что он есть воспрещение греха, а смерть зла, потому что есть воздаяние за грех; но как несправедливо злые используют не только злое, но и доброе, так праведные во благо используют не только доброе, но и злое. И выходит, что злые во зло используют и закон, хотя он — добро, а добрые ко благу умирают, хотя смерть есть зло.
ГЛАВА VI
Поэтому, что касается телесной смерти, т. е. разлучения души с телом, то она ни для кого не бывает доброй, когда ей подвергаются так называемые умирающие. Ибо и сама эта сила, которой разрывается то и другое, что было связано и сплочено в живом человеке, пока она продолжает свое действие и пока не отнимется всякое чувство, возникающее из самого соединения души и тела, производит тяжкое и противоестественное ощущение. Иногда один удар, нанесенный телу, или убийство предотвращают эту муку и не дают испытывать ее, предупреждая своей скоростью. Однако, чем бы ни было в умирающих то, что не без тяжелого чувства лишает чувствительности, оно, если переносится с благочестием и верой, увеличивает заслугу терпения, хотя и не уничтожает сути наказания. Итак, хотя смерть бывает наказанием для рождающегося в беспрерывно продолжающемся потомстве первого человека, однако, если она претерпевается за благочестие и правду, служит к славе
О граде Божием_______________________________________________________________619
возрождающегося; и хотя смерть есть воздаяние за грех, но благодаря ей иногда достигается то, что за ней не следует никакого воздаяния за грех.
ГЛАВА VII
Для тех, которые умирают за исповедание Христа не приняв еще купели возрождения, она имеет такую же силу отпущения грехов, как и омовение святым источником крещения. Ибо сказавший: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. III, 5), исключает их другим Своим изречением, в котором с такой же всеобщностью говорит: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. X, 32). И в другом месте: «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. XVI, 25). Поэтому написано: «Дорога в очах Господних смерть святых Его!» (Пс. СХУ, 6). Ибо что честнее смерти, через которую отпускаются все грехи и умножаются заслуги? Ведь заслуга тех, которые крестились, не имея возможности избежать смерти, и переселились из этой жизни, загладив все грехи, не так велики, как тех, которые, имея возможность умереть, умерли потому, что предпочли лучше окончить жизнь, исповедуя Христа, чем отрекшись от Него принять крещение. Поступи они так, в этой купели им было бы отпущено и то, что они из страха смерти отреклись от Христа; омывается же в этой купели безмерное преступление тех, которые убили Христа! Но без обилия благодати того Духа, который «дышет, где хочет» (Иоан. Ш, 8), могли ли они когда–либо настолько возлюбить Христа, чтобы при такой опасности для жизни и при такой надежде на прощение не отречься от Него?
Итак, честная смерть святых, которым с такой благодатью была предпослана и испрошена смерть Христова, что для приобретения Его они, не колеблясь умерли сами, показала, что в их пользу обращено то, что прежде было предназначено для наказания греха, что–бы отсюда
Блаженный Августин__________________________________________________________620
возрастал обильнейший плод правды. Но все же смерть не должна считаться добром, потому что не своей силой, а вследствие божественной помощи она превратилась в такую большую пользу, так что предназначенная прежде служить угрозой против совершения греха, теперь предлагается к принятию, чтобы грех не совершался, а уже совершенный — заглаживался, и великой победе воздавалась должная пальма правды.
ГЛАВА VIII
Ведь если вникнуть внимательней, то смерть составляет предмет опасения даже тогда, когда кто–либо с верой и самым похвальным образом умирает за истину. Ради того и подвергаются некоторой ее части, чтобы не подвергнуться всей, чтобы к этой не присоединилась сверх того и вторая, которая никогда не будет иметь конца Ради того и подвергаются разлучению души с телом, чтобы душа не разлучилась с телом в состоянии отлучения от Бога и чтобы, таким образом, за первой смертью человека не последовала вторая, вечная. Поэтому–то смерть, как я сказал выше, ни для кого из умирающих не бывает доброй, но претерпевается похвальным образом ради сохранения или приобретения добра. Когда же пребывают в ней те, которые называются уже умершими, она вполне уместно называется злой для злых и доброй для добрых. Ибо души благочестивых, отделившиеся от тела, находятся в покое, а души нечестивых терпят наказания, пока снова не оживут тела первых для вечной жизни, а тела вторых — для вечной смерти, называемой второй.
ГЛАВА IX
Но тот момент, в который души, отделившиеся от тел, бывают в счастливом или несчастном положении, следует ли относить ко времени после смерти,
О граде Божием_______________________________________________________________621
или ко времени самой смерти? Если после, то это уже не смерть, которая окончилась и миновала, а жизнь души после смерти, хорошая или худая. Смерть же тогда была для них злой, когда была, т. е. когда претерпевали ее, когда умирали; потому что они испытывали тогда тяжкое и мучительное чувство, зло, которое добрые употребляют во благо. А когда смерть уже совершилась, — каким образом она может быть доброй или злой, когда ее уже нет? Затем, если вникнуть поглубже, окажется, что и то не есть смерть, чем, как мы сказали, вызывается в умирающих тяжкое и мучительное чувство. Ибо пока они чувствуют, до тех пор еще живут; а если еще живут, то скорее должны считаться находящимися перед смертью, чем в самой смерти, ибо когда она настает, то уничтожает всякое телесное чувство, которое вследствие ее приближения бывает тяжким. А потому трудно объяснить, каким образом мы называем умирающими тех, которые еще не умерли, но вследствие грозящей им смерти уже подвергаются последним смертельным мукам; хотя, с другой стороны, они справедливо называются умирающими, потому что после наступления смерти они уже будут не умирающими, а умершими.
Итак, умирающим может быть только живущий, ибо кто не лишился души, тот еще живет, хотя бы его жизни и грозила такая опасность, подвергающихся которой мы называем находящимися при последнем издыхании. Таким образом, один и тот же бывает вместе умирающим и живущим; приближающимся к смерти и удаляющимся от жизни; тем не менее, находящимся еще в жизни, потому что душа пребывает в теле, а не в смерти, так как она еще не оставила тела. Но так как и после оставления тела она будет находиться не в смерти, а после смерти, то кто может сказать, когда человек бывает не до или после, а в самой смерти? Ибо не будет умирающих, если не будет одновременно умирающих и живущих. Если же того, в чьем теле совершается процесс, следствием которого бывает смерть, правильнее
Блаженный Августин__________________________________________________________622
называть умирающим, и если никто не может быть одновременно умирающим и живущим, то я не знаю, когда в таком случае человек бывает живущим!
ГЛАВАХ
Ибо с того момента, как кто–либо начинает быть в этом теле, подлежащем смерти, для него всегда речь идет о приближении смерти Изменяемость его во все времена этой жизни (если, впрочем, следует называть ее жизнью) ведет его именно к смерти Ибо нет никого, кто не был бы ближе к ней через год, нежели годом раньше, и завтра, нежели сегодня, и немного спустя, нежели теперь, и теперь, нежели немного ранее. Проживаемое время отнимается от времени жизни, и с каждым днем его остается все меньше и меньше, так что время этой жизни есть вообще не что иное, как путь к смерти, на котором никому не разрешается остановиться на некоторое время или идти несколько медленнее, — но все вынуждены по необходимости одинаково продвигаться и равномерно приближаться (к смерти). Ибо не быстрее проводил время тот, кто имел кратковременную жизнь, нежели тот, кто прожил долго; но одинаковым образом и одинаковые количества времени отнимались у обоих: просто один был ближе, а другой — дальше от того, к чему оба они шли с одинаковой скоростью. А одно дело пройти больший путь, и совсем другое — идти медленнее. Кто проживает до смерти большее количество времени, тот не медленнее идет, а проходит большее количество пути. Затем, если с того момента каждый начинает умирать, т. е. быть в смерти, с которого в нем начинает действовать сама смерть, т. е. уменьшение жизни, — потому что по окончании ее путем уменьшения он будет уже после смерти, а не в смерти, — то он находится в смерти, без сомнения, с самого начала своего существования в этом теле. Ибо именно это, а не что–либо иное происходит каждый день, час, минуту, пока
О граде Божием_______________________________________________________________623
совсем не наступит смерть, которая переживалась, и не начнется уже время после смерти, которое при уменьшении жизни было временем смерти.
Итак, никогда человек не находится в жизни с того момента, как он имеет тело, скорее умирающее, нежели живущее, если не может находиться одновременно и в жизни, и в смерти. Действительно, разве не находится он скорее одновременно в жизни и в смерти, — в жизни, которой он живет, пока не отнимется она вся, — в смерти, которой он уже умирает, когда уменьшается жизнь? Ибо если он не находится в жизни, то что будет уменьшаться, пока не совершится полная утрата? А если он не находится в смерти, то в чем состоит само уменьшение жизни? Ибо когда жизнь совсем утрачена телом, то это называется состоянием после смерти, потому что смерть была тогда, когда уменьшалась жизнь. Если же при утрате ее человек бывает не в смерти, но после смерти, то когда он будет в смерти, если не тогда, когда происходит это уменьшение жизни?
ГЛАВА XI
Если же было бы нелепостью сказать, что человек уже находится в смерти, прежде нежели он достиг смерти (ибо к чему бы он приближался, переживая время своей жизни, если уже находился бы в ней?); или если бы было слишком странным называть его одновременно живущим и умирающим, когда он не может, например, быть одновременно бодрствующим и спящим; то возникает вопрос: когда же он будет умирающим? Ибо прежде чем наступит смерть, он бывает не умирающим, а живущим; а когда смерть уже наступила, то бывает умершим, а не умирающим. Следовательно, одно бывает до смерти, а другое — уже после смерти. Когда же он бывает в смерти (ибо тогда он бывает умирающим), чтобы соответственно каждому из трех состояний, которые мы называем «до смерти», «в смерти» и «после смерти», были:
Блаженный Августин__________________________________________________________624
живущий, умирающий и умерший. Весьма трудно определить, когда человек бывает умирающим, то есть в смерти, причем необходимо, чтобы при этом он не был бы ни живущим, то есть до смерти, ни умершим, то есть после смерти, но был бы именно умирающим, то есть находящимся в смерти. Ибо пока душа находится в теле, в особенности если есть в нем еще и чувство, то человек, состоящий из души и тела, несомненно еще живет, и потому его следует называть находящимся до смерти, а не в смерти. Когда же душа отделится и уничтожит всякую чувствительность в теле, то он уже признается находящимся после смерти и умершим. Итак, момент, в который он является умирающим или в смерти, теряется между тем и другим; потому что если он еще живет, то находится до смерти, а если перестает жить, то находится уже после смерти. Следовательно, он никогда не представляется умирающим, то есть находящимся в смерти.
Точно так же и в течение времен мы ищем настоящее и не находим его; потому что безо всякого промежутка совершается переход от будущего к прошедшему. Но не следует ли опасаться, что таким путем мы придем к отрицанию самой телесной смерти? Ибо если она есть, то когда она бывает, — она, которая ни в ком и в которой никто не может быть? Ведь если человек живет, то ее еще нет, потому что это происходит до смерти, а не в смерти; если же он перестал жить, то ее уже нет, потому что это бывает уже после смерти, а не в смерти. Но, с другой стороны, если никакой смерти не бывает ни прежде, ни после, то что же есть, что называется «до» смерти или «после» смерти? Ведь и это пустые слова, если нет никакой смерти. О, если бы мы могли проводить в раю добродетельную жизнь, чтобы на самом деле не было никакой смерти! А теперь она не только есть, но и так мучительна, что никакими словами нельзя это выразить, никаким способом нельзя избежать ее!
Итак, будем держаться обычного способа выражения, потому что иначе и не должно быть. Будем гово-
О граде Божием______________________________________________________________625
рить: «до смерти», прежде чем наступит смерть. А когда она случится, будем говорить: «После смерти того или другого было то–то или то–то». Будем говорить и о настоящем времени, как можем, подобно тому, как мы говорим: «Умирая, такой–то составил завещание; умирая, оставил этим и тем то–то и то–то»; хотя это мог сделать только живущий, и сделать, конечно, до смерти, а не в смерти. Будем говорить даже так, как говорит Священное писание, которое и умерших не поколебалось назвать находящимися не после смерти, а в смерти. Таково известное изречение: «В смерти нет памятования о Тебе» (Пс VI, 6). Ибо до воскресения они справедливо называются находящимися в смерти, подобно тому, как каждый называется находящимся во сне, прежде чем он пробудится. Но хотя находящихся во сне мы называем спящими, однако же не можем подобным образом называть умирающими уже умерших. Ибо те не умирают только теперь, которые, — насколько это касается телесной смерти, о которой мы в настоящем случае говорим, — уже отделились от тел. Но об этом–то я и сказал, что нельзя объяснить, каким образом умирающие называются еще живущими, или умершие после смерти называются еще находящимися в смерти. Ибо каким образом они будут после смерти, если они еще в смерти? Это — тем более, что мы не называем их умирающими подобно тому, как находящихся во сне называем спящими, находящихся в изнеможении — изнемогающими, находящихся в скорби — скорбящими, находящихся в жизни — живущими. Называют умерших, прежде чем они воскреснут, находящимися в смерти: но все же их нельзя назвать умирающими.
Поэтому я думаю, что весьма кстати и вполне уместно (хотя, быть может, не по человеческому старанию, а по божественной воле) произошло то, что этот глагол в латинском языке, т. е. топшг (умирает), сами грамматики не могут склонять* по тому образцу, по какому
* Склонением называли также и изменения глаголов.
Блаженный Августин__________________________________________________________626
склоняются прочие подобного рода глаголы. Ибо от опшг (происходит) получается глагол прошедшего времени огшз езс, и другие подобные глаголы склоняются при помощи причастия прошедшего времени. А когда спрашиваем о прошедшем времени от топшг, то обыкновенно отвечают: тогшш езс, с удвоением буквы и. Мы употребляем тогшш точно так же, как гашиз (сумасбродный), агс1шд5 (крутой), сопзгаошз (видный) и тому подобные слова, которые не являются глаголами прошедшего времени, а склоняются без времени, потому что это — имена. И в вышеупомянутом случае, как бы для склонения того, что не может склоняться, вместо причастия прошедшего времени употребляется имя. Таким образом, вполне сообразно произошло то, что как обозначаемого этим глаголом (т. е. смерти) нельзя избежать*, так и сам он не может склоняться в речи. Но при помощи благодати нашего Искупителя может стать так, что мы будем в состоянии отклонить по крайней мере вторую смерть. Ибо она более тяжела и составляет самое худшее из всех зол; потому что не состоит из отделения души и тела, а скорее обнимает то и другое для вечного наказания. Там уже не как здесь, — не будут люди до смерти и после смерти, но постоянно в смерти; и потому никогда люди не будут живущими или умершими, а будут без конца умирающими. И никогда не будет для человека чего–либо худшего в смерти, как когда сама смерть будет бессмертной.
ГЛАВА XII
Итак, если спросят, какой смертью Бог угрожал первым людям, если они нарушат полученную от Него заповедь и не сохранят повиновение: смертью ли души, или тела, или всего человека, или же той, которая называется второй, то следует отвечать: «Всеми». Ибо перва
* Игра слов: йесМпаге — и склонять, и отклоняться, избегать.
О граде Божием______________________________________________________________627
состоит из двух, а вторая — общая для всех Как вся земля состоит из многих земель и вся Церковь — из многих церквей, так и общая смерть состоит из всех смертей. Ибо первая смерть состоит из двух из смерти души и из смерти тела, так что первая смерть всего человека бывает тогда, когда душа, оставленная Богом, терпит без тела временные наказания; вторая же бывает в том случае, когда душа, оставленная Богом, вместе с телом терпит вечные наказания. Поэтому, когда Бог сказал относительно запрещенной пищи тому человеку, которого Он поселил в раю: «В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. II, 17), то эта угроза обнимала не только первую часть первой смерти, когда душа лишается Бога; и не вторую только часть ее, когда тело лишается души; и не первую только смерть во всем объеме, когда душа наказывается, лишившись Бога и тела; но все смерти до самой последней, которая называется второй и после которой нет никакой другой.
ГЛАВА XIII
Ибо как только произошло нарушение заповеди, тотчас же они, лишившись божественной благодати, устыдились наготы своих тел (Быт. III, 7). Поэтому они листьями смоковницы, которые, может быть, первыми попались им при их смущении, покрыли срамные члены, которые хотя и прежде были такими же членами, но не были срамными. Они почувствовали новое движение в своей неповинующейся плоти, как бы прямое возмездие за свое неповиновение. Ибо, найдя превратное удовольствие в собственной свободе и отвергнув служение Богу, душа лишилась прежнего повиновения со стороны тела; и так как по собственной воле оставила высочайшего Господа, то не смогла удержать под своей волей низшего слугу и никоим образом не могла уже иметь плоть в подчинении себе, как всегда могла бы иметь ее, если бы сама осталась в подчинении Богу. Ибо тогда плоть начала
Блаженный Августин__________________________________________________________628
противоборствовать духу (Тал. V, 17). С этой борьбой мы рождаемся, имея в себе начало смерти и нося в своих членах и в испорченной природе противоборство ее или победу, как следствие первого преступления.
ГЛАВА XIV
Бог, Творец природ, а не пороков, создал человека непорочным; но, добровольно испорченный и праведно осужденный, человек произвел испорченное и осужденное потомство. Ибо все мы были в нем одном, когда все были им одним, который впал в грех через женщину, созданную из него до греха. Мы еще не имели отдельного существования и особой формы, в которой каждый из нас мог бы жить отдельно; но уже была природа семени, от которой нам надлежало произойти; а так как она была испорчена вследствие греха, связана узами смерти и праведно осуждена, то от человека не мог родиться человек с другими свойствами. Таким образом, вследствие злоупотребления свободной волей произошла эта несчастная цепь, которая рядом взаимно соединенных между собой бедствий доводит род человеческий, вследствие испорченности его начала, как бы вследствие порчи корня, до пагубной второй смерти, не имеющей конца, за исключением тех, которые освобождаются благодатью Божией.
ГЛАВА XV
Поелику не было сказано «смертями», но «смертию умрешь», то в этих словах мы можем понимать только одну ту смерть, которая бывает тогда, когда душа лишается своей жизни, которой для нее служит Бог. Ибо она не была оставлена, чтобы оставить; но оставила сама, чтобы быть оставленной, так как в отношении к ее злу предшествует ее воля, а в отношении
О граде Божием _____________________________________________________________629
к добру — воля ее Творца: или чтобы создать ту, которой вовсе не было, или чтобы воссоздать ту, которая погибла через падение. Но хотя бы мы эти слова, сказанные Богом: «В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. II, 17), стали понимать в том смысле, что Бог возвестил в них об этой одной смерти, как бы сказав: «В тот день, в который вы оставите Меня через неповиновение, Я оставлю вас по правосудию», тем не менее, в этой смерти были возвещены и прочие ее виды, которые должны были за ней последовать. В том, что произошло неповинующееся движение в плоти неповинующейся души, вследствие чего они прикрыли свои срамные члены (Быт. III, 7), дала о себе знать одна смерть, в которой Бог оставил душу. На нее было сделано указание в словах Его, когда Он сказал человеку, скрывавшемуся из–за (охватившего его) неразумного страха: «Где ты?» (Быт. III, 9); ибо Он спрашивал не вследствие неведения, но обличая и увещая обратить внимание на то, где он стал находиться, когда в нем не стало Бога. Когда же сама душа оставила поврежденное вследствие лет и изнуренное старостью тело, то пришлось испытать и другую смерть, о которой Господь еще при определении наказания за грех сказал человеку: «Прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. III, 19); так что из этих двух смертей та первая, которая есть смерть всего человека, исполнилась, а за ней последует и вторая, если человек не освободится от нее через благодать. Ибо тело, которое от земли, не возвратилось бы в землю иначе, как вследствие смерти, которой оно подвергается, когда лишается своей жизни, то есть души. Поэтому, как известно христианам, держащимся истинно католической веры, даже сама телесная смерть наложена на нас не законом природы, по которому Бог никакой смерти не сотворил для человека, но в наказание за грех; потому что Бог, наказывая за грех, сказал человеку, в котором тогда были мы все: «Прах ты, и в прах возвратишься».
Блаженный Августин_________________________________________________________630
ГЛАВА XVI
Но философы, против клеветы которых мы защищаем град Божий, то есть Церковь Его, считают мудростью смеяться над тем, что мы говорим, а именно: что отделение души от тела должно почитаться одним из ее наказаний По их мнению, совершенное блаженство бывает для нее тогда, когда она, совершенно лишившись всякого тела, возвращается к Богу простой, единой и как бы нагой. Если бы я не мог найти в их же сочинениях ничего такого, чем опровергалось бы это мнение, то с моей стороны потребовалось бы немало труда, чтобы доказать, что бременем для души служит не просто тело, но тленное тело Потому–то в наших Писаниях и говорится, как я упоминал в предыдущей книге, что тленное тело отягощает душу (Прем. XI, 15). Присоединив слово «тленное», оно (Писание) ясно показало, что душа обременяется не всякого рода телом, но таким, каким оно сделалось в наказание за грех. Хотя, впрочем, если бы даже и не прибавило этого, то и тогда мы не должны были бы понимать что–либо Другое
Но так как Платон яснейшим образом утверждает, что боги, созданные верховным Богом, имеют бессмертные тела, и представляет самого Бога, которым они созданы, обещающим им в качестве великого благодеяния, что они вечно будут пребывать со своими телами и не отрешатся от них никакой смертью, то зачем же они, желая уничтожить христианскую веру, притворяются, что не знают того, что знают, или даже, противореча самим себе, предпочитают говорить против себя же самих, лишь бы не перестать говорить против нас? Ведь Платону принадлежат слова, переведенные на латинский язык Цицероном, в которых он представляет верховного Бога обращающимся к сотворенным им богам и говорящим так «Вы, произошедшие от посева богов, обратите внимание на то, что рождено и сотворено Мною. Оно пребудет неразрушимым, ибо такова Моя воля. Разумеется, все то, что составлено из
О граде Божием_______________________________________________________________631
частей, может быть разрушено, однако доброму несвойственно желание разрушать то, что соединено разумно. Хотя вы, как получившие начало, не можете быть бессмертными и неразрушимыми, однако же никоим образом не разрушитесь и никакие судьбы не погубят вас посредством смерти и не будут сильнее Моего решения, которое составляет более крепкую связь для вашего вечного существования, чем те связи, которыми вы были соединены при рождении»*. Таким образом, Платон представляет богов хотя и смертными вследствие соединения души и тела, но бессмертными по воле и решению сотворившего их Бога. Итак, если для души служит наказанием быть соединенной с каким–либо телом, то почему Бог, обращаясь к опасающимся умереть, то есть отделиться от тела, успокаивает их, обещая им бессмертие не в силу их природы, которая сложна, а не проста, но по Своей непреодолимой воле, по которой Он может сделать то, чтобы рожденное не умирало и соединенное не разрушалось, но пребывало нетленным?
Справедливо ли это мнение Платона применительно к звездам — это другой вопрос. Ибо из этого еще не следует, что нужно согласиться с ним в том, что те шаровидные или кругообразные тела, сияющие ночью над землей, живут, имея свои собственные некоторого рода души, и притом — души разумные и блаженные; что он настойчиво утверждает и относительно всего мира, составляющего как бы одно громадное животное, в котором заключаются все прочие животные. Это, как я сказал, другой вопрос, который мы не намерены теперь рассматривать. Я признал нужным только привести указанные слова против тех, которые тщеславятся тем, что они платоники или называются платониками, и, гордясь этим именем, стыдятся быть христианами, чтобы, приняв общее с народом название, не унизить обще-
Блаженный Августин__________________________________________________________632
ства паллиатов*, тем более напыщенного, чем оно малочисленнее, — против тех, которые, выискивая в христианском учении что–либо для порицания, восстают против вечности тел, указывая на якобы противоречие в том, что мы стремимся к блаженству души и в то же время желаем, чтобы она всегда оставалась в теле, как бы связанная тяжкими узами; между тем, их же глава и учитель Платон говорит, что верховный Бог дал сотворенным им богам как некий дар то, что они никогда не умрут, т. е. никогда не отделятся от тел, с которыми Он их соединил.
ГЛАВА XVII
Они утверждают также, что земные тела не могут быть вечными, между тем как всю землю вообще представляют членом своего бога, хотя не верховного, но все же великого, то есть всего этого мира, — членом срединным и вечным. Но если верховный Бог создал им другого, как они полагают, бога, то есть этот мир, который должен предпочитаться другим богам, более низким, и которого они признают одушевленным, то есть имеющим разумную и обладающую умом душу, заключенную в такую большую массу тела; и если в виде членов этого тела, расположенных и распределенных по надлежащим местам. Он сотворил четыре стихии, соединение которых они признают неразрушимым и вечным, чтобы когда–либо не умер столь великий их бог, то почему земля, составляющая как бы центральный член в теле большого животного, вечна, а тела других земных животных не могут быть вечными, если бы Бог пожелал этого подобно вышеупомянутому? Но земля, говорят они, должна быть возвращена земле, из которой взяты земные тела животных; поэтому им не-
* Т. е. философов, называвшихся так от паллия — плаща, который они носили.
О граде Божием______________________________________________________________633
обходимо умереть и таким образом возвратиться в неизменную и вечную землю, из которой они взяты.
Но если бы кто–нибудь подобным же образом стал утверждать это и относительно огня и сказал, что должны быть возвращены мировому огню и те тела, которые взяты из него для сотворения небесных существ, то бессмертие, которое таким богам обещал Платон как бы устами верховного Бога, не окажется ли противоречащим этому рассуждению? Или там не бывает этого потому, что этого не хочет Бог, волю которого, как говорит Платон, не может преодолеть никакая сила? Но в таком случае что может препятствовать Богу сделать то же самое и относительно земных тел, коль скоро Платон признает, что Бог может сделать, чтобы и родившееся не умирало, и соединенное не разрушалось, и взятое из элементов не возвращалось им, и души, находящиеся в телах, никогда не оставляли их, но вместе с ними пользовались бессмертием и вечным блаженством? Да и почему бы Он не мог дать бессмертие хотя бы и земным тварям? Разве Бог не настолько могущественен, насколько веруют христиане, а настолько, насколько признают это платоники? Неужели платоники могли познать совет Божий и Его могущество, а пророки не могли? Скорее наоборот, пророков Божиих Дух Его научил, насколько благоволил, возвещению воли Его, а философов обольщало в познании ее человеческое предположение.
Но все же они не должны были, не только по невежеству, но главное — по упорству обольщаться настолько, чтобы явно противоречить себе-, с большими натяжками стараться доказать, что душа, чтобы быть блаженной, должна избегать не только земного, но и всякого тела; и в то же время утверждать, что боги имеют души вполне блаженные и, однако, соединенные с вечными телами, что души богов небесных соединены с телами огненными, а душа самого Юпитера, которого они считают этим миром, заключена во всех вообще телесных стихиях, посредством которых вся эта
Блаженный Августин _________________________________________________________634
масса возвышается от земли до неба. Ибо Платон полагает, что эта душа от внутренней середины земли, которую геометры называют центром, разливается и распространяется через музыкальные числа по всем частям ее до самых высших и крайних частей неба: так что этот мир представляет собой животное величайшее, блаженнейшее и вечное, душа которого и удерживает совершенное счастье мудрости, и не оставляет собственного тела; а тело и вечно живет ею, и не в состоянии ее притуплять и ослаблять, хотя оно и не просто, а сложено из стольких и столь великих тел. Допуская это в своих предположениях, почему они не хотят верить, что в силу божественной воли и могущества могут быть бессмертными земные тела, в которых души, не отделенные от них никакою смертью, не отягощаемые их бременем жили бы вечно и блаженно; когда возможность этого они признают для своих богов в огненных телах, а для самого царя их, Юпитера, во всех телесных элементах? Ведь если душа, чтобы быть блаженной, должна избегать всякого тела, то пусть бегут и их боги со звездных шаров; пусть бежит и Юпитер с неба и земли; а если бежать не могут, пусть считаются несчастными; но ни с тем, ни с другим они не соглашаются. Они не решаются приписать своим богам отделение от тела, чтобы не показалось, что поклоняются смертным; но не смеют отрицать в них и блаженства, чтобы не признать их несчастными. Итак, для достижения блаженства должно избегать тел не всяких, а только тленных; не каких создала благость Божия первым людям, а таких, до каких довело наказание за грех.
ГЛАВА XVIII
Но необходимо, говорят, чтобы естественная тяжесть или удерживала земные тела на земле, или влекла к земле, и потому–де, они не могут быть на небе. Хотя первые люди находились на земле, обильной деревьями и плодами, получившей название рая,
О граде Божием_______________________________________________________________635
но так как и на это следует дать ответ, отчасти в связи с телом Христовым, с которым Он вознесся на небо, отчасти в связи с телами святых, какие будут по воскресении, то рассмотрим несколько внимательней сами земные тяжести. Если человеческое искусство производит то, что сосуды из металлов, которые (металлы), будучи опущены в воду, тотчас же погружаются вниз, когда бывают устроены известным образом, могут даже плавать, то во сколько вероятнее и действительнее некоторый таинственный способ действия Бога, — по воле Которого, как говорит Платон, не погибает то, что получило начало, и не может разрушаться соединенное (хотя гораздо более достойно удивления соединение бестелесного с телесным, нежели соединение чего–либо телесного с телесным), — Который может дать земным массам способность не увлекаться никакой тяжестью вниз, а самим душам, при полном блаженстве, помещать эти, хотя и земные, однако уже нетленные тела там, где захотят, и переносить туда, куда пожелают, со всевозможной легкостью и подвижностью? Если ангелы делают это и уносят всяких земных животных откуда угодно и помещают их где угодно, то неужели следует думать, что для них это невозможно без труда или что они чувствуют тяжесть?
Итак, почему мы не можем думать, что совершенные и блаженные по божественному дарованию духи могут переносить свои тела куда захотят и помещать их там, где пожелают? Ибо, хотя при ношении земных тел мы обычно испытываем тем большую тяжесть, чем больше их количество, так что большее по весу более обременяет, нежели меньшее, однако душа с большей легкостью носит члены своего тела тогда, когда они бывают здоровыми и крепкими, чем тогда, когда они слабы и тощи. И хотя для других, которым случается нести здорового и сильного, он бывает более тяжелым, чем тощий и болезненный, однако сам он легче движет и перемещает свое тело тогда, когда оно имеет больше объема при хорошем здоровье, нежели тогда,
Блаженный Августин__________________________________________________________636
когда он имеет очень мало сил вследствие болезни или голода. Такое имеет значение в отношении даже к земным телам, хотя еще тленным и смертным, не вес количества, а условия организации. А кто может выразить словами, какое различие между настоящим так называемым здоровьем и будущим бессмертием?
Итак, пусть философы не опровергают нашей веры, ссылаясь на тяжесть тел. Я не предложу им вопроса о том, почему они не верят, что земное тело может быть на небе, когда вся земля висит в пустоте. Ибо возможно, что их аргументация покажется более вероятной в отношении к самой центральной части мира, так как в ней сосредоточено все самое тяжелое. Но я обращу их внимание на то, что если низшие боги, которыми, по мнению Платона, создан между прочими земными животными и человек, могли, как говорит Платон, отнять у огня свойство жечь и оставить свойство светить, которое делает его доступным для глаз, то неужели мы не решимся допустить, что верховный Бог может уничтожить тление в теле человека, которому Он дает бессмертие, но оставить природу, удержать гармоническое соединение фигуры и членов и устранить замедляющую тяжесть, — Бог, воле и могуществу Которого, чтобы объяснить бессмертие, он придает такую силу, что получившее начало и при таком различии, таком несходстве, которое существует между телесным и бестелесным, взаимно соединенное, не может быть ничем разделено? Но о вере в воскресение мертвых и о бессмертных телах их мы подробнее скажем, если Богу будет угодно, в конце этого сочинения.
ГЛАВА XIX
Теперь же поговорим, как предположили, о телах первых людей. Эта смерть, которая представляется доброй для добрых и которая известна не только немногим разумеющим или верующим, но и вообще всем,
О граде Божием______________________________________________________________637
вследствие которой происходит отделение души от тела и через которую тело живого существа, очевидно жившее, очевидно умирает, — эта смерть не могла бы случиться с ними, если бы они не заслужили ее через грех. Ибо хотя нельзя сомневаться, что души умерших праведников и благочестивых живут в покое, тем не менее, для них до такой степени было бы лучше жить вместе со своими телами, при полном их здоровье, что даже те, которые признают во всех отношениях самым блаженным бестелесное бытие, опровергают это свое мнение, противореча самим себе. Никто из них не решится людей мудрых, которые или должны умереть, или уже умерших, т. е. или отрешились от тел, или должны отрешиться, поставить выше бессмертных богов, которым у Платона верховный Бог обещает, как великий дар, неразрушимую жизнь, т. е вечное общение со своими телами. Тот же Платон полагает, что с людьми, если только они проводили эту жизнь благочестиво и справедливо, поступается прекрасно, что они, после отделения от своих тел, принимаются в лоно богов, никогда не оставляющих своих тел.Лишенные памяти видят небесный свод сызнова И снова желать начинают в тела возвратиться'.
Есть указания, что Вергилий заимствовал это из учения Платона. Действительно, он полагал, что души умерших, с одной стороны, не могут всегда пребывать в своих телах, но отделяются от них вследствие неизбежной смерти, а с другой — не могут быть вечно и без тел, но, как думал он, беспрерывно и попеременно то делаются живыми из умерших, то — умершими из живых; так что мудрые, по–видимому, отличаются от прочих людей тем, что после смерти переселяются на звезды, чтобы каждый в течение некоторого времени покоился на соответствующей ему звезде, и затем, позабыв о прежних
Блаженный Августин_________________________________________________________ 638
бедствиях и побуждаемый желанием иметь тело, снова возвратился к человеческим трудам и несчастьям; а те, которые прежде вели неразумную жизнь, возвращаются, соответственно их заслугам, в близкие их природе тела людей или животных. Таким образом, в это весьма тяжелое положение он ставит и души добрые и мудрые, потому что и им не даны такие тела, с которыми они могли бы жить вечно и бессмертно; так что они не могут ни оставаться в телах, ни без них пребывать в вечной чистоте.
В предшествующих книгах мы уже говорили, что Порфирий, писавший во времена христианства, устыдился этого учения Платона и не только устранил от человеческих душ тела животных, но даже полагал, что души мудрых так освобождаются от телесных уз, что, избегая всякого тела, будут вечно пребывать блаженными у Отца. Таким образом, чтобы не показалось, будто он побежден Христом, обещающим вечную жизнь святым, он и сам признал, что очищенные души без всякого возвращения к прежним бедствиям будут пребывать в вечном блаженстве; а чтобы стать в противоречие с Христом, он, отрицая воскресение нетленных тел, утверждал, что они будут жить вечно не только без земных, но и совершенно безо всяких тел. И однако же в силу этого какого бы то ни было мнения, он не предостерегает их ни одним словом относительно того, чтобы они не совершали религиозного культа богам, облеченным в тела. Почему это, если не потому, что он не признавал их, хотя и не соединенных с телами, лучшими по сравнению с этими богами? Поэтому, если они не решатся, — а я полагаю, что они действительно не решатся, — предпочесть человеческие души богам вполне блаженным и, однако же, пребывающим в вечных телах, то почему им кажется нелепым то, что проповедует христианская вера, а именно: что и первые люди были сотворены так, что если бы не согрешили, то никакою смертью не были бы отделены от своих тел, но одаренные за соблюдение повиновения бессмертием, вечно жили бы вместе с ними; что и святые после воскресени
О граде Божием______________________________________________________________639
будут иметь те же самые тела, в которых они здесь пребывали, что ни их плоть не будет испытывать какого–либо тления или затруднения, ни их блаженство не будет подвергаться какой–либо скорби или бесчестью.
ГЛАВА XX
В настоящее время для душ умерших святых смерть, которой они отделяются от своих тел, потому не тяжка, что плоть их успокаивается в надежде, какому бы она, не имея уже чувства, поношению ни подвергалась. Они желают тел, но не вследствие забвения, как полагал Платон; помня то, что обещано им Тем, Кто никого не обманывает, Кто дал им уверенность даже в целости их волос (Лук XXI, 18), они скорее с преданностью и терпением ожидают воскресения тех самых тел, в которых они претерпели много несчастий, но в которых не будут более испытывать ничего подобного. Если они не питали ненависти к плоти своей (Еф. V, 29) тогда, когда по требованию духа обуздывали ее, не покорившуюся по своей немощи разуму, то насколько больше любят ее теперь, когда она духовна? Ибо как дух, служащий плоти, прилично называется плотским, так и плоть, служащая духу, справедливо называется духовной, — не потому, чтобы она превратилась в дух, как полагают некоторые на основании написанного: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (I Кор. XV, 44), но потому, что она с величайшей и необычайной легкостью отдает себя в подчинение духу по безмятежному желанию неразрушимого бессмертия, будучи освобожденной от всякого скорбного чувства, всякой тленности и косности. Ибо она не будет не только такой, какой бывает теперь даже при самом лучшем состоянии здоровья, но даже и такой, какой была в первых людях до грехопадения.
Хотя они и не умерли бы, если бы не согрешили, тем не менее, как люди, они пользовались пищей, потому
Блаженный Августин__________________________________________________________640
что имели пока не духовные, а одушевленные земные тела. Тела эти не одряхлели бы от старости и не приблизились бы по необходимости к смерти (это состояние поддерживала в них чудная благодать Божия в виде дерева жизни, стоявшего посреди рая вместе с запрещенным деревом); однако же они принимали и другую пишу, кроме одного дерева, которое было запрещено, — запрещено не потому, что оно само по себе было злом, а ради внушения им чистого и искреннего повиновения, которое составляет великую добродетель в разумной твари, находящейся под властью Творца и Господа. Ибо если касаются запрещенного там, где нет никакого зла, то грех совершается вследствие одного только непослушания. Итак, они имели и другую пишу, которую принимали для того, чтобы душевные тела их не чувствовали чего–либо тягостного из–за голода и жажды; от дерева же жизни вкушали для того, чтобы не проникла к ним откуда–либо смерть или чтобы не погибли они, подавленные через определенное время старостью. Прочее служило им пищей, а это — таинством; так что дерево жизни представляется имевшим в телесном раю то же значение, что и в духовном, то есть мысленном, раю имеет Премудрость Божия, о Которой написано: «Она — дерево жизни для тех, которые приобретают ее» (Притч. III, 18).
ГЛАВА XXI
В связи с этим некоторые весь тот рай, в котором, по несомненному свидетельству св. Писания, обитали первые люди, прародители рода человеческого, относят только к числу предметов мысленных и превращают упомянутые растения и плодоносные деревья в добродетели жизни и в нравы; так, как будто бы это не было видимым и телесным, но было сказано или написано для обозначения этим того, что постигается только умом. Но разве рай не мог быть телесным, даже если бы под ним можно было понимать и духовный? Разве у
О граде Божием_______________________________________________________________641
Авраама не было двух жен, Агари и Сарры, и двух сыновей от них, одного от рабы, а другого от свободной; хотя, как говорит апостол (Гал. ГУ, 24), они были прообразом двух заветов? Или Моисей, например, разве он не из камня исторг ударом воду (Исх. XVII, 6; Числ. XX, 11), потому что здесь в иносказательном смысле можно понимать Христа, по словам того же апостола: «Камень же был Христос» (I Кор. X, 4)? Итак, ничто не мешает понимать под раем жизнь блаженных; под четырьмя его реками — четыре добродетели: мудрость, мужество, умеренность и справедливость; под деревьями его — все полезные учения; под плодами деревьев — нравы благочестивых; под деревом жизни — самую мать всех благ, мудрость, а под деревом познания добра и зла — опыт нарушения заповеди. Ибо Бог назначил грешникам наказание во всех отношениях какое следует, потому что назначил его справедливо; только человек испытал его не ко благу своему.
Можно понимать это же самое и применительно к Церкви, принимая, пожалуй, за своего рода предварительные пророческие указания будущего. Так, под раем можем понимать саму Церковь, как о ней говорится в Песне Песней (ГУ, 13); под четырьмя райскими реками — четыре Евангелия; под плодоносными деревьями — святых; под их плодами — дела их; под деревом жизни — Святого святых, то есть Христа; под древом познания добра и зла — личный произвол воли. Ибо, если человек пренебрег божественной волей, то и самим собою располагать может не иначе, как только гибельным образом; и таким путем узнает разницу между тем, предан ли он общему для всех благу, или находит удовольствие в своем собственном. Ибо самолюбивый предоставляется себе самому, чтобы, исполнившись вследствие этого страха и скорби, он пел в псалме (если, впрочем, сознает свои несчастья): «Унывает во мне душа моя» (Пс. ХЦ, 7); а когда исправится, говорил: «К Тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой» (Пс. 1 МП, 10). Пусть относительно духовного понимания рая говорят это или что–либо другое, более применимое, что могут сказать,
Блаженный Августин _________________________________________________________642
этого никто не запрещает; лишь бы только сохранилась при этом вера в историческую подлинность самого достоверного повествования о том, что было.
ГЛАВА XXII
Итак, тела праведных, которые они получат при воскресении, не будут нуждаться ни в каком дереве и потому не наживут никакой болезни или старости и не умрут; не будут нуждаться и ни в какой другой телесной пище, устраняющей неприятное чувство голода и жажды, потому что несомненно и всецело облекутся в ненарушимый дар бессмертия, так что если захотят, то будут употреблять пищу вследствие возможности, а не вследствие необходимости. Это делали и ангелы, когда являлись видимым и осязаемым образом людям, — не потому, чтобы нуждались, а потому, что хотели и могли, чтобы стать ближе к людям исходя из чувства человеколюбия при исполнении своего служения. Ибо не следует думать, будто ангелы призрачно употребляли пишу, когда люди оказывали им гостеприимство (Быт. XVIII); хотя, не знающим того, что это были ангелы, казалось, что они ели вследствие такой же потребности, какую имеем и мы. Поэтому ангел в книге Товита говорит: «Вы видели, что я ел, но видели на свой взгляд» (Тов. XII, 19), то есть: «Вы полагали, что я принимал пищу вследствие необходимости, для подкрепления тела, подобно тому, как это делаете вы». Но если относительно ангелов и можно предполагать что–либо другое, более вероятное, то, по крайней мере, относительно самого Спасителя христианская вера не сомневается в том, что Он и после воскресения, будучи уже хотя в духовной, но в истинной плоти, принимал вместе с учениками пищу и питье (Лук XXIV). Ибо у таких тел отнимается не возможность, а потребность в пище и питье. Поэтому они и
О граде Божием_______________________________________________________________643
духовными будут не потому, что перестанут быть телами, а потому, что будут существовать, оживотворенные духом.
ГЛАВА XXIII
Ибо как те тела, которые имеют душу живую, а не дух животворящий, называются телами душевными, и, однако, это не души, а тела; так и эти тела называются духовными, и, однако же, мы должны быть далеки от признания их духами. Эти тела будут иметь природу, свойственную плоти, но оживотворяемую духом, и не будут подвергаться никакой косности и телесному тлению. Человек тогда будет уже не земным, а небесным, — не потому, что тело, созданное из земли, не будет тем же самым, а потому, что оно, по небесному дару, будет уже таким, что будет способно жить и на небе; не вследствие утраты своей природы, но — изменения свойства. Первый человек — из земли, перстный, душа живущая, а не дух животворящий (I Кор. XV, 45, 47); последнее оставлялось ему на будущее, как воздаяние за повиновение. Поэтому тело его, которое нуждалось в пище и питье, чтобы не быть изнуренным голодом и жаждой, и не через совершенное и нетленное бессмертие, а через древо жизни не допускалось до необходимости смерти и пребывало в цветущей юности, было, без сомнения, не духовным, а душевным; хотя оно и не умерло бы, если бы через преступление не подпало божественному приговору. И если бы ему дозволена была пища и вне рая, но запрещено было дерево жизни, он был бы предан времени и должен был бы покончить старостью, но живя той же жизнью, которую он мог бы иметь в раю, если бы не согрешил, вечною, несмотря на то, что у него было душевное тело, пока не сделалось бы духовным в воздаяние за повиновение.
Поэтому, если в сказанных Богом словах: «В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. II, 17), мы будем понимать вместе и эту
Блаженный Августин__________________________________________________________644
Явную смерть, вследствие которой происходит отделение души от тела, и в таком случае не должно казаться странным, что они не были отделены от тела в тот же самый день, в который вкусили запрещенной и смертоносной пищи. В тот день изменилась к худшему и повредилась их природа, и вследствие вполне справедливого удаления от дерева жизни стала и телесная смерть для них такой необходимостью, с какой необходимостью родились и мы. Поэтому апостол не говорит: «Плоть мертво по причине греха», но говорит: «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Рим. VIII, 10). Затем он прибавляет: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. VIII, И). Следовательно, тогда будет в духе животворящем то тело, которое теперь в душе живой.
Тем не менее, апостол называет его мертвым, потому что оно уже связано необходимостью смерти. Прежде же оно было хотя и не в духе животворящем, но в душе живой так, что по справедливости не могло быть названо мертвым, ибо могло подвергнуться необходимости смерти лишь через совершение греха. Когда же Бог словами к Адаму: «Где ты?» (Быт. III, 9) указал на смерть души, совершившуюся вследствие оставления Его, и словами: «Прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. III, 19) обозначил смерть тела, совершившуюся вследствие оставления его душой, то потому, вероятно, ничего не сказал о второй смерти, что пожелал, чтобы она была сокрытой ради строительства здания Нового завета, в котором о второй смерти возвещается с полной ясностью; так что первоначально становится известной та первая смерть, которая обща для всех, как произошедшая из того греха, который в одном сделался общим для всех; вторая же смерть вовсе не есть общая для всех по причине призванных по предвидению: «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
О граде Божием______________________________________________________________645
между многими братииями» (Рим. VIII, 29). Последних от второй смерти избавила через Ходатая Божия благодать. Итак, первый человек был создан, как говорит апостол, с душевным телом. Ибо, желая отличить теперешнее, душевное, от духовного, которое должно быть после воскресения, он говорит: «Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (I Кор. XV, 42—44). Потом, чтобы доказать это, продолжает: «Есть тело душевное, есть тело и духовное». А чтобы показать, что такое тело душевное, он говорит «Так и написано-, «первый человек Адам стал душею живущею» I Кор. XV, 45; ср. Быт. II, 7). Так апостол хотел объяснить, что такое тело душевное. Хотя о первом человеке, который был назван Адамом, Писание, когда ему божественным дуновением была сотворена душа, и не сказало: «Стал человек телом душевным», но сказало: «Стал душою живущею»; тем не менее, под написанным апостол хотел понимать душевное тело человека. А как нужно понимать духовное тело, он показывает, прибавляя: «А последний Адам есть дух животворящий» (I Кор. XV, 45). Без всякого сомнения, он указывает этим на Христа, Который уже воскрес из мертвых так, что после этого совершенно не может умереть. Продолжая далее, он говорит: «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Здесь он гораздо яснее дает понять, что под телом душевным подразумевал то, о котором написано, что «первый человек Адам стал душою живущею»; под духовным же то, о котором говорит: «А последний Адам есть дух животворящий». Ибо по времени предшествует то тело душевное, какое имел первый человек (хотя оно и не умерло бы, если бы он не согрешил); какое имеем в настоящее время и мы, но с природой настолько измененной и поврежденной, насколько совершилось это в нем после того, как он согрешил (откуда и возникла для него необходимость смерти); какое первоначально соблаговолил принять ради нас и Христос,
Блаженный Августин ________________________________________________________646
хотя не по необходимости, а по Своей властной воле: потом уже следует то тело духовное, какое уже предварило во Христе, как в Главе нашей, но явится потом в членах Его при последнем воскресении мертвых. Далее апостол указывает новое, наиболее очевидное различие между тем и другим
человеком, говоря: «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные; и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (I Кор. XV, 47 — 49). В данных словах апостол излагает это так, как оно в настоящее время совершается в нас через таинство возрождения; подобно тому, как в другом месте говорит: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Тал. III, 27); на самом же деле это совершится тогда, когда душевное в нас через рождение сделается духовным через воскресение. Ибо, чтобы употребить его же слова, «мы спасены в надежде» (Рим. УШ, 24). Облекаемся же мы в образ перстного человека вследствие расположения преступления и смерти, которую нам дало рождение; но облекаемся в образ небесного человека по благодати помилования и жизни вечной. Это дается нам возрождением и только через Ходатая Бога, человека Иисуса Христа (I Тим. II, 5). Его он подразумевает под небесным человеком, потому что Он сошел с неба, чтобы облечься в тело земной смертности и чтобы облечь это тело в небесное бессмертие. Небесными он называет и других потому, что по благодати они бывают членами Его, чтобы Христос был с ними едино, как глава и тело. На это еще очевиднее он указывает в том же послании следующими словами: «Как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (I Кор. XV, 21,22), — оживут, конечно, уже в теле духовном, которое будет в духе животворящем.
Выражение «все» не означает, что все, умирающие в Адаме, будут членами Христа, потому что гораздо большее число их будет наказано второй смертью навеки; но потому сказано «все», что как телом душевным никто не умирает иначе, как только в Адаме, так и телом духовным никто не оживотворяется иначе, как только во Христе. Поэтому не следует думать, что мы по воскресении будем иметь такое тело, какое имел первый человек до грехопадения. И сказанное: «Каков перстный, таковы и перстные» не следует понимать применительно к тому, что сделалось после совершения греха. Ибо не следует думать, что он, прежде чем согрешил, имел духовное тело и что вследствие греха оно изменилось в душевное. Думать так — значит мало обращать внимания на слова этого великого учителя, который говорит: «Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущею». Каким образом это совершилось после грехопадения, когда таково было первоначальное состояние человека, относительно которого блаженнейший апостол привел это свидетельство Закона с целью доказательства того, что тело было душевным?
ГЛАВА XXIV
Некоторые необдуманно понимали и слова: «Бог… вдунул в лице его дыхание (зртшт — дух) жизни, и стал человек душею живою» (Быт. II, 7) не в том смысле, что тогда впервые дана была душа человеку, а в том, что уже бывшая в нем душа оживотворена была Духом Святым. Их смущает то, что Господь Иисус после воскресения из мертвых дунул, говоря ученикам Своим: «Примите Духа Святого» (Иоан. XX, 22). Поэтому они полагают, что и здесь было нечто подобное тому, что было и тогда, и что евангелист вслед за тем мог бы сказать-. «И стали они душою живою». Но если бы даже и было так сказано, мы и тогда поняли бы это в том смысле, что Дух Божий некоторым образом служит жизнью для душ и что без Него разумные души должны считаться мертвыми, хотя благодаря их присутствию и предстаа'шются живущими телами.
Блаженный Августин__________________________________________________________648
Но не так было при сотворении человека, о чем свидетельствуют сами слова книги, которые читаются так «И создал (Гопгшаг — образовал) Господь Бог человека из праха земного» (Быт. II, 7).
Некоторые, признавая необходимым более ясный перевод, выразили это так «И слепил (йпхН) Господь Бог человека из грязи земной». Так как выше было сказано: «Пар поднимался с земли и орошал все лице земли» (Быт. II, 6), то им казалось, что здесь следует понимать грязь, т. е. смешение влаги и земли. Ибо непосредственно после этих слов следует: «И создал Господь Бог человека из праха земного». Так читается это место в греческих кодексах, с которых Писание переведено на латинский язык. Но захочет ли кто читать «образовал», или «слепил», что по–гречески называется етйаоеу, — это к существу дела не относится; хотя более точно говорить «слепил». Считавшие же нужным избежать двусмысленности предпочли слово «образовал», потому что в латинском языке слово «слепил» употребляется большей частью в применении к тем, которые измышляют что–либо ложное. Итак, этот человек, образованный из праха земного, или из грязи (ибо это был влажный прах), или — чтобы сказать выразительнее, как сказало Писание — эта «персть» стала, по учению апостола, телом душевным, когда получила душу. «Первый человек Адам стал душею живущею» (I Кор. XV, 15), т. е. получивший известную форму прах стал душою живою.
Говорят, что он уже имел душу, потому что иначе он не был бы назван человеком, так как человек не есть одно тело или одна душа, но состоит из души и тела. То верно, что душа не составляет всего человека, а лучшую часть человека, и тело не составляет всего человека, а низшую часть человека; когда же то и другое бывает соединено вместе, называется человеком. Но дается это название и отдельным частям, когда мы говорим о каждой из них отдельно. Разве законы обыденной речи запрещают кому–либо говорить: «Человек этот умер и теперь успокоился или терпит наказание», хотя это
О граде Божием______________________________________________________________649
можно сказать только об одной душе; или: «Человек этот погребен в том или ином месте», хотя это может пониматься только относительно тела? Не скажут ли, что Священное писание не имеет обыкновения говорить так? Но свидетельства его в этом отношении на нашей стороне до такой степени, что, когда обе части еще соединены и человек живет, оно тем не менее каждую часть отдельно называет именем человека: душу называет человеком внутренним, а тело — человеком внешним (I Кор. IV, 16), так, как если бы было два человека; хотя то и другое вместе составляет человека одного. Но когда говорится, что человек создан по образу Божию и что он земля и должен возвратиться в землю, — нужно понимать, относительно чего это говорится. В первом случае говорится относительно разумшй души, которую Бог посредством вдыхания или, точнее сказать, вдувания дал человеку, то есть телу человека; во втором же — относительно тела в том виде, в каком Бог создал человека из праха, дал ему душу, чтобы было тело душевное, т. е. чтобы был человек душою живою.
Поэтому, когда Господь дунул, говоря: «Примите Духа Святого» (Иоан. XX, 22), этим действием Он, конечно, дал понять, что Дух Святой есть Дух не только Отца, но и Сына. Ибо тот же Дух, Который от Отца и от Сына, вместе с Ними есть Святая Троица. Не телесное дуновение, которое исходит из телесных же уст, было субстанцией и природой Духа Святого; дуновение это было знаком, по которому мы, как я сказал, должны понять, что Дух Святой равно присущ Отцу и Сыну, ибо не у каждого из Них особый Дух, но один на обоих. Дух этот в Св. писаниях называется по–гречески Шеиця, как и в этом месте назвал Его Господь, обозначая Его дуновением уст Своих и давая Его ученикам. Ни в каких местах Писаний я не встречал, чтобы Он назывался иначе. Здесь же, где читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание (5ршшт) жизни, и стал человек душею живою» (Быт. П, 7), в греческом (переводе) не говорится , как обычно говорится о Духе Святом, но лтоп, — название, прилагаемое
Блаженный Августин__________________________________________________________650
к твари, а не Творцу. Поэтому некоторые и по–латыни предпочли перевести это слово не как «дух» (зршгиз), а как «дыхание» (паШ5). Слово это встречается в греческом тексте и в том месте Исайи, где Бог говорит: «Всякое дыхание, Мною сотворенное» (Ис. ЬУП, 16), обозначая этим, несомненно, всякую душу.
Итак то, что по–гречески читается ююг\, наши иногда переводили словом «дыхание», иногда — словом «дух», а иногда и «вдохновение» или «дуновение» (1п5р1гаио ус! азрхгайо). Шетэца же всегда переводили словом «дух», — шла ли речь о духе человека, о котором говорит апостол: «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» (I Кор. II, 11); или о духе скота, как написано в книге Соломона «Кто знает: дух сьшов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» (Еккл. III, 21); или о том телесном духе, который называется ветром, ибо это название прилагается и к нему, когда говорится в псалме: «Огонь и град, снег и туман, бурный ветер*» (Пс. СХ1 МП, 8); или даже о Духе–Творце, о Котором говорит Господь: «Примите Духа Святого», обозначая Его дуновением Своих уст. Равно и в том месте, где Он говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мфо. XXVIII, 19), яснейшим образом свидетельствуя о Троице. Так же и там, где сказано: «Бог есть дух» (Иоан. IV, 24), и в других весьма многих местах Писаний. Во всех них мы находим у греков тпкциа, а не тсусгп, а у латинян зршшз, а не Яапдз. Поэтому, если бы в словах Писания: «Вдунул в лице его дыхание жизни», греческий текст имел бы не пчщ\, а ях^щсс, то и в этом случае отнюдь не следовало бы, что мы должны были бы непременно понимать здесь Дух Творца.
Но говорят, что не было бы к слову «дыхание» прибавлено «жизни», если бы тут не подразумевался Святой Дух. И сказав: «Стал человек душею», оно (Писание) не прибавило бы «живою», если бы не хотело обозначить
* У Августина: «Дух бурен».
О граде Божием_______________________________________________________________651
жизнь души, которая дается ей свыше, по дару Духа Божия. Но все это — упрямая настойчивость и небрежное отношение к текстам Св. писания. Действительно, разве нужно далеко ходить за примерами, когда тут же, немного выше этого, сказано: «Да произведет земля душу живую» (Быт. I, 24)? Затем, через несколько страниц, когда повествуется о том, как погибло все живущее на земле при потопе, читаем: «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло» (Быт. VII, 22). Итак, если подобные выражения мы встречаем и по отношению к скотам; если, далее, в подобных местах греки ставят в текстах не тгуе–оца, а ююг\, то разве не ясно, что Писание называет душу живущей просто по принятому в нем обороту речи. Но, говорят, дуновение Божие исходит из уст Божиих; если это душа, то она одной природы с Премудростью, также исходящей из уст Всевышнего (Сир. XXIV, 3). Но ведь Премудрость не говорит, что она — дуновение уст Божиих, но только вышла из Его уст. Да и мы, если вдуматься, делаем дуновение не из своей природы, а из окружающего нас воздуха, который вдыхаем и выдыхаем. Впрочем, Он мог произвести его не только не из Своей природы, но и не из природы сотворенной, а попросту из ничего. Но чтобы эти люди, которые хотят говорить о Писаниях, но не хотят обращать при этом внимания на способ выражения Писаний, знали, что не о том только говорится, как об исходящем из уст Божиих, что одной и той же природы, пусть они послушают, что написано в словах Божиих: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Апок Ш, 16).
Итак, нет никаких оснований, по которым мы стали бы противоречить ясным словам апостола, когда он, отличая от духовного тела тело душевное, т. е. от того, в котором мы будем, это, в котором теперь находимся, говорит: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: «первый человек Адам стал душею живущею»; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек —
Блаженный Августин__________________________________________________________652
из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные; и как мы носили образ персгного, будем носить и образ небесного» (I Кор. XV, 44—49). Об этих апостольских словах мы уже сказали выше. Итак, душевное тело, с которым был сотворен Адам, было создано не так, чтобы оно совсем не могло умереть, но так, что не умерло бы, если бы человек не согрешил. Ибо только то, что через оживотворение Духом будет духовным, не будет в состоянии умереть. Так, душа сотворена бессмертной: и хотя она, умерши из–за греха, лишилась некоторого свойства жизни, благодаря которому могла бы жить мудро и блаженно, однако не перестает жить некоторой собственной, хотя и жалкой, своей жизнью. Подобным образом и падшие ангелы, хотя в некоторой мере умерли через грех, оставив Источник жизни, т. е. Бога, благодаря Которому могли бы жить мудро и блаженно, однако и не умерли настолько, чтобы перестать жить и чувствовать, ибо сотворены бессмертными. И даже после Суда, когда они подвергнутся второй смерти, жизни не потеряют и сохранят чувства, терпя вечные мучения. Люди же, получившие благодать Божию, сограждане святых ангелов, пребывающих в блаженной жизни, так облекутся в тела духовные, что не будут более ни грешить, ни умирать. Бессмертие их, подобное ангельскому, не в состоянии будет уничтожить грех; в телесной же природе, хотя она и будет сохранена, уже совершенно не останется никакого тления или косности.
Теперь на очереди вопрос, который необходимо с помощью Божией рассмотреть и разрешить: если похоть неповинующихся членов возникла в первых людях из–за греха неповиновения, когда их оставила благодать Божия; если это–то и заставило их открыть глаза на свою наготу, т. е. обратить на нее внимание и прикрыть срамные члены, то каким образом они рождали бы детей, если бы оставались без греха в том состоянии, в каком были сотворены? Но так как данную книгу пора заканчивать, да и упомянутый вопрос требует обстоятельного рассмотрения, то отложим его до следующей книги.
О граде Божием_______________________________________________________________653
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
В предыдущих книгах мы уже сказали, что для того, чтобы род человеческий был объединен не только общностью природы, но и связан в известном смысле узами кровного родства, Богу было угодно произвести людей от одного человека. Сказали также, что этот род не умирал бы и в отдельных личностях, если бы этого не заслужили своим неповиновением два первых человека, из которых самый первый был создан из ничего, а другой — из первого. Они совершили такое великое преступление, что вследствие его изменилась в худшую сторону сама человеческая природа, переданная потомству уже повинной греху и неизбежной смерти. Царство же смерти до такой степени возобладало над людьми, что увлекло бы всех, как к заслуженному наказанию, во вторую смерть, которой нет конца, если бы незаслуженная благодать Божия не спасала от нее некоторых. Отсюда вышло так, что, хотя такое множество столь многочисленных народов, живущих на земле каждый по особым уставам и обычаям, и отличается друг от друга разнообразием языков, оружия, утвари, одежд, тем не менее существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которые мы, следуя Писаниям своим, можем назвать двумя градами. Один из них составляется из людей, желающих жить в мире только по плоти, другой — из желающих жить также и по духу. Когда каждый из них добивается своего, каждый в соответствующем мире и живет.
Блаженный Августин__________________________________________________________654
ГЛАВА II
Но прежде всего нужно определить, что значит жить по плоти, и что — по духу. Кто или забывает способ выражения святого Писания, или мало обращает на него внимания, тот, услышав сказанное нами, может поначалу подумать, что по плоти живут прежде всего философы–эпикурейцы, потому что они решили, что высшее благо для человека состоит в телесном наслаждении; затем и другие философы, которые так или иначе высшее благо для человека искали в телесном; а далее — и все те люди, которые не в силу какой–либо теории или философии такого рода, а просто по склонности к сладострастию находят удовольствие единственно в наслаждениях, получаемых от телесных чувств. А стоики–де, которые высшее благо для человека ищут в душе, живут по духу; ибо что есть душа человеческая, как не дух?
Но по смыслу, соединяемому с этими выражениями божественным Писанием, и те и другие живут по плоти. Ибо Писание не всегда называет плотью одно только тело земного и смертного одушевленного существа, как, например, когда говорит: «Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц» (I Кор. XV, 39); но употребляет это слово и во многих других значениях. При таком различном употреблении слова оно часто называет плотью и самого человека, т. е. природу человека, в переносном смысле от части к целому, каково, например, выражение: «Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Рим. III, 20). О ком, как не о человеке в целом говорит в этом случае Писание? Несколько далее оно высказывается яснее-. «Законом никто не оправдается пред Богом» (Гал. III, 11); и еще к Галатам: «Узнавши, что человек оправдывается не делами закона…» (Гал. II, 1б). Тот же смысл имеет и выражение: «И Слово стало плотию» (Иоан. 1,14),т. е. стало человеком. Понимая последнее
О граде Божием______________________________________________________________655
выражение неправильно, некоторые думали, что у Христа не было человеческой души. Но как под целым разумеется часть, когда приводятся в Евангелии слова Марии Магдалины, которая говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (Иоан. XX, 13), хотя говорила она только о плоти Христовой, которую сочла унесенною из гроба; так и под частью, когда называется плоть, разумеется целое, т. е. весь человек, как в вышеприведенных словах.
Итак, если божественное Писание употребляет слово «плоть» в разных местах в различном смысле, и пересматривать эти места и сводить их заняло бы слишком много времени, то, чтобы доискаться, что значит жить по плоти, (что, несомненно, есть зло, хотя сама природа плоти и не есть зло), рассмотрим внимательно известное место из послания апостола Павла к Галатам, в котором он говорит: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. V, 19—21). Это место апостольского послания, рассмотренное в целом его виде, насколько это в данном случае покажется достаточным, может разрешить вопрос о том, что значит жить по плоти. Между делами плоти, которые апостол, перечислив, осудил, мы находим не только такие, которые относятся к удовольствиям плоти, каковые суть: блуд, нечистота, прелюбодеяние, непотребство, бесчинство, но и такие, которые выказывают пороки души, чуждые плотского удовольствия. Кто не признает, что служение, совершаемое идолам, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ереси скорее составляют пороки души, чем плоти?
Может случиться, что ради идолопоклонства или какого–либо еретического заблуждения будут воз-
Блаженный Августин__________________________________________________________656
держиваться от удовольствий плоти: тем не менее, по смыслу апостольских слов человек и тогда будет жить по плоти, хотя, на первый взгляд, воздерживается и подавляет в себе похоти плоти; и тем самым, что воздерживается от удовольствий плоти, доказывает, что совершает достойные осуждения дела плоти. Кто питает вражду не в душе? Или кто употребит такой оборот речи, что скажет своему действительному или воображаемому врагу: «Твоя плоть зла на меня, а не душа?» Наконец, скажу так: как никто, услышав слово «телесность», не усомнится отнести его к телу, так никто не сомневается, что ярость (аштозиа^ез) относится к душе (ас! аштшп). Итак, почему учитель языков в вере и истине относит все это и подобное этому к делам плоти, как не потому, что под плотью понимает самого человека, употребляя известный оборот речи, когда целое называется по имени части?
ГЛАВА III
Кто–нибудь, пожалуй, скажет, что причиной всякого рода пороков безнравственной жизни служит плоть, потому что душа живет так под влиянием плоти. Но говорящий так не обращает должного внимания на природу человека во всей ее совокупности. Правда, «тленное тело отягощает душу» (Прем. IX, 15). Поэтому и апостол, ведя речь о том же тленном теле, о котором незадолго перед тем сказал: «Внешний наш человек тлеет» (II Кор. IV, 16), говорит: «Знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (II Кор. V, 1—4). Итак, хотя мы и
О граде Божием______________________________________________________________657
отягощаемся тленным телом, но так как знаем, что причиною отягощения служит не природа или сущность тела, а повреждение его, то желаем не совлечься тела, а облечься его бессмертием. Ибо оно и тогда будет, но, не будучи тленным, не будет и отягощать. И тем не менее те, которые думают, что всякое душевное зло происходит от тела, заблуждаются.
Вергилий в своих прекрасных стихах излагает, по–видимому, мнение Платона, когда говорит: Источник их жизни — огонь, и начало их племени небо; Но служат препятствием им преступные их же тела, И отупляют земные суставы и смертные члены.
Затем, как бы давая понять, что четыре известные душевные страсти: желание, страх, радость и скорбь, служащие началом всех грехов, происходят от тела, он прибавляет: Отсюда и страхи у них и желанья, страданья и радость; И звук не доходит до них, заключенных в их мрачной темнице*
Но наша вера учит иначе. Ибо повреждение тела, которое отягощает душу, было не причиною первого греха, а наказанием. Не плоть тленная сделала душу грешной, а грешница–душа сделала плоть тленной. Хотя от этого повреждения плоти и зависят некоторые порочные возбуждения и желания, однако не все пороки дурной жизни следует приписывать плоти: иначе мы должны будем представлять дьявола, который плоти не имеет, чистым от всех них. Хотя мы и не можем назвать дьявола блудодеем или пьяницей, или приписать ему другой такого же рода порок,
Блаженный Августин__________________________________________________________658
относящийся к плотскому удовольствию (хоть втайне он советует и подстрекает и к таким грехам); тем не менее сам он — в высшей степени горд и завистлив. Порочность последнего свойства до такой степени овладела им, что за нее он обречен в темницах мрака на суд великого дня (Иуд. I, 6).
Эти пороки, господствующие в дьяволе, апостол приписал, однако же, плоти, которой дьявол, несомненно, не имеет. Он говорит, что «идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть» суть дела плоти. Глава же и начало всех этих зол есть гордость, которая царит в дьяволе без плоти. В самом деле, кто враждебнее его к святым? Кого можно представить себе в отношении к ним более сварливым, более беспощадным, более ревнивым и завистливым? Если все это он имеет без плоти, то каким образом это будет делом плоти, как не в смысле дел человека, которого апостол, как я сказал, разумеет под именем плоти? Не тем человек сделался похожим на дьявола, что имеет плоть, которой дьявол не имеет; а тем, что живет сам по себе, т. е. по человеку. Ибо и дьявол захотел жить сам по себе, когда не устоял в истине; так что стал говорить ложь, говоря от себя, а не от Бога, и стал не только лживым, но и отцом лжи (Иоан. VIII, 44). Он первый солгал. От него начался грех; от него же началась и ложь.
ГЛАВА IV
Итак, когда человек живет по человеку, а не по Богу, он подобен дьяволу. Ибо и ангелу надлежало жить не по ангелу, а по Богу, чтобы устоять в истине и говорить истину от Бога, а не ложь от себя. И о человеке апостол говорит в другом месте: «Если верность Бо–жия возвышается моею неверностью к славе Божи–ей, за что еще меня же судить, как грешника?» (Рим. III, 7). Неверность (ложь) назвал он своею, верность
О граде Божием______________________________________________________________659
же (истину) — Божией. Итак, когда человек живет по истине, он живет не сам по себе, а по Богу. Ибо это Бог сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. XIV, 6). Когда же живет он по самому себе, т. е. по человеку, а не по Богу, он несомненно живет по лжи. Это не потому, что сам человек — ложь. Виновник и Творец его есть Бог, Который ни в коем случае не есть виновник и творец лжи; а потому, что человек сотворен правым при том условии, чтобы жил не по себе самому, а по Тому, Кем сотворен, т. е. исполнял Его волю, а не свою. Жить же не так, как он сотворен жить, и есть ложь. Ибо он хочет быть блаженным, не живя так, чтобы быть блаженным. Что может быть лживее подобного желания? Поэтому можно сказать, что всякий грех есть ложь. Ибо грех бывает по той воле, по которой мы желаем, чтобы нам было хорошо, или не желаем, чтобы нам было худо. И вот является ложь: и из того, что делается ради хорошего, происходит для нас дурное; или из того, что делается ради лучшего, происходит для нас худшее. Отчего это, как не оттого, что человеку может быть хорошо только от Бога, Которого, греша, он оставляет, а не от самого себя, живя по которому он грешит?
Итак, сказанное нами, что образовались два различные и противоположные друг другу града потому, что одни стали жить по плоти, а другие по духу, может быть выражено и так, что два града образовались потому, что одни живут по человеку, а другие по Богу. Ибо апостол в послании к Коринфянам весьма ясно говорит: «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по–человеческому ли обычаю поступаете?» (I Кор. III, 3). Поступать по–человеческому — значит быть плотским, под плотью же, т. е. под частью человека, разумеется весь человек. Выше он называет тех же самых душевными, кого потом называет плотскими. Он говорит: «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не
Блаженный Августин__________________________________________________________660
знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный же человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (I Кор. II, 11 —14). Таким, т. е. душевным, он и говорит потом: «Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими» (I Кор.Ш, 1). И это выражение имеет тот же смысл, перенесенный с части на целое. Ибо именем души, как и именем плоти, которые суть части человека, может обозначаться целое, т. е. человек.
Таким образом, одно дело — человек душевный, и совсем иное — плотский; но и тот и другой суть один и тот же, т. е. человек, живущий по человеку. Таким же образом подразумеваются люди и в том случае, когда говорится: «Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Рим: III, 20); и в том, когда сказано: \ «Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, семь- | десят» (Быт. ХЬУ1, 27). Как там под плотью разумеется человек, так и здесь под семьюдесятью душами разумеются семьдесят человек. Равным образом, и выражение «не от человеческой мудрости изученными словами» могло быть заменено выражением «не от плотской мудрости изученными словами»; так же точно, как и выражение «по человеческому обычаю поступаете» могло быть заменено выражением «по плотскому обычаю поступаете». Особенно это ясно видно из его последующих слов: «Ибо, когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские* ли вы?» (I Кор. III, 4). То, что обозначал он словами «плотские» и «душевные», то выразил яснее словом «челове–ки», т. е. живете по человеку, а не по Богу, живя по Которому, вы были бы боги.
' В текстах, цитируемых Августином, сказано не «не плотские ли вы», а «не человеки ли вы».
О граде Божием______________________________________________________________ 661
ГЛАВА V
Итак, мы не должны оскорблять Творца тем, что в своих грехах и пороках станем винить природу плоти, которая в своем роде и порядке добра. Но худо, если, оставив доброго Создателя, мы станем жить по доброму созданию: станет ли кто жить по плоти, или по душе, или по всему человеку (который может быть обозначен именем одной души или именем одной плоти). Ибо, кто природу души представляет высочайшим добром, а природу плоти считает злом, тот и к душе стремится плотски, и плотски же избегает плоти, потому что представления подобного рода основаны у него на суетности человеческой, а не на божественной истине. Платоники не безумствуют, подобно манихеям, которые питают отвращение к земным телам, как к природе зла. Они, напротив, все стихии, из которых составлен этот видимый и осязаемый мир, и свойства этих стихий приписывают художнику–Богу. Тем не менее, они думают, что души расслабляются земными суставами и смертными членами так, что из–за этого расслабления возникают в них болезни желания, страха, радости и печали, — четырех волнений (регшгЬаЫопез), как называет их Цицерон, или четырех страстей (раззюпез), как называют многие другие, переводя буквально греческое название, — составляющих содержание всей порочности человеческих нравов. Но если это так, то почему Эней у Вергилия, услыхав в преисподней от отца, что души должны снова возвратиться в тела, выражает по этому поводу удивление, восклицая:
Неужто приходится верить, отец, что прекрасные души Не в небо отсюда пойдут, а в тела возвратятся? Что за желанье несчастное света у бедных»?
Блаженный Августин__________________________________________________________662
Неужели это столь несчастное желание перешло к пресловутой чистоте душ от земных суставов и смертных членов? Разве он не представляет их очищенными от всех этого рода, как он говорит, телесных зараз, когда начинают они желать снова возвратиться в тела? Из этого следует, что хотя бы дело происходило и так (впрочем, все это совершенный вздор), что очищение постоянно уходящих и осквернение постоянно возвращающихся душ сменялось бы поочередно одно другим, — все же нельзя с истинностью утверждать, что предосудительные и порочные движения душ возникают в них от земных тел. Ибо, и по их мнению, оное, как называет его знаменитый говорун, несчастное желание, не зависит от тела до такой степени, что очищенную от всякой телесной заразы и находящуюся вне всякого тела душу побуждает саму явиться в теле. Таким образом, и по их представлению не только под влиянием тела душа желает, страшится, радуется и печалится, но эти движения могут возникать в ней и из нее самой.
ГЛАВА VI
Разница состоит в том, какова воля человека: если она превратна, то будут превратны и эти движения; если же она добра, то и движения будут не только не предосудительны, но и похвальны. Ибо воля присуща всем им; более того, все они суть не что иное, как воля. Ведь что такое страстное желание и радость, как не воля, сочувствующая тому, чего мы хотим? И что такое страх и печаль, как не та же воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим? Если мы сочувствуем, стремясь к тому, чего хотим, — это называется страстным желанием; если же сочувствуем, пользуясь тем, чего хотим, — радостью. Так же точно, если мы не сочувствуем тому, чего не хотим, чтобы оно случилось, такая воля есть страх; а если не сочувствуем
О граде Божием______________________________________________________________663
тому, что случилось против нашего желания, такая воля есть печаль. Вообще по различию предметов, к которым мы стремимся или которых избегаем, то насколько они привлекают или отталкивают волю человека, настолько и расположения меняются и обращаются в те или иные. Поэтому человеку, живущему по Богу, а не по человеку, надлежит быть любителем добра, и, следовательно, ненавидеть зло. Но так как никто не зол по природе, а если зол, то вследствие порока, то живущий по Богу должен иметь правильную ненависть к злу. Он не должен ради порока ненавидеть человека, равно как не должен и любить порок ради человека. Но должен он порок ненавидеть, а человека — любить. Когда же последует исцеление от порока, тогда останется лишь то, что он должен любить, и ничего не останется от того, что он должен ненавидеть.
ГЛАВА VII
Кто поставил для себя правилом любить Бога, и не по человеку, но по Богу любить ближнего, как самого себя, тот за эту любовь называется человеком, имеющим благую волю. Чаще это чувство называется в священном Писании сапшз*; но называется оно и просто любовью (атог). Апостол, например, говорит, что тому, кого он повелел избрать для управления народом (епископу), надлежит быть любящим добро (атагогет Ъот) (Тит. 1,8).
Да и когда Господь, спрашивая Петра, выразился так «Любишь ли ты Меня (с!Ш§15 Ме — расположен ли ко Мне) больше, нежели они?», Петр отвечал-. «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Снова спрашивал Господь не о том, любит ли Его, а о том, расположен ли к Нему Петр; и снова Петр отвечал: «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Спрашивая в третий раз, Господь и Сам не сказал: «Расположен ли ты ко Мне», а сказал: «Любишь ли ты Меня (атаз Ме)?» Тогда, как замечает евангелист, «Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», хотя Господь не в третий, а только в первый раз спросил: «Любишь ли Меня?»; два же предыдущие раза говорил: «Расположен ли ты ко Мне?» Отсюда мы заключаем, что и в то время, когда Господь говорил: «Расположен ли ты ко Мне», Он говорил не что иное, как: «Любишь ли Меня?»*.
* Сапсаз — любовь в тому, что выше (например, к родителям, к отечеству, к Богу), основанная на чувстве глубокого уважения Атог — любовь между равными (братская, супружеская и т. д.).
Блаженный Августин__________________________________________________________664
Петр же продолжал называть одну и туже вещь тем же именем, и в третий раз сказал так же: «Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Иоан. XXI, 15— 17).
Я нашел нужным упомянуть об этом потому, что некоторые полагают, будто расположение (сШесгю) или сапгаз — это одно, и совсем иное — любовь (атог)**.
Говорят, будто расположение нужно понимать в хорошем смысле, а любовь — в дурном. Но в высшей степени достовеоно, что и сами светские писатели никогда этого не утверждали. Пусть также поищут, различали ли эти выражения, и если да, то по какому поводу различали их философы? Книги их достаточно ясно говорят, что они высоко ценили любовь в делах добрых и к самому Богу. Со своей стороны, нам нужно предоставить данные о том, что наши Писания, авторитет которых мы ставим выше всей остальной литературы, называют любовью то же, что и расположение к равным или высшим (сШеспопет се! сагйагет). То, что слово «любовь» употребляется в
* В современном русском каноническом издании слова Господа трижды переведены как «любишь». ** Е § Оп§еп. НоггШ. I т Сапе.
О граде Божием______________________________________________________________665
хорошем смысле, мы уже показали. А чтобы кто–нибудь не подумал, что хотя слово «любовь» и может пониматься как в добрую, так и в дурную сторону, но слово «расположение» должно пониматься только в добром смысле, — тот пусть обратит внимание на выражение в псалме «Любящего ^ш атет Ш11§и) насилие ненавидит душа Его» (Пс. X, 5); и на известное выражение апостола Иоанна: «Кто любит (сШехепг) мир, в том нет любви (сШеспо) Отчей» (I Иоан. II, 15). Вот в одном и том же месте указание и на добрую, и на дурную сторону. А чтобы кто–нибудь не докучал требованиями доказательства того, что и слово «любовь» употребляется в дурном смысле (на употребление в хорошем смысле мы уже указали), тот пусть прочитает слова Писания: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы (зе 1р5оз атапг.ез, атаюгез ресишае)» (II Тим. III, 2). Итак, благая воля есть любовь добрая, а воля превратная — любовь дурная. Любовь, домогающаяся обладать предметом любви, есть страстное желание; та же самая любовь, обладающая и пользующаяся этим своим предметом, есть радость; но убегающая того, что ей противоречит, есть страх; а чувствующая, если ей случится противное, есть скорбь. Все это есть дурное, если любовь дурна; все это благо, если она блага.
Докажем сказанное нами на примерах из Писания. Апостол возжелал «разрешиться и быть со Христом» (Филип. 1,23). Еще: «Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время» (Пс. СХУ1 И, 20), или, если употребить выражение более подходящее: «Возлюбила душа моя вожделеть судов Твоих». И еще: «Вожделение к премудрости возводит к Царству» (Прем. VI, 20). Вошло, однако же, в обычай, что если употребляется слово «страстное желание» или «вожделение» (сиркШаз уе! сопсир1зсеп1:1а) и не указывается предмет его, то оно может пониматься только в дурную сторону. Употребляются в хорошем смысле и слова «веселье» и «радость»: «Веселитесь о Господе
Блаженный Августин__________________________________________________________666
и радуйтесь, праведные» (Пс. XXXI, 11). Еще: «Ты исполнил сердце мое веселием» (Пс. IV, 8). И еще: «Полнота радостей пред лицем Твоим» (Пс. XV, 11). Слово «страх» в добром смысле встречается у апостола, когда он говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Филип. — Л, 12). Еще: «Не гордись, но бойся» (Рим. XI, 20). И еще: «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (II Кор. XI, У). Но относительно печали (гпзппа), которую Цицерон чаще называет скорбью (ае§пшсю), а Вергилий — страданием (с1о!ог), когда говорит: Отсюдау нкх~ страданья и радость,
и которую я предпочел бы называть грустью (гпзппа), потому что слова «скорбь» и «страдание» чаще употребляются в применении к телам, — относительно этой грусти вопрос о том, может ли она иметь добрую сторону, представляется весьма трудным.
ГЛАВА VIII
Стоики допускали в душе мудрого три благих состояния, называемых греками егтавеихт., которые Цицерон называл по–латыни сошшпШе*, вместо трех душевных волнений: вместо страстного желания — волю, вместо веселья — радость, вместо страха — осторожность.
Вместо же скорби или страдания, которую мы во избежание двусмысленности предпочли называть грустью, они отказались допустить в душе мудрого что–либо подобное. Воля, говорят они, стремится к добру, которое совершает мудрый. Радость происходит от достигнутого добра, которое во всем осуще-
' Невозмутимое спокойствие; см. 1ЛЬ. VI, Тизси!.
О граде Божием_______________________________________________________________667
ствляет мудрый. Осторожность избегает зла, которого мудрый должен избегать. Но грусть, говорят они, поскольку она происходит от зла, которое уже случилось (а с мудрым, по их мнению, не может случиться никакого зла), не может быть заменена в душе мудрого ничем. По их словам, таким образом, выходит, что хотеть, радоваться, остерегаться может только мудрый; глупый же может только желать, веселиться, страшиться, грустить. Первые три состояния суть сошгапглае, а последние, по Цицерону, волнения (регшгЪапопез), на языке же большинства — страсти (ра§5юпе5). А греки, как я сказал, первые три называют егжаЭегса, а последние четыре — лосвц.
Когда я со всей возможной тщательностью исследовал, соответствует ли такое словоупотребление священному Писанию, то нашел следующее. Пророк говорит: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой»* (Ис. 1ЛШ, 21); говорит так, будто бы нечестивые могут получать от зла скорее увеселение, чем радость, поскольку радость — удел людей добрых и благочестивых.
Так же точно и известное выражение в Евангелии: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. VII, 12) сказано, по всей видимости, в том смысле, что худого и постыдного может кто–нибудь не хотеть, а желать. Некоторые переводчики, принимая во внимание обычное употребление слов, прибавили даже слово «по–доброму», и перевели так: «Если хотите, чтобы с вами поступали люди по–доброму». Они полагали, что, возможно, кто–либо захочет себе от людей не совсем добрых вещей, вроде роскошных пиров, например (чтобы умолчать о более гнусных), и подумать, что он исполнит приведенную заповедь, если и сам будет задавать для других такие же пиры. Но в греческом Евангелии, с которого сделан перевод на латинский язык, слова
* У Августина: «Нет радости нечестивым».
Блаженный Августин_________________________________________________________ 668
«по–доброму» нет. А нет его, полагаю, потому, что само слово «хотите» дает понять «хотите доброе». В противном бы случае было сказано «желаете».
Но не всегда, однако, с указанными словами следует соединять именно это значение, а нужно разуметь их в таком смысле только в определенных случаях. При чтении тех писателей, авторитету которых мы должны обязательно подчиняться, нужно понимать их так в тех случаях, когда правильное понимание места не допускает другого толкования. Таковы, например, те места, которые мы привели отчасти из пророков, отчасти из Евангелия. Кому, в самом деле, неизвестно, что и нечестивые могут безмерно веселиться? Тем не менее — «нет мира нечестивым». Что это значит, как не то, что радоваться есть нечто иное, когда слово это употребляется в собственном и самом точном смысле? Таким же образом, кто станет отрицать, что справедливо было заповедать людям, чтобы делая другим то, чего желают они, чтобы им делали другие, они не искали друг у друга наслаждений в постыдной похоти. И, однако же, спасительней–шая и истиннейшая заповедь гласит: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Что и это значит, как не то, что слово «хотеть» в этом месте употреблено в некотором собственном смысле так, что не может быть понято в дурную сторону? Но при более обычном употреблении слов, чаще всего встречающихся в речи, ни в коем случае не было бы сказано: «Не восхоти лжи» (Прем. VII, 13), если бы не было хотения или воления злого, от дурных свойств которого отличается предсказанное ангелами, в словах-. «На земле мир, в человеках благоволение» (благая воля — Ьопае уо1ипии$) (Лук. II, 14). Прибавление «благая» было бы излишним, если бы воля была только благой. Затем, что великого сказал бы апостол в похвалу любви, когда говорил, что она «не радуется неправде» (I Кор. XIII, б), если бы не радовалось ей зложелательство?
О граде Божием______________________________________________________________669
Такое безразличное употребление упомянутых слов встречается и у светских писателей. Знаменитый оратор Цицерон говорит, например: «Желаю, сенаторы, быть снисходительным»*. Так как Цицерон употребил это слово в добром смысле, то найдется ли такой ученый педант, который стал бы утверждать, что он должен был бы сказать «хочу», а не «желаю»? Далее, у Теренция развратный юноша, пожираемый безумной страстью, говорит: «Ничего не хочу, кроме Филумены». Что это хотение было дурною страстью, достаточно ясно показывает приводимый там же ответ слуги этого господина. Слуга говорит: «Было бы куда лучше, если бы ты выбросил эту любовь из головы, а не говорил о ней, отчего еще сильнее воспламеняется твоя страсть»**.
А что писатели употребляли и слово «радость» в дурную сторону, доказательством тому служит вышеприведенный стих Вергилия, в котором в самом сжатом виде перечислены четыре душевные волнения: Отсюда и страхи у них и желанья, страданья и радость.
Тот же автор в другом месте говорит: «Злая радость души»***.
Таким образом, хотят, остерегаются, радуются и добрые и дурные, или, говоря другими словами то же самое, и добрые и дурные желают, боятся и веселятся; но добрые — добрым образом, а дурные — дурным, смотря по тому, добрая или злая у людей воля. Да и само слово «печаль», взамен которого в душе мудрого стоики ничего не смогли придумать, нередко употребляется в хорошем смысле, особенно у наших писателей. Апостол, например, хвалит Коринфян
.Блаженный Августин_________________________________________________________670
за то, что они опечалились «ради Бога» (II Кор. VII, 9). Но, может быть, кто–нибудь скажет, что апостол доволен ими за то, что печалью они выражали свое раскаяние, а такого рода печалью может быть только печаль согрешивших. Действительно, апостол говорит так: «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие» (II Кор. VII, 8—11). Стоики могут поэтому в защиту своего мнения ответить, что печаль представляется полезною для раскаяния во грехах, но в душе мудрого ее не может быть именно потому, что с ним не случается ни греха, раскаяние в котором заставляло бы его печалиться, ни другого какого бы то ни было зла, испытывая или чувствуя которое он бы грустил. Об Алкивиаде (если мне не изменяет память) рассказывают, например, что, считая себя вполне счастливым человеком, он плакал, когда Сократ рассуждал и доказывал ему, что он был несчастен, потому что был глуп. Для этого человека, таким образом, глупость была причиной полезной и желательной печали, которая заставляет человека скорбеть, что он таков, каким не должен быть. Но стоики говорят не о глупом, а о мудром, что он не должен грустить.
ГЛАВА IX
Но этим философам, насколько это касается данного вопроса о волнениях душевных, мы уже ответили в девятой книге настоящего сочинения, показав, что они,
О граде Божием __________________________________________________________671
обращая внимание не столько на дела, сколько на слова, более любят споры, чем истину. У нас же, по нашим Писаниям и здравому учению, граждане святого града Божия во время странствования в этой жизни, живя по Богу, страшатся и желают, скорбят и радуются. А так как любовь их безукоризненна, то безукоризненны у них и все эти душевные расположения. Боятся они вечного наказания, желают вечной жизни; скорбят, потому что стенают, «ожидая усыновления», воздыхают об «искуплении тела» своего (Рим. VIII, 23); радуются же в надежде, потому что «сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою» (I Кор. XV, 54). Так же точно боятся грешить, желают оставаться непоколебимыми; скорбят о грехах, радуются о делах добрых. Чтобы бояться грешить, они слышат слова: «По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. XXIV, 12). Чтобы желать оставаться непоколебимыми, слышат изречение Писания: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. X, 22). Чтобы скорбеть о грехах, слышат: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (I Иоан. I, 8). Чтобы радоваться при совершении добрых дел, слышат: «Доброхотно дающего любит Бог» (II Кор. IX, 7). Равным образом, смотря по нетвердости или твердости своей, они или боятся искушений, или желают искушений; скорбят в искушениях или радуются, подвергаясь искушениям. Чтобы бояться искушений, они слышат: «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. VI, 1). А чтобы желать искушений, они слышат некоего крепкого мужа града Божия, который говорит: «Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое» (Пс. XXV, 2). Чтобы скорбеть в искушениях, видят Петра плачущим (Мф. XXVI, 75); чтобы в искушениях радоваться, слышат Иакова, который говорит: «С великою радостью принимайте,
Блаженный Августин_______________________________________________________672
братия мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак. I, 2).
И эти душевные движения испытывают они не только из–за самих себя, но и из–за тех, которым желают спасения, за которых боятся, чтобы они не погибли, о которых скорбят, если они погибают, и радуются, если те спасаются. Очами веры и с полным сочувствием взирают они на того превосходного и в высшей степени твердого мужа (нам, пришедшим в Церковь Христову из язычников, приличнее всего помнить о нем, учителе язычников в вере и истине), который хвалится о немощах своих (II Кор. XII, 5), который и более всех апостолов потрудился (I Кор. XV, 10), и очень многими посланиями наставил не только те народы Божий, которые видел перед собою, но и те, которые предвидел в будущем, — взирают, говорю, на этого мужа, борца Христова, от Него научившегося (Гал. 1, 19), Им помазанного, с Ним распяв–шегося (Гал. II, 19), в Нем прославившегося на театральных подмостках нашего мира, для которого он сделался зрелищем и ангелам, и человекам (I Кор. IV, 9), законным образом состязающегося и стремящегося вперед «к почести вышнего звания» (Филип. III, 14); (учащего) радоваться с радующимися и плакать с плачущими (Рим. XIII, 15), имеющего «отвне — нападения, внутри — страхи» (II Кор. VII, 5); имеющего «желание разрешиться и быть со Христом» (Филип. I, 23); желающего видеть римлян, «чтобы иметь некий плод» и у них, «как и у прочих народов» (Рим. I, 13); ревнующего о Коринфянах, и вследствие этой ревности боящегося, чтобы умы их не были посредством обольщения отвращены от чистоты Христовой (И Кор. XI, 2, 3); имеющего великую скорбь и непрестанную болезнь сердца об израильтянах (Рим. IX, 2), «ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» (Рим. X, 3); извещающего не только о скорби, но и о плаче своем о
О граде Божием___________________________________________________________673
некоторых, «которые согрешили прежде и не покаялись» (II Кор. XII, 21).
Если эти движения, эти чувства, проистекающие из расположения к добру, но без святой любви, должны быть признаны пороками, то мы дозволяем называть добродетелями действительные пороки. Но когда эти душевные расположения имеют правильное направление, коль скоро они обращаются к тому, к чему следует, то кто тогда осмелится назвать их болезнями или порочными страстями? Поэтому и сам Господь, благоволивший проводить человеческую жизнь в образе раба, но не имевший совершенно никакого греха, имел эти расположения в тех случаях, в каких полагал должным их иметь. И не было ложным человеческое чувство в Том, в Ком были истинное тело человека и истинная человеческая душа. Итак, говорится отнюдь не ложно, когда рассказывается в Евангелии Его, что Он с гневом скорбел об окаменении сердец иудеев (Марк. III, 5); что говорил. «Радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали» (Иоан. XI, 15); что, приступая к воскрешению Лазаря, проливал слезы (Иоан. XI 35), что возжелал с учениками своими есть пасху (Лук. XXII, 15); что, когда приближалось страдание, скорбела душа Его (Мф. XXVI, 38). И Он в целях известного домостроительства воспринял эти движения человеческою душой, когда восхотел, так же, как сделался человеком, Когда восхотел. Поэтому нужно признаться, что хотя бы эти расположения у нас были и безукоризненны и являлись по Богу, но все же они — расположения этой жизни, а не той, наступления которой мы ожидаем в будущем, и что мы часто уступаем им даже против своей воли. Они зависят в нас от немощи человеческой, а не так, как в Господе Иисусе, самая немощь Которого была в Его власти. Но пока мы несем немощь этой жизни, мы живем не как следует даже тогда, когда не имеем их вовсе. Апостол порицал и осуждал некоторых, которых называл не имеющими расположения (Рим. I, 31).
22 О граде Божием
Блаженный Августин_______________________________________________________674
Жалуется на таких и священный псалом, говоря: «Ждал сострадания, но нет его, — утешителей, но не нахожу» (Пс. ЬХУШ, 21). Ибо достигнуть, пока мы находимся в настоящей бедственной жизни, такого состояния, чтобы вовсе не чувствовать скорби, даже по мнению одного из светских писателей, можно только ценою сильного душевного ожесточения и оцепенелости телесной*.
Поэтому так называемая по–гречески агохЭеих или, если можно ее так назвать по–латыни, 1траз51ЪШ1а5 (бесстрастие), коль скоро под нею понимается жизнь (а под нею разумеется состояние душевное, а не телесное), чуждая таких расположений, которые появляются вопреки разуму и возмущают ум, вещь действительно хорошая и в высшей степени желательная; но и она не есть удел настоящей жизни. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (I Иак. I, 8), — это голос не каких–нибудь людей, но людей в высшей степени благочестивых и весьма праведных и святых. Эта араде!а будет тогда, когда в человеке не будет никакого греха. В настоящее же время жизнь уже достаточно хороша, если в ней нет преступлений; воображающий же, что он живет без греха, не к тому ведет дело, чтобы не иметь греха, а к тому, чтобы не получить прощения. Далее, если под ссгахбеш понимать такое состояние, которое исключает решительно всякое движение чувства, то кто не признает эту оцепенелость худшей всяких пороков? Можно не без основания утверждать, что полное блаженство не будет соединяться с тревогами страха и с какою бы то ни было печалью; но кто кроме во всех отношениях удалившегося от истины станет утверждать, что там не будет любви и радости? Если же под нею разумеется состояние, которого не пугает никакой страх и не сокрушает никакая скорбь, то его следует избегать в этой жизни, если мы хотим жить
О граде Божием___________________________________________________________675
правильно, т. е. по Богу; а в той блаженной жизни, которая, по обетованию, имеет быть вечной, его действительно следует ожидать.
Тот страх, о котором говорит апостол Иоанн: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся несовершенен в любви» (I Иоан. IV, 18), не есть страх однородный с тем, которым боялся апостол Павел, чтобы коринфяне не обольстились змеиной хитростью (II Кор. XI, 3). Последний страх имеет и любовь, даже одна только любовь и имеет его; первый же страх такого рода, что его нет в любви. О нем и апостол Павел говорит: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе» (Рим. VIII, 15). А тот страх, чистый и «пребывающий вовек» (Пс. XVIII, 10), если будет он и в будущем веке (ибо как иначе разуметь пребывание его вовек?), то он не есть страх, путающий злом, которое может случиться, а страх, удерживающий в добре, которое не может быть оставлено. Там, где есть неизменная любовь к благу достигнутому, там существует страх, если можно так выразиться, свободный от опасения зла. Именем чистого страха названа, несомненно, та воля, по которой мы, узнав грех, будем естественно остерегаться греха, не вследствие опасения за свою слабость, которая могла бы расположить к греху, а по чистоте любви. Или, если в том вполне безмятежном наслаждении непрерывным счастьем и радостями не будет иметь места решительно никакого рода страх, то сказанное: «Страх Господень чист, пребывает вовек», сказано в том же смысле, что и слова: «Терпение убогих не погибнет до конца». Само терпение, конечно, не будет вечным, потому что оно необходимо лишь там, где существует зло, которое нужно переносить; но вечно будет то, что терпением достигается. Возможно, что и чистый страх назван пребывающим вовек потому, что пребудет вовек то, к чему этот страх приводит.
Блаженный Августин_______________________________________________________676
Если это так, то, поскольку правильной жизнью должна почитаться такая, которая должна привести к жизни блаженной, то жизнь правильная имеет упомянутые расположения правильные, а превратная — превратные. Жизнь же блаженная, она же и вечная, будет иметь и любовь, и радость не только правильные, но и непременные; страха же и скорби не будет иметь вообще. Отсюда так или иначе видно, каковы должны быть во время этого странствия граждане града Божия, живущие по духу, а не по плоти, т. е. по Богу, а не по человеку, и какими они будут в том бессмертии, к которому стремятся. Град же (земной), т. е. общество нечестивых, живущее не по Богу, а по человеку как в почитании божества ложного, так и в пренебрежении Божеством истинным, следующее учениям людей или демонов, мучится этими извращенными расположениями, как болезнями и волнениями. И если есть в нем иные граждане, которые представляются сдерживающими в себе эти движения и как бы обуздывающими их, то они до такой степени горды и надменны в своем нечестии, что от этого у них настолько же увеличивается опухоль, насколько уменьшается ее болезненность. А если некоторые из тщеславия, тем более зверского, чем более редкого, закалили себя в этом до такой степени, что делаются уже недоступными никаким движениям и возбуждениям чувства, ничем не трогаются, ни перед чем не склоняются, то они скорее теряют всякую человечность, чем достигают истинного спокойствия. Ибо не потому что–нибудь правильно, что оно затвердело, и не потому что–нибудь здорово, что оно бесчувственно.
ГЛАВАХ
Но не без основания спрашивают: имел ли первый человек, или имели ли первые люди (ибо был супружеский союз двоих) до греха в душевном теле такие
О граде Божием___________________________________________________________ 677
движения, которых мы не будем иметь по очищении от всякого греха в теле духовном? Ведь если они их имели, то каким образом они были блаженными в том достопамятном месте блаженства, т. е. в раю? Кто в самом деле может быть назван безусловно блаженным, если он подвергается страху или скорбям? Но чего могли бояться, о чем могли скорбеть эти первые люди при таком изобилии благ, когда им не угрожала ни смерть, ни какая–либо болезнь; когда не было недостатка ни в чем, что удовлетворяло бы доброе хотение, и не оказывалось ничего, что неприятно поражало бы тело или душу человека, живущего счастливо? Существовала безмятежная любовь к Богу и взаимная любовь супругов, живших в верном и искреннем сообществе, а вследствие этой любви была у них великая радость, так как предмет любви не переставал быть и предметом наслаждения. Уклонение от греха было спокойным, и пока оно существовало, решительно неоткуда было взяться никакому злу, которое бы их огорчило. Или, может быть, появлялось у них желание вкусить с запрещенного дерева, но они боялись умереть, и, таким образом, желание и страх уже и тогда волновал этих людей? Нет, мы не думаем, чтобы это могло быть там, где не было решительно никакого греха. Ибо вовсе не безгрешно то, что запрещает закон Божий: желать и воздерживаться от желания из страха наказания, а не по любви к правде. Нет, говорю, невозможно, чтобы прежде всякого греха там был уже такой грех, и чтобы люди допустили в себе по отношению к дереву то, о чем в отношении к женщине Господь говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. V, 28).
Итак, как были счастливы первые люди, как не подвергались они никаким душевным волнениям и не терпели никаких телесных невзгод, так счастливо было бы и все человеческое сообщество, если бы они сами не совершили зла, распространив его и на своих потомков,
Блаженный Августин_______________________________________________________678
и если бы никто из их поколения не сделал непавды, подвергшейся осуждению. И счастье это продолжилось бы до тех пор, пока не исполнилось бы через известное благословение, в котором сказано: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. I, 28), число предопределенных святых. Тогда было бы дано уже другое высшее счастье, которое дано блаженнейшим ангелам. Тогда существовала бы уже несомненная уверенность, что никто не согрешит и никто не умрет; и жизнь святых, без испытания какого бы то ни было труда, скорби, смерти, была бы такою, какою будет, после перенесения всего этого в тленных телах, по воскресении мертвых.
ГЛАВА XI
Но поелику Бог все знал наперед, а потому не мог не знать и того, что человек согрешит, то мы должны представлять себе святой град соответственно тому, как Он его предвидел и предопределил, а не соответственно тому, что не могло быть доступно нашему познанию, поскольку в планы Господа не входило. Ибо человек не мог своим грехом расстроить божественный совет так, чтобы принудить Бога изменить Его предопределение, потому что Бог предвидением своим предварил и то и другое: т. е. в предвидении Его было и то, что человек, которого Он сотворил добрым, сделается злым, и то, что и в этом случае он Сам сделает доброго относительно человека. Хотя и говорится, что Бог изменяет свои решения (Быт. VI, 6), почему в священном Писании встречается даже образное выражение, что Бог раскаялся (I Цар. XV, 11), — говорится сообразно с тем, на что надеялся человек или что вытекало из порядка естественных причин, но не применительно к тому, что Всемогущий знал наперед, что Он это сделает. Итак, Бог, как говорит Писание, сотворил человека правым,
О граде Божием___________________________________________________________ 679
и, следовательно, с доброю волей. Он не был бы правым, если бы не имел доброй воли Поэтому добрая воля есть дело Божие, и именно с нею сотворил Бог человека Первая же злая воля, предшествовавшая в человеке всем злым делам, была скорее отпадением от дела Божия к своим делам, чем каким–нибудь делом. Потому эти дела и злые, что творятся не по Богу; так что для этих дел, как бы для некоторых плодов, деревом своего рода была сама воля или сам человек, насколько он имел злую волю.
Далее, хотя злая воля не есть воля, соответствующая природе, но — противоречащая природе, потому что она есть порок, однако она — той же природы, что и порок, который мог быть только в природе; но — в природе той, которую Творец сотворил из ничего, а не в той, которую родил из Себя самого, как родил Слово, Которым создано все. Ибо хотя Бог образовал человека из праха земного, но сама земля и всякая земная материя получили бытие из ничего; и из ничего же созданную душу дал Бог телу, когда был создан человек. Поэтому–то добро превосходит зло до такой степени, что, хотя зло и допускается для доказательства, что предусмотрительнейшая правда Божия может пользоваться и самим злом для добра; однако добро может существовать и без зла, как существует сам Бог, истинный и высочайший, как существует над этим мрачным воздухом всякая видимая и невидимая небесная тварь; но зло без добра существовать не может, потому что природы, в которых оно существует, насколько они — природы, суть природы добрые. И истребляется зло не через уничтожение какой–либо привходящей природы или известной ее части, а через оздоровление и исправление природы испорченной и извращенной. Итак, произвол воли тогда поистине свободен, когда не служит порокам и грехам Таким он был дан от Бога, и, потерянный вследствие от него же зависевшего повреждения, может быть
Блаженный Августин_______________________________________________________680
восстановлен только Тем, Кем мог быть дан. Поэтому Истина говорит: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан. VIII, 36). Это то же, как если бы Он сказал: «Если Сын исцелит вас, то истинно здоровы будете». Он Освободитель от того, от чего и Спаситель,
Итак, человек жил по Богу в раю телесном и, вместе с тем, духовном. Это не был только рай телесный ради телесных же благ, но был также и раем духовным для ума; не был он только и раем духовным, которым бы человек наслаждался посредством внутренних чувств, не будучи в то же время и раем телесным, доступным чувствам внешним. Он был тем и другим для того и другого. Но вот оный ангел, гордый, а потому и завистливый, вследствие той же самой гордости отвратившийся от Бога и обратившийся к самому себе, из желания по некоторой своего рода тиранической надменности иметь скорее у себя подданных, чем быть подданным самому, ниспал из духовного рая (о падении его и его союзников, сделавшихся из ангелов Божиих его ангелами, я, насколько мог, достаточно сказал в одиннадцатой и двенадцатой книгах этого сочинения). Стараясь со злоумышленной хитростью неприметно подействовать на чувства человека, которому, как продолжавшему стоять, он, как павший, завидовал, он в телесном раю, где вместе с двумя людьми проживали и прочие подчиненные им и безвредные земные животные, избрал змея, животное скользкое и весьма подвижное, соответствующее его замыслу, — избрал, чтобы вести через него речь. Подчинив его ангельским действием и превосходством природы, но с лукавством духа, и, пользуясь им как орудием, он завел хитрый разговор с женщиной, т. е. начал с низшей части человеческого союза, чтобы постепенно перейти к целому. Он не считал мужа легковерным и потому полагал, что его можно уловить не введением его в
О граде Божием ___________________________________________________________681
заблуждение, а тем, что тот сделает уступку заблуждению чужому.
Ведь не по заблуждению сочувствовал, а по условиям, в каких находился, уступил заблуждающемуся народу Аарон, когда сотворил идола (Исх XXXII, 4); невероятно, чтобы и Соломон настолько заблуждался, что действительно считал нужным поклоняться идолам, но был вовлечен в это святотатство женскими ласками (III Цар. XI, 4). Также точно нужно думать, что и оный муж, чтобы нарушить закон Божий, последовал своей жене, — последовал один другой, человек человеку, супруг супруге, — не потому, чтобы введенный в обман поверил ей, как бы говорящей истину, а потому, что покорился ей ради супружеской связи. Ибо не напрасно апостол сказал: «Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление» (I Тим. II, 14). Это значит, что она приняла за истину то, что говорил ей змей, а он (Адам) не захотел отделиться от нее даже в грехе. От этого он не сделался менее виновным; напротив, он согрешил сознательно и рассудительно. Поэтому апостол и говорит «не прельстился», а не «не согрешил». То же самое он дает понять, говоря: «Одним человеком грех вошел в мир», и, несколько далее, замечает яснее: «Подобно преступлению Адама» (Рим. V, 12, 14). Под обольщенными он разумеет тех, которые делают такое, что не считают грехом; а Адам знал, что делал. Иначе каким бы образом было истинно, что «не Адам прельщен»? Но, не испытав божественной строгости, он мог обмануться в том отношении, что мог счесть это преступление извинительным. Поэтому хотя он и не прельстился тем, чем прельстилась жена, но обманулся относительно того, как будут приняты слова, которые он впоследствии сказал: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. III, 15). Но чего же более? Пусть не оба они были обольщены, но оба были уловлены грехом и запутались в тенетах дьявольских.
БлаженныйАвгустин_______________________________________________________682
ГЛАВА XII
Может возникнуть вопрос: почему человеческая природа не изменяется таким же образом от других грехов, как изменилась она от преступления заповеди первыми двумя людьми, причем изменилась настолько сильно, что это привело даже к смерти, тогда как нынче мы видим, что совершаются и куда более тяжкие прегрешения? На это следует ответить, что нельзя считать упомянутое преступление легким на том только основании, что оно было связано с пищей, причем не дурной и не вредной (ибо, конечно, Бог не насадил в раю ничего дурного или вредного), а только с запрещенной. Но суть заповеди — повиновение, добродетель же повиновения в разумной твари есть некоторым образом мать и хранительница всех добродетелей. Ибо эта тварь создана так, что для нее полезно быть подчиненной, и, напротив, гибельно творить волю свою, а не Того, Кем она создана. Заповедь о невкушении определенного рода пищи в месте, изобиловавшем всякою пищей, была легка для исполнения, тем более что еще не было наказания за неповиновение и потому вожделение не противодействовало воле, и именно поэтому нарушение ее было величайшей несправедливостью.
ГЛАВА XIII
Но начали они быть злыми втайне, чтобы затем уже впасть в неповиновение открыто. Не дошли бы они до злого дела, если бы этому не предшествовала злая воля. Начало же злой воли — гордость. А что такое гордость, как не стремление к превратному возвышению? Превратное же возвышение состоит в том, что душа, оставив Начало, к которому должна прилепляться, пытается стать таким началом для себя сама. Это бывает, когда она начинает чрезмерно нравитьс
О граде Божием__________________________________________________________ 683
самой себе, уклоняясь от своего Блага, Которое ей должно нравиться больше, чем она сама. Уклонение же это — уклонение добровольное. Останься ее воля твердою в любви к высочайшему и неизменному Благу, от Которого она получила просвещение, чтобы видеть, и Которым согревалась, чтобы любить, — она не отвратилась бы от Него, чтобы любоваться собою, омрачаться и остывать. Жена бы тогда не поверила змею, а Адам не предпочел бы предложение жены воле Божией. Итак, это злое дело было совершено такими, которые уже были злы. Не был бы плод злым, если бы не был от злого дерева, а дерево могло стать злым только вопреки природе; противен же природе только порок воли. Но быть поврежденною пороком могла только такая природа, которая создана из «ничто». То, что делает ее природой, она получила от Бога, то же, что она уклонилась от того, что она есть, следует из того, что она создана из «ничто». Впрочем, человек не уклоняется настолько, чтобы впасть в полное ничтожество, но, уклоняясь к себе, умаляется сравнительно с тем, каким он был, когда прилеплялся к Тому, Кто есть высшее и истинное бытие.Итак, оставить Бога и уклониться к себе еще не значит обратиться в ничто, но — приблизиться к ничтожеству. Хорошо иметь в сердце любовь, но не к самому себе, что является верным признаком гордости, а к Господу, что есть признак повиновения, принадлежащего только смиренным. Есть в смирении нечто такое, что удивительным образом возвышает сердце, и есть нечто в гордыне, что сердце принижает. Таким образом, смирение возвышает, а превозношение — тянет вниз, ибо смирение делает покорным высшему, т. е. Богу, а превозношение, отпадая от вышины, принижает. Поэтому в настоящее время в граде Божием и граду Божию, странствующему в этом мире, прежде всего рекомендуется и особенно прославляется в лице их Царя, Который есть Христос, смирение; противоположный же этой добродетели порок гордыни, по учению Писания, господствует в противнике его, дьяволе. В этом и заключается величайшее различие тех двух градов, о которых мы говорим. Один из них — общество благочестивых, другой — нечестивых, тот и другой с соответствующими ангелами; и в первом главенствует любовь к Богу, а во втором — любовь к самому себе. Итак, явным грехом, состоявшим в совершении того, что Бог запрс I, • I делать, дьявол не смог бы обольстить человека, если бы не овладело уже человеком довольство собою. Потому–то и понравилось ему услышанное: «Будете как боги» (Быт. III, 5). Гораздо бы вернее они были таковыми, если бы прилеплялись к высочайшему и истинному Началу своею покорностью, а не обратились в своей гордыне к самим себе, к своему началу. Ибо боги сотворенные суть боги не через самих себя, но — вследствие общения с Богом истинным. Желать же большего — значит умаляться. Итак, это зло, которое, — когда в самодовольстве своем человек возомнил себя своим же собственным светом, отвратившись от того Света, благодаря Которому светил и сам, — это, говорю, зло предшествовало втайне, чтобы за ним последовало уже другое зло, явное. Ибо истинно сказано, что прежде сокрушения возносится сердце и прежде славы смиряется (Прем. XVI, 18). Несомненно, что явному крушению предшествует крушение тайное, хотя таковым и не всегда считается. Кто, в самом деле, посчитает превозношение крушением, хотя в нем уже заключено падение превозносящегося? Но всякому видно то крушение, при котором совершается очевидное нарушение заповеди. Поэтому Бог и запретил такое, что, будучи совершено, не могло быть оправдано никаким надуманным основанием. Я даже полагаю, что гордым полезно впадать в какой–нибудь явный грех, чтобы это приуменьшало их самодовольство. Для Петра было спасительнее его недовольство
О граде Божием__________________________________________________________685
самим собой, когда он плакал, чем удовлетворенность, когда он много о себе воображал (Мф. XXVI, 33 и 75). О том же говорится и в псалме: «Исполни лица их бесчестием, чтобы, они взыскали имя Твое, Господи!» (Пс. ЬХХХП, 17), т. е., чтобы взыскуя имя Твое, нашли удовольствие в Тебе те, которые, взыскуя свое имя, находили удовольствие в самих себе.
ГЛАВА XIV
Но гораздо хуже и достойнее осуждения та гордость, которая и в явных грехах ищет себе оправдания. Так вели себя и те первые люди, когда она говорила: «Змей обольстил меня, и я ела», а он вторил ей: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. III, 13,12). Разве это были просьбы о помиловании, мольбы об исцелении? Хотя они и не отрицали, подобно Каину, того, что совершили, однако из гордости старались взвалить свою вину на другого. Но там, где очевидно нарушение божественной заповеди, там пристало обвинение, а не и шинение. Что из того, что жена последовала совету змея, а муж уступил жене? Неужто поверить или уступить кому бы то ни было можно было наперекор велению Бога?
ГЛАВА XV
Итак, человек пренебрег повелением Бога, Который створил его по образу Своему, поставил над всеми животными, поселил в раю, доставил обилие всего, необходимого для счастья, не обременил множеством трудных для исполнения заповедей, но для того, чтобы оказать содействие спасительному повиновению, дал только одну, короткую и легкую, напоминавшую о том, что Он — Господь всякой твари, которой полезна добровольная покорность. За этим
Блаженный Августин_______________________________________________________686
последовало справедливое осуждение, по которому человек, который мог в случае соблюдения заповеди и по плоти стать духовным, сделался плотским и по уму. Возлюбивший в гордыне своей самого себя, он и был правдою Божией предоставлен самому себе, но предоставлен так, что, разноглася с самим собой, вместо желанной свободы подвергся жестокому и жалкому рабству под властью того, кому посочувствовал своим грехом; умерший духом по воле должен был умереть и телом по неволе; пренебрегший жизнью вечною был осужден на вечную смерть, когда бы не спасала его от нее благодать.
Кто считает такое осуждение чрезмерным, тот, видимо, не может понять, сколько нечестия было там, где было так легко не грешить. Как справедливо восхваляется великая покорность Авраама, ибо велено было ему необычайно трудное для исполнения дело — убийство сына, так и в раю неповиновение было тем большим, чем наилегчайшим делом было исполнение заповеданного. И как повиновение второго Человека тем достохвальнее, что Он был «послушным даже до смерти» (Филип. II, 8), так и неповиновение первого человека тем гнуснее, что он сделался непослушным даже до смерти. Когда назначено тяжкое наказание за неповиновение, а дано повеление исполнить дело легкое, то где еще с такою силой может проявиться вся сила зла, как не в такого рода неповиновении?
Наконец, в самом наказании за этот грех, какое возмездие получило неповиновение, как не неповиновение же? Ибо в чем состоит несчастье человека, как не в Неповиновении ему его же самого, из–за которого он не хочет того, что может, и хочет того, чего не может? Хотя и в раю он не мог всего, но, однако же, хотел того, что мог, и потому имел все, что хотел. Теперь же, как это видим мы сами и как свидетельствует о том же Писание, «человек подобен дуновению» (Пс. СХЫП, 4). Кто может перечислить, сколько
О граде Божием___________________________________________________________ 687
невозможного он желает, в то время как ему не повинуется не только душа его, но и плоть? Против воли его и душа его волнуется постоянно, и плоть скорбит и умирает; терпим мы и немало другого, чего никогда не терпели бы против воли, если бы природа наша могла этой воле подчиняться. Но, говорят, сама–де плоть терпит нечто такое, что не дозволяет ей покоряться. Не все ли равно, как это и почему, коль скоро, будучи подчиненными Богу, мы сами не захотели Ему служить, и наша плоть, бывшая нам подчиненной, отказываясь служить, стала нам в тягость; хотя мы, не служа Богу, стали в тягость себе, а не Ему. Он ведь не нуждается в нашем служении, как сами мы нуждаемся в служении нам нашего тела.
Впрочем, и так называемые скорби плоти суть скорби души в плоти и от плоти. Разве плоть сама по себе скорбит или желает? Когда говорят, что плоть скорбит или желает, то имеется в виду или сам человек в целом, или какая–либо часть его души, на которую оказывают воздействие плотские чувства. Скорбь плоти — это неприятные ощущения в душе от плоти, скорбь же души, называемая также печалью, — отвращение от того, что случается с нами вопреки нашей воле. Между тем, печали часто предшествует страх, который и сам бывает только в душе, а не в плоти. Скорби же плотской не предшествует некий плотский страх, который бы ощущался в самой плоти до скорби. Но удовольствиям, однако, предшествуют своего рода требования, ощущаемые в плоти как некие ее желания, например: голод, жажда, похоть, хотя, впрочем, похоть — общее название всех страстных желаний. Ибо и сам гнев, по определению древних*, есть похоть мщения. Правда, порою человек гневается и в таких случаях, когда мщение не имеет никакого смысла, например, гневается на плохо пишущее перо, ломая его от досады. Но и в этом
Блаженный Августин______________________________________________________688
видна похоть мщения, хотя и до крайности неразумная. Итак, есть похоть мщения, называемая гневом; есть похоть к деньгам, называемая жадностью; есть похоть любой ценой настоять на своем, называемая упрямством; есть похоть к самопревозношению, называемая хвастовством. Вообще есть много разных похотей, не все из которых даже имеют свое название. Как, например, назвать похоть к господствованию, о необычайной силе которой в душах тиранов свидетельствуют многочисленные гражданские войны?
ГЛАВА XVI
Но хотя похотей великое множество, однако, когда говорят просто «похоть», не прибавляя, похоть чего, уму представляется обыкновенно срамная похоть плоти. Похоть эта овладевает всем телом, причем не только внешне, но и внутренне, и приводит в волнение всего человека, примешивая к плотскому влечению и расположение души; наслаждение же от нее — наибольшее из всех плотских наслаждений, отчего при достижении его теряется всякая проницательность и бдительность мысли. Кто из любителей мудрости и святых радостей, проводящий жизнь свою в супружестве и желающий следовать словам апостола, поучавшего: «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (I Фес. IV, 4, 5), не согласился бы, чтобы деторождение не сопровождалось подобной похотью, и исполнение долга продолжения рода целиком подчинялось требованию воли, а не возбуждалось огнем похоти? Но и сами любители этого наслаждения не возбуждаются к нему исключительно своею волей. То побуждение приходит не ко времени, когда о нем никто не просит, а бывает, что душа горит, а тело остается холодным.
О граде Божием__________________________________________________________689
Выходит, что похоть не желает покоряться не только воле деторождения, но и самому сладострастию; сопротивляясь во всем обуздывающему ее уму, она порою сопротивляется и самой себе, возбуждая душу, но не возбуждая тело.
ГЛАВА XVII
Справедливо, что эта похоть — предмет наибольшего стыда, и сами те члены, которые она приводит или не приводит в движение, называются срамными. Но такими они не были до грехопадения, ибо написано: «И были оба наги и не стыдились» (Быт. II, 25). Это не потому, что им не была известна их нагота, а потому, что нагота еще не была гнусной. Похоть еще не приводила в движение известные члены вопреки воле, плоть еще не явила своего неповиновения. Не слепыми были созданы люди, как думает порою невежественная чернь: они видели животных, которым давали имена, а о ней сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи» (Быт. III, 6). Открыты были их глаза, но при этом не видели, т. е. не обращали внимания на то, что если члены их не противятся их воле, то этим они обязаны облекающей их благодати. Как только эта благодать удалилась от них, сразу же в членах обнаружилось некое как бы самостоятельное движение, привлекшее, благодаря их наготе, внимание, и заставившее устыдиться. Поэтому–то после того, как они явно преступили заповедь Божию, о них написано: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание» (Быт. III, 7). Открылись глаза их не для того, чтобы видеть (они и прежде видели), а для того, чтобы понять различие между добром, которого они лишились, и злом, в которое впали. Поэтому и само то дерево было названо деревом познания добра и зла. Когда испытана тягость болезни, яснее становится приятность здоровья.
Блаженный Августин_______________________________________________________690
Итак, «узнали они, что наги»; т. е. они были обнажены лишением той благодати, благодаря которой нагота их тел не приводила их в смущение никаким греховным законом, противоборствующим их уму. Таким образом, они узнали то, каким бы счастьем было для них этого не знать, если бы, повинуясь Богу, они не совершили такое, что заставило их убедиться на деле, сколь вредны неверность и неповиновение. Затем, приведенные в смущение неповиновением своей плоти, они «сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание (сатре5г.па)», т. е. подпоясание (зиссшсюпа) детородных частей. Иные переводчики использовали именно слово зиссшсюпа. Впрочем, и сатрезгпа, хотя и латинское слово, но произведено оно от термина «на поле» (т сатро): когда юноши на специальном поле упражнялись в разного рода играх нагими, они покрывали повязками срамные члены, почему и повязанных таким образом простой народ называет сатрезггаП Итак, что против неповиновавшейся воли возбудила отказавшаяся повиноваться ей похоть, то стыдливо прикрыла скромность. Поэтому у всех, даже у самых варварских народов, принято покрывать срамные части. Говорят, что и в мрачных пустынях Индии, где некоторые из индийцев предаются философским занятиям нагими (почему и называются гимнософистами), принято покрывать детородные члены, хотя все прочие части тела остаются обнаженными.
ГЛАВА XVIII
Само то, что совершается с такою похотью, ищет прикрытия не только тогда, когда речь идет о каком–либо растлении, каковое преследуется человеческим судом, но и в случае общения с публичными женщинами, которое земным градом дозволяется. По требованию естественной стыдливости для самих публичных домов
О граде Божием ___________________________________________________________691
существует старательно охраняемая тайна: распутству легче избавиться от уз запрещения, чем бесстыдству сбросить покровы со своего безобразия. И это безобразие считают таковым сами безобразники: хотя они и любят его, но выставлять напоказ не смеют. Но даже и само супружеское совокупление, долженствующее быть по всем законам ради деторождения, при всей своей честности требует для себя удаленного от свидетелей ложа. Разве не высылает оно за двери всех слуг, всех родственников и вообще всех, кого в другое время всегда рады видеть супруги? Справедливо сказал один из величайших представителей римского красноречия*, что все, что делается хорошо, хочет, чтобы его видели и о нем знали, а это, даже и совершаемое по закону, стыдится, чтобы его видели. В самом деле, кто не знает, что нужно делать супругам, чтобы у них рождались дети? Ведь для этого–то столь торжественно и заключаются браки. А между тем, при зачатии детей не дозволяется присутствовать и самим детям, родившимся прежде. Это дело законное, и о нем знает общественное мнение, однако же оно избегает сторонних глаз. Почему это так, как не потому, что приличное по природе сопровождается постыдным по греху.
ГЛАВА XIX
Поэтому и те философы, которые более всех приблизились к истине», признавали, что гнев и похоть — порождения низшей части души, ибо движения, вызываемые ими, бурны и беспорядочны даже в тех случаях, когда они допускаются мудростью; а потому они особенно нуждаются в руководстве ума.
Блаженный Августин_______________________________________________________692
Эту третью часть души* они представляют главенствующей над всеми остальными, и если остальные готовы ей подчиняться, то в человеке царит справедливость. И эти–то (низшие) части, которые признаются испорченными даже в человеке мудром и воздержанном, так что его ум должен постоянно усмирять их, обуздывать и отвлекать от того, к чему направлены их неправильные движения, обращая их к тому, что дозволено законом мудрости: гнев, например, к применению законного наказания, похоть — к обязанности продолжения рода, — эти, говорю, части не были испорченными в раю до греха. В них не проявлялись движения к чему бы то ни было вопреки справедливой воле, и, следовательно, они без труда удерживались в своих границах правящею уздою разума. Ибо теперешние их движения, кои живущие справедливо и благочестиво умеряют то с большей, то с меньшей легкостью, но не иначе, как сдерживая и обуздывая, не есть признак их здорового природного состояния, но — расслабления вследствие повреждения.
А то, что проявления гнева и других душевных движений стыдливость не скрывает так, как проявления похоти в детородных членах, то единственная причина этого заключается в том, что во всех прочих случаях органы тела приводятся в движение не самими страстями, а сочувствующей им волей. Произнесший в гневе бранное слово или даже ударивший кого–нибудь не смог бы совершить этого, если бы его воля не привела в движение язык или руку, которыми она движет, когда пожелает, и безо всякого гнева, в то время как над детородными частями тела похоть усвоила себе такие права, что без нее они приходить в движение не могут. Это–то и составляет предмет стыда: человек охотнее снесет присутствие целой толпы, когда несправедливо гневается, чем присутствие хотя бы одного свидетеля при его законном совокуплении с женой.
' Т. е. ум.
О граде Божием___________________________________________________________ 693
ГЛАВА XX
Этого не могли понять т. н. собачьи философы, киники, когда вопреки человеческой стыдливости проводили поистине собачью, т. е. нечистую и бесстыдную мысль, что, дескать, раз законно то, что делается с женою, то и не стыдно делать это открыто, и не следует–де уклоняться от этого ни на улице, ни в любом общественном месте. Но естественный стыд победил мрак этого заблуждения. Впрочем, рассказывают, что тщеславный Диоген некогда сделал это, полагая, что секта его станет более знаменитой, если в памяти людей запечатлеется это бесстыдство. Но последующие киники отказались от этого. Стыд оказался сильнее, и мне даже кажется, что не делал этого и Диоген, а только лишь имитировал некие движения, чтобы стоявшие рядом люди, которые не могли видеть то, что скрывает его плащ, думали, что он совокупляется; ибо если этого не постыдился он сам, то, несомненно, постыдилась его похоть. Есть и сейчас еще философы–киники. Это те, которые не только одеваются в греческие плащи, но еще и ходят с дубинами. Но диогеновского срама никто из них повторить не смеет. А если бы кто и осмелился, то, уверен, утонул бы, заплеванный. Человеческая природа стыдится этой похоти, и справедливо стыдится. Ее неповиновение вырвало ее из–под власти воли, достаточно показывая этим, какое возмездие получило известное неповиновение человека. Возмездие это должно было обнаружиться в первую очередь в тех частях, которые непосредственно связаны с рождением природы, изменившейся к худшему вследствие первого греха. От уз этого греха не освобождается никто, за исключением отдельных лиц, очищенных благодатью Божией.
Блаженный Августин_______________________________________________________694
Итак, нам не следует думать, будто бы благословение Господне: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. I, 28) жившие в раю супруги должны были исполнять посредством этой похоти, устыдившись которой они скрыли известные члены. После греха появилась эта похоть, после греха была утрачена власть над членами тела. Благословение же дано было до греха, чем было показано, что рождение детей относится к чести брака, а не к наказанию за грех. Но в наше время люди, не имея правильного представления о блаженном состоянии в раю, не представляют себе, как можно рождать детей иначе, чем как они это знают по опыту, т. е. посредством похоти, которой стыдится и самый честный брак. Одни из них вовсе не принимают во внимание свидетельства Писания, другие, хотя и принимают, но в отношении плотского плодородия понимают их неправильно. Это потому, что и относительно души говорится нечто подобное, так что в следующих затем словах книги Бытия «И наполняйте землю, и обладайте ею» они разумеют под землею плоть, которую наполняет душа своим присутствием и над которой она господствует, если укрепляется в добродетели. Плотские же дети (говорят они) без похоти не могли рождаться и в то время, да и не рождались, ибо первые люди совокупились для их рождения и родили их уже после того, как были изгнаны из рая.
ГЛАВА XXII
Но мы нисколько не сомневаемся, что благословение Господне было даровано именно браку, который Бог установил до человеческого грехопадения, когда Он сотворил мужа и жену, чье различие по полу
О граде Божием___________________________________________________________ 695
явно наблюдается в плоти. К этому–то творению и приурочено благословение, ибо после того, как написано: «Мужчину и женщину сотворил их», непосредственно прибавлено: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Можно, конечно, толковать все сказанное в чисто духовном смысле, но ввиду явного отличия тел мужчины и женщины по половому признаку нельзя отвергать и того, что такими они были созданы для рождения детей, которые бы, продолжая плодиться и размножаться, и наполнили бы землю.
Когда Господа спросили, можно ли разводиться с женою, ибо Моисей, видя ожесточенность сердец израильтян, разрешил давать разводное письмо, то Господь не о духе, не о разумной душе, не о созерцательной добродетели, не о познаниях ума, а именно о супружеском союзе ответил так: «Не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. XIX, 4—6). Итак, несомненно, что мужчина и женщина с самого начала были сотворены такими, какими мы их видим и сейчас: двумя людьми различного пола. Но они называются одним или по причине брачного союза, или потому, что женщина была сотворена из ребра мужчины. И апостол на основании этого первого божественного установления увещает, чтобы мужья любили своих жен(Еф.У,25—33).
ГЛАВА XXIII
Те же, которые утверждают, что первые люди не совокуплялись бы и не размножались, если бы не согрешили, утверждают не что иное, как то, что грех
Блаженный Августин______________________________________________________696
был необходим для появления святых. Выходит, что для появления множества праведников нужен был грех! Так как подобная мысль нелепа, то следует думать, что если бы никто не согрешил, то, тем не менее, число праведников, потребное для составления блаженнейшего града, было бы таким же, каким и сейчас его восстанавливает Божия благодать из общей массы грешников, доколе сыны века сего рождаются и рождают. Поэтому и тот брачный союз, если бы он оставался достойным райского блаженства, рождал бы детей, предмет любви, и не знал бы похоти, предмета стыда. Как это могло происходить — этого мы не знаем. Тем не менее, не должно казаться невероятным, что и это могло вполне подчиняться воле, как и сейчас подчиняются ей многие наши члены.
Так, Цицерон, рассуждая в своих книгах о республике о различии в применении власти, использует в качестве примера человека, говоря, что членами тела, вследствие их покорности, управлять легко, и потому они управляются как дети; порочные же стороны души следует обуздывать более строгой властью, как рабов. В естественном порядке вещей душа во всех отношениях стоит выше тела, и, однако же, душе легче управлять телом, чем собою. Но эта похоть, о которой сейчас идет речь, тем постыднее, что душа легче управляет собою, чем ей, в то время как тело, как низшее по природе, должно было бы полностью быть ей подчинено. Таким образом, сопротивление души себе же самой менее для нее постыдно, чем сопротивление ей отдельных телесных членов.
Но когда силою воли удерживаются другие члены, без помощи которых те члены, что возбуждаются похотью вопреки воле, не могут исполнить то, к чему стремятся, то скромность сохраняется не посредством устранения, а путем недозволения греховного наслаждения. Этого сопротивления, этой борьбы, этого спора между волей и похотью, хотя бы и оканчивающегося в пользу воли, брак в раю, несомненно, не
О граде Божием___________________________________________________________697
знал, и «родовое поле»*, не соверши первые люди греха, так бы осеменял предназначенный для этого снаряд, как ныне осеменяет землю рука селянина.
И если сейчас, когда мы хотим коснуться этой темы подробнее, стыдливость восстает и требует испросить предварительного извинения у целомудренного слуха, то тогда речь наша текла бы свободно, нисколько не стыдясь непристойности предмета. Более того, не было бы и слов, которые считались бы непристойными.
Итак, бесстыдник, читающий эти строки, пусть устыдится преступления, а не природы, пусть клеймит дела своего нечестия, а не слова, которые мы употребляем по необходимости. Целомудренный же и благочестивый читатель извинит меня, пока я опровергаю неверие, делающее выводы не о сверхчувственных предметах, а о тех, что подлежат чувствам. Прочтет это безо всякой грешной мысли тот, кто не боится читать апостола, когда он порицает бесстыдство тех женщин, которые «заменили естественное употребление противоестественным» (Рим. 1,26), тем более, что мы в данном случае не напоминаем и не укоряем, как он, достойное осуждения бесстыдство, но, объясняя по возможности те действия, от которых зависит человеческое рождение, избегаем, как и он, непристойных слов.
ГЛАВА XXIV
Итак, супруги рождали бы потомство, используя для этого детородные члены тогда, когда это было нужно, и настолько, насколько нужно, и управляла бы ими воля, а не похоть. Ибо воля наша приводит в движение не только те члены, которые имеют суставы, мышцы и сухожилия, вроде рук и ног, но и другие, более нежные, вроде рта, глаз и т. п
Блаженный Августин_________________________________________________________698
. Есть и еще более нежные органы, нежнейшие, за исключением мозгов, которые заключены в грудной полости, с помощью которых мы вдыхаем и выдыхаем, вздыхаем и подаем голос — и они подчинены нашей воле. Не говорю уже о естественной способности некоторых животных удивительным образом приводить в движение отдельные участки кожи, дрожанием которой они могут не только отгонять мух, но и сбрасывать вонзившиеся дротики. Мог, следовательно, и человек иметь в повиновении и низшие члены, если бы не лишился этого из–за собственного неповиновения. Ибо Господу не составляло труда создать его таким, чтобы ни один из его членов не приходил в движение помимо его воли.
Знаем, что есть люди, умеющие управлять отдельными членами тела так, как обычный человек управлять ими не может: кто–то умеет искусно двигать ушами, обоими вместе или попеременно; другой — кожею лба, опуская волосяной покров почти что до уровня глаз; третий может глотать всевозможные предметы, а затем без труда извлекать их обратно, причем в абсолютно нетронутом виде. Некоторые умеют необычайно искусно подражать голосам животных и птиц. Есть чревовещатели, есть люди, умеющие плакать по желанию Но самое, пожалуй, невероятное наблюдали недавно некоторые из братьев собственными глазами. Был в епархии Кальмской церкви один пресвитер, по имени Реститут. Когда, бывало, ему вздумается (а порою и по просьбе других), он под звуки, подражающие плачу, до такой степени отвлекался от всяких телесных чувств, что его можно было щипать и колоть, и даже жечь огнем — он не чувствовал никакой боли, разве что после, от нанесенных ран. Причем, говорят, в этом состоянии он переставал даже дышать. Голоса же людей, как он рассказывал впоследствии сам, он слышал, но как бы звучащими издалека.
О граде Божием___________________________________________________________699
Итак, если и в настоящее время у некоторых людей, проводящих эту жалкую жизнь в тленной плоти, тело во многих движениях сверх обычной меры проявляет удивительную покорность, то какие у нас есть основания не верить в то, что до греха и наказания за грех члены, предназначенные для размножения потомства, могли покорно подчиняться человеческой воле безо всякой похоти? Человек предоставлен самому себе, потому что, любуясь собою, оставил Бога; но, не повинуясь Богу, не смог он повиноваться и самому себе. Ничтожность этого его состояния наиболее очевидна в том, что он не может жить, как хочет. Ибо, живи он, как хочет, он считал бы себя блаженным, хоть на деле, впрочем, и не был бы таким, если бы жил дурно.
ГЛАВА XXV
Ведь если вникнуть в дело повнимательней, то, кроме блаженного, никто не живет, как хочет; а блаженного нет никого, кроме праведного. Но и сам праведный не живет, как хочет, разве что ему удастся достигнуть такого состояния, что ему уже решительно будет невозможно ни умереть, ни впасть в заблуждение, ни подвергнуться опасности; и при этом он будет абсолютно уверен, что так будет всегда. К этому стремится природа, и не будет она вполне и совершенно блаженной, если не достигнет того, к чему стремится. Ав настоящее время кто из людей может жить, как хочет, коль скоро и сама жизнь не в его власти? Он хочет жить, а вынужден умирать. Разве живет, как хочет, тот, кто не может жить так долго, как сам того хочет? А если бы он желал смерти, то как может жить так, как хочет, тот, кто не хочет жить? А если бы он хотел умереть, чтобы после смерти обрести блаженство, то тем более он сейчас не живет так, как хочет. Но пусть бы он
Блаженный Августин_______________________________________________________700
даже жил, как хочет: разве он жил бы так не потому, что вынудил себя не хотеть того, чего не может, о чем сказал еще Теренций: «Если невозможно получить то, что хочешь, желай того, что возможно»*. Разве блаженство состоит в том, чтобы быть терпеливо несчастным? Разве блаженна та жизнь, которую не любят? А если она блаженна и ее любят, то не любят ли ее ради ее самой, а все прочее — также любят ради нее. Если же ее любят настолько, насколько она достойна любви, то невозможно, чтобы любящий ее так не желал, чтобы она была вечной. Итак, она будет блаженной тогда, когда будет вечной.
ГЛАВА XXVI
Итак, человек жил в раю, как хотел, до тех пор, пока хотел того, что повелел Бог. Жил, наслаждаясь Богом, от Которого, как благого, сам был добр. Жил безо всякого недостатка, имея в своей власти жить так всегда. Была пища, чтобы не испытывать голода, было питье, чтобы не испытывать жажды, было, наконец, дерево жизни, чтобы не ослабила его старость. Не было ничего, что причиняло бы боль, не было никаких болезней, которых бы следовало бояться. Плоть была здорова, душа — спокойна. Не было ни жары, ни стужи; не было грусти, не было искусственного веселья: была одна непрерывная радость, проистекавшая от Бога, к Которому пылала любовь «от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (I Тим. 1,5); и в то же время было верное, основанное на чистой любви общение между супругами, согласие ума и тела^ легкое соблюдение нетрудной заповеди. Усталость не утомляла, сон не клонил против воли. Откуда же у нас может возникнуть сомнение в том, что они могли произвести потомство
О граде Божием___________________________________________________________701
без болезни похоти? Надлежащие члены, как и все другие, привелись бы в движение требованием воли, и «супруг прильнул бы к лону супруги»* без страстного волнения, при полном спокойствии души и тела и с сохранением целомудрия. Ибо если этого не подтверждает наш жизненный опыт, то отсюда отнюдь не следует, что такого вообще не может быть.
Мы говорим о предметах, которые в настоящее время оскорбляют стыдливость, и потому, хотя мы и высказываем предположения о том, какими они могли быть до того, как их стали стыдиться, однако необходимо, чтобы речь наша скорее обуздывалась скромностью, которая нас останавливает, чем искала помощи у красноречия, которое нам плохо удается. Ибо то, о чем идет речь, не испытали на деле и те, которые могли бы испытать (они заслужили изгнание из рая прежде, чем успели по спокойному движению воли совокупиться для порождения потомства); но лишь только мы упоминаем об этом теперь, человеческое чувство тут же представляет себе опыт страстной похоти, а не расположение свободной воли. Потому–то стыд и мешает речи, хотя разум не изменяет мышлению.
Но как бы там ни было, у всемогущего Бога и высочайше блаженного Творца не оказалось недостатка в предусмотрительной мудрости, чтобы и из осужденного человеческого рода наполнить Свой град известным предопределенным количеством граждан, выделяя их не по заслугам, ибо все люди без исключения подверглись осуждению в своем испорченном корне, а по благодати, и показывая освобожденным как на примере их самих, так и на примере неосвобожденных, сколь велики Его им дары. Ибо всякому видно, что не по заслугам, а по незаслуженной и милосердной благодати он избавляется от зла.
Блаженный Августин______________________________________________________702
Почему бы в таком случае Богу было не сотворить тех, о ком Он заранее знал, что они согрешат, если именно в них и через них, через совершенное ими преступление и через дарованную Им благодать Он смог показать, что под властью Творца и Промыслителя и превратная беспорядочность грешников не может извратить правильного порядка вещей?
ГЛАВА XXVII
Грешники, как ангелы, так и люди, не могут сделать ничего такого, что затруднило бы великие дела Господни, которые «вожделенны для всех, любящих оные» (Пс. СХ, 2). Ибо Тот, Кто предусмотрительно распределил каждому свое, умеет надлежащим образом пользоваться не только добрым, но и злым. Поэтому, пользуясь ангелом злым, в наказание за первую злую волю первого человека Бог и дозволил, чтобы подвергся искушению со стороны этого ангела первый человек, который был изначально сотворен с волею доброй. Сотворенный добрым, он, полагаясь на помощь Божию, победил бы злого ангела, но, довольствуясь в гордыне самим собой, он оставил Творца и был побежден. Таким образом, преступление его состояло в превратной воле, отвернувшейся от Творца. Но разве это было в его власти, чтобы, даже довольствуясь собой, он мог уклониться от благодеяний божественной благодати? Как не в нашей власти продолжать жить во плоти без надлежащего ее питания, но не жить в ней — в нашей власти, так же и жить хорошо без помощи Бо–жией, хотя бы и в раю, не было во власти, но было во власти жить дурно.
Итак, хотя Бог и знал о будущем падении человека, какие бы могли быть причины, по которым Он не позволил бы коварству завистливого ангела искусить
О граде Божием___________________________________________________________703
его? Зная о том, что он будет побежден, Бог также знал наперед, что тот же самый дьявол при содействии благодати Божией будет побежден семенем человеческим еще с большею славою для святых. Таким образом, и от Бога ничего не укрылось, и своим предведением Он никого не принудил ко греху. Но кто осмелится подумать или сказать, что не во власти Божией было, чтобы не пали ни ангел, ни человек? Но Он предпочел не отнимать у них самих власти на это, и, таким образом, показать, сколько зла может наделать их гордость, и сколько добра — Его благодать.
ГЛАВА XXVIII
Итак, два града созданы двумя родами любви: земной — любовью к себе, дошедшею до презрения к Богу; небесный — любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй — в Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава — Бог, свидетель совести. Тот в славе своей возносит главу, а этот говорит Богу своему-. «Ты, Господи, слава моя, и Ты возносишь голову мою» (Пс. III, 4). Тем правит похоть господствования, в этом служат друг другу по любви. Тот любит в своих лучших людях свою же силу, а этот говорит: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» (Пс. XVII, 2). Поэтому в том граде мудрые его, живя по человеку, добивались некоторых благ для тела или души своей, или для того и другого разом, но которые могли познать Бога, «не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми (т. е. превозносясь под влиянием гордости своею мудростью), обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (ибо в почитании идолов этого рода
Блаженный Августин_______________________________________________________704
были или вождями народов, или последователями), и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки» (Рим I, 21—25) В этом же граде нет иной мудрости, кроме благочестия, которое правильно почитает истинно! о Бога, ожидая в обществе святых, не только людей, но и ангелов, той награды, когда «будет Бог все во всем» (I Кор XV, 28)
О граде Божием__________________________________________________________705
КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
О райском блаженстве, о самом рае и о жизни в нем первых людей, об их грехе и наказании приводились различные соображения, многое говорилось и многое писалось В предыдущих книгах остановились на этом вопросе и мы, рассказав, что прочитали в священных Писаниях и что смогли вывести из них соответственно их смыслу Но когда эти предметы рассматриваются подробнее, они вызывают такое множество разнообразных суждений, что последние потребовали бы для своего изложения гораздо большего количества книг, чем какое допускает настоящий труд и время Этого времени у нас не так много, чтобы мы могли останавливаться на всем, что может вызывать недоумение у праздных и мелочных людей, более умелых в расспрашивании, чем в способности понимать
Думаю, впрочем, что мы уже немало сделали для разрешения великих и весьма трудных вопросов о начале мира, души и самого человеческо! о рода Последний мы разделили на два разряда на тех людей, которые живут по человеку, и на тех, которые живут по Богу Эти разряды мы символически назвали двумя градами, т е двумя сообществами людей, из которых одному предназначено вечно царствовать с Богом, а другому — подвергнуться вечному наказанию с дьяволом Но это уже конец их, о котором нам следует говорить после Теперь же, — так как уже достаточно сказано о происхождении их и в среде ангелов, число которых нам неизвестно, и в лице двух первых людей, — следует, как мне кажется, перейти к рассказу о том,
Блаженный Августин_______________________________________________________706
как плодятся они и размножаются, и наполняют землю с того времени, как два первых человека стали рождать потомство, и до того, когда люди рождать перестанут. Весь этот период, в течение которого умирающие уходят, а рождающиеся занимают их место, представляет собою время сосуществования этих двух градов, о которых мы рассуждаем.
Итак, от этих двух родоначальников человечества прежде был рожден Каин, принадлежащий к человеческому граду, а потом Авель, принадлежащий к граду Божию. Как относительно одного отдельно взятого человека мы по опыту убеждаемся в истинности сказанного апостолом: «Не духовное прежде, а душевное, потом духовное» (I Кор. XV, 46), — и потому каждый, поскольку рождается от осужденного отростка, сначала по необходимости бывает по Адаму злым и плотским, а потом, когда, возродившись, возрастает во Христе, становится добрым и духовным, — так и в целом человеческом роде, лишь только существование этих двух градов стало выражаться сменою поколений рождающихся и умирающих, первым родился гражданин этого века, а потом уже — чужой для этого века, принадлежащий к граду Божию, благодатью предназначенный, благодатью избранный, по благодати — странник земли, по благодати — гражданин неба. Ибо, что касается его самого, то он происходит из той же массы, которая первоначально была осуждена вся; но Бог, как горшечник (это сравнение не безрассудно, а мудро употребил апостол), из одной и той же глины творит один сосуд для почетного употребления, а другой — для низкого (Рим. IX, 21).
Прежде, однако, был сотворен сосуд в поругание, а потом — в честь; ибо и в одном и том же человеке, как я уже сказал, предваряет негодное, с которого мы по необходимости начинаем, но с которым нам нет необходимости оставаться; затем уже следует годное, к которому мы переходим по мере успехов и с которым, достигнув его, остаемся. Поэтому, хотя не всякий злой
О граде Божием___________________________________________________________707
человек будет добрым, никто, однако же, не будет добрым, кто не был злым; но чем быстрее кто–либо изменяется к лучшему, тем скорее заставляет называть себя соответственно тому, что усвояет, и названием позднейшим как бы закрывает название изначальное. Итак, о Каине написано, что «построил он город» (Быт. IV, 17); Авель же, как странник, города не построил. Ибо град святых есть град вышний, хотя он и здесь рождает своих граждан, в лице которых странствует, пока не наступит время его царства, когда соберет он всех воскресших с их телами и когда последним дано будет обетованное Царство, в котором они будут со своим Главою и Царем царствовать вовеки.
ГЛАВА II
Была некоторая тень этого града и пророческий образ его, служивший скорее для обозначения, чем для действительного представления его на земле в то время, когда надлежало на него указать; называется и он градом святых, но скорее из уважения к обозначаемому, чем в смысле представления действительности, которая была делом будущего. Об этом служебном образе и о том свободном граде, который он обозначал, так говорит апостол в своем послании к Галатам: «Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? Ибо написано: «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам. Ибо написано — «Р–веселись,
Блаженный Августин______________________________________________________708
неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной» (Гал. IV, 21—31).
Этот способ понимания, освященный апостольским авторитетом, дает нам указание, каким образом мы должны толковать писания обоих Заветов, Ветхого и Нового. Ибо некоторая часть земного града стала образом града небесного, потому что представляла не себя, а другой град; и, следовательно, была служебной. Не ради самой себя она была установлена, а для обозначения другого града; и так как и ей предшествовало другое изображение, то, предызображая, она и сама была предызображена. Ибо Агарь, раба Сарры, и сын ее, послужили своего рода образом самого этого образа. И как с наступлением света исчезают тени, так и свободная Сарра, которая пре–дызображала собою свободный град и для которой и та раба, в свою очередь, служила тенью, изображавшей ее другим образом, сказала: «Выгони эту рабыню и сына ее; ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком» (Быт. XXI, 10), а у апостола: «с сыном свободной».
Итак, мы находим в земном граде две части: одна представляет саму действительность этого града, а другая служит посредством этой действительности для предызображения града небесного. Граждан земного града рождает испорченная грехом природа, а граждан града небесного рождает благодать, освобождающая природу от греха; поэтому первые называются сосудами гнева Божия, а последние — сосудами милосердия (Рим. IX, 22, 23). Это было предызображено и двумя сыновьями Авраама тем, что один,
О граде Божием___________________________________________________________709
Измаил, родился по плоти от рабы, которая называлась Агарь; другой же, Исаак, родился по обетованию от свободной Сарры. И тот и другой — от семени Авраама; но того родила связь, служившая выражением природы, а этого дало обетование, служившее образом благодати. Там указывается на человеческое совокупление, здесь же — на божественное милосердие.
ГЛАВА III
Так как Сарра была бесплодной и отчаялась иметь потомство, то, желая иметь от своей рабы то, чего сама иметь не могла, дала ее своему мужу в качестве наложницы. Воспользовавшись своим правом относительно чужого чрева, она таким путем добилась от своего мужа того, что он должен был дать. Измаил родился, как рождаются люди от смешения двух полов по обычному закону природы. Почему и сказано: «по плоти»; не в том смысле, чтобы это не было благодеянием Божиим или чтобы в этом не проявлялось действие Божие, но в том, что там, где должен был проявиться дар Божий, который благодать Божия дает людям, как нечто незаслуженное, там следовало родиться сыну так, чтобы это не казалось зависящим от естественных причин. Ибо природа уже не дает потомства от такого совокупления мужчины и женщины, какое могло быть у Авраама и Сарры в их возрасте, к тому же при бесплодии жены, которая не могла зачать и в то время, когда лета ее соответствовали чадородию, но способность к чадородию не соответствовала летам. То же обстоятельство, что столь расслабленная природа не должна была иметь потомства, означает то, что поврежденная грехом и За это справедливо осужденная человеческая природа не имела более никакого права на истинное счастье Итак, Исаак, рожденный по обетованию, спра-
Блаженный Августин_______________________________________________________710
ведливо обозначает сынов благодати, граждан свободного града, союзников вечного мира, где не будет стремления к личному и в некотором роде частному произволу, но будет любовь, радующаяся об общем, и потому неизменяемом благе, делающая из многих сердец — одно, т. е. будет вполне единодушное повиновение, основанное на любви.
ГЛАВА IV
Земной град, который не будет вечным (потому что не будет уже градом, когда будет осужден на вечное наказание), имеет свои блага на земле, которым и радуется, насколько возможна радость о таких вещах. И так как нет такого блага, которое не создавало бы затруднений тем, кто привязан к нему, то и этот град очень часто разделяется сам в себе, вступая в споры, войны и сражения и добиваясь побед, несущих пред собою смерть или, по крайней мере, смертных. Ибо, какою бы своею частью он не восстал войной на другую часть, он хочет быть победителем племен, хотя сам находится в плену у пороков. И если он, победив, делается более гордым, победа его несет пред собою смерть; а если, приняв в соображение условия и общую судьбу человеческих дел, он более тревожится возможными в будущем несчастными случайностями, чем превозносится прошлой удачей, то тем более победа его — смертна. Ибо он не может, пребывая постоянно, вечно властвовать над теми, кого смог подчинить себе победой.
Тем не менее, несправедливо говорят, будто блага, к которым стремится этот град, не суть блага. Он стремится к земному миру ради своих земных дел: этого мира он желает достигнуть посредством войны. Ибо, когда он победит и не будет такого, кто оказывал бы сопротивления, тогда настанет мир, которого не имели ранее враждебные стороны, спорившие
О граде Божием__________________________________________________________711
под гнетом бедности о тех вещах, которыми не могли владеть совместно. Тяжкие войны стремятся к этому миру, и то, что называется славной победой, достигает его. Когда побеждают те, которые боролись за справедливое дело, то кто станет сомневаться, что нужно радоваться победе и что настал желанный мир? Это — благо, и, несомненно, дар Божий. Только если, пренебрегая теми лучшими благами, которые относятся к вышнему граду, где будет победа, обеспечивающая навеки высший мир, привязываются более к этим благам, или считая их единственными, или любя их более тех благ, которые признают лучшими, тогда неизбежно возникают новые несчастья, а бывшие прежде — возрастают.
ГЛАВА V
Итак, первым основателем земного града был братоубийца, из зависти убивший своего брата, гражданина вечного града, странника на этой земле (Быт. IV). Неудивительно, что спустя столько времени, при основании того города, который должен был стать во главе этого земного града, о котором мы говорим, и царствовать над столь многими народами, явилось в своем роде подражание этому первому примеру, или, как говорят греки, архетипа. Ибо и здесь, как упоминает о самом злодействе один из их поэтов:
Первые стены, увы, обагршшся братскою кровью'.
Именно так был основан Рим, судя по свидетельствам римской истории об убийстве Ромулом своего брата Рема. Различие состоит только в том, что оба они были гражданами земного града. Оба они добивались славы создать Римскую республику; но оба вместе не
Блаженный Августин______________________________________________________712
могли иметь такой славы, какую мог бы иметь каждый из них, если бы был один. Ибо кто хочет прославиться своим господством, господствует тем менее, чем с большим числом соучастников разделяет свою власть. Итак, чтобы одному иметь в своих руках всю власть, был убит товарищ, и посредством этого злодейства увеличилось в худшем виде то, что, не будучи запятнано преступлением, было бы меньшим, но лучшим. А те братья, Каин и Авель, не имели одинакового стремления к земным вещам, и тот, который убил своего брата, не потому завидовал ему, что его господство могло стать меньшим, если бы оба они господствовали (ибо Авель не искал господства в том граде, который основал его брат); он завидовал той дьявольской завистью, какой злые люди завидуют добрым только лишь потому, что те добры, между тем как они — злы. Ибо обладание добротой нисколько не уменьшается от того, что в этой доброте становится больше соучастников; напротив того, доброта — такое достояние, которым нераздельная любовь союзников обладает тем больше, чем они согласнее друг с другом. Тот и не будет обладать этим достоянием, кто не захочет, чтобы оно было общим; и настолько более будет обладать им, насколько сильнее будет в состоянии любить тех, кто в этом с ним соучаствует.
И то, что произошло между Ромулом и Ремом, показывает, как разделяется сам в себе земной град; а то, что произошло между Каином и Авелем, указывает на вражду между двумя градами, Божьим и человеческим. Ведут между собою борьбу злые и злые; точно так же борются между собою злые и добрые. Но добрые и добрые, если они совершенны, не могут бороться друг с другом. Приближающиеся же к совершенству, но еще не совершенные, могут бороться между собою так, что добрый восстает против того в другом, против чего борется и в самом себе. Потому что и в одном человеке «плоть желает противного духу, а дух — противного плоти» (Гал. V, 17). Итак,
О граде Божием__________________________________________________________713
духовные стремления одного могут бороться с плотскими стремлениями другого, равно как и плотские стремления одного с духовными стремлениями другого, как борются между собою добрые и злые–или могут бороться между собою даже плотские стремления двух добрых, но еще не совершенных людей как борются между собою злые и злые, пока полное выздоровление не приведет их к последней победе
ГЛАВА VI
Эта болезнь — суть то неповиновение, о котором мы говорили в четырнадцатой книге, представляющее собою наказание за первое неповиновение; поэтому оно не природа, а порок. Потому и говорится добрым, стремящимся к совершенству и живущим в настоящем странствовании верой: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. VI, 2). То же говорится и в другом месте: «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло» (Кол. V, 14, 15). И еще: «Если и впадет человек в какое согрешение, вы Духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. VI, 1). И еще. — «Солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. IV, 26). И в Евангелии: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» (Мф. XVIII, 15). Так же и о грехах, которые мо–гут грозить соблазном для многих, апостол говорит: «Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели» (I Тим. V, 20). Поэтому же часто предписывается прощать друг другу и заботиться о сохранении мира, без которого никто не может узреть Бога: в последнем случае существует опасность, что когда–нибудь будет приказано рабу отдать прощенный было ему долг в десять тысяч талантов, за то, что он не про-
Блаженный Августин_______________________________________________________714
стал своему товарищу долга в сто динариев. Приведя такой пример, Господь Иисус прибавил: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. XVIII, 35). Таковы врачебные средства для граждан града Божия, странствующих на этой земле и воздыхающих о мире небесного отечества.
Дух же Святый врачует внутренним образом, чтобы врачеванию внешнему дать некоторую силу. Иначе, если бы и сам Бог, пользуясь подчиненным себе творением, говорил в каком–либо человеческом образе, обращаясь только к человеческим чувствам, телесным ли, или подобным им, какие мы имеем во сне, но не оказывал бы влияния и не действовал бы на ум внутренней благодатью, никакая проповедь истины не принесла бы человеку пользы. Делает же это Бог, отделяя сосуды гнева от сосудов милосердия Своего, по соображениям Ему известным, весьма таинственным, но в то же время справедливым. Ибо с Его помощью, оказываемой удивительными и сокровенными способами, совершается обращение к уму, не умышляющему под управлением Божиим на злое, когда грех, обитающий в наших членах, — что представляет собою само наказание за грех, — не царствует, как сказал апостол (Рим. VI, 12, 13), в нашем мертвенном теле так, чтобы мы повиновались его похотям и предоставляли ему наши члены в качестве орудий неправды; и человек находит в этом уме в настоящее время более спокойного правителя, а впоследствии, достигнув полного выздоровления и бессмертия, будет царствовать без всякого греха в вечном мире.
ГЛАВА VII
Но все то, о чем мы сказали выше, какую пользу оно принесло Каину, когда обратился к нему с речью Бог, — обратился так, как обыкновенно говорил
О граде Божием___________________________________________________________715
с первыми людьми, в качестве как бы собеседника через подчиненную Ему тварь? Разве не совершил он задуманного преступления, убийства брата, и после божественного увещания? Когда Бог показал различие между жертвами того и другого, приняв жертвы одного и отвергнув жертвы другого, — что, конечно, могло быть замечено по какому–нибудь видимому признаку; а сделал это потому, что дела последнего были злы, а брата его добры, — тогда Каин сильно опечалился, и лицо его осунулось. Именно так об этом и написано: «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. IV, б, 7). В этом увещании, с которым Бог обратился к Каину, выражение: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит», из–за некоторой неясности, к чему оно относится (и предшествующего принятия жертвы одного и неприятия — другого), понималось по–разному, когда толкователи божественных Писаний пытались объяснить их сообразно с правилами веры. Ибо жертва приносится правильно, когда она приносится истинному Богу, Которому одному только должны быть приносимы жертвы. Но она неправильно разделяется, когда не различается, как следует, место, время, сами приносимые вещи или приносящий от того, кому приносится, или те, между которыми разделяется принесенное для употребления.
В каком из приведенных отношений Каин не угодил Богу, понять нелегко. Но если апостол Иоанн говорит об этих двух братьях: «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» (I Иоан. III, 12), то этим дается понять, что Бог потому отверг его дары, что он худо разделил их в том отношении, что хотя и дал Богу нечто
Блаженный Августин_______________________________________________________716
Ему принадлежащее, но самого себя оставил себе. Так поступают все, которые следуют не Божьей, а своей собственной воле, т. е. живут не правым, а развращенным сердцем, но приносят Богу дар, которым думают подкупить Его, дабы Он помог не уврачеванию их злых пожеланий, а их исполнению. И таково свойство земного града — чтить Бога или богов, чтобы с их помощью властвовать в земном мире; не для того, чтобы заботиться о пользе других, а из страсти к господству. Добрые люди для того пользуются миром, чтобы наслаждаться Богом, злые же, напротив, для того пользуются Богом, чтобы наслаждаться миром. Впрочем, так делают лишь те, которые верят, что Бог существует и печется о делах человеческих; а есть и гораздо худшие, которые и этому не верят.
Итак, Каин, узнав, что Бог призрел не на его жертву, а на жертву его брата, должен был бы, изменившись, подражать доброму брату, а не завидовать ему из гордости. А между тем, он опечалился, и лицо его поникло. Этот грех, зависть доброте другого, и притом своего брата, Бог особенно и порицал. Порицая, Он спрашивал его: «Почему ты огорчился' и отчего поникло лице твое?» Бог видел, что он завидовал брату, и порицал это. Ибо люди, для которых чужое сердце составляет тайну, могли усомниться, была ли это печаль о своих дурных качествах, которые сделали его, как он убедился, неугодным Богу, или же это была скорбь о добрых качествах брата, которые были Богу приятны, так как Он призрел на жертву Авеля. Но Бог, Который не хотел принять его жертвы для того, чтобы обратить его недовольство скорее на самого себя, чем на брата, — так как он был несправедлив, живя неправедно, и потому не был достоин, чтобы его приношение было одобрено, — показал, насколько он был еще более несправедливым, беспричинно ненавидя своего справедливого брата Не отпуская его, однако, без святой, справедливой и доброй заповеди, Господь сказал: «У дверей грех лежит; он влечет
О градеБожием_______________________________________________________717
тебя к себе, но ты господствуй над ним». Можно, пожалуй, эти слова понимать в том смысле, что грешник должен приписывать свой грех не кому–либо другому, а только себе. Это уже — начало спасительного покаяния, ибо тогда кто бы то ни было будет господствовать над грехом, когда не возвысит его над собою, защищая его, а подчинит его себе, раскаиваясь в нем; в противном же случае, являясь заступником греха, он будет служить ему, как господину.
Но если под грехом разуметь саму плотскую похоть, о которой говорит апостол: «Плоть желает противного духу» (Гал. V, 17), упоминая в числе плодов этой плоти и зависть, которая подстрекала Каина и побуждала его погубить своего брата, то (сказанное Каину Господом) следует понимать так, что когда будет возбуждена та плотская сторона, которую апостол называет грехом, когда говорит «Не я делаю то, а живущий во мне грех» (Рим. VII, 17), — та часть души, которую и философы называют порочной, которая не должна увлекать за собою ум, но которую, напротив, ум должен держать в своей власти и удерживать от непозволительных дел, — итак, когда эта часть души будет возбуждена к дурному поступку, но успокоится и покорится словам апостола: «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды» (Рим. VI, 13), тогда она, укрощенная и побежденная, обратится к уму, чтобы над нею, как подчиненной, господствовал разум. Это и повелевал Бог тому, кто воспламенялся завистью к брату и хотел убить того, кому должен был бы подражать. Он, таким образом, как бы сказал: «Удержи руки от злодейства; пусть не царствует грех в твоем мертвенном теле так, чтобы ты повиновался его желаниям, и не предавай свои члены в орудия неправды греху».
Нечто подобное сказано в той же божественной книге и о жене, когда после грехопадения спрошенные Богом подверглись осуждению: дьявол в лице змея, она же и ее муж в лице собственном. Бог сказал
Блаженный Августин______________________________________________________718
ей тогда: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей»; а потом прибавил: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. III, 16). Что сказано Каину о грехе, или о порочной похоти плоти, то же самое (по смыслу) говорится в этом месте и грешной жене, откуда следует заключить, что муж должен управлять женою подобно душе, управляющей плотью. Почему апостол и говорит: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти» (Еф. V, 28, 29). Все это нужно лечить, как свое, а не осуждать, как чужое. Но Каин принял заповедь Божию, как изменник. Вследствие усилившейся зависти, он вероломно убил брата. Таков был основатель земного града. А каким образом он предвозвестил собою иудеев, которые убили Христа, пастыря овец бессловесных, предызображенного Авелем, пастырем овец бессловесных (ибо в аллегории заключено пророчество), об этом в настоящее время я говорить не стану, но помню, что я говорил кое–что относительно этого в книге против Фавста манихея.
ГЛАВА VIII
Теперь я нахожу нужным защитить историю, чтобы не показалось невероятным сказанное в Писании, что был создан город одним человеком в то время, когда представляются жившими на земле только четыре человека, а после братоубийства — даже три, т. с. первый человек, отец всех, затем сам Каин и его сын . Енох, в честь которого был назван город. Но те, которые поднимают этот вопрос, мало обращают внимания на то, что писателю этой священной истории не было необходимости называть всех людей, которые в то время могли жить, а лишь тех, кого требовала
О граде Божием__________________________________________________________719
цель предпринятого труда. Ибо намерением этого писателя, бывшего в данном случае орудием Духа Святого, было дойти через преемственность известных поколений, происшедших от одного человека, до Авраама, а потом от его семени до народа Божия: в этом народе, выделенном из прочих поколений, предызображалось и предвозвещалось все, что предвиделось в Духе, как имеющее совершиться, относительно града, царство коего будет вечным, и Царя его и Основателя — Христа; но не умалчивалось и о другом обществе человеческом, которое мы называем земным градом, а упоминалось настолько, чтобы град Божий представлялся яснее благодаря сравнению с противоположным ему градом.
Итак, когда священное Писание, говоря о том или другом лице, причем упоминая и число лет, которое прожил этот человек, заключает свою речь о нем так: и родил такой–то сыновей и дочерей, всех же дней жизни его было столько–то, и он умер; то разве в силу только того, что оно не называет этих сынов и дочерей, мы не должны представлять себе, что за такое большое количество лет, какое проживали люди в первые времена мира, могло родиться весьма много людей, которые, соединившись, могли основывать не только города, но и очень многие государства? Богу, по вдохновению Которого это было написано, угодно было с самых первых времен обособить и различить эти два общества по их различным родоначальникам, так, чтобы особо сгруппировались поколения людей, живущих по человеку, и особо — сынов Божиих, т. е. людей, живущих по Богу, и так до потопа. При этом представляется разделение и смешение обоих обществ: разделение потому, что упоминаются отдельно поколения их, — одно, происходившее от братоубийцы Каина, другое же — от Сифа, родившегося от Адама вместо убитого Авеля; смешение же потому, что, когда добрые люди уклонились от добра, все сделались такими, что были стерты с лица земли потопом,
Блаженный Августин_______________________________________________________720
за исключением одного праведного, имя которому было Ной, его жены, трех сыновей и стольких же невесток: эти восемь человек удостоились избежать общей гибели смертных благодаря ковчегу.
Равным образом, из того, что написано — «И познал Каин жену свою; и она зачала, и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. IV, 17), не следует заключать, будто это он родил первого сына. Основанием для подобного заключения не может служить выражение, что он познал жену свою, указывающее как бы на то, что он тогда впервые соединился с нею. Ибо и о самом отце всех, Адаме, не тогда только говорится это, когда был зачат Каин, являвшийся его первенцем; и после этого Писание говорит — «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф» (Быт. IV, 25). Из приведенного примера видно, что Писание имеет обыкновение выражаться подобным образом, хотя и не всегда, когда говорит о совершившихся зачатиях людей, однако же и не только тогда, когда впервые происходит соединение между собою обоих полов. Нельзя непременно считать Еноха первенцем и на том основании, что именем его был назван город. Возможно, что по какой–либо причине отец его, хотя имел и других детей, любил его более остальных. Ведь и Иуда, от которого получили свое название и Иудея, и иудеи, не был первенцем. Но если бы даже он и был первенцем основателя этого города, все же из этого еще не следует, что отец дал его имя основанному им городу в то самое время, когда он родился; потому что один человек не мог в то время составить из себя самого целый город, который есть не что иное, как множество людей, соединенных известным союзом общежития. Только тогда, когда семейство этого человека размножилось до такой степени, что имело уже численность народа, тогда он и смог основать город и дать ему имя свое-
О граде Божием___________________________________________________________721
го первенца.
Жизнь тех людей была столь продолжительной, что из упомянутых в Писании, о летах которых оно не умолчало, проживший менее всех людей до потопа дожил до семисот пятидесяти трех лет. Большая же часть их пережила девятьсот лет, хотя до тысячи не дожил никто. Итак, кто же усомнится, что в течение жизни одного человека род человеческий мог настолько размножиться, что было из кого образовать не один, а очень много городов? Подобное предположение тем более возможно, что от одного Авраама, не многим более, чем за четыреста лет, количество еврейского народа возросло настолько, что при выходе этого народа из Египта насчитывалось шестьсот тысяч человек, способных носить оружие (Исх XII, 37); и то, если не считать не относящегося собственно к народу Израиля народа идумеев, происшедшего от брата его Исава, внука Авраамова, и других племен, происшедших от семени того же Авраама, но рожденных не от жены его сары
ГЛАВА IX
Поэтому никто из тех, кто умеет благоразумно судить о вещах, не станет сомневаться в том, что Каин мог основать какой–нибудь город, а тем более город большой в то время, когда жизнь смертных была столь продолжительной; разве только кто–нибудь из неверующих выразит сомнение относительно самого количества лет, которое, как написано у наших авторов, проживали тогда люди, и станет отрицать вероятность такого долголетия. Не верят ведь и тому, что тела людей были тогда гораздо больше, нежели сейчас. Но знаменитейший их поэт, Вергилий, рассказывая, как сильный муж прежнего времени, ера- • жаясь, схватил огромный камень, водруженный на границе полей, побежал и бросил его, замечает, что
Блаженный Августин______________________________________________________722
Едва ли смогли бы двенадцать сильнейших мужей его
поднять С такими телами, какие теперь производит земля'.
Он показывает этим, что земля в то время производила обыкновенно тела гораздо большие. Насколько же больше были они в первые времена мира, перед знаменитым и бесславным потопом? Впрочем, относительно величины тел обличают неверующих открывающиеся по ветхости ли, или под воздействием влаги, или по другим каким–либо причинам гробницы, в которых находят или из которых выпадают кости умерших невероятной величины. Я видел сам, и притом не один, а в сопровождении нескольких лиц, на Утическом побережье коренной зуб человека такой величины, что если бы он был разделен на части, соответствующие нашим зубам, то из него можно было бы сделать сотню зубов. Думаю, однако же, что это был зуб какого–нибудь гиганта. Ибо, кроме того, что у всех тогда тела были гораздо больше наших, гиганты при этом далеко превосходили всех остальных. Как в наши, так и в прежние времена, хотя и редко, но почти всегда бывали такие люди, которые далеко превосходили размерами всех остальных. Плиний Секунд, человек весьма ученый, свидетельствует, что чем дальше продолжается этот век, тем все меньшие тела производит природа. Упоминает он, что и Гомер часто жаловался на это в своих стихах, причем говорит это отнюдь не в виде насмешки над якобы поэтическими вымыслами, а полагая это, как исследователь чудес природы, исторической правдой». Но, как я сказал, доказательством величины древних тел, даже для веков позднейших, служат часто находимые кости, отличающиеся долговечностью. Долголетие же какого–нибудь человека, жившего в те
О граде Божием__________________________________________________________723
времена, не может быть подтверждено никакими подобными наглядными доказательствами. Тем не менее, в силу этого не должна отрицаться достоверность священного Писания, повествованиям которого тем бесстыднее не верить, чем очевиднее исполняется предвозвещенное им. Впрочем, тот же Плиний говорит, что и до сих пор существует народ, в котором люди проживают по двести лет*. Если же, таким образом, долголетие человеческой жизни, которого мы не видели на опыте, признается существующим и в настоящее время в неизвестных нам местах, то почему не верить, что оно существовало и в неизвестные нам времена? Или же можно поверить, что в каком–нибудь месте есть то, чего нет здесь, и нельзя поверить, что когда–нибудь было то, чего нет теперь?
ГЛАВАХ
Между еврейскими и нашими кодексами существует некоторая разница в самом счете лет; отчего это так — не знаю. Разница эта, однако же, не такова, чтобы между кодексами оказывалось противоречие относительно долговечности тех людей. Например, сам первый человек, Адам, до рождения сына, названного Сифом, по нашим кодексам показывается жившим двести тридцать лет, по еврейским же — сто тридцать. Но после этого рождения наши кодексы представляют его прожившим еще семьсот лет, а еврейские — восемьсот. Так же точно и в остальных случаях: общее число лет одинаково. И в последующих поколениях при рождении тех, о рождении которых упоминается, отец по еврейским кодексам представляется жившим на сто лет менее; зато по нашим он оказывается жившим на сто лет менее, чем по еврейским,
Блаженный Августин______________________________________________________724
после рождения. Таким образом, там и здесь общий итог один и тот же.
В шестом поколении те и другие кодексы совершенно согласны. Но в седьмом, когда был рожден тот Енох, о котором повествуется, что он не умер, а был по воде Божией вознесен, оказывается та же разница, что и в предыдущих пяти поколениях, на сто лет до рождения того сына, который при этом упоминается, и то же согласие в общем итоге. По тем и другим кодексам Енох, прежде чем взял его Бог, жил триста шестьдесят пять лет. Относительно восьмого поколения есть также некоторая разница, но меньшая, чем в предыдущих поколениях, и несходная с прежней. Мафусал, сын Еноха, до рождения того, кто следует за ним по порядку, по еврейским кодексам жил не на сто лет меньше, а на двадцать больше: эти двадцать лет оказываются потом прибавленными в наших кодексах к тем годам, которые он прожил после рождения, и, таким образом, в тех и других общее число лет сходится. В одном только девятом поколении, т. е. в годах Ламеха, сына Мафусала и отца Ноева, общая сумма расходится, но незначительно. По еврейским кодексам он представляется жившим двадцатью четырьмя годами более, чем по нашим, а после рождения — на тридцать больше, чем по нашим. Вычтя из последней цифры шесть, получим упомянутую разницу в двадцать четыре года.
ГЛАВА XI
Из–за этого расхождения между еврейскими и нашими книгами возник знаменитый спор о Мафусале, который, судя по счету годов, прожил еще четырнадцать лет после потопа*, между тем как священное Писание говорит, что из всех, бывших тогда на земле, только восемь
.О граде Божием___________________________________________________________725
человек избежали с помощью ковчега гибели от потопа (I Пет. III, 20), и в их числе Мафусала не было. Ибо по нашим кодексам Мафусал до рождения сына, названного Ламехом, прожил сто шестьдесят семь лет; затем сам Ламех до рождения от него Ноя прожил сто восемьдесят восемь лет; что составит вместе триста пятьдесят пять лет. Если к этим годам прибавить шестьсот лет жизни Ноя, прошедших до потопа, то получится девятьсот пятьдесят пять лет от рождения Мафусала до потопа. Всех же лет жизни Мафусала считается девятьсот шестьдесят девять; потому что, прожив до рождения сына, названного Ламехом, сто шестьдесят семь лет, он после его рождения жил еще восемьсот два года, что и составляет вместе, как мы сказали, девятьсот шестьдесят девять лет. Если вычесть отсюда девятьсот пятьдесят пять лет, от рождения Мафусала до потопа, то останется четырнадцать лет, которые он якобы прожил после потопа.
Некоторые поэтому полагают, что он прожил некоторое время не на земле, где, как известно, были уничтожены все творения, которым природа не дозволяет жить в воде, а со своим отцом, который был взят Господом, и пробыл там до тех пор, пока не окончился потоп. Думают так потому, что не хотят отказывать в доверии кодексам, которым Церковь отдает преимущественное уважение, и полагают, что скорее в иудейских, чем в этих, есть неточность. Они не допускают, что скорее у переводчиков могла возникнуть ошибка в данном месте, чем ложь на том языке, с которого через посредство языка греческого был сделан перевод священного Писания на наш язык. Невероятно, говорят они, чтобы Семьдесят толковников, которые переводили все в одно и то же время и в одном и том же смысле, могли ошибиться или захотели бы солгать в том, что для них было совершенно бесполезно. Иудеи же, завидуя, что благодаря переводу Закон Божий и Пророки перешли к
Блаженный Августин______________________________________________________726
нам, изменили кое–что в своих кодексах, чтобы уменьшить этим авторитет наших. Последнее мнение или предположение пусть каждый принимает, как хочет: несомненно одно, что Мафусал не жил после потопа, а умер накануне, если счет лет в еврейских кодексах неверен. Свое же собственное мнение об этих Семидесяти толковниках я изложу подробнее в йзоем месте, когда с Божьей помощью придется, насколько то потребуется настоящим трудом, говорить о самом времени их. В настоящем же случае вполне достаточно, что по показаниям тех и других кодексов люди жили тогда такое продолжительное время, что в течение жизни одного человека, родившегося первым от тех двух родителей, которые одни только и жили тогда на земле, род человеческий смог настолько размножиться, что можно было основать город.
ГЛАВА XII
Ибо никоим образом нельзя согласиться с теми, которые полагают, что года в те времена считались иначе, т. е. были настолько коротки, что наш один год заключал в себе десять тех. По их словам, услышав или прочитав, что кто–нибудь прожил девятьсот лет, каждый должен разуметь девяносто: потому что десять тех лет составляют один наш, а десять наших — тех сто. Поэтому Адам, по их мнению, прожил двадцать три года, когда родил Сифа, а сам Сиф — двадцать лет и шесть месяцев, когда от него родился Енос; священное же Писание называет последнее число двумястами и пятью годами. По предположению этих лиц, мнение которых мы излагаем, один такой год, какой мы имеем теперь, тогда разделяли на десять частей, и эти части называли годами. Каждая из этих частей составляет квадратное число шести, потому что Бог в шесть дней совершил дела Свои,
О граде Божием___________________________________________________________727
чтобы в седьмой день почить (о чем я говорил, как мог, в одиннадцатой книге). Шесть, умноженные на шесть (что и есть квадрат шести), дают тридцать шесть дней, которые, будучи помноженными на десять, дадут триста шестьдесят дней, т. е. двенадцать лунных месяцев. А так как оставалось еще пять дней, которыми пополняется солнечный год, и четверть дня, которая, взятая четыре раза, добавляет еще один день в том году, который называется високосным, то для соответствия к годам древние прибавляли потом дни; эти дни римляне называют вставными. Таким образом Енос, сын Сифа, был от роду девятнадцати лет, когда от него родился сын его, Каинан; Писание же показывает это число как сто девяносто лет. И затем во всех дальнейших поколениях до потопа, когда упоминаются лета людей, не встречается в наших кодексах почти никого, кто родил бы сына, имея сто или менее того лет, или даже сто двадцать и несколько более; самым же меньшим возрастом для рождения называется стошестидесятилетний.
Это потому, говорят, что никакой человек не может рождать детей в десять лет, считавшихся у людей того времени за сто; но в шестнадцать лет, которые в те времена считались за сто шестьдесят, уже является возмужалость, способная к произведению потомства. А чтобы не показалось невероятным, что год тогда считался иначе, прибавляют, что у многих исторических писателей можно найти, что египтяне имели год из четырех месяцев*, акорнане — из шести, лавинии — из тринадцати.
Плиний Секунд, упомянув о тех фактах, которые встречаются в рукописях, что некто жил сто пятьдесят два года, другой — десятью годами больше, а некоторые и по двести лет, иные — по триста, иные — до пятисот, до шестисот, а некоторые дожили и до восьмисот лет, полагает, что случилось это по незнанию счета времени.
Блаженный Августин_______________________________________________________728
Ибо у одних, говорит он, один год ограничивался летом, а другой — зимою; у других же — одним из четырех времен года, как, например, у аркадян, год которых составлял три наших месяца. К этому он прибавляет, что египтяне, малые годы которых, как мы сказали выше, были равны четырем месяцам, ограничивали некогда год исходом луны. От этого–то у них, говорит он, и рассказывается о целых тысячах прожитых лет*.
Такими–то якобы достоверными доказательствами некоторые лица, вовсе не рассчитывающие подорвать достоверность этой священной истории, а напротив, старающиеся увеличить ее, чтобы не казалось невероятным то обстоятельство, что древние люди жили такое большое число лет, —«такими–то, говорю, доказательствами убедили себя (и полагают, что убедили не без основания), что годом назывался тогда такой малый период времени, что из десяти тех лет составляется один наш, а десять наших лет равняются сотне тех. Но что это совершенно ложно, на это есть очевиднейшее доказательство. Но прежде чем привести его, я, однако, не нахожу возможным умолчать о том, насколько их предположение может казаться вероятным.
На самом деле мы можем показать несостоятельность их мнения и опровергнуть его на основании еврейских кодексов. В последних говорится, что Адаму было не двести тридцать, а сто тридцать лет, когда он родил третьего сына. Если это по нашему счету тринадцать лет, то, без сомнения, он родил первого сына, когда ему было одиннадцать или немногим более лет. Кто же может родить в таком возрасте при обыкновенном и хорошо известном нам законе природы? Но мы оставим в стороне Адама, который, быть может, в состоянии был родить тотчас же по сотворении. Ибо весьма вероятно, что он был сотворен не
О граде Божием___________________________________________________________729
гто пять–стало быть, по их мнению, ему не было тог–ы и одиннадцати лет. А что тогда сказать о Каинане, сыне его, который по нашим кодексам имел сто семьдесят а по еврейским — семьдесят лет, когда родил Малелеила? Какой семилетний человек может родить, если только тогда семьюдесятью годами назывались семь лет?
ГЛАВА XIII
Но когда я говорю это, мне все представляется, что это–де ложь иудеев, о которой выше было уже достаточно сказано: потому что Семьдесят толковников, пользующиеся заслуженною славой, не могли лгать. Но если поставить при этом вопрос, что вероятнее: то ли, что иудейский народ, рассеянный так давно и на таком большом пространстве, мог единодушно согласиться вписать эту ложь и, из зависти к достоверности чужих кодексов, лишить истины свои, или же то, что семьдесят человек, бывшие сами иудеями, собранные в одном месте (так как их пригласил для этого дела царь египетский, Птолемей), позавидовали тому, что истина будет у чужеземных народов, и сделали это по общему уговору: кто не увидит, чему скорее и легче можно поверить. Устраним, однако же, самую мысль о том, чтобы какой–нибудь благоразумный человек пришел к заключению, будто иудеи, какова бы ни была их злоба и лукавство, могли иметь такую силу в отношении к многочисленным и рассеянным издавна и на больших пространствах кодексам; или будто бы те достопамятные семьдесят мужей условились только в этом одном, завидуя язычникам в истине.
Будет вероятнее, если кто–нибудь скажет, что на первых порах, как только начали переписывать это из библиотеки Птолемея, нечто подобное могло быть сделано
Блаженный Августин_______________________________________________________730
в одном, т. е. в прежде всех переписанном кодексе, а из него уже распространилось далее; к этому могла присоединиться и ошибка переписчика. Последнее можно предполагать в вопросе о жизни Мафусала и в другом месте, где оказывается разность в общей сумме в двадцать четыре года. Но в тех случаях, где сряду продолжаются сходные ошибки, где до рождения того сына, который следует по порядку, в одном случае показывается лишних сто лет, а в другом недостает их; после же рождения показывается сто лишних, где их недоставало, и убавляется, где они были лишними, чтобы было сходство в общей сумме; и это повторяется в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и седьмом поколениях: в этих случаях сама ошибка представляется имеющей некоторое, если можно так выразиться, постоянство, и пахнет не случайностью, а преднамеренностью.
Итак, та разница в числах, одним образом показываемых в кодексах греческих и латинских, и другим — в еврейских, которая повторяется последовательно в стольких поколениях сперва через прибавление, а потом — через отнятие ста лет, должна быть приписана не злобе иудеев и не расчетливости или хитрости Семидесяти толковников, а ошибке того переписчика, который первым взял для переписки кодекс из библиотеки вышеупомянутого царя. Ибо и теперь в тех случаях, когда числа не привлекают особого внимания чем–либо таким, что легко может быть понято или что представляется полезным изучить, они небрежно переписываются и еще небрежнее исправляются. Кто, например, сочтет для себя нужным усвоить с точностью, сколько тысяч человек могло иметь каждое из колен Израильских? Ведь пользы от этого не представляется никакой; а таких людей, которые могли бы глубже вникать в эту пользу, разве много найдется? Но там,
О граде Божием___________________________________________________________731
где через столько следующих друг за другом поколений в одних кодексах добавляется сто лет, в других — нет> а после рождения сына, о котором упоминается, эти сто лет опускаются там, где они были прежде, и добавляются там, где их не было, чтобы уравнять общую сумму, — там сделавший это, без всякого сомнения, хотел убедить, что древние люди жили так много лет потому, что называли годами самые короткие периоды времени. Он и старался показать это относительно возраста возмужалости, в котором люди делаются способными к рождению детей. Он думал, что следует внушить неверующим, что сто тех лет равняются десяти нашим, чтобы они не отрицали достоверности такой долголетней людской жизни. Поэтому он и прибавил сто лет там, где не находил еще возраста, способного к рождению детей, и те же сто лет после рождения сына убавил, чтобы суммы были одинаковы. Он хотел таким образом привести в большее соответствие возрасты, способные к рождению детей, не изменяя, однако же, общего количества лет, прожитых каждым.
Что же касается того обстоятельства, что он не сделал этого в шестом поколении, то именно это лучше всего показывает, что делал он это только тогда, когда того требовалось целью, о которой мы говорим: потому что он не сделал этого там, где упомянутая цель того не требовала. Он нашел, что по еврейским кодексам в этом поколении Иаред прожил до рождения Еноха сто шестьдесят два года, что, сообразно с представлением о более коротких годах, составляет шестнадцать лет и почти два месяца; этот возраст уже способен к рождению, поэтому и не было необходимости прибавлять ста коротких лет, чтобы вышло двадцать шесть наших, равно как и после рождения Еноха убавлять их, так как они не были прибавлены до рождения. Так случилось то, что в этом месте нет никакой разницы между теми и другими кодексами.
Блаженный Августин_______________________________________________________732
Но затем снова возникает недоумение: почему в восьмом поколении, перед тем как родился Ламех от Мафусала, в еврейских кодексах читается сто восемьдесят два года, а в наших мы находим двадцатью годами меньше, между тем как обыкновенно прибавлялось сто лет; а после рождения Ламеха эти года приданы для пополнения общей суммы, которая в тех и других кодексах одинакова. Ведь если он стосемидесятилетний возраст для возмужалости хотел принимать за семнадцатилетний, то он не должен был как ничего прибавлять, так и убавлять; потому что встретил возраст, способный к рождению детей, для пополнения которого в других случаях, когда не находил его таковым, прибавлял сто лет. Можно было бы подумать, что эти двадцать лет убавлены по ошибке, если бы, убавив их сначала, он не постарался прибавить после, для сохранения согласия между общими суммами.
Уж не следует ли думать, что это сделано с хитростью, чтобы скрыть то намерение, с которым прежде прибавлялись, а потом отнимались сто лет; так как и в данном месте, где не было уже в этом необходимости, случилось то же самое, хотя не с сотнею лет, а с небольшим числом, которое сначала убавлено, а потом прибавлено? Но как отнестись к этому объяснению, верить ли, что дело было так, или не верить, да и вообще, было ли оно подобным образом или каким–либо иным; я нисколько не сомневаюсь, что в тех случаях, когда имеется различие между теми и другими кодексами, и когда, притом, показания тех и других вместе не могут иметь исторической достоверности, следует более доверять тому языку, с которого был сделан толковниками перевод на другой язык. Ибо даже по некоторым трем греческим, одному латинскому и одному сирийскому кодексам, согласным между собою, оказывается, что Мафусал умер за шесть лет до потопа.
О граде Божием___________________________________________________________733
ГЛАВА XIV
Теперь посмотрим, каким образом можно с очевидностью доказать, что года, насчитанные в продолжительной жизни тех людей, были вовсе не настолько коротки, чтобы десять их составляли один наш, а были столь же продолжительными, как и наши, образуемые круговым обращением солнца. На шестисотом году жизни Ноя, по словам Писания, произошел потоп. Если те года были такими короткими, что десять их составляют наш один, т. е. каждый из них состоял из тридцати шести дней, то почему тогда написано: «Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца» (Быт. VII, 10,11)? Ведь такой малый год, если он по древнему обычаю носил имя года, или вовсе не имел месяцев, или же, чтобы он мог иметь двенадцать месяцев, каждый месяц его должен был состоять из трех дней. На каком основании было сказано: «Во второй месяц, в семнадцатый день месяца», если не на том, что месяцы тогда были такими же, как и теперь? Ведь иначе, каким бы образом говорило Писание, что потоп начался в двадцать седьмой день второго месяца*? Затем, относительно конца потопа читаем следующее: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор» (Быт. VIII, 4,5).
Итак, если месяцы были такими же, как и теперь, то такими же, конечно, были и годы. Трехдневные месяцы не могли иметь двадцати семи дней. А если — чтобы пропорционально уменьшить все — днем тогда называлась тридцатая часть трех дней; то окажется, что такой великий потоп, который представляется совершившимся за сорок дней и ночей,
• У Августина написано: «Во второй месяц, в двадцать седьмой день месяца».
Блаженный Августин______________________________________________________734
совершился менее, чем за четыре дня. Кто допустит подобную глупость и несообразность? Поэтому да устранится это заблуждение, которое, желая ложным предположением увеличить достоверность нашего Писания в одном случае, подрывает его в другом. Несомненно, и тогда был такой же день, как и теперь, определявшийся двадцатью четырьмя часами дня и ночи; такой же месяц, как и теперь, начинавшийся рождением и оканчивавшийся исходом луны; такой же год, как и теперь, состоявший из двенадцати лунных месяцев с добавлением до полного солнечного круга пяти дней с четвертью; был второй месяц такого шестисотого года жизни Ноевой, и двадцать седьмой день такого месяца, когда начался потоп; во время его сорок дней шли непрерывные дожди, и эти дни имели не по два или несколько более часов, а по двадцать четыре часа дневного и ночного времени. Поэтому и те древние люди жили порою более, чем по девятьсот таких же больших лет, каких впоследствии Авраам прожил сто семьдесят пять, а после него сын его, Исаак, сто восемьдесят, а сын последнего, Иаков, около ста пятидесяти, и каких Моисей, спустя несколько веков, прожил сто двадцать, а в настоящее время люди проживают семьдесят или восемьдесят, или немногим более, но о которых уже сказано: «Самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. ЬХХХ1Х, 10).
Что же касается той разницы в числах, которая замечается между еврейскими и нашими кодексами и не противоречит этой долговечности древних, то, если оказывается такое различие, что нельзя признать истинным и то и другое, исторической достоверности нужно искать в том языке, с которого сделан наш перевод. Возможность для этого предоставляется всякому желающему. Но это не значит, что кому–нибудь дозволено исправлять по еврейским кодексам Семьдесят толковников во многом, в чем
О граде Божием___________________________________________________________735
они не согласны с теми кодексами. Это различие не есть так называемая погрешность, и я думаю, что его никоим образом не следует считать таковою. Но в тех случаях, где нет ошибки переписчика и где есть смысл, согласный с истиной и предвозвещающий ее, в тех случаях надо полагать, что они говорили иначе, чем в еврейских кодексах, не как переводчики, а с той свободой, которая свойственна пророкам. Поэтому и апостолы, когда приводят свидетельства из Писаний, пользуются не только еврейскими кодексами, но и их переводами. Но об этом я обещал поговорить подробнее, если поможет Бог, в более удобном месте; теперь же перейду к тому, что стоит на очереди. Итак, не следует сомневаться, что один человек, который был рожден первым от первого человека, живя так долго, мог основать град, — земной, конечно, а не тот, который называется градом Божиим, ради описания которого мы и предприняли настоящий труд.
ГЛАВА XV
Кто–нибудь скажет: «Так ли это нужно понимать, что человек, который по природе своей должен был рождать детей и при этом не давал себе обета воздержания, не вступал в брачное сожительство до ста и более лет, или, согласно еврейским кодексам, немногим менее; или, если и вступал, то не в состоянии был рождать детей?» Этот вопрос разрешается двумя способами. Или возмужалость являлась настолько позже, насколько большей была продолжительность всей жизни; или же, что кажется мне более вероятным, в данном случае упомянуты не перворожденные сыновья, а только те, которых требовал порядок преемственности, чтобы дойти до Ноя, как сделан был потом от него переход к Аврааму, а затем до известного момента времени, насколько то было нужно, чтобы указать при помощи упомянутых поколений — продолжение славнейшего
Блаженный Августин______________________________________________________736
града, странствующего в этом мире и стремящегося к вышнему отечеству. Нельзя отрицать лишь одного: Каин родился первым от соединения мужа и жены По рождении его Ева* не сказала бы, «Приобрела я человека от Господа» (Быт. IV, 1), если бы этот человек не был присоединен первым к ним двум. Следовавший за ним Авель, убитый своим братом и послуживший некоторым прообразом странствующего града Божия, первый показал, что град этот будет терпеть несправедливые преследования со стороны нечестивых и, так сказать, земнородных, т. е. привязанных к происходящему от земли и радующихся земному счастью земного града. Но скольких лет был Адам, когда родил их, неизвестно.
Затем располагаются по порядку, с одной стороны, поколения Каина, с другой — поколения рожденного Адамом вместо убитого братом, которого Адам назвал Сифом, (а Ева сказала при этом)**, по словам Писания: «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (Быт. IV, 25). Когда потом эти два ряда поколений, один — Сифовых, другой — Каиновых, входят каждое особым порядком в состав этих двух градов, о которых мы рассуждаем: одного небесного, странствующего на земле, другого земного, стремящегося и привязывающегося к радостям земным, — то при исчислении потомства Каинова от Адама до восьмого поколения не упоминается ни об одном, скольких он был лет, когда родил того сына, о котором после него говорится. Не хотел Дух Божий обозначать времена в поколениях земного града до потопа, но предпочел делать это в поколениях (града) небесного, так как они более заслуживали памяти. Когда потом родился Сиф, показаны были годы отца его, хотя он уже
" Согласно Августину, это сказал Адам.
" И эти слова, по мнению Августина, произносит Адам
О граде Божием___________________________________________________________737
родил до того других детей. Кто, однако же, решится утверждать, что он родил только Каина и Авеля? Из того, что только они одни названы в порядке поколений, о которых нужно было упомянуть, вовсе не следует, что только они одни и были рождены в то время от Адама. Если имена остальных детей умалчиваются и сказано только, что «родил он сынов и дочерей» (Быт. V, 4), то кто, желающий избежать обвинения в безрассудстве, решится утверждать, которым потомком его по счету был Сиф? Ибо Адам по божественному внушению мог сказать, когда родился Сиф: «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин», потому, что тому предстояло быть таким, что он должен был заменить Авеля по своей святости, а не потому, что он родился первым по порядку после Авеля.
Далее, кто, как не только самый безрассудный, на основании слов Писания: «Сиф жил двести пять лет (или, по еврейским кодексам, сто пять), и родил Ено–са» (Быт. V, 6), станет утверждать, что Енос был перворожденным у Сифа? В таком случае не без справедливого удивления мы должны спросить себя, каким образом он в течение стольких лет оставался вне супружеского сожительства, не имея намерения воздерживаться от брака, или, состоя в браке, не рождал; когда и о нем в свою очередь говорится: «И родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер» (Быт. V, 7,8). Когда и затем упоминаются лета того или иного лица, то также говорится, что он родил сынов и дочерей. Но из этого еще вовсе не следует, что перворожденным был тот сын, имя которого упоминается; напротив, как невероятно, чтобы отцы их были столь продолжительное время невозмужавшими и не имели жен и детей, равно невероятно и то, чтобы упоминаемые сыновья родились у них первыми. Так как писатель священной истории имел своей задачей, обозначая времена через последовательный ряд поколений,
Блаженный Августин_______________________________________________________738
родил до того других детей. Кто, однако же, решится утверждать, что он родил только Каина и Авеля? Из того, что только они одни названы в порядке поколений, о которых нужно было упомянуть, вовсе не следует, что только они одни и были рождены в то время от Адама. Если имена остальных детей умалчиваются и сказано только, что «родил он сынов и дочерей» (Быт. V, 4), то кто, желающий избежать обвинения в безрассудстве, решится утверждать, которым потомком его по счету был Сиф? Ибо Адам по божественному внушению мог сказать, когда родился Сиф: «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин», потому, что тому предстояло быть таким, что он должен был заменить Авеля по своей святости, а не потому, что он родился первым по порядку после Авеля.
Далее, кто, как не только самый безрассудный, на основании слов Писания: «Сиф жил двести пять лет (или, по еврейским кодексам, сто пять), и родил Ено–са» (Быт. V, 6), станет утверждать, что Енос был перворожденным у Сифа? В таком случае не без справедливого удивления мы должны спросить себя, каким образом он в течение стольких лет оставался вне супружеского сожительства, не имея намерения воздерживаться от брака, или, состоя в браке, не рождал; когда и о нем в свою очередь говорится: «И родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер» (Быт. V, 7,8). Когда и затем упоминаются лета того или иного лица, то также говорится, что он родил сынов и дочерей. Но из этого еще вовсе не следует, что перворожденным был тот сын, имя которого упоминается; напротив, как невероятно, чтобы отцы их были столь продолжительное время невозмужавшими и не имели жен и детей, равно невероятно и то, чтобы упоминаемые сыновья родились у них первыми. Так как писатель священной истории имел своей задачей, обозначая времена через последовательный ряд поколений,
О граде Божием___________________________________________________________739
тельной чертою древнейшего времени вследствие необходимости, настолько сделалось предосудительным после, вследствие запрета со стороны религии. Ибо было справедливо принято уважение к тому свойству любви, по которому людей, коим полезно и прилично взаимное согласие, стали взаимно связывать узами различного родства; чтобы один человек не мог иметь в лице другого многих родственников сразу, но чтобы каждая степень родства заключалась в отдельном лице; и чтобы, таким образом, возможно большее число видов родства теснее соединяло для общественной жизни возможно большее количество лиц. Отец и тесть, например, суть названия двух родственников. Поэтому, когда кто–либо имеет отца и тестя в отдельных лицах, родственная любовь обнимает большее количество лиц. Но Адам вынужден был одновременно быть и тем и другим для своих сынов и дочерей; потому что тогда соединялись браком братья и сестры. Равным образом и Ева, его жена, была для своих дочерей и сынов и тещей, и матерью; а будь две женщины, одна тещей, а другая матерью, родственная любовь бы от этого расширилась. И сама сестра, бывшая в то же самое время женою, совмещала в себе одной две степени родства; а будь эти два родства распределены между отдельными лицами так, чтобы одна была сестрою, а другая женой, родственные узы обнимали бы большее число людей. Но для этого не было возможности тогда, когда от первых двух людей других людей не было, кроме братьев и сестер. Так, однако же, должно было стать, когда это сделалось возможным, т. е. когда уже существовало достаточное количество лиц, чтобы брать из числа их жен, которые уже не были бы сестрами; когда не только не было никакой необходимости для того, чтобы это делалось, но даже если бы это и делалось, то было бы противно естественному закону.
Ведь если бы и внуки первых людей, которые могли уже брать в жены своих двоюродных сестер, соединились браком с родными сестрами,
Блаженный Августин_______________________________________________________740
то и в таком случае в одном лице соединялись бы уже не два, а три родства, которые должны были бы распределиться между различными отдельными лицами, чтобы соединить между собою общей родственной любовью большее число людей. Ибо один и тот же человек был бы для своих детей, т. е. соединенных супружеством брата и сестры, и отцом, и тестем, и дядей; также и жена его была бы для этих детей и матерью, и теткой, и тещей; дети же их были бы друг для друга не только братьями и супругами, но и двоюродными братом и сестрой, потому что были детьми родных брата и сестры. А между тем, все эти виды родства, которые с одним человеком соединяли трех, если бы были распределены между отдельными лицами, соединили бы с ним девять человек, так что один и тот же человек имел бы одну сестрою, а другую женою, иную же двоюродной сестрою; одного отцом, другого дядей, иного же тестем; одну матерью, другую теткой, иную же тещей. Общежительный союз не был бы, таким образом, ограничен небольшим количеством лиц, а прочными узами родства охватил бы куда более значительное число людей.
С возрастанием и размножением рода человеческого мы замечаем даже в среде нечестивых почитателей многих и ложных богов такое явление: хотя их превратные законы и дозволяют браки между братьями и сестрами, однако же обычай, который лучше законов предпочитает отвращаться от этого дозволения; и хотя в первые времена человеческого рода было дозволено вступать в брак с сестрами, тем не менее отвращение это так велико, как будто этого дозволения никогда и не было. Ибо для того, чтобы к чему–либо привлечь или от чего–либо оттолкнуть человеческое чувство, обычай имеет наибольшую силу. Коль скоро он обуздывает в данном случае неумеренные страсти, справедливо признается нечестием нарушать его и изменять. Ведь если несправедливо из
О граде Божием___________________________________________________________741
жадности к стяжанию переступать полевую межу, то насколько несправедливее ради половой страсти уничтожать границы, установленные нравами? Из опыта нашего времени относительно браков между двоюродными (братьями и сестрами) мы видим, как редко вследствие родства, ближайшего к братскому, допускает обычай то, что дозволяют законы. Ни законом божественным, ни законом человеческим подобные браки не запрещены. Тем не менее, и от дозволенного отвращаются вследствие близкого соприкосновения его с недозволенным; кажется, что совершаемое с двоюродной сестрою совершается почти что с родною, потому что и двоюродные, по причине такого близкого между ними кровного родства, называются также братьями и сестрами и представляются почти родными.
У древних отцов была, впрочем, и другая благочестивая забота: чтобы само родство, расходясь мало–помалу в различных поколениях, не удалилось бы настолько, что перестало бы быть даже родством; и вот, пока оно не сделалось еще слишком далеким, они воссоединяли его узами брака и как бы возвращали удаляющееся. Поэтому и в то время, когда земля была уже полна людей, предпочитали все–таки брать в жены если не сестер по отцу или матери, или по обоим родителям, то, по крайней мере, из своего же рода. Но кто усомнится признать более благопристойным, что в настоящее время запрещены браки даже между двоюродными братьями и сестрами? И это не по тем только соображениям, которые мы изложили, т. е. для расширения свойства, чтобы одно лицо не было родственником вдвойне, когда могло бы быть два родственника и число бы родных увеличивалось; но и потому, что человеческой скромности присуще некоторое необъяснимое, но тем не менее естественное и похвальное свойство, по которому человек в отношении к лицу, к которому он, по причине родства, обязан относиться с почтительным
Блаженный Августин______________________________________________________742
уважением, удерживает свою, хоть и производительную, но все же — похоть, составляющую предмет стыда и для самого супружеского целомудрия.
Итак, совокупление мужа и жены, насколько это касается рода смертных, представляет собою своего рода рассадник града; но град земной нуждается только в рождении, небесный же — и в возрождении, чтобы спастись от порчи рождения. Но был ли, и если был, то каков был телесный и видимый знак этого возрождения до потопа, подобно обрезанию, впоследствии заповеданному Аврааму, об этом священная история умалчивает. О том же, что и древнейшие люди приносили жертвы Богу, она не умалчивает. Это видно из примера двух первых братьев; и о Ное после потопа говорится, что, вышедши из ковчега, он принес жертву Богу (Быт. IV, 3,4; VIII, 20). Относительно этого в предыдущих книгах мы уже говорили, что демоны, усвояющие себе божественное достоинство и желающие, чтобы их считали богами, именно потому и требуют себе жертв и радуются почестям этого рода, что знают: истинная жертва должна быть приносима истинному Богу.
ГЛАВА XVII
Итак, Адам был отцом обоих родов поколений, и тех, ряд которых принадлежал к земному граду, и тех, чей ряд принадлежал к граду небесному. Но после того, как был убит Авель, и в смерти его предуказано было дивное таинство, явились два отца отдельных поколений: в лице Каина и в лице Сифа. На их сыновьях, о которых требовалось упомянуть, стали очевиднее выказываться отличительные признаки этих двух градов в роде смертных. Каин, например, родил Еноха и основал град, названный в его честь, — град, конечно, земной, не странствующий в этом мире, а считающий этот временный мир и его
О граде Божием___________________________________________________________743
счастье конечной для себя целью. Имя Каина значит «владение»; поэтому, когда он родился, его отцом или матерью и было сказано: «Приобрела я человека от Господа». Имя же Енох значит «посвящение»: ибо земной град посвящается там, где создается; потому что здесь та последняя цель, к которой он стремится и которой желает.
Далее, имя Сиф в переводе значит «воскресение», а имя его сына Еноса — «человек»; но не в том смысле, в каком имя Адам. Ибо и имя Адам в переводе значит «человек», но на языке оригинала, т. е. на еврейском языке, употребляется как имя общее как для мужчины, так и для женщины. Ибо о нем было сказано так: «Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек» (Быт. V, 2). Из этого ясно видно, что жена была названа Евою как именем собственным; имя же Адам, означающее «человек», было общим именем их обоих. Имя же Енос обозначает собою человека так, что, по уверению знатоков еврейского языка, им не может быть женщина: он — сын «воскресения», где «ни женятся, ни замуж не выходят» (Лук. XX, 3 5). Ибо там не будет рождения, куда приведет возрождение. Поэтому я считаю небесполезным обратить внимание на то, что в тех поколениях, которые произошли от названного Сифом, когда говорится, что родились сыновья и дочери, то нигде рожденная женщина не называется по имени; в тех же поколениях, которые происходят от Каина, в самом конце, до которого они доводятся, последняя родившаяся женщина названа по имени. Место это читается так: «Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены; имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема» (Быт. IV, 18–22).
Блаженный Августин_______________________________________________________744
Этим заканчиваются поколения Каина, которых от Адама было всего восемь, включая и Адама, т. е. семь поколений до Ламеха, имевшего двух жен, а восьмое поколение составляли его дети, в числе которых упоминается и женщина. Этим превосходно обозначено, что земной град до самого конца своего будет иметь плотские рождения, происходящие от соединения мужей и жен. Поэтому же называются собственными именами и жены этого человека, который упоминается в этом месте, как последний отец; чего, за исключением Евы, нигде не встречается до потопа. Итак, Каин, имя которого означает «владение», основатель земного града, и сын его, во имя которого град был основан, Енох, т. е. «посвящение», — указывают на то, что этот град имеет и начало земное, и конец земной; и что в нем не стремятся ни к чему сверх того, что может представлять собою настоящий век. Противопоставляя ему Сифа, имя которого значит «воскресение» и который выставляется отцом поколений, перечисляемых отдельно, мы должны рассмотреть теперь, что говорит о его сыне священная история. —
ГЛАВА XVIII
«У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа»* (Быт. IV, 26). Свидетельство истины как нельзя более очевидно.
Человек, сын «воскресения», живет упованием: упованием живет, пока странствует в этом мире, град Божий, рождающийся от веры в воскресение Христово. Ибо в этих двух людях: Авеле, имя которого значит «плач», и его брате Сифе, имя которого значит «воскресение», дан образ смерти Христа и жизни Его, У Августина читаем не «тогда начали призывать имя Господа», а «сей (т. е. Енос) уповал призывать имя Господа Бога».
О граде Божием___________________________________________________________745
воскресающей из мертвых. От этой веры рождается в этом мире град Божий, т. е. человек, уповающий призывать имя Господа Бога. «Ибо мы спасены в надежде, — говорит апостол. — Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. VIII, 24, 25).
Кто, в самом деле, не усмотрит здесь глубокого таинства? Разве Авель не уповал призывать имя Господа Бога, когда его жертва, по свидетельству Писания, была так угодна Богу? Или не уповал призывать имя Господа Бога сам Сиф? Зачем же в таком случае приписывается одному Еносу то, что, как предполагается само собою, составляет общую принадлежность всех благочестивых? Зачем, как не для того, чтобы в лице его, которое упоминается первым, происшедшим от отца поколений, приуроченных к лучшей части, т. е. к части града небесного, надлежало показать прообраз человека, т. е. общества человеческого, живущего не по человеку в наслаждении земным счастьем, а по Богу, в уповании вечного блаженства? И ведь не сказано: «Сей уповал на Господа Бога», или: «Сей призывал имя Господа Бога», но: «Сей уповал призывать имя Господа Бога». Что такое «уповал призывать», как не пророчество, что появится народ, который, по избранию благодати, будет призывать имя Господа Бога? Именно это, выраженное другим пророком, относит апостол к стоящему под благодатью Божией народу: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоил. И, 32; Рим. X, 13). Выражение: «Нарек ему имя: Енос», а затем прибавление: «Сей уповал призывать имя Господа Бога», достаточно ясно показывают, что человек не должен полагать надежду свою в самом себе. «Проклят человек, — как говорится в другом месте, — который надеется на человека» (Иер. XVII, 5). Следовательно, он Не Должен надеяться и на самого себя, если хочет быть гражданином другого града, — не того, который посвящается для выгод сына Каинова в настоящее время, т. е. в гибнущее
Блаженный Августин_______________________________________________________746
течение этого смертного века, а того, посвящение которого совершится в будущем бессмертии вечного блаженства.
ГЛАВА XIX
Ибо и то потомство, отцом которого был Сиф, имеет имя посвящения в седьмом поколении от Адама, включая сюда и самого Адама. Седьмым от него был рожден Енох, имя которого значит «посвящение». Этот Енох был взят Богом, потому что угодил Ему, и в порядке поколений занимал знаменательное число, под которым освящена суббота, т. е. седьмое от Адама. Считая же от родоначальника тех поколений, которые отличаются от потомства Каина, т. е. считая от Сифа, он был шестым: в такой по счету день был создан человек, и Бог совершил все дела свои. Взятием на небо этого Еноха была прообразована отсрочка нашего посвящения. Посвящение это уже совершилось в лице Христа, Главы нашей, Который воскрес так, что больше уже не умирал, и Сам был взят на небо: тем не менее, ожидается другое посвящение всего дома, основанием которого служит Христос; последнее отложено к концу, когда все воскреснут и больше уже не умрут. Будет ли сказано: дом Божий, или храм Божий, или же град Божий, — это все равно, и во всяком случае не противоречит свойству латинского языка. Ибо и Вергилий называет властолюбивейший град домом Ассарака, разумея под этим именем римлян, которые ведут свое происхождение от Ассарака через троянцев; и их же называет домом Энея, потому что пришедшие под его предводительством в Италию троянцы основали Рим*. Поэт подражал на этот раз священному Писанию, в котором домом Иакова называется многочисленный народ еврейский.
О граде Божием___________________________________________________________747
ГЛАВА XX
Кто–нибудь скажет: «Если писавший эту историю, упоминая поколения, происшедшие от Адама через сына его Сифа, имел в виду дойти посредством их до Ноя, при котором произошел потоп; а от Ноя, представив новый ряд поколений, дойти до Авраама, от которого евангелист Матфей начинает перечисление поколений, доводящих до Христа, вечного Царя града Божия, то какие были намерения его в отношении к поколениям Каина, до кого или чего он хотел их довести?» Отвечаем: до потопа, которым уничтожен был весь этот род земного града, но потом восстановился от сыновей Ноя. Ведь не мог же не существовать этот земной град и это общество людей, живущих по человеку до конца этого века, о котором Господь говорит: «Чада века сего женятся и выходят замуж» (Лук. XX, 34), рождаются и рождают. Воздержание же приводит странствующий в этом веке град Божий к другому веку, сыны которого не рождаются и не рождают. Ибо в этом веке рождать и рождаться свойственно и тому и другому граду. Хотя град Божий имеет и здесь многие тысячи граждан, воздерживающихся от деторождения, но по некоторому подражанию имеет таких же, хотя и находящихся в заблуждении, и тот град. Ибо к последнему (земному) граду принадлежат и те, которые, уклонившись от этой веры, создали различные ереси; по человеку они живут, а не по Богу. И индийские гимнософисты, которые в пустынях Индии предаются философским упражнениям нагими, суть граждане этого града, но они при этом воздерживаются от рождения детей. Воздержание это не есть благо, если оно происходит не по вере в высшее Благо, Которое есть Бог. До потопа, однако же, мы не Встречаем никого, кто поступал бы так. Сам Енох, Седьмой от Адама, о котором говорится, что он не , а взят, прежде чем взял его Бог, родил дочерей
Блаженный Августин_______________________________________________________748
и сыновей, в числе которых был и Мафусал, вошедший в ряд упоминаемых поколений.
Но почему же в поколениях, происшедших от Ка–1 ина, упоминается так мало преемств, коль скоро их! нужно было довести до потопа, тем более что возраст, предшествовавший возмужалости, не был на–1 столько продолжителен, чтобы люди не могли рож–1 дать детей в продолжение ста и более лет? Ведь если I автор этой книги не имел в виду известного лица, до которого ему необходимо было довести ряд этих поколений, как при перечислении поколений, происшедших от Сифа, имел в виду дойти до Ноя, от которого, в свою очередь, последовал ряд поколений, необходимый для его целей, то какая была нужда пропускать перворожденных сыновей, чтобы дойти до Ламеха, на сыновьях которого, т. е. на восьмом поколении от Адама и на седьмом от Каина, кончается этот ряд поколений? Разве было что–нибудь, начав с чего можно было бы дойти или до Израильского на–1 рода, в котором земной Иерусалим послужил пророческим прообразом небесного града, или до | Христа по плоти, Который «сущий над всем Бог, благословенный во веки» (Рим. IX, 5), есть Создатель и Правитель небесного Иерусалима; когда все потомство Каина было уничтожено потопом? Можно поэтому заключить, что в этом ряду поколений упомянуты были перворожденные.
Почему же в таком случае их так мало? Ведь не могло же их быть столько до потопа, если отцы не уклонялись до столетнего возраста от обязанности рождения детей и если возмужалость не являлась поздно, соразмерно с долголетием тогдашней жизни. Пусть они имели полных тридцать лет, когда начинали рождать детей; тридцать, взятое восемь раз (ибо было восемь поколений, считая Адама и тех, которые рождались от Ламеха), составит двести сорок лет: неужели в оставшееся затем до потопа время они уже не рождали? Какая же была бы в таком случае
О граде Божием___________________________________________________________749
причина, по которой писавший это не захотел упомянуть последующие поколения? Ведь от Адама до потопа по нашим кодексам насчитывается две тысячи двести шестьдесят два года, а по еврейским — тысяча шестьсот пятьдесят шесть. Если мы примем это меньшее число за более вероятное и вычтем из тысячи шестисот пятидесяти шести двести сорок, то разве возможно, чтобы в продолжение тысячи четырехсот с лишком лет, остающихся до потопа, потомство Каина могло уклоняться от рождения?
Тот, кто серьезно задумывается над этим, пусть припомнит, что когда я ставил вопрос, как нужно думать относительно того, что древние люди могли не рождать детей так много лет, то вопрос этот решался двумя способами: или тем, что в соответствии со столь долгой жизнью являлась поздняя возмужалость; или же тем, что дети, упоминаемые в ряду поколений, не были перворожденными, а теми, через которых автор этой книги мог дойти до того, до кого имел в виду дойти, как дошел до Ноя в поколениях Сифа. Так как в поколениях Каина не было такого лица, которое автор должен бы был иметь в виду, чтобы, опуская первородных, дойти до него через тех, которые упомянуты, то остается предполагать позднюю возмужалость, т. е. что лишь прожив более ста лет люди делались взрослыми и способными к рождению детей. При последнем предпошжении порядок поколений через первородных согласуется с упомянутым количеством лет до потопа. Но возможно, что по какой–нибудь особой причине, которая от меня сокрыта, этот град, который мы называем земным, характеризуется рядом поколений, доходящих только до Ламеха и его сыновей; а затем писатель книги уже перестает упоминать остальные поколения, которые могли быть до потопа.
Может быть и такая причина, по которой ряд поколений не был веден через перворожденных (причем уже не будет необходимости предполагать в этих
Блаженный Августин_______________________________________________________750
людях столь поздней возмужалости): град, основанный Каином во имя его сына, Еноха, мог широко рас] пространить и долго удерживать свою власть, не иметь при этом весьма немногих царей, а по одному в известное время, которых царствовавшие рождали в качестве преемников себе. Первым из этих царей мог быть сам Каин; вторым — сын его Енох, в честь которого был основан город, в котором он царствовал; третьим Ирад, сын Еноха; четвертым Мехиаель, сын Ирада; пятым Мафусал, сын Мехиаеля; шестым Ламех, сын Мафусала, но седьмым от Адама через Каина. При этом нет необходимости предполагать, что в управлении заступали место своих отцов перворожденные; могли наследовать те, которые оказывались более заслуживающими царствования по доблести, полезной для земного града, или на кого указывал известный жребий; или же, по некоторому закону о наследовании, заступал место своего отца преимущественно тот, кого отец любил более других сыновей. Потоп же мог случиться во время жизни и царствования самого Ламеха и застать его, что–1 бы погубить и его со всеми другими людьми, кроме тех, которые были в ковчеге. Если предположить, что этих людей разделяло различное по величине количество лет, нечего будет удивляться тому, что по прошествии такого большого количества времени Адама до потопа в том и другом потомстве оказалось не одинаковое число поколений, но в потомстве Ка-| ина — семь, а Сифа — десять; ибо Ламех, как я сказал, был седьмым от Адама, а Ной — десятым. По–1 этому же упомянут не один сын Ламеха, как в предшествующих поколениях, а многие; неизвестно было, кто наследовал бы ему после его смерти, если бы между ним и потопом оставался еще какой–нибудь'] будь промежуток времени для царствования.
Но как бы там ни было, ведется ли ряд поколений Каина через перворожденных или через царей, я т в коем случае не нахожу возможным умолчать о то»
О граде Божием __________________________________________________________751
обстоятельстве, что после Ламеха, который оказался седьмым от Адама, перечислено столько его детей, сколько нужно было для пополнения числа одиннадцать, обозначающего грех. Ибо добавляются три сына и одна дочь. Жены же могут обозначать что–либо другое, а не то, на что теперь считаем нужным обратить внимание. В данном случае речь идет о поколениях; а от кого они произошли, Писание умалчивает. Итак, поелику закон возвещается десятичным числом, откуда и получилось знаменитое Десятисловие, то число одиннадцать, поскольку оно преступает число десять, обозначает собою преступление закона, и потому — грех. Поэтому–то в скинии, которая была как бы подвижным храмом на время путешествия Божьего народа, было велено сделать одиннадцать завес из козьей шерсти (Исх. XXVI, 7). Ибо власяница служит напоминанием о грехах, указывая на козлов, имеющих стать ошуюю. Выражая это власяницею, мы в самоуничижении как бы говорим словами псалма: «Грех мой всегда предо мною» (Пс Ь, 5) Итак, преступное потомство от Адама через Каина оканчивается числом одиннадцать, обозначающим грех; и самое число это заключается женщиною, пол которой положил начало греху, из–за которого мы все умираем. Совершился же грех, чтобы повлечь за собою и похоть плоти, противоборствующую духу, ибо и сама дочь Ламеха, Ноема, в переводе значит «похоть».
В потомстве же Адамовом через Сифа до Ноя указывается десятичное число, выражающее закон. К этому числу присоединяются три сына Ноя; когда же затем один из них пал, получили благословение от отца двое; так что по исключении одного нечестивого и добавлении к общему числу благочестивых сыновей образовалось число двенадцать, сделавшееся знаменательным по числу патриархов и апостолов, как представляющее собою части числа семь, помноженные одна на другую. Ибо трижды четыре
Блаженный Августин_______________________________________________________752
или четырежды три дают это число. Покончив на этом с вопросом, считаю нужным рассмотреть и напомнить то, каким образом эти два племени, которые в различных поколениях своих выразили собою два града, один — земнородных, а другой — возрожденных, — каким образом они впоследствии смешались ; и слились так, что весь род человеческий, за исключением восьми человек, заслужил быть уничтоженным потопом.
ГЛАВА XXI
Но прежде всего обратим внимание на следующее. Когда перечисляются поколения, произошедшие от Каина, то после того, как был упомянут прежде других его потомков тот, во имя которого был основан град, т. е. Енох, присоединяются и остальные до того конца, о котором я говорил, т. е. до того времени, когда весь этот род и все потомство было уничтожено потопом. Когда же из потомков Сифа был упомянут один Енос, то прежде чем перечислить остальных потомков, делается некоторое отступление назад и говорится: «Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их» (Быт. V, 1, 2). Мне кажется, отступление это сделано для того, чтобы отсюда начать снова от Адама хронологию, которую писавший это не хотел вести для земного града: Бог так упоминал о нем, что как бы не принимал его в расчет.
Но почему это возвращение к сказанному уже прежде сделано после того, как упомянут был сын Сифа, человек, уповавший призывать имя Господа Бога, как не потому, что два града эти нужно было охарактеризовать через их представителей: один от убийцы и до убийцы (ибо и Ламех сознается двум своим женам,
О граде Божием ___________________________________________________________753
что он совершил человекоубийство (Быт. IV, 23)); другой — через человека, который уповал призывать имя Господа Бога. Ибо для странствующего в этом мире града Божия все (притом самое существенное при условии настоящей смертности) Дело состоит именно в том, что представлено как добрая черта одного человека, которого родило воскресение убитого. Этот один изображает собою единство всего вышнего града, — единство, хотя еще не исполнившееся, но которое должно исполниться согласно этому предпосланному пророческому прообразу. Итак, сын Каина, т. е. сын владения (какого, как не земного?), будет иметь свое имя в земном граде, который основан в его честь. Он из тех, о которых поется в псалме: «Земли свои они называют своими 0Ме~ нами» (Пс. Х1У1 П, 12). Поэтому их ожидает то, о чем сказано в другом псалме: «Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их» (Пс. ЬХХП, 20). Сын же СяФа> т. е. сын воскресения, будет уповать призывать имя Господа Бога. Это общество людей предызображено в следующих словах: «Я как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков» (Пс. и, 10). Пустой же славы имени, знаменитого на земле, оно не ищет: «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи» (Пс. XXXIX, 5).
Итак, охарактеризовав два града: один, как живущий действительностью этого века, другой — надеждою на Бога, но оба вышедшие из одной общей двери смертности, которая открылась в Адаме, чтобы стремиться к различному, каждому из них свойственному и должному концу, писатель начинает исчисление времен. При этом он переходит к другим поколениям, но сначала повторяет сказанное им прежде об Адаме, из осужденного потомства которого, как бы из одной массы, преданной заслуженному наказанию, Бог сотворил одни сосуды гнева не
Блаженный Августин______________________________________________________754
в честь, другие же сосуды в честь; тем воздавая должное в наказании, этим даруя недолжное по благодати так, чтобы по самому сравнению с сосудами гнева Божия вышний, странствующий на земле град мог научиться, что не должно полагаться на свободу собственной воли, но уповать призывать имя Господа Бога. Ибо свободная воля, хотя по природе сотворена доброю добрым Богом, но сотворена изменяемою Неизменяемым; потому что сотворена из ничего. Она поэтому и может отклоняться от добра, чтобы творить зло, которое зависит от свободного произвола; равно и отклоняться от зла, чтобы творить добро, которое не совершается без божественной помощи.
ГЛАВА XXII
В силу этого–то свободного произвола воли, с постепенным движением вперед и размножением человеческого рода, произошло слияние, а вследствие соучастия в нечестии — и некоторое смешение того и другого градов. И на этот раз зло имело свою причину в женском поле: но не так, как в начале В это время жены склонили мужей к греху не вследствие того, что сами были обольщены чьим–либо обманом; но с самого начала испорченные нравственно в земном граде, т е. в обществе сынов земли, они возбудили к себе любовь в сынах Божиих, т. е. в гражданах другого, странствующего в этом веке града, своею телесной красотой. Хотя красота эта и есть дар Божий, но она дается и злым, чтобы добрые не считали ее великим благом.
И вот, высшее благо, свойственное только добрым людям, было оставлено: совершилось падение к благу меньшему, не исключительно свойственному одним добрым, а общему и добрым, и злым. Сыны Божий увлеклись вследствие этого любовью к дочерям человеческим; и чтобы иметь их супругами,
О граде Божием__________________________________________________________ 755
склонились к нравам земного общества, оставив благочестие, которое соблюдали в обществе святом (Быт. VI, 2, 3). Ибо любовь к красоте телесной, которая хотя и есть благо, сотворенное Богом, но благо временное, плотское и низшее, — злая любовь, коль скоро она ставит ниже ее Бога, вечное, внутреннее и всегдашнее Благо; так же точно, как любовь к золоту скупцов, забывших справедливость не по какой–либо вине золота, а по вине человеческой. Так бывает это и в отношении ко всякой твари. Будучи доброй, она может быть любима и хорошо, и дурно: хорошо, когда соблюдается порядок; дурно, если он нарушен. Я коротко выразил это в стихах в похвалу Светочу:
Это — Твое, это — благо, Тобою, благим,
сотворенное; Что нашего есть в нем, помимо греха, коль Теб
забывая И нарушая порядок, к твореньям Твоим прилепляемся?
Любовь же к Создателю, если она истинная, т. е. если любят Его самого, а не что–либо другое вместо Него, не может быть любовью злою. Ибо и саму любовь должно любить, соблюдая известный порядок, чтобы хорошо любить то, что следует любить; чтобы она была в нас добродетелью, делающею жизнь доброй. Поэтому мне представляется кратким и верным такое определение добродетели: она есть порядок в любви. Почему в святой Песне Песней невеста Христа, град Божий, поет: «Знамя его надо мною — любовь» (Песн. II, 4). Итак, когда сыны Божий нарушили порядок этой соединенной с уважением любви, они пренебрегли Богом и предпочли дочерей человеческих. Двумя именами этими достаточно различаются оба града. И они были сынами человеческими по природе, но получили другое имя по благодати. Ибо в том же Писании, где говорится, что сыны Божий
Блаженный Августин_______________________________________________________756
полюбили дочерей человеческих, они же называются и ангелами Божиими Поэтому многие думают, что это были не люди, а ангелы.
ГЛАВА XXIII
Мы оставили нерешенным упомянутый мимоходом в третьей книге этого сочинения вопрос, могли ли ангелы, как духи, вступать в телесное совокупление с женщинами? В Писании говорится: «Ты творишь ангелами Твоими духов» (Пс. СШ, 4), т. е. тех, которые по природе суть духи, Он творит своими ангелами, возлагая на них обязанности вестников. Ибо греческое слово аууе^о^, выговариваемое с латинским окончанием апдеШз, в переводе на латинский язык значит вестник. Но упоминаются ли вслед за тем тела их, когда говорится: «Служителями Твоими — огонь пылающий», или же имеется в виду, что слуги Его должны пылать любовью, как бы духовным огнем, — об этом можно думать и так, и иначе. А что ангелы являлись людям в таких телах, что их можно было не только видеть, но и касаться, об этом свидетельствует Писание с полной несомненностью. Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами или слышали от тех, которые испытали и в правдивости которых нельзя сомневаться, что сильваны и фавны, которых в просторечии называют инкубами, часто являются сладострастникам и стремятся вступать и вступают с ними в связь; очень многие, и притом такие, что сомневаться в сказанном ими не приходится, также уверяют, будто некоторые демоны, которых галлы называют дузиями, весьма склонны к этой нечистоте и постоянно ей предаются.
Тем не менее, на основании этого я не решусь дать какого–нибудь определенного заключения относительно того, могут ли какие–либо духи, имеющие тела
О граде Божием ___________________________________________________________757
из воздушной стихии (ибо и эта стихия, когда приводится в движение опахалом, подлежит чувству и телесному осязанию), испытывать такого рода похоть, чтобы вступать так или иначе в связь с женщинами, ощутительную для последних. Но что касается святых ангелов Божиих, то я никогда не поверю, чтобы они могли в то время так пасть. Апостол Петр не о них говорил: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (II Пет. II, 4), а скорее о тех, которые с самого начала, отступив от Бога, пали вместе со своим главою, дьяволом, из зависти змеиною хитростью низвергшим первого человека. Ангелами же назывались и люди Божий, как свидетельствует о том с полной ясностью то же священное Писание. Ибо и об Иоанне написано: «Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Марк. I, 2). И пророк Малахия вследствие некоторой исключительной, т. е. ему лично усвоенной благодати, назван ангелом (Мал. II, 7).
Но некоторых озадачивает то обстоятельство, что от этих так называемых ангелов Божиих и от жен, которых они полюбили, родились люди как бы не нашего рода, а гиганты. Как будто человеческие тела, по размерам своим далеко превосходящие нашу меру, не рождаются, как я уже говорил выше, и в наши времена. Разве несколько лет тому назад, незадолго перед опустошением Рима, произведенным готами, не жила в Риме с отцом и матерью женщина, которая в своем роде гигантским телом далеко превосходила других? Чтобы посмотреть на нее, отовсюду стекалось множество народа. А что особенно возбуждало удивление, так это то, что родители ее не были даже такого высокого роста, какой мы привыкли считать самым высоким. Гиганты поэтому могли рождаться и прежде, чем сыны Божий, которые называются и ангелами Божиими, смешались с дочерьми человеческими, т. е. с дочерьми живущих по человеку; т. е. сыны Сифа
Блаженный Августин______________________________________________________758
с дочерьми Каина. Ибо так говорит и каноническое Писание, в котором мы это читаем. Вот его слова: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божий стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди» (Быт. VI, 1–4).
Эти слова божественной книги достаточно ясно показывают, что гиганты были уже на земле в то время, когда сыны Божий стали брать себе в жены дочерей человеческих, потому что полюбили их за их красоту. Продолжали рождаться гиганты, впрочем, и после того, как это случилось. Ибо так сказано: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божий стали входить к дочерям человеческим». Следовательно, они были и до этого времени, и после. Выражение же: «И они стали рождать им», недвусмысленно указывает, что сыны Божий, прежде чем пали таким образом, рождали Богу, а не себе; т. е. не вследствие господства над ними половой страсти, а выполняя обязанности деторождения; рождали не семью — предмет собственной гордости, а граждан града Божия, которым потом, как ангелы Божий, возвещали, чтобы они возлагали свою надежду на Бога, подобно тому, который был рожден от Сифа, сыну воскресения, уповавшему призывать имя Господа Бога. В силу этого упования они были своим потомкам сонаследниками вечных благ и братьями своих сыновей под властью одного Отца — Бога.
Что они не были ангелами так, чтобы не быть людьми, как думают некоторые, но что, несомненно, были
О граде Божием __________________________________________________________759
людьми, об этом ясно говорит само Писание. Ибо после предварительных слов: «Сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал», тотчас же прибавлено: «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть». Благодаря Духу Божию они были ангелами Божиими и сынами Божиими; но когда уклонились к худшему, стали называться людьми, именем природы, а не благодати. Называются они и плотью, потому что оставили дух, и по оставлении были, в свою очередь, оставлены Духом. Семьдесят толковников также называют их и ангелами Божиими, и сынами Божиими; что, впрочем, встречается не во всех кодексах, а в некоторых они называются только сынами Божиими. Аквила же, которого, как переводчика, иудеи ставят выше остальных, называет их в своем переводе не ангелами Божиими и не сынами Божиими, а сынами богов. И то и другое, впрочем, верно. Они действительно были и сынами Бога, под отеческою властью Которого были братьями своих отцов; и сынами богов, потому что были рождены богами, с которыми вместе и сами были богами, согласно известному изречению псалма: «Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс. ЬХХХ1, 6). Но не без основания полагают, что Семьдесят толковников получили пророческий дух, так что, если они властью его что–либо изменили и сказали иначе, чем это было в книгах, которые они переводили, то это, несомненно, сказано ими по божественному внушению; хотя бы на еврейском языке оно было выражено и двусмысленно, так что могло быть переведено и сыны Бога, и сыны богов.
Мы опустим басни тех писаний, которые называются апокрифами, потому что их темное происхождение не было известно отцам, от которых путем вполне верного и несомненного преемства подлинный текст истинных писаний дошел и до нашего времени.
Блаженный Августин_______________________________________________________760
Хотя в этих апокрифах и встречается кое–что истинное, но по причине множества лжи за ними не признается никакого канонического авторитета. Нельзя, впрочем, отрицать, что Енох, седьмой от Адама, написал нечто божественное; об этом говорит в соборном послании апостол Иуда. Но написанного им не находится в том каноне Писаний, который сохранился в храме еврейского народа заботливостью преемствовавших друг другу священников: очевидно, что по причине древности достоверность этого (писания) была признана подозрительной и нельзя было уяснить, было ли это именно то, что он писал, ибо в данном случае преемственность сохранявших их надлежащим образом лиц была прервана (потопом).
Поэтому–то, распространяемое под именем Еноха и содержащее басни о гигантах такого рода, будто отцами их были не люди, по справедливому мнению людей разумных не должно быть приписываемо ему; ибо подобным образом и под именем других пророков, а в позднейшее время под именами и апостолов, распространялось еретиками много такого, что при тщательном исследовании было исключено из числа канонических книг под именем апокрифов. Итак, по каноническому писанию, как еврейскому, так и христианскому, представляется несомненным, что до потопа было много гигантов, и что они были гражданами земнородного общества людей; сыны же Божий, которые произошли по плоти от Сифа, уклонились в это общество, оставив правду. Не будет, впрочем, ничего удивительного, если и от них могли рождаться гиганты. Не все, конечно, были в то время гигантами; но во всяком случае их было тогда гораздо больше, чем в дальнейшие времена после потопа. Творцу было угодно создать их для того, чтобы показать, что не только красота, но и величина и крепость тела не должна быть высоко ценима мудрым, блаженство которого заключается в благах духовных и
О граде Божием ___________________________________________________________761
бессмертных, далеко лучших, более постоянных и свойственных только добрым, а не в благах, общих для добрых и злых.
ГЛАВА XXIV
А что Бог сказал: «Пусть будут дни их сто двадцать лет», это следует понимать не в том смысле, будто бы было предвозвещено, что людская жизнь после того не будет продолжаться более ста двадцати лет. Встречаются и после потопа жившие до пятисот лет. Нужно понимать так, что Бог сказал это в конце пятой сотни лет жизни Ноя, т. е. когда он прожил четыреста восемьдесят лет, что Писание по обычаю своему называет пятьюстами, обозначая именем целого большую его часть, ибо на шестисотом году жизни Ноя, во второй месяц произошел потоп. Предсказанные сто двадцать лет жизни людям, имевшим погибнуть, были тем сроком, по истечении которого они должны были быть уничтоженными потопом. Не без основания не верится, чтобы потоп произошел так, что уже не было на земле людей, которые не были бы достойны избежать смерти, которая назначена была в наказание нечестивым, добрым, которые должны были когда–нибудь умереть, не мог какой бы то ни было род смерти сделать ничего такого, что могло бы повредить после смерти. Тем не менее, от потопа не умер ни один из тех, о которых священное Писание говорит, что они произошли от семени Сифа. Причина же потопа от лица Божия разъясняется так: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. VI, 5—7).
Блаженный Августин_______________________________________________________762
ГЛАВА XXV
Гнев Божий не есть волнение Духа Божия, но суд, которым налагается наказание за грех. Помышление же и размышление Божие есть неизменная причина вещей, подлежащих изменению. Бог не раскаивается в каком–нибудь поступке, как человек: Его суждение о всех вообще вещах так же твердо, как верно Его предвидение. Но если бы Писание не употребляло таких выражений, оно не говорило бы так близко сердцу всякого рода людей, для которых оно предназначено быть соведателем, чтобы устрашать гордых, возбуждать нерадивых, упражнять исследующих и давать пищу понимающим; этого оно не могло бы делать, если бы предварительно само не склонилось и некоторым образом не снизошло к слабым. А что возвещается гибель даже всем земным животным и птицам, то этим указывается на величину предстоящего бедствия, а отнюдь не выражается угроза гибелью лишенным разума животным, как будто бы и они согрешили.
ГЛАВА XXVI
Далее, то, что Ною, человеку праведному и, как выражается о нем на своем правдивом языке Писание, «непорочному в роде своем» (Быт. VI, 9) (не так, разумеется, непорочному, как будут непорочны граждане града Божия в том бессмертии, которым они сравняются с ангелами Божиими, но так, как могут быть они непорочны в этом своем странствии), Бог повелел сделать ковчег, в котором бы он со всеми своими, т. е. с женой, сыновьями и невестками, а также и с животными, которые вошли к нему в ковчег по заповеди Божией, мог спастись от потопа, — то, без всякого сомнения, служит образом
О граде Божием ___________________________________________________________763
странствующего в этом веке града Божия, т. е. Церкви, получившей спасение посредством дерева, на котором был распят «посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (I Тим. II, 5). Ибо и размеры ковчега, его длина, высота и ширина, являются образом человеческого тела, облеченный в истинную природу которого должен был прийти к людям Обетованный, и пришел. Длина человеческого тела от темени до подошв в шесть раз больше его ширины от одного бока до другого, и в десять раз больше высоты, которая измеряется от спины до живота; или, если измерять человека в лежачем положении, обращенного лицом вверх или вниз, то длина его от головы до ног в шесть раз больше, чем ширина его груди справа налево или слева направо, и в десять раз больше, чем высота от земли.
Соответственно этому и ковчег был сделан в триста локтей длины, пятьдесят ширины и тридцать высоты. Дверь же, которую он имел сбоку, есть, конечно, не что иное, как та рана, которая произошла от прободения копьем бока Распятого на кресте (Иоан. XIX, 34): ибо этою дверью входят приходящие к Нему, так как из нее истекают таинства, которыми освящаются верующие. А что ковчег велено было построить из деревьев четвероугольных, показывает во всех отношениях непоколебимую жизнь святых: какой бы стороной не повернуть квадрат, он будет стоять. Так же точно и все остальное, что говорится об устройстве этого ковчега, обозначает собою относящееся к Церкви. Но было бы слишком долго подробно останавливаться на этом в данном случае. Я сделал уже это в сочинении, которое написал против Фавста манихея*, утверждающего, будто в еврейских книгах нет пророчеств о Христе. Может, впрочем, статься, что кто–нибудь и нам, а другой другому объяснит это более удачно: лишь бы только все, что говорится в
Блаженный Августин_______________________________________________________764
Писании, было отнесено к тому граду Божию, о котором у нас речь, странствующему в этом лукавом веке, как бы в потопе; если объясняющий не хочет уклониться слишком далеко от мысли того, кто это описал.
Например, кто–нибудь слова Писания: «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье»* (Быт. VI, 16), может понимать не так, как я объяснил их в упомянутом сочинении», т. е. поскольку Церковь собирается из всех народов, то названа двухкровною ради двух родов людей, т. е. обрезания и необрезания, которых апостол называет иначе иудеями и эллинами (Рим. III, 9); трехкровною же потому, что все племена восстановлены были после потопа от трех сыновей Ноя; но может сказать что–либо другое, что не будет чуждо правилам веры. Например: так как Бог желал, чтобы ковчег имел помещения не только внизу, но и вверху, и поэтому назвал последние двухкровными, а над верхними еще высшие, и эти назвал трехкровными; то как бы снизу вверх подымались и те три: вера, надежда и любовь, о которых говорит апостол (I Кор. XIII, 13). Может быть, даже с гораздо большею сообразностью в данном случае следует усматривать троякую евангельскую плодородность: тридцатую, шестидесятую и сотую (Мф. XIII, 8); так что в самом низу место для целомудрия супружеского, выше — для вдовьего, и еще выше — для девственного. Может тут быть и что–либо другое, лучшее, представлено и сказано соответственно вере этого града. То же я скажу и об остальном, что здесь будет изложено: хотя бы оно и не объяснялось одним и тем же образом, оно должно быть, однако же, согласовано с католической верой.
' У Августина: «Двухкровное и трехкровное жилье». «1лЬ.ХИ,сар 16.
О граде Божием ___________________________________________________________765
ГЛАВА XXVII
Но никто не должен думать, будто бы все это было написано с целью обмана; или же, что в рассказе нужно искать только истину историческую, без всяких аллегорических значений; или, напротив, что всего этого в действительности не было, а что это только одни словесные образы; или же, что все это, каково бы оно ни было, не содержит никакого пророчества о Церкви. Только человек с совершенно превратным умом станет утверждать, будто могли быть делом праздного упражнения книги, которые в течение тысяч лет сохранялись с таким благоговением и под таким наблюдением в определенном порядке преемства сменявших друг друга лиц; или же, что в них в данном случае нужно видеть только историю. Для примера, чтобы опустить остальное: если требовалась такая величина ковчега из–за большого количества животных, то что вынуждало ввести нечистых животных по две пары, а чистых — по семь пар, когда могли быть сохранены и те и другие при одинаковом их количестве? Притом разве Бог, который повелел сохранить их для восстановления рода, не мог восстановить их так же, как создал?
Те же, которые утверждают, что это совсем не события, а только образы для обозначения других вещей, прежде всего считают невозможным такой большой потоп, чтобы вода, постепенно прибывая, покрыла высочайшие горы на пятнадцать локтей, и указывают на вершину горы Олимп, над которой, как утверждают, не могут образовываться облака, потому что она так высока, как небо, и оттого воздух на ней не настолько густ, чтобы могли появляться ветры, облака и дожди. Но они упускают из виду, что может же быть там земля, самая тяжелая из всех стихий. Разве будут они отрицать, что вершина горы состоит из земли? На каком же основании они утверждают, что земля могла подняться в эти небесные
Блаженный Августин_______________________________________________________766
пространства, а вода — не могла, когда эти же самые мерятели и взвешиватели стихий говорят, что вода и выше и легче земли? Какую могут привести они разумную причину, по которой бы земля, более тяжелая и низменная, могла занимать тихие пространства неба в течение стольких лет, а воде, более легкой и высокой, нельзя было сделать этого даже на короткое время?
Говорят также, что ковчег такой величины не мог вместить так много родов животных обоего пола, и притом нечистых по две пары, а чистых — по семь (Быт. VII, 2). На мой взгляд, говорящие так принимают в расчет только его триста локтей в длину и пятьдесят в ширину; но не принимают в соображение, что столько же локтей было в верхнем ряду и столько же в еще высшем, и что поэтому локти эти, взятые три раза, составят девятьсот и сто пятьдесят. А если представить себе, как весьма удачно заметил Ориген», что Моисей, т. е. человек Божий, который, по словам Писания, «научен был всей мудрости» египтян (Деян. VII, 22), любивших геометрию, мог показывать размеры в геометрических локтях, которые, как утверждают, были в шесть раз больше наших, то кто не увидит, какое множество вещей могло вместиться в таком обширном пространстве? Те же, которые утверждают, будто ковчег такой огромной величины не мог быть построен, клевещут самым нелепым образом, ибо им хорошо известно, что построены были огромнейшие города, и не обращают внимания на те сто лет, в течение которых строился этот ковчег. Если камень может пристать к камню, будучи соединен одной известью, так что из множества тысяч их образуется городская стена, то почему бы дерево не могло быть соединено с деревом при помощи лап, шипов, гвоздей и смоляного клея, чтобы мог быть построен ковчег не криволинейной, а прямолинейной формы,
О граде Божием ___________________________________________________________767
больших размеров в длину и ширину, — ковчег, которого не требовалось спускать в море никакими человеческими усилиями, но который по естественному закону тяжести должна была поднять подошедшая волна и который во время плавания должен был управляться, чтобы не подвергнуться крушению, скорее провидением Божиим, чем человеческим мастерством.
Что же касается мелочных вопросов, которые обыкновенно задаются относительно ничтожнейших животных, не только таких, как мыши и ящерицы, но и таких, как саранча, жуки, мухи и, наконец, блохи: дескать, не были ли они в ковчеге в большем количестве, чем то, какое было назначено повелением Божиим; то тем, кого занимают подобные вопросы, нужно прежде всего напомнить, что выражение «пресмыкающихся по земле» (Быт. VI, 20) следует понимать в том смысле, что не было необходимости сохранять в ковчеге тех животных, которые могут жить не только в воде, погруженные в нее, как рыбы, но и на воде, плавая сверху ее, как многие крылатые. Затем, когда говорится: «Мужеского пола и женского пусть они будут» (Быт. VI, 19), то этим очевидно указывается, как на цель, на возобновление рода. Поэтому в ковчеге не было необходимости находиться таким маленьким животным, которые могут рождаться без полового совокупления из каких–нибудь вещей или вследствие порчи вещей; а если они там были, как бывают обыкновенно в дома? то могли быть безо всякого определенного числа.
Если же совершавшееся в этом священнелшее таинство и дававшийся образ такой высокой важности не мог осуществиться в действительности иначе, как при условии, что все, что не может жить по природе в воде, будет находиться в ковчеге в упомянутом определенном числе, то это было заботой не этого человека или этих людей, а божественной. Ной не ловил, чтобы вводить, а впускал приходивших и входивших.
Блаженный Августин_______________________________________________________768
Именно такой смысл имеет сказанное: «Войдут к тебе» (Быт. VI, 20), т. е. войдут не по действию человеческому, а по мановению Божию; притом так, что между ними не следует представлять таких, которые не имеют пола. Предписано и выражено определенно: «Мужеского пола и женского пусть они будут». Ибо есть такие животные, которые рождаются из каких–либо вещей без полового совокупления! потом же совокупляются и рождают, каковы, напри-] мер, мухи. Есть и такие, между которыми нет самцон и самок, как, например, пчелы. Такие, далее, которые имеют пол, но так, что не рождают детей, каков* мулы, едва ли могли быть там, ибо было вполне достаточно, чтобы там были их родители, т. е. лошадиная и ослиная порода; то же нужно сказать и о других животных, которые производят какой–нибудь новый род вследствие смешения различных пород.1 Но если и это относилось к тайне, то и они были там.| Ибо и эта порода имеет мужской и женский пол.
Некоторых даже занимает вопрос, какую пищу могли иметь там животные, которые, как думают,! питаются только мясом: были ли взяты туда без на-| рушения повеления сверх указанного числа животные, которых необходимость требовала взять в пищу другим; или же, чему скорее можно поверить, и без мяса могла быть другая пища, пригодная для всех. Ибо мы знаем, что очень многие животные, которым пищей служит мясо, питаются овощами и плодами, а особенно — фигами и каштанами В таком случае что же удивительного, если этот мудрый и праведный | муж, и притом по божественному внушению, и без | мяса приготовил в запас годную и сообразную каждой породе пищу? Есть ли что–нибудь такое, что не заставил бы есть голод? Или чего не может сделать приятным и полезным Бог, Который мог с божественною легкостью сделать, чтобы они жили даже и без пищи, если бы и само питание их не требовалось для пополнения прообраза великого таинства?
О граде Божием ___________________________________________________________769
А что такие многочисленные исторические знамения не имели целью служить прообразами Церкви, это может утверждать только человек, погрязший в своей любви к пустым пререканиям. Ибо уже и в настоящее время народы, и притом как чистые, так и нечистые, так наполнили Церковь и в такой держатся между собою связи ее единством, что в силу одного этого яснейшего факта нельзя сомневаться и в остальном, что сказано несколько темнее и потому труднее для понимания. Если это так, если даже тупоумный не осмелится утверждать ни того, что это было написано из праздности; ни того, что эти события, произойдя в действительности, ничего не означали; ни того, что это были только словесные аллегории, а совсем не события, — то нельзя с уверенностью утверждать, что все это не служило к обозначению Церкви; скорее следует думать, что все это и мудро запомнено и записано, и действительно совершилось, и обозначает нечто, и это нечто служит прообразом Церкви. Доведя книгу до этого пункта, нужно закончить ее, чтобы потом в событиях, совершившихся после потопа, проследить дальнейшую судьбу обоих градов: земного, живущего по человеку, и небесного, живущего по Богу.
Блаженный Августин_______________________________________________________770
КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Трудно в словах Писания найти ясные следы дальнейшей судьбы святого града после потопа: продолжал ли он свое существование, или оно было прервано промежуточным периодом нечестия так, что не оставалось между людьми ни одного почитателя истинного Бога. После Ноя, удостоившегося с женою, тремя сыновьями и столькими же невестками спастись в ковчеге от истребления потопом, мы не встречаем в канонических книгах до Авраама ни одного человека, благочестие которого было бы выставлено на вид божественным словом с несомненною ясностью. Только Ной в пророческом благословении одобрил двух сыновей своих, Сима и Иафета, созерцая и предвидя то, что должно случиться в отдаленном будущем. Соответственно этому и своего среднего сына, т. е. младшего по отношению к первородному и старшего по отношению к самому меньшему, который согрешил против отца, он проклял не самого, а через него сына его, своего внука, следующими словами: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. IX, 25). Ханаан этот был рожден Хамом, который не только не прикрыл наготы спящего отца, но даже поспешил разгласить о ней. Продолжая речь, он присоединил благословение двум своим сыновьям, старшему и меньшему, говоря: «Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых» (Быт. IX, 26, 27). Все это: и насаждение Ноем винограда, и опьянение его
О граде Божием __________________________________________________________771
от плодов этого винограда, и обнажение во время сна, и все прочее, что затем случилось и описано, исполнено пророческого смысла и весьма сокровенно.
ГЛАВА II
Но в настоящее время, когда все это уже исполнилось в потомстве, скрытое прежде сделалось достаточно ясным. Кто, вникая в дело тщательно и разумно, не признает исполнения этого в лице Христовом? Ибо Сим, от семени которого родился по плоти Христос, в переводе значит «именитый». А кто именитее Христа, имя Которого повсюду столь славно, что само пророчество сравнивает Его с «разлитым миром» (Песн. 1,2)? В «шатрах» же Его, т. е. в Церкви, обитает широта языков. Ибо Иафет в переводе значит «широта». Хам же, имя которого в переводе значит «горячий», средний сын Ноя, отличаясь от того и другого и держась между тем и другим, не примыкая ни к начаткам израильтян, ни к избыточности языков, что другое означает, как не род еретиков, пылающий не духом мудрости, а нетерпением, которым обыкновенно воспламеняются страсти еретиков и возмущают мир святых? Последнее, впрочем, обращается в пользу преуспевающим, согласно известному изречению апостола: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, чтобы открылись между вами искусные» (I Кор. XI, 19). Почему и говорится в Писании: «Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — сын беспутный» (Притч. X, 5). Ибо многое, относящееся к католической вере, в то самое время, как подвергается она нападениям со стороны беспокойной горячности еретиков, с целью возможной защиты против них и тщательнее исследуется, и яснее понимается, и настойчивее проповедуется.
Блаженный Августин______________________________________________________772
Впрочем, в среднем сыне Ноя можно не без основания видеть прообраз не только тех, которые отделились открытым образом, но и всех, которые носят имя христиан, но живут весьма дурно: исповеданием своим они возвещают страдания Христовы, символом которых была нагота того человека (Ноя), а дурною своею жизнью бесчестят их. О таких сказано: «По плодам их узнаете их» (Мф. VII, 20). Поэтому Хам был проклят в сыне своем, как в плоде, т. е. в произведении своем. Соответственно этому и имя сына его, Ханаана, в переводе значит «движение их»: что это, как не дело их? Сим же и Иафет, как «обрезанные и необрезанные», или, как иначе называет их апостол, «иудеи и эллины», званные и оправданные, узнав о наготе отца, означавшей страдания Спасителя, взяв одежду, возложили ее на свои спины, вошли «задом», прикрыли наготу отца и не видели того, что из уважения прикрыли (Быт. IX, 23). В страданиях Христовых мы известным образом и чтим то, что за нас совершено, и отвращаемся злодейства иудеев. Одежда означает таинство, а спины — воспоминание о прошлом; потому что в то время, когда Иафет уже вселился в шатры Симовы, а злой брат все еще обращается между ними, Церковь уже празднует совершившиеся страдания Христовы, а не ожидает их, как еще имеющие совершиться.
Но злой брат в лице своего сына, т. е. своими действиями, служит рабом для братьев добрых, когда добрые с умением пользуются злыми или для упражнения в терпении, или для преуспеяния в мудрости. Есть, по свидетельству апостола, такие, которые «проповедуют Христа нечисто». Но, говорит он, «как бы ни проповедали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Филип. 1,16, 18). Он ведь и возрастил тот виноград, о котором говорит пророк: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев» (Ис. V, 7). Он пил и от вина его: разумеется ли в этом случае та чаша, о которой Он говорил:
О граде Божием__________________________________________________________773
«Можете ли пить чашу, которую Я буду пить» (Мф. XX, 22); и еще: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. XXVI, 39), под которою Он разумел страдания Свои; или, поскольку вино есть плод винограда, этим обозначается то, что Он от самого винограда, т. е. от поколения израильтян принял ради нас плоть и кровь, чтобы иметь возможность пострадать. «Выпил», т. е. пострадал; «лежал обнаженным», потому что в этом случае обнажилась, т. е. обнаружилась та немощь Его, о которой говорит апостол: «Он и распят в немощи» (II Кор. XIII, 4). Поэтому тот же апостол говорит: «Немощное Божие сильнее человеков» (I Кор. I, 25). А то, что после слов «лежал обнаженным» Писание прибавляет «в шатре своем» (Быт. IX, 21), превосходно показывает, что Он должен был претерпеть крест и смерть от народа своей плоти и от домашних своей крови, т. е. от иудеев. Люди негодные возвещают эти страдания Христовы только внешним образом, звуками голоса: они не понимают того, что возвещают. Люди же добрые содержат это великое таинство во внутреннем человеке, и внутри, в сердце чтут немощное и немудрое Божие, которое сильнее и мудрее человеков. Образ этого (мы видим) в том, что Хам, выйдя, возвестил об этом вне; а Сим и Иафет, чтобы прикрыть, т. е. почтить это, вошли, т. е. сделали это внутри.
Эти тайны божественного Писания мы отслеживаем, как можем, то более, то менее сходно друг с Другом; но твердо держимся одного: что совершившееся и написанное должно в качестве известного прообраза соотноситься с Христом и Его Церковью, которая есть град Божий. О граде этом с самого начала рода человеческого не было недостатка в предсказаниях, исполнение которых сейчас мы видим на Деле. После сказания о благословении Ноем двух сыновей и о проклятии третьего, среднего между ними, До самого Авраама, т. е. более чем за тысячелетний период, не упоминается ни один праведник, который бы
Блаженный Августин_______________________________________________________774
благочестиво чтил Бога. Не думаю, чтобы таких не было; просто было бы слишком долго упоминать их всех. Последнее соответствовало бы целям историческим, но не целям пророческим.
Писатель этих священных книг, или, вернее, через него Дух Святый, рассказывает лишь то, что представляет собою не только повествование о прошлом, но и предсказание о будущем, и все это относится в конце концов к граду Божию, потому что и все то, что говорится там о людях, не являющихся гражданами этого града, говорится с той только целью, чтобы он возвысился или лучше обозначился благодаря сравнению его с противоположным ему градом. Не все, впрочем, рассказываемые события следует считать непременно имеющими какое–либо значение; но и не имеющие никакого значения присоединяются ради того, что значение имеет. Земля, например, взрыхляется одним сошником; но чтобы это могло произойти, необходимы и другие составные части плуга. Равным образом, в цитрах и других такого рода инструментах приспособлены для игры одни только струны; но чтобы они могли прозвучать, в состав инструментов входят и другие части, по которым играющие не ударяют, но с которыми связаны те, которые звучат от удара. Так и в пророческой истории рассказывается нечто и ничего само по себе не значащее, но некоторым образом связанное с тем, что имеет значение.
ГЛАВА III
Итак, рассмотрим теперь поколения сыновей Ноевых, и что окажется нужным сказать о них, внесем в это сочинение, в котором излагается постепенное развитие того и другого градов, т. е. земного и небесного. Писание начинает с меньшего сына, названного Иафетом. Всех сыновей его названо восемь, а внуков от двух
О граде Божием __________________________________________________________775
его сыновей — семь: три от одного, четыре от другого; всего, таким образом, названо пятнадцать. Сыновей же Хама, т. е. среднего сына Ноя, названо четверо, внуков от одного сына — пятеро и правнуков от одного внука — двое; всего, следовательно, одиннадцать. По исчислении их делается как бы возврат к началу, и говорится: «Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах, и Ре–сен между Ниневиею и между Калахом; это город великий» (Быт. X, 8— 12).
Этот Хуш, отец исполина Нимрода, был назван первым в числе сыновей Хама, и перечислены уже были его пять сыновей и два внука. Возможно, что исполина он родил после рождения внуков своих; но вероятнее, что Писание говорит о нем отдельно по причине его особой знаменитости; так как упоминается и царство его, началом которого был знаменитейший город Вавилон и упоминаемые вслед за ним города или области. Сказанное же об Ассуре, что он вышел из той земли, т. е. из земли Сеннаар, и построил Ниневию с другими городами, которые при этом упоминаются, случилось гораздо позже, и замечено мимоходом по причине знаменитости царства Ассирийского, которое было чрезвычайно распространено Нином, сыном Бела, основателем великого города Ниневии. От его имени получил название и город, так как название Ниневии происходит от имени Нин. Ассур же, от которого получили название асси–Риицы, не был из числа сыновей Хама, среднего сына ева, но из числа сыновей Сима, бывшего старшим В Дом Ноя. Из этого видно, что из потомства Симо появились такие, которые впоследствии овладели рством упомянутого исполина, и на этом не остановились,
Блаженный Августин_______________________________________________________776
а основали другие города, в числе которых была и славная Ниневия.
Затем бытописатель возвращается к другому сыну Хама, называвшемуся Мицраимом, и упоминаются родившиеся от него, но уже не отдельные люди а целых семь народов. От шестого из них, как бы от шестого сына, представляется происшедшим народ, который назывался филистимлянами, почему всех народов оказывается восемь. Затем писатель возвращается к Ханаану, к тому сыну, в лице которого был проклят Хам; упоминает одиннадцать от него происшедших и говорит, называя известные города, о пределах, до которых они распространились. Таким образом, считая сыновей и внуков, в потомстве Хамовом насчитывается тридцать один человек.
Остается сказать о сыновьях Сима. Повествование об упомянутых поколениях, начав с самого меньшего, постепенно дошло и до него. Но в том месте, с которого начинают упоминаться сыновья Сима, оказывается некоторая темнота, требующая разъяснения, тем более что имеет близкое отношение к предмету, исследованием которого мы занимаемся. Место читается так: «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова» (Быт. X, 21). Сим, таким образом, представляется патриархом всех происшедших от племени его, о которых писатель намеревается упомянуть, сыновья ли они его, или внуки, или правнуки, или еще более поздние потомки. Сим не родил самого Евера: Евер упоминается пятым* в ряду происшедших от него В числе других сыновей Сим родил Арфаксада, Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салу, Сала родил Евера. Последний, однако, не напрасно назван первым в ряду происшедшего от Сима потомства и поставлен даже впе-
* В русском каноническом издании Каинан не упоминается Таким образом, Евер представляется не правнуком, а внуком Арфаксада и четвертым в ряду происшедших от Сима.
О граде Божием ___________________________________________________________777
реди его сыновей. Причина, очевидно, заключается в том предании, что от него получили свое название евреи, или евереи. Хотя, впрочем, есть и другое предположение, а именно, что они получили название свое от Авраама — авраэи; но истина, конечно, в том, что они назывались от Евера — евереями, а потом, вследствие убавления одной буквы, евреями. В дальнейшем же еврейский язык сохранил только один народ Израильский, в котором град Божий в лице святых странствовал, а в лице всех прочих был таинственным образом оттенен.
Итак, сперва упоминаются шесть сыновей Сима, затем четверо рожденных от одного из них внуков; в свою очередь и другой из сыновей родил внука, от которого потом родился правнук, от которого потом родился Евер. Евер же родил двух сыновей, из которых одного назвал Фалек, что в переводе значит «разделяющий». Приводя причину такого названия, Писание говорит: «Потому что во дни его земля разделена» (Быт. X, 25). Что это такое, уяснится после. Другой же, родившийся от Евера, родил двенадцать сыновей. Таким образом, всех потомков от трех сыновей Ноя, считая пятнадцать от Иафета, тридцать одного от Хама и двадцать семь от Сима, указывается семьдесят три. Затем в Писании читаем: «Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их». А далее и обо всех Писание замечает: «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа» (Быт. X, 31, 32). Это служит основанием к заключению, что в то время существовало семьдесят три, а вернее (что будет доказано после) — семьдесят два отдельных народа, а не человека. Ибо и прежде, когда были перечислены сыновья Иафета, было сказано в заключение: «От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт. X, 5).
Блаженный Августин_______________________________________________________778
Впрочем, как я показал выше, уже при исчислении сыновей Хама в одном месте довольно ясно упомянуты народы. «От Мицраима произошли Лудим…», и так далее, до семи народов. И потом, по перечислении всех, заключается так: «Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их» (Быт. X, 20). Итак, если сыновья многих не упомянуты, то потому, что, рождаясь, они присоединялись к другим народам, а сами произвести народы не смогли. Ибо какая другая причина могла бы быть тому, что по исчислении восьми сыновей Иафета упоминаются только дети, рожденные двумя из них; и когда называются четверо сыновей Хама, приводятся имена рожденных только от трех из них; и когда называются шесть сыновей Сима, упоминается потомство только двух? Неужели другие остались бездетными? Этого не может быть. Но они не произвели народов, ради которых заслуживали бы упоминания; потому что по мере рождения присоединялись к другим народам.
ГЛАВА IV
Но хотя об упомянутых народах и говорится, что они жили по языкам их, повествователь возвращается, однако же, к тому времени, когда у всех их был один общий язык, и излагает событие, послужившее причиною различия языков. «На всей земле, — говорит он, — был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь по-
О граде Божием ___________________________________________________________779
смотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. XI, 1–9).
Этот город, названный «смешение», и есть тот самый Вавилон, сооружение которого представляется удивительным даже языческим историкам. Ибо Вавилон в переводе значит «смешение». Отсюда делается вывод, что основателем его был известный исполин Нимрод, как замечено было о том выше, когда Писание, упоминая о нем, говорило, что начало царства его был Вавилон, т. е. что он стоял во главе других городов в качестве метрополии и был местом пребывания правительства; хотя и не был еще доведен до таких размеров, до каких задумывала довести его нечестивая гордость. Ибо проектировалась чрезвычайная, «высотою до небес» то ли одна башня, которой они хотели дать преимущественные перед другими размеры, то ли все башни, которые обозначаются единственным числом подобно тому, как говорится «солдат», а подразумеваются тысячи солдат; как говорится «саранча», когда речь идет о множестве саранчи, которой были поражены египтяне, не послушавшиеся Моисея (Исх. X, 4). Но чего предполагала достигнуть людская и суетная надменность? Какую бы громаду не поднимала она к небу против Бога, разве превысила бы она все горы? Разве вышла бы за границы этого облачного воздуха? Да и какой вред могло причинить Богу какое угодно возвышение, духовное ли оно или телесное? Безопасный и верный путь к небу пролагает смирение, возвышающее сердце
Блаженный Августин_______________________________________________________780
к Господу, но не против Господа, каковым был вышеупомянутый исполин*.
Не поняв этого, некоторые были обмануты двусмысленностью греческого выражения, и перевели не «против Господа», а «пред Господом», потому что ешутюу значит и «против», и «пред». Слово это употреблено, например, в псалме: «Преклоним колена пред лицем Господа, Творца нашего» (Пс. ХС1У, 6). Его же читаем и в книге Иова, где написано: «Что устремляешь против Бога дух твой» (Иов. XV, 1 У). Так же следует понимать и сказанное о Нимроде: «против Господа». Имя же «ловец», употребленное в этом месте, означает не что иное, как обманщик, преследователь, истребитель земнородных животных. Итак, со своими народами он воздвигал против Господа башню, в чем обнаружилась нечестивая гордость. Злое желание справедливо наказывается даже в том случае, когда оно не исполняется. А каков был сам род наказания? Язык для повелевающего — орудие господства; в нем и получила осуждение гордость, чтобы повелевающий, не желавший понять, что надлежит повиноваться повелевающему Богу, стал непонятен человеку. Так был разрушен упомянутый заговор, потому что каждый отстал от того, которого не понимал, и пристал к тому, с кем мог говорить; и разделились по языкам народы, и рассеялись по разным странам земли, как то было угодно Богу, сделавшему это тайными и недоступными нашему пониманию способами.
ГЛАВА V
Ибо выражение Писания: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны' ловеческие», т. е. не сыны Божий, а то живущее по чс
* В переводе, которым пользовался Августин (возможно,; был его собственный перевод), сказано о Нимроде не «сильны! зверолов пред Господом», а «исполин, ловец против Господа*
О граде Божием __________________________________________________________781
ловеку общество, которое мы называем земным градом, значит не то, чтобы двигался с места Бог, Который всегда и повсюду весь; говорится «сошел» в тех случаях, когда Он совершает нечто такое, что, будучи совершено некоторым чрезвычайным способом, отличным от обычного течения природы, показывает некоторым образом присутствие Его. Равным образом и не посредством осмотра узнает в известное время Тот, Кто никогда не может чего–либо не знать; но говорится, что Он в известное время видит и узнает потому, что дает Себя видеть и узнать. Итак, не столько сам град был осмотрен, сколько Бог дал ему видеть Себя, когда показал, до какой степени он Ему неугоден. Можно, впрочем, понимать это выражение и так: Бог сошел к упомянутому граду потому, что сошли к нему ангелы, в которых Он обитает; так что последующие слова: «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык», и т. д. вплоть до слов: «Сойдем же, и смешаем там язык их», представляет собою повторение сказанного с указанием на частности упомянутого сошествия Господа. Ведь если Господь уже сошел, то какой смысл имеет выражение: «Сойдем же» (разумея, что это сказано ангелами), как не тот, что сошел через ангелов Тот, Кто присутствовал в сходивших ангелах? Он не говорит: «Придите, и, сойдя, смешайте», но: «Сойдем же, и смешаем»; этим прекрасно показывается, что Он так действует через Своих служителей, что и они являются соработниками Божиими, как говорит апостол: «Ибо мы соработники у Бога» (I Кор. III, 9).
ГЛАВА VI
Можно было бы и в словах, сказанных при сотворении человека: «Сотворим человека» (Быт. 1,26), видеть указание на ангелов; потому что Бог не сказал: «Сотворю». Но так как далее следует «по образу Нашему»
Блаженный Августин_______________________________________________________782
(представлять же, что человек создан по образу ангелов или что образ ангельский и Божий один и тот же, невозможно), то совершенно правильно разумеется в том месте множественность Троицы. Поскольку же Троица эта есть единый Бог, то после слова «сотворим» Писание говорит: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию» (Быт. I, 27), а не сказано «сотворили боги» или «по образу богов». Можно было бы и в рассматриваемом месте разуметь ту же Троицу, как будто бы это Отец говорил Сыну и Духу Святому: «Сойдем же, и смешаем там язык их», если бы что–нибудь мешало нам разуметь здесь ангелов. Но скорее им прилично приходить к Богу святыми движениями, т. е. благочестивыми помышлениями, посредством которых они вопрошают неизменную Истину, как вечный закон при дворе Царя небесного. Движение же это, которым приходят неудаляющиеся, устойчиво. И говорит Бог с ангелами не так, как говорим мы между собою или как мы говорим к Богу, к ангелам или как даже ангелы с нами, или Бог через них к нам; но говорит Своим неизреченным образом, а для нас это обозначается на наш манер. Ибо речь Божия возвышеннее действия Божия: она есть неизменяемая причина самого действия, не выражающаяся в преходящем звуке, но представляющая собою силу вечно пребывающую, временно же действующую. Этою речью говорит Бог ангелам святым, созданным далеко не так, как мы. Когда же и мы улавливаем нечто из такой речи своим внутренним слухом, приближаемся к ангелам и мы. Но в настоящем сочинении я не ставил своею задачей войти в подробное рассмотрение родов речи Божией (ибо неизменяемая Истина говорит умам разумной твари или непосредственно неизреченным образом, или посредством изменяемой твари — то духовными образами нашему духу, то телесными звуками чувству телесному).
О граде Божием ___________________________________________________________783
Выражение же: «И не отстанут они от того, что задумали делать», имеет, конечно, смысл не утвердительный, а как бы вопросительный, какой употребляется обыкновенно при угрозах, подобно тому, как некто говорит: Не выступят, вооружившие они всем городом в погоню '?
Понимать, следовательно, нужно так, как если бы было сказано: «Разве не отстанут они от того, что задумали делать?» Только если бы так было сказано, не выражалось бы угрозы. Говоря «разве не», мы прибавляем «разве» для менее понятливых; потому что интонацию голоса того, кто это произносит, изобразить на письме не можем.
Итак, от упомянутых трех человек, сыновей Ноя, получили начало рассеянные по странам земли семьдесят три, или, вернее (как уяснится это впоследствии), семьдесят два народа и столько же языков. Народы эти, разрастаясь, наполнили и острова. Число народов, впрочем, значительно превысило число языков. Мы знаем в Африке очень много варварских народов, говорящих на одном языке. А что люди, с размножением рода человеческого, могли посредством судоходства переселиться жить и на острова, кто в этом станет сомневаться?
ГЛАВА VII
Но возникает вопрос относительно разного рода бессловесных животных, которые не составляют предмет заботливости человеческой и не рождаются из земли, как лягушки, а размножаются только посредством совокупления самца и самки, каковы волки
Блаженный Августин_______________________________________________________784
и другие того же рода: каким образом могли они после потопа, которым было уничтожено все, не бывшее в ковчеге, появиться даже на островах, если порода их была восстановлена именно теми, которые сохранились в ковчеге? Можно, конечно, думать, что они переплыли на острова, но это разве только на ближайшие. А между тем, есть острова, находящиеся на таком большом расстоянии от материков, что до них никакие животные доплыть не могли. Нет ничего невероятного и в том предположении, что люди из страсти к охоте, поймав их, перевезли с собою и, таким образом, развели их породы в тех местах, где жили сами; хотя нельзя отрицать, что они могли быть перенесены по велению или соизволению Божию и ангелами. Но если они родились из земли соответственно своему первоначальному происхождению, когда Бог сказал: «Да произведет земля душу живую» (Быт. I, 24), то из этого станет еще очевиднее, что в ковчеге были всякие роды животных не столько для восстановления их пород, сколько для таинственного преобразования различных народов в Церкви, так как на островах, куда животные перейти не могли, многие из них были произведены землею.
ГЛАВА VIII
Спрашивают, далее, возможно ли, что от сыновей Ноя, или даже от того человека, от которого и они получили свое существование, произошли некоторые чудовищные породы людей, о которых рассказывает языческая история? Говорят, например, будто некоторые имеют один глаз посредине лба; у некоторых ступни обращены назад; другие имеют природу обоих полов: правую грудь имеют мужскую, левую — женскую, и поочередно сообщаясь, и оплодотворяют, и рождают; у иных нет рта, а поддерживают они жизнь только посредством дыхания через ноздри;
О граде Божием___________________________________________________________ 785
некоторые имеют рост вышиною в локоть, и греки называют их, от названия локтя, пигмеями; иные женщины зачинают в пятилетнем возрасте и не живут дольше восьми лет. Рассказывают также, будто есть народ, который имеет ноги, состоящие из одних голеней, колен не сгибает и отличается удивительной быстротою: их называют скиоподами, потому что в летнее время, лежа навзничь на земле, они прикрывают себя тенью от ног; некоторые, не имея шеи, имеют глаза в плечах. Есть будто и другие породы людей, или якобы людей, мозаичные изображения которых, заимствованные из книг, содержащих рассказы о разного рода диковинках, находятся на приморской улице в Карфагене. А что сказать о кинокефалах, собачья голова которых и лай скорее выдают их за животных, чем за людей? Нет, впрочем, необходимости верить, чтобы существовали действительно все роды людей, о которых говорят, будто они существуют. Но какой бы и где бы ни родился человек, т. е. животное разумное и смертное, то, какой бы ни имел он непривычный для наших чувств телесный вид, цвет, движение, голос, или как бы ни отличался силой, или какой–либо частью тела, или каким бы то ни было свойством природы, никто из верующих не усомнится, что он ведет начало свое от того одного первосозданного человека. Очевидно, однако же, что природа удерживает что–нибудь большем числе, а что–нибудь по самой редкости своей будет удивительным.
Но чем объясняем мы чудовищные роды людей, тем может быть объяснено и происхождение некоторых чудовищных народов. Творец всех Бог, Который сам знает где, когда и что надлежит или надлежало сотворить, ведая, сходством или несходством каких частей Он образует красоту целого; тот же, кто окинуть взором целого не может, поражается кажущимся безобразием части; потому что не знает, с чем она сообразована и к чему относится. Мы знаем, что
Блаженный Августин_______________________________________________________786
люди рождаются более чем с пятью пальцами на руках и ногах. Отклонение (от нормы) в этом, конечно, менее значительно, чем в вышеприведенных случаях. Но, вероятно, не найдется такого безумца, который подумал бы, что Творец ошибся в счете людских пальцев, хотя бы он и не знал, с какою целью Он это сделал. Также точно, хотя бы оказалось и большое отклонение, знает об этом Тот, Кто творил, делам Которого никто не может сделать справедливого упрека
В Гиппоне Диарритском живет человек, имеющий серпообразные ступни, и на них только по два пальца; подобные же имеет он и руки. Если бы нашелся какой–нибудь подобный народ, он сделался бы предметом диковинной и удивительной истории. Но станем ли мы на этом основании отрицать, что он произошел от того одного, который создан был первым? Хотя и слишком редко встречаются, но трудно предположить, чтобы временами не встречались андрогины, которых называют еще гермафродитами, у которых особенности того и другого пола обнаруживаются с такой очевидностью, что трудно решить, по какому полу следует их именовать. В обычай вошло, впрочем, давать им имя по мужескому полу, никто и никогда не называл такого «андрогина» или «гермафродита». Много лет назад на Востоке родился человек, раздвоенный в верхних членах и обыкновенный в нижних. У него было две головы, две груди, четыре руки, а живот один и ноги две, как у одного человека; и жил он так долго, что молва привлекла поглазеть на него множество народа. Да кто в состоянии припомнить все рождения людей, весьма непохожих на тех, от кого они родились? Следовательно, как относительно этих рождений нельзя отрицать, что они ведут начало свое от одного первого; так необходимо и признать, что от одного и того же первого отца всех ведут свой корень и все народы, которые своими телесными особенностями представляютс
О граде Божием __________________________________________________________787
как бы уклонившимися от обычного хода природы, которого держится большая часть, почти все (если только правда то, что рассказывается об особенностях тех народов и о таком различии между ними и нами).
Ведь если бы мы и об обезьянах, мартышках и сфингах не знали, что они не люди, а бессловесные животные, то те историки могли бы, гордясь своим знанием диковинок, безнаказанно представлять их нам как какие–нибудь роды людей. Но если те люди, о которых пишут такие удивительные вещи, действительно люди, то что было бы удивительного, если бы Бог захотел сотворить такими некоторые народы для того, чтобы, если и между нами окажутся родившимися от людей уроды, мы не подумали, будто погрешила Его мудрость, подобно искусству какого–нибудь не слишком искусного художника? Итак, нам не должно казаться несообразностью, что как в среде тех или других отдельно взятых народов обнаруживаются некоторые человеческие уродства, так и в целом человеческом роде есть известные народные уродства. Поэтому, чтобы закрыть этот вопрос без торопливости и с осмотрительностью (скажем так): или того, что пишется в этом роде о каких–либо народах, вовсе нет; или, если есть, то народы эти не суть люди; или, если и они — люди, то происходят, конечно же, от Адама.
ГЛАВА IX
Тому же, что рассказывают, будто существуют антиподы, т. е. будто на противоположной стороне земли, где солнце восходит в ту пору, когда у нас заходит, люди ходят в противоположном нашим ногам направлении, нет никакого основания верить. Утверждающие это не ссылаются на какие–нибудь исторические сведения, а высказывают как предположение,
Блаженный Августин_______________________________________________________788
основанное на том, что земля держится среди свода небесного и что мир имеет в ней в одно и то же время и самое низшее, и срединное место. Из этого они заключают, что и другая сторона земли, которая находится внизу, не может не служить местом человеческого обитания. Они не принимают во внимание, что, хотя бы и возможно было допустить или даже как–либо доказать, что фигура мира шарообразна и кругла, из этого еще не следует, что та часть земли свободна от воды; да если даже была бы и свободна, из этого отнюдь не следует, что там живут люди. Ибо никоим образом не может обманывать то Писание, которое удостоверяет действительность рассказываемых им событий прошлого исполнением на деле его предсказаний; а между тем, было бы крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту, и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека. Поэтому будем искать, если можем найти, в среде тех человеческих народов, которые представляются разделенными на семьдесят два племени и семьдесят два языка, этот странствующий на земле град Божий, который доведен до потопа и ковчега и дальнейшее существование которого в сыновьях Ноя указывается благословением их, особенно в лице самого старшего, называвшегося Симом: потому что и Иафет был благословен селиться в шатрах того же своего брата.
ГЛАВАХ
Итак, нужно следить за порядком рождений от Сима. Этот порядок послужит указанием града Божия после потопа, как служит указанием его до потопа ряд рождений от того, который был назван Сифом.
О граде Божием ___________________________________________________________789
Поэтому–то божественное Писание после того, как указало град земной в Вавилоне, т. е. в смешении, как бы повторяясь, снова возвращается к Симу и ведет от него ряд рождений до Авраама, упоминая и скольких кто был лет, когда родил сына, принадлежащего к этому ряду, и сколько всего прожил. На этот раз уместно сделать обещанное мною прежде замечание, чтобы пояснить, почему об одном из сыновей Евера сказано: «Имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена» (Быт. X, 25). Что иное следует разуметь под разделением земли, как не разделение посредством различия языков?
Итак, опустив других сыновей Сима, не относящихся к делу, писатель приводит рождения тех, через которых он мог дойти до Авраама; точно так, как до потопа приводились те, через которых можно было дойти до Ноя рядом рождений от того сына Адамова, который назван был Сифом. Ряд этих рождений начинается так: «Вот родословие Сима: Сим был ста лет, и родил Арфаксада, чрез два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет, и родил сынов и дочерей» (Быт. XI, 10, 11). Подобным же образом писатель говорит и о других, показывая, на котором году своей жизни каждый из них родил сына, принадлежащего к тому ряду рождений, который тянется до Авраама, и сколько лет жил после того, и замечая, что он родил сынов и дочерей. Последнее делается с той целью, чтобы дать нам понять, откуда могли образоваться народы, дабы, занимаясь немногими упомянутыми людьми, мы как дети не пришли в недоумение, каким образом племя Симово могло наполнить такие обширные области и Царства, особенно же царство Ассирийское, откуда знаменитый Нин, бывший повсюду победителем, Управлял с необыкновенным счастьем народами Востока и упрочил за своими потомками обширнейшее и сильнейшее царство, долгое время продолжавшее свое существование.
Блаженный Августин_______________________________________________________790
Но чтобы не задерживаться на этом предмете более, чем нужно, мы не будем говорить о том, сколько лет жил каждый в этом ряду поколений, а полагаем упомянуть в этом порядке лишь о том, на каком году своей жизни он родил сына, чтобы сосчитать таким образом количество лет от окончания потопа до Авраама, и в связи с тем. над чем нужно остановиться, коснуться коротко и бегло остального. Итак, во второй год после потопа Сим, будучи ста лет, родил Арфаксада, Арфаксад же, будучи ста тридцати пяти лет, родил Каинана; последний, когда ему было сто тридцать лет, родил Салу. Столько же лет имел и Сала, когда родил Евера. Еверу было сто тридцать четыре года, когда он родил Фалека, при жизни которого разделилась земля. Сам Фалек жил сто тридцать лет, и родил Рагава; а Рагав — сто тридцать два, и родил Серуха; Серух — сто тридцать, и родил Нахора; Нахор — семьдесят девять, и родил Фарру; Фарра же семьдесят, и родил Аврама, которого Бог переименовал по–1 том в Авраама. Таким образом, по изданию общеупот–ребительному, т. е. Семидесяти толковников, от потопа до Авраама прошло тысяча семьдесят два года. По еврейским же кодексам, говорят, оказывается гораздо меньше; но счет их или не представляют вовсе, или представляют, но очень запутанный,
Но ища град Божий в среде упомянутых семидесяти двух народов, мы не находим оснований утверждать, чтобы в то время, когда у них был один язык, род человеческий уклонился от почитания истинного Бога до такой степени, чтобы истинное благочестие сохранялось только в тех поколениях, которые нисходят от семени Сима через Арфаксада и идут до Авраама. Только в гордом притязании построить башню до неба, признаке нечестивого превозношения, обнаружился (земной) град, т. е. общество нечестивых. Не существовало ли его вовсе до того времени, или оно скрывалось, или было и то и другое: благочестивое — в лице двух сыновей Ноя, которые
О граде Божием ___________________________________________________________791
получили благословение, и их потомков, а нечестивое — в лице проклятого и племени его, из которого вышел исполин, ловец против Господа, — разобрать трудно.
Возможно, да это и гораздо вероятнее, что и между сыновьями первых двух, еще прежде образования Вавилонии, появлялись уже хулители Бога, а между сыновьями Хама — Его почитатели; нужно полагать, что в людях того и другого рода никогда на земле недостатка не было. Хотя и говорится: «Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. Ш, 4; Пс, XIII, 3), но в обоих псалмах, в которых находятся эти слова, читается и следующее: «Неужели не вразумляются делающие беззаконие, съедающие народ Мой, как едят хлеб?» Следовательно, был и в то время народ Божий. Поэтому сказанное: «Нет делающего добро, нет ни единого», сказано о сынах человеческих, но не о сынах Божиих. Ибо перед тем оговорено: «Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога»; а затем прибавлены вышеприведенные слова, выражающие осуждение всем сынам человеческим, т. е. принадлежащим к граду, живущему по человеку, а не по Богу.
ГЛАВА XI
Поэтому, как в то время, когда у всех был один язык, недостатка в сынах погибели не было; потому что один язык был и до потопа, тем не менее, однако же, все, за исключением лишь семейства праведного Ноя, заслуженно подверглись истреблению потопом; так и тогда, когда за нечестивое превозношение народы были наказаны различием языков, подверглись разделению и град нечестивых получил имя смешения, т. е. был назван Вавилоном, было семейство Евера, в котором сохранился язык, бывший некогда общим.
Блаженный Августин_______________________________________________________792
.От того–то, как я заметил выше, когда писатель стал перечислять сыновей Сима, которые, каждый отдельно, были родоначальниками отдельных народов, он упомянул первым Евера, хотя Евер был праправнуком его, т. е. родился в пятом от него колене. Так как в семействе последнего, по разделении других народов иными языками, сохранился тот язык, о котором не без основания думают, что он прежде был общим для всего рода человеческого, то язык этот и назван был потом еврейским. Нужно же было в отличие от других дать ему собственное имя подобно тому, как получили собственные имена и остальные. Пока же он был один, назывался просто человеческим языком, или человеческим говором, так как им одним говорил весь род человеческий.
Кто–нибудь скажет: «Если земля, т. е. люди, жившие в то время на земле, разделились по языкам во дни сына Еверова Фалека, то скорее именем последнего должен бы называться тот язык, который до того времени был общим для всех». Но нужно принять во внимание, что сам Евер потому дал такое имя своему сыну, назвав его Фалеком, что в переводе значит «разделение», что он родился у него в то время, когда земля разделилась по языкам, как видно это из слов: «Во дни его земля разделена». Если бы Евера уже не было в живых, когда возникло множество языков, от имени его не получил бы имя свое и язык, который мог у него сохраниться. И язык этот нужно действительно считать изначально общим: размножение и изменение языков последовало в наказание; народ же Божий не должен был подлежать этому наказанию. И не напрасно язык этот есть тот самый, на котором говорил Авраам, но который смог оставить в наследство не всем своим сыновьям, а только тем, которые образовали племя его через Иакова, и, составляя народ Божий по преимуществу и превосходству, смогли хранить заветы Божий и отрасль Христову. Да и сам Евер передал этот язык не всему своему
О граде Божием ___________________________________________________________793
потомству, а лишь тому, которое шло по прямой линии к Аврааму.
Таким образом, хотя с полною ясностью и не выражено, что был некоторый благочестивый род людей и в то время, когда нечестивые сооружали Вавилонию, — неясность эта не такого свойства, чтобы вводить в обман исследователя, а скорее служит к упражнению его внимательности. Ибо коль скоро в Писании говорится, что первоначально у всех был один язык, и во главе всех сыновей Сима ставится Евер, хотя он является в пятом от него колене; и коль скоро язык, который патриарх и пророки не только употребляли в речах, но и увековечили в священных Писаниях, называется языком еврейским, то естественно, что на вопрос: где во время разделения языков мог остаться тот язык, который прежде был общим, который без всякого сомнения остался там, где не имело места наказание, состоявшее в смешении языков, — может быть лишь один ответ, что он остался в роде того, от имени которого получил свое название; и ясным признаком праведности этого рода служит то, что между тем, как другие роды были наказаны изменением языков, на него это наказание не простерлось.
Возникает еще сомнение относительно того, как могли образовать отдельные народы Евер и сын его Фалек, если у того и другого сохранился один язык. Действительно, существовал только один род еврейский от Евера до Авраама, и от него далее, пока не образовался великий народ Израильский. На каком основании считаются образовавшими отдельные народы все потомки трех сыновей Ноя, если Евер и Фалек особых народов не образовали? Чтобы удержать число семидесяти двух народов и языков, можно со значительной долей вероятности предположить, что известный исполин Нимрод и сам образовал свой особый народ, но упомянут отдельно, как выделившийся из ряда других преимуществами
Блаженный Августин_______________________________________________________794
власти и телесной силой. Фалек же упомянут не потому, чтобы образовал народ (род и язык его — род и язык еврейский), а потому, что замечательно было его время, так как в его дни разделилась земля. Не должен также затруднять нас и вопрос о том, каким образом мог исполин Нимрод дожить до того времени, когда был построен Вавилон, совершилось смешение языков и, вследствие его, разделение народов. Из того, что Евер был шестым от Ноя, а он — четвертым, не следует, что они оба не могли дожить до одного и того же времени. Так случилось, если дольше жили в тех поколениях, где было меньше рождений, и меньше в тех, где рождений больше; или рождались позже, где меньше, и раньше, где больше. Нужно представлять дело так, что в то время, когда разделилась земля, не только уже были рождены все те сыновья детей Ноевых, которые упоминаются как родоначальники народов, но и были они уже в таком возрасте, что имели многочисленные семейства, заслуживавшие название народов.
Поэтому отнюдь не следует думать, что они были рождены именно в том порядке, в каком упоминаются. Иначе, как бы могли образовать уже народы двенадцать сыновей Иоктана, другого сына Еверова, Фалекова брата, если Иоктан был рожден после брата своего Фалека, как после него он упоминается, когда земля разделилась в то время, когда родился Фалек? Нужно представлять дело так, что хотя Фалек и назван первым, но родился гораздо позже своего брата Иоктана, и двенадцать сыновей этого Иоктана имели в то время уже такие большие семейства, что последние могли быть разделены на свои особые языки. Позднейший по времени мог быть упомянут первым так же точно, как из трех сыновей Ноевых первыми упомянуты потомки Иафета, который был самым младшим; затем — сыновья Хама, который был средним; наконец, сыновья Сима, который был первым и самым старшим. Имена же этих народов отчасти
О граде Божием___________________________________________________________ 795
сохранились, так что и в настоящее время видно откуда они произошли, как ассирийцы от Ассура,' а евреи от Евера; отчасти же изменились от давности до такой степени, что ученейшие исследователи древности в состоянии разгадать по ним происхождение не всех, а лишь некоторых народов. Так, например, по звучанию слов трудно догадаться, что египтяне, как утверждают, произошли от сына Хамова, который назывался Мицраим; равно и то, что эфиопы принадлежат будто бы к племени того сына Хамова, который носил имя Хуш. Так же точно, если рассмотреть и все вообще имена, более окажется измененных, чем удержавшихся.
ГЛАВА XII
Проследим теперь судьбы града Божия с той эпохи, которая начинается с праотца Авраама, с которой он становится более известным и когда даются яснейшие обетования, которые мы видим в настоящее время исполнившимися во Христе. Из указаний священного Писания мы узнаем, что Авраам родился в стране Халдейской (Быт. XI, 28), в области, принадлежавшей к царству Ассирийскому. У халдеев в то время, как и у остальных народов, уже приобрели весьма большую силу нечестивые суеверия. Был только один дом Фарры, от которого родился Авраам, в котором сохранилось почитание единого истинного Бога и в котором одном, по всей вероятности, сохранился и язык еврейский; хотя и этот дом, как впоследствии, только более открыто, народ Божий в Египте, служил в Месопотамии, как это видно из слов Иисуса Навина, богам иным (Нав. XXIV, 2); причем остальные потомки Евера мало–помалу усвоили иные языки и примкнули к другим народам. Таким образом, как при гибельном разливе вод сохранился для восстановления рода человеческого только дом Ноя,
Блаженный Августин_______________________________________________________796
так и при гибельном разливе множества суеверий по всему миру сохранился один дом Фарры, в котором сберегся саженец града Божия. И потом, как там, по исчислении рождений вместе с годами до Ноя и по изложении причины потопа, прежде чем Бог начинает говорить Ною о построении ковчега, говорится: «Вот житие Ноя» (Быт. VI, 9); так и здесь, по исчислении рождений от того сына Ноева, который назывался Симом, до Авраама, подобным же образом вводится особый пункт, в котором говорится: «Вот родословие Фаррьг. Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана» (Быт. XI, 27—29). Этот Аран, отец Милки, был отцом и Иски, которая считается Сарою, женою Аврама.
ГЛАВА XIII
Далее рассказывается, как Фарра со своим семейством оставил страну халдеев, пришел в Месопотамию и поселился в Харране. Но при этом умалчивается об одном сыне его, который назывался Нахором, так, как будто он не взял его с собою. Рассказ таков: «И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую: но, дошедши до Харрана, они остановились там» (Быт. XI, 31). Здесь вовсе не упоминаются ни Нахор, ни жена его Милка. Но после, когда Авраам посылал раба своего взять жену своему сыну Исааку, читаем следующее. «И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». (Быт. XXIV, 10). Из этого и из
О граде Божием __________________________________________________________797
других свидетельств священной истории видно, что и Нахор, брат Аврама, вышел из земли Халдейской и поселился в Месопотамии, где жил с отцом своим Авраам. Почему же Писание не упоминает о нем в то время, когда Фарра вышел из земли Халдейской и поселился в Месопотамии, между тем как не только об Авраме, сыне его, но и о Саре, и о внуке его Лоте упоминает, что он привел их с собою?
По нашему мнению, объяснить это можно с помощью следующего предположения: он, возможно, уклонился от отцовского и братнего благочестия и увлекся суеверием халдейским, а потом, раскаявшись или подвергшись преследованию, так как считался неблагонадежным, переселился оттуда и сам. Ибо в книге, приписываемой Юдифи, на вопрос врага Израильтян Олоферна, что это за народ и вести ли против него войну, ему отвечает Ахиор, вождь Аммонитов, так: «Послушай, господин мой, слова раба твоего, и я возвещу тебе истину о людях сих. Люди эти вышли из халдеев и поселились сперва в Месопотамии, ибо не захотели поклоняться богам отцов своих, живших в земле Халдейской; и отвратились от путей отцов своих, и поклонились Богу небесному; и (отцы) изгнали их от лица богов своих, и бежали они в Месопотамию, и жили там многие дни», и т. д. Из этого видно, что дом Фарры подвергался преследованию со стороны халдеев за истинное благочестие, по которому он чтил единого и истинного Бога.
ГЛАВ А XIV
Обетования Божий, какие изрекались Аврааму, начинают указываться с того времени, когда умер Фарра в Месопотамии, причем замечается, что он жил двести пять лет. Вот по этому поводу слова Писания: «И было дней жизни Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране» (Быт. XI, 32). Понимать это
Блаженный Августин_______________________________________________________798
нужно не в том смысле, будто он все эти дни прожил именно там, а в том, что он окончил там дни своей жизни, которых всего было двести пять лет. Иначе количество лет, прожитых Фаррою, осталось бы неизвестным: потому что не говорится, на каком году своей жизни он пришел в Харран. Между тем, было бы несообразностью полагать, чтобы в этом порядке поколений, в котором столь тщательно показывается, сколько каждый прожил лет, не было упомянуто число лет, прожитых одним только Фаррой. Если года некоторых, упоминаемых Писанием, умалчиваются, то это только таких, которые не входят в этот порядок. Этот же порядок, ведущийся от Адама до Ноя, а от последнего — к Аврааму, не содержит никого без указания прожитых им лет.
ГЛАВА XV
А что уже после того, как упомянуто о смерти Фарры, написано: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. XII, 1), то это еще не означает, что события следовали именно в том порядке, в каком они представлены в книге. Будь это так, возник бы неразрешимый вопрос, ибо после слов Божиих, сказанных Аврааму, в Писании читаем: «И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана» (Быт. XII, 4). Как это могло быть, если Авраам вышел из Харрана после смерти своего отца? Выше было сказано, что Фарре было семьдесят лет, когда он родил Авраама; таким образом, к моменту выхода Авраама из Харрана ему должно было бы исполниться сто сорок пять лет.
Значит, он покинул Харран не после смерти отца, а на сто сорок пятом году его жизни; Писание же, по обыкновению своему вернувшись назад, рассказало
О граде Божием___________________________________________________________ 799
об этом событии уже после сообщения о смерти Фарры. Это подобно тому, как и выше, говоря о сыновьях Ноя, было сказано, что они жили по племенам своим и языкам своим (Быт. X, 31), а потом, как будто это следовало в хронологическом порядке, говорится: «На всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. XI, 1) Каким же образом они жили по языкам воим, когда язык был один? Очевидно, что рассказ возвращается к событиям, произошедшим ранее. Так и здесь, хотя и было сказано: «И было дней жизни Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране»; но Писание затем, возвращаясь к тому, что было отпущено прежде, говорит: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей», и т. д. А после этих слов Божиих прибавляется: «И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана». Это совершилось, следовательно, тогда, когда отцу его шел сто сорок пятый год, потому что тогда ему самому шел семьдесят пятый. Решается этот вопрос и иначе: семьдесят пятый год жизни Авраама, на котором он вышел из Харрана, считается не с момента рождения, а с того времени, когда он был спасен от огня халдейского, ибо именно это время следовало бы преимущественнее считать за время его рождения*.
Но блаженный Стефан, рассказывая об этом в Деяниях апостольских, говорит: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал ему-, выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе» (Деян. VII, 2, 3) По этим словам Стефана, Бог говорил Аврааму не после смерти отца его, который, несомненно, умер в Харране, где с ним жил и сын его, а прежде, чем он поселился в
' Такое решение предлагал Иероним, основывая его на предании евреев, будто Авраам, не желавший поклоняться огню, был брошен в огонь халдеями, но был спасен Господом.
Блаженный Августин_______________________________________________________800
этом городе, хотя уже после того, как был в Месопотамии. Он уже вышел из Халдеи: следовательно, дальнейшие слова Стефана: «Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране» не служат указанием на то, что* совершилось после того, как говорил ему Бог (ибо он не после этих слов Божиих вышел из земли Халдейской, так как, по словам Стефана, Бог говорил ему, когда он был в Месопотамии), но относятся ко всему тому времени, которое он обозначает словом «тогда», т. е. ко времени после того, как он вышел из Халдеи и поселился в Харране. Так же точно и последующими словами: «А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете», Стефан не утверждает, что он вышел из Харрана после того, как умер его отец, а говорит, что Бог переселил его оттуда после того, как умер отец его.
Нужно понимать все это так–Бог говорил Аврааму, когда он был в Месопотамии и еще не поселился в Харране; но Авраам, сохранив в себе заповедь Божию, пришел с отцом в Харран и вышел из него на семьдесят пятом году своей жизни и на сто сорок пятом году жизни отца. Поселение же его в земле Ханаанской, а не выход из Харрана, Стефан представляет совершившимся после смерти его отца, потому что отец его уже умер, когда он купил землю и сделался там собственником. А что тотчас по переходе в Месопотамию, т. е. вслед за выходом из земли Халдейской, Бог говорит. — «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе», то это говорится не в том смысле, чтобы он вышел оттуда телом, что он сделал бы непременно, а в том, чтобы оторвался душой. Он не вышел бы оттуда душой, если бы питал надежду и желание возвратиться. Эту надежду и это желание Божиим повелением и Божией помощью, а его повиновением, и надлежало отсечь. Нет ничего невероятного и в предположении, что уже после того, когда Нахор
О граде Божием___________________________________________________________ 801
пгледовал за отцом своим, Авраам исполнил заповедь Божию, вышел из Харрана с Саррой, женою своей и с Лотом, сыном своего брата.
ГЛАВА XVI
Теперь рассмотрим обетования Божий, высказанные Аврааму. С них начинаются более ясные изречения Бога нашего, т. е. Бога истинного, относительно народа благочестивых, о котором предвозвестили пророчества. Первое из них читается так: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. XII, 1—3). Заслуживают внимания два предмета, обещанные Аврааму: первый — это то, что семя его получит во владение землю Ханаанскую, на что указывается словами: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ»; другой — гораздо превосходнее, и касается не телесного, а духовного семени, по которому Авраам есть отец не одного только народа Израильского, а всех народов, идущих по следам его веры. Обещание последнего начинается со слов: «И благословятся в тебе все племена земные».
По мнению Евсевия, обетование это было дано на семьдесят пятом году жизни Авраама, ибо как бы вслед за этим изречением Авраам вышел из Харрана: потому что нельзя допустить противоречия Писанию, в котором говорится: «Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана» (Быт. XII, 4). Но если обетование было изречено в этом году, то Авраам, во всяком случае, жил уже с отцом своим в Харране.
Блаженный Августин_______________________________________________________802
Не мог бы он из него выйти, если бы не жил в нем. Не заключается ли противоречия этому в словах Стефана: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран?» Нужно представлять дело так, что все совершилось в течение одного и того же года, т. е. и обетование Божие Аврааму до поселения его в Харране, и поселение Авраама в Харране, и выход его оттуда. Это не только потому, что Евсевий в хронике начинает счет с года этого обетования и показывает, что исход из Египта, когда был дан закон, совершился спустя четыреста тридцать лет; но и потому, что об этом упоминает и апостол Павел (Тал. III, 17).
ГЛАВА XVII
В то время существовали знаменитые языческие царства, которые граду земнородных, т. е. обществу людей, живущих по человеку, придавали под владычеством падших ангелов особый блеск. Царств этих было три: Сикионское, Египетское, Ассирийское. Ассирийское было гораздо могущественнее и превосходнее двух первых. Известный царь Нин, сын Бела, покорил своей властью народы всей Азии, за исключением Индии. Азией в данном случае я называю не известную часть большей Азии, представляющую собою одну провинцию Азии, а ту, которая называется Азиею вообще, которую иные считают одной из двух, а большинство — третьей частью всего земного шара, считая в том числе Азию, Европу и Африку. Но делят неравномерно. Та часть, которая называется Азией, тянется с юга по востоку до севера; Европа же — с севера до запада; а Африка — с запада до юга. Из этого видно, что одну половину земного шара занимают две части, Европа и Африка, а другую половину — одна Азия. Первые две потому образовали отдельные части, что между ними входит из океана все количество вод,
О граде Божием ___________________________________________________________803
промывшее материки, отчего и образовалось у нас великое море.
Поэтому если земной шар разделить на две части, восточную и западную, то Азия будет в одной, а Европа и Африка — в другой. Из трех этих царств, знаменитых в то время, царство Сикионское не было под властью ассирийцев, потому что находилось в Европе; царство же Египетское не могло не подчиняться тем, которые господствовали над всею Азией, за исключением, как говорят, одной Индии. Итак, господство нечестивого града имело наибольшую силу в Ассирии. Столицей ее был Вавилон, имя которого, т. е. смешение, было самым подходящим для общества земнородных. Там царствовал в данное время Нин, по смерти отца своего Бела, который первым царствовал там шестьдесят пять лет. Сын же его Нин, наследовавший царскую власть по смерти отца, царствовал пятьдесят два года, и когда родился Авраам, прошло уже сорок три года его царствования. Это было приблизительно за тысячу двести лет до основания Рима, в своем роде другой Вавилонии на Западе.
ГЛАВА XVIII
Итак, выйдя из Харрана на семьдесят пятом году своей жизни и на сто сорок пятом году жизни отца, Авраам с сыном брата своего Лотом и с женою своею Саррой направился в землю Ханаанскую и дошел до Сихема. Там снова он получил божественное откровение, о котором так говорится в Писании: «И явился Господь Авраму, и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт. XII, 7). На этот раз обетование не касалось того семени, по которому он сделался отцом всех народов, а лишь того, по которому он являлся отцом одного народа Израильского; потому что земля та перешла во владение этого семени.
Блаженный Августин_______________________________________________________804
ГЛАВА XIX
После этого, построив на том месте алтарь и призвав Бога, Авраам вышел оттуда и жил в пустыне; но голод принудил его идти из нее в Египет. Там он назвал жену своею сестрою, нисколько, однако же, не солгав. Она действительно была и сестрою, потому что была родная по крови; подобно тому, как и Лот, по причине такого же родства, назывался братом его, хотя был сыном его брата. Он не отрицал, а только умолчал, что она жена, вверяя охранение целомудрия супруги Богу и остерегаясь, как человек, козней человеческих; не остерегайся он, насколько мог остерегаться, он скорее искушал бы Бога, чем надеялся на Него. Об этом предмете мы достаточно сказали, опровергая клевету Фавста манихея*. Чего Авраам ожидал от Господа, то впоследствии и случилось. Взявший ее себе в жены, но подвергшийся тяжким мучениям, фараон, царь египетский, возвратил ее мужу. Да не подумаем при этом, чтобы она осквернилась сожительством с другим: гораздо вероятнее, что тяжкие казни не дозволили фараону сделать этого.
ГЛАВА XX
По возвращении Авраама из Египта на прежнее место, сын брата его Лот, сохранив родственное расположение, отошел от него в землю Содомскую. Они сделались богаты и стали держать много пастухов для стад; так как последние ссорились между собою, то это было для них средством избежать взаимных столкновений между семействами их. Могли из–за этого возникнуть какие–нибудь распри и между ними самими, ибо и это свойственно человеку. Принима
О граде Божием___________________________________________________________ 805
между пастухами моими и пастухами твоими; ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» (Быт. XIII, 8, 9). Отсюда–то, может быть, и установился между людьми мирный обычай, по которому при разделе на части какого–либо надела земли старший делит, а младший выбирает.
ГЛАВА XXI
Итак, когда Авраам и Лот отделились друг от друга, не вследствие постыдного раздора, а ради удовлетворения нужд по содержанию семейств, и жили отдельно, — Авраам в земле Ханаанской, а Лот в Содоме, — Господь в третьем Своем изречении сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, И сделаю потомство твое, как песок земный; если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее» (Быт. XIII, 14—17). Заключается ли в этом обетовании и то, по которому Авраам сделался отцом всех народов — не совсем ясно. Можно подумать, что к этому обетованию относится выражение: «И сделаю потомство твое, как песок земный»; потому что выражение это представляет собою то, что греки называют гиперболой, и во всяком случае есть выражение образное, а не прямое. Как пользуется обыкновенно этим способом выражения, равно как и другими тропами, Писание, известно всякому, кто изучил его. Такой троп, т. е. способ выражения, бывает тогда, когда то, что в нем говорится, значительно превосходит то, что речью обозначается. Кто,
Блаженный Августин_______________________________________________________806
например, не видит, что число песка несравненно больше, чем возможное число всех людей, от самого Адама и до конца века? Насколько же оно более семени Авраамова, и не только того, которое принадлежит к народу Израильскому, но и того, которое вследствие подражания его вере, выделяется и будет выделяться из всех народов по всему свету?
Такое живущее верой потомство, конечно, невелико по сравнению с множеством нечестивых; но и эти малые составляют бесчисленное множество, которое гиперболически сравнивается с песком земным. Разумеется, что обещанное Аврааму множество неисчислимо не для Бога, а для людей: Бог исчислил и песок земной. Поэтому–то, так как сообразнее сравнивать с множеством песка не один народ Израильский, а все потомство Авраамово, когда обетование к тому же говорит о множестве сынов не по плоти, а по духу, в этом месте можно разуметь обетование о том и другом. Но мы сказали, что оно здесь еще выражено неясно, потому что произошедший по плоти от Авраама через внука его, Иакова, многочисленный народ настолько размножился, что наполнил собою почти все страны мира. Гиперболически и он один может сравниваться с песком земным; ибо и он один неисчислим для человека. Относительно же упомянутой в обетовании лишь одной земли, которая названа Ханааном, ни у кого, конечно, не должно возникать сомнений. Только выражение «Тебе дам Я и потомству твоему навеки» может вызвать у некоторых недоумение, если это «навеки» они будут разуметь в смысле вечности. Если же это слово они, подобно нам, поймут в том точном смысле, что начало будущего века определяется концом века настоящего, то никакого затруднения не возникнет, ибо израильтяне, хотя и изгнаны из Иерусалима, все же живут в других городах земли Ханаанской, и будут там жить до конца; да если бы и христиане населяли всю ту землю, то ведь и они — потомство Авраамово
О граде Божием ___________________________________________________________807
ГЛАВА XXII
Получив это слово обетования, Авраам переселился и стал жить в другом месте той же страны, у дуба Мамрийского, который был в Хевроне. Потом, когда пять царей вели войну против четырех и когда в этой войне неприятели победили было содомлян и увели в плен Лота, Авраам, взяв с собою триста восемнадцать своих домочадцев, освободил его из плена, даровал победу Содомским царям и не захотел ничего из добычи, предложенной ему царем, для которого он одержал победу. Но зато он получил тогда открыто благословение от Мелхиседека, который был священником Бога вышнего (Быт. XIV, 1—20). Об этом много написано в послании «К Евреям», которое считается творением апостола Павла, хотя некоторыми и не признается за таковое. В этом случае впервые объявилось о жертве, которую в настоящее время христиане приносят Богу по всему миру, и исполнилось то, что гораздо позже этого события было сказано через пророка Христу, имевшему прийти во плоти: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. С1Х, 4). Не по чину, то есть, Аарона, ибо чин Аарона должен был уничтожиться, коль скоро явились сами предметы, которые преднамечались теми тенями.
ГЛАВА XXIII
В то же время в видении было слово Господа к Аврааму. Господь обещал ему покровительство и весьма великую награду; но он, озабоченный тем, что у него не было потомства, сказал, что наследником его имеет быть некий Елиезер, его домочадец. Тогда немедленно обещан был ему наследником не этот домочадец, а такой, который должен был произойти от самого Авраама, и при этом предсказано было потомство, многочисленное уже не как песок земной, а как
Блаженный Августин_______________________________________________________808
Блаженный Августин звезды небесные (Быт. XV, 4, 5). Мне кажется, что последним сравнением скорее обещается потомство высокое небесным счастьем. Ибо, что касается множества, то что может быть общего у звезд небесных с песком земным, кроме разве того, что кто–нибудь назовет сравнение подходящим настолько, насколько и звезды небесные не могут быть сосчитаны Нужно думать, однако, что их всех и не увидеть. Чем кто более зорко всматривается, тем больше их он и видит. Отсюда естественно заключить, что некоторые из них невидимы и для самых зорких, тем более, что известно: есть созвездия, которые восходят и заходят в другой, отдаленной от нас части мира. Да и, наконец, хотя некоторые и хвастаются, будто они определили и описали все общее число звезд, как Арат, Евод и другие, им подобные, их уверения не имеют никакого значения перед авторитетом этой книги Здесь же высказывается и то знаменитое суждение, которое упоминает апостол, чтобы показать действие благодати Божией: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. XV, 6; Рим. IV, 3; Гал. III, 6), — высказывается для того, чтобы обрезанные не превозносились и не устраняли необрезанные народы от веры во Христа. Ибо когда случилось так, что вера Авраама вменилась ему в праведность, Авраам еще не был обрезан
.
ГЛАВА XXIV
В том же видении, говоря с Авраамом, Бог сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение» (Быт. XV, 7). Когда Авраам спросил, как узнать ему, что он будет ее наследником, «Господь сказал ему: возьми Мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против друга
О граде Божием___________________________________________________________ 809
„ только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их. При захождении НЬ нца крепкий сон напал на Аврама; и вот, напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авра–мом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефа–имов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев» (Быт. XV, 9—21).
Все это совершилось и было сказано чудесным образом в видении. Разбирать подробно каждую частность сказанного не входит в задачу настоящего сочинения. Но то, что входит в эту задачу, мы должны знать. А именно: если после того, как было сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, он говорит: «Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?» (Быт. XV, 8) (ибо ему была обещана эта земля в наследство), то это не значит, что в нем оскудела вера. Ибо он не спросил: «Откуда я узнаю?», как бы не веря; а говорит: «По чему мне узнать», чтобы предмету его веры представлено было какое–нибудь подобие, по которому он мог бы понять способ осуществления того, во что уверовал. так, например, у Девы Марии не было неверия, когда она спрашивала: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» Она была уверена, что это будет; но спрашивала, каким образом оно будет. И когда спросила,
Блаженный Августин_______________________________________________________810
получила ответ: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лук I, 34, 35).
А в настоящем случае дано было подобие в животных. — в телице, в козе, в овне и в двух птицах, в горлице и голубе, чтобы по ним Авраам узнал то будущее относительно которого, что оно будет, он не сомневался. Итак, обозначен ли был телицею народ, поставленный под иго закона, а козою — тот же народ имевший согрешить; и овном — тот же народ, долженствующий потом царствовать (животные требовались трехлетние на том основании, что этим выделяются три знаменательные периода: от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама и от последнего до Давида, который, по отвержении Саула, первым по воле Господа поставлен был в народе Израильском на царство; и в этом третьем периоде, от Авраама до Давида, народ этот вступил как бы в третий возраст, возраст юности); или же всем этим обозначалось что–нибудь другое, более подходящее: я, во всяком случае, нисколько не сомневаюсь, что добавлением горлицы и голубя прообразованы были живущие по духу. Потому и сказано, что он «только птиц не рассек», что взаимное разделение имеет место только между плотскими, но отнюдь не между духовными. Последние или вовсе удаляются от хлопотливых житейских сношений с людьми, как горлица; или живут между людьми же, как голубь. Та и другая птица, однако же, одинаково чисты и безвредны: этим и обозначается, что и в самом народе Израильском, которому должна была быть отдана эта земля, нераздельно с ним будут пребывать и будущие сыны обетования и наследники Царства в вечном блаженстве. Птицы же, слетающиеся на рассеченные тела, знаменуют не нечто доброе, а воздушных духов, ищущих своего рода пищи для себя в разделениях, происходящих между плотскими. А что сидел вблизи их Авраам, это значит, что даже при разделениях между плотскими верные пребудут справедливыми до конца. А что перед
О граде Божием ___________________________________________________________811
заходом солнца ужас напал на Авраама и страх, означает будущее смятение и великую скорбь неверных перед концом сего века, о котором Господь сказал в Евангелии: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет»
(Мф. XXIV, 21).
Сказанное же Аврааму: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет», представляет собой яснейшее пророчество о народе Израильском, который в недалеком будущем будет порабощен в Египте. Не то предсказывается здесь, что народ этот проведет в рабстве под гнетом египтян все четыреста лет, а то, что это произойдет в течение данного четырехсотлетнего периода. Как о Фарре, отце Авраама, сказано: «И было дней жизни Фарры двести пять лет» (Быт. XI, 32) не потому, что он провел все эти годы в Харране, а потому, что там они ему исполнились; так и здесь прибавлено: «И поработят их, и будут угнетать их четыреста лет» потому, что число это исполнилось во время самого угнетения, а не потому, что все это время было проведено в нем. Упоминаются здесь четыреста лет, конечно, для округления, ибо в действительности их было несколько больше, — считать ли с того времени, когда Аврааму давалось это обетование, или с того, когда родился Исаак, как семя Авраамово, к которому относится предсказание. Ибо, как мы уже сказали выше, от первого обетования Аврааму, бывшего ему на семьдесят пятом году жизни, до исхода израильтян из Египта, считается четыреста тридцать лет; о чем так говорит апостол: «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу» (Гал. III, 17). И эти четыреста тридцать лет могли быть названы четырьмястами, так как их было немногим более; кроме того, некоторое количество их уже прошло к тому времени, в которое
Блаженный Августин_______________________________________________________812
все это было показано и сказано Аврааму в видении; а еще более тогда, когда от столетнего отца родился Исаак, т. е. спустя двадцать пять лет после первого обетования. Тогда из упомянутых четырехсот тридцати лет оставалось только четыреста пять, которые Господь и назвал четырьмястами.
Что и последующие слова пророчества Божия относятся к народу Израильскому, в том никто не усомнится. Но то, что прибавляется: «Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными», — то уже означает, что в конце века для плотских будет суд огненный. Подобно тому, как угнетение града Божия, какого прежде никогда не бывало и какое ожидается во время антихриста, обозначается страхом Авраама при заходе солнца, т. е. при приближении конца века, — огонь после захода солнца, т. е. в сам момент конца мира, означает день суда, разделяющий плотских для спасения через огонь и для осуждения в огонь. Завещанный же затем Аврааму завет приводит в известность собственно землю Ханаанскую и пересчитывает в ней одиннадцать народов, от реки Египетской до великой реки Евфрата. Это не от великой Египетской реки, Нила, а от малой, которая разделяет Египет и Палестину в том месте, где находится город Ринокорура.
ГЛАВА XXV
Затем следуют уже времена сыновей Авраама: одного от Агари, рабыни, другого от Сарры, о которых мы сказали уже в предыдущей книге. Притом, что касается самого факта, упомянутую наложницу никоим образом нельзя вменять Аврааму в преступление. Он употребил ее, чтобы произвести потомство, а не для удовлетворения похоти. При этом он не нарушал верности супруге, а повиновался ей: она думала, что
О граде Божием___________________________________________________________ 813
найдет утешение в своем неплодии, когда плодовичрево рабыни обратит в свое собственное если не естественным порядком, что было невозможно, то по крайней мере, актом своей воли; и тем правом жены, о котором говорит апостол: «Равно и муж не властен над своим телом, но жена» (I Кор.УИ, 4), воспользуется для рождения из другой, если не могла воспользоваться для рождения из самой себя. Ни похоти сладострастия, ни гнусного распутства здесь нет. Жена дает мужу рабыню для произведения потомства, муж ради потомства принимает ее. И тот и другая думают не о преступной похоти, а о естественном плоде. Когда потом беременная рабыня начинает гордиться перед госпожою неплодною, и Сарра из женской подозрительности винит в этом главным образом мужа, Авраам и в этом случае доказывает, что он был не раб–любовник, а свободный родитель, и перед Агарью сохранил целомудренную верность супруге Сарре: удовлетворил не свою похоть, а ее желание; принял рабыню, но не искал ее; вошел к ней, но не привязался к ней; обсеменил, но не полюбил. Он сказал: «Вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно» (Быт. XVI, 6). О, муж, употребляющий женщин как надлежит мужу: супругу умеренно, рабыню из послушания, и каждую воздержанно!
ГЛАВА XXVI
После этого родился от Агари Измаил, в лице которого Авраам мог видеть исполнение того, что обещано было ему, когда он хотел усыновить раба, словами Божиими: «Не будет он твоим наследником; но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником» (Быт. XV, 4). Но чтобы он не подумал, что обетование уже исполнилось в сыне рабыни, когда ему было девяносто девять лет, «Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо
Блаженный Августин_______________________________________________________814
Мною и будь непорочен: и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя, и пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя: Авраам; ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет Мой между тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши вся-, кий младенец мужеского пола, рожденный в доме и | купленный за серебро у какого–нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего; ибо он нарушил завет Мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою; но да будет имя ей: Сарра. Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, — неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!
О граде Божием___________________________________________________________ 815
же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе а и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю за–сын мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его и возвращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на Другой год» (Быт. XVII, 1—21).
На этот раз уже явственнее даются обетования о призвании народов в Исааке, т. е. сыне обетования, который служит образом благодати, а не природы, потому что обещается сын от старика и старухи, к тому же и неплодной. Хотя Бог устраивает рождение и естественным путем, но где, при повреждении и бездействии природы, очевидно действие Божие, там естественнее разуметь действие благодати. А так как это имело совершиться не через рождение, а через возрождение, то вместе с обетованием сына от Сарры было заповедано и обрезание. А что Бог повелевает обрезать всех, не только сынов, но и рабов, домочадцев и купленных, то этим показывается, что благодать относится ко всем. Ибо что другое значит обрезание, как не возобновление, по отложении ветхости, природы? И что иное обозначает восьмой день, как не Христа, Который по истечении седьмицы, т. е. после субботы, воскрес? Изменяются даже имена родителей; все носит печать новизны, и Заветом Ветхим осеняется Новый. Ибо что называется заветом Ветхим, как не прикровение Нового, и что — Новым, как не откровение Ветхого? Смех Авраама — восторг радости, а не насмешка неверия. Также и слова его в мысли своей: «Неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?», — слова не сомневающегося, а удивляющегося.
Если же сказанное: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное», возбудит в
Блаженный Августин_______________________________________________________816
ком–нибудь недоумение относительно того, каким образом это исполнилось или должно исполниться, когда никакой народ не может иметь вечного обладания землею, то такой пусть знает, что наши перевели словом аесеггшт (вечное) то, что греки выражают словом сиотоу, (хотя мы и) переводим аио\ как 5аеси1ит (век). Но латиняне не решились перевести это (аштоу) словом 5аеси1аге, чтобы не придать месту совершенно иного смысла. Ибо этим словом называется многое такое из совершающегося в этом мире (5аеси1о), что имеет весьма короткий срок существования; между тем как то, что называется ашжоу, или не имеет конца, или оканчивается с концом этого века (мира)
ГЛАВА XXVII
Может также возникнуть недоумение относительно того, как нужно понимать сказанное в этом месте: «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего; ибо он нарушил завет Мой». Со стороны младенца, душа которого обрекается на погибель, в этом нет никакой вины, не он в этом случае нарушил завет Божий, а родители, которые не позаботились обрезать его. Остается думать, что и младенцы не своим личным образом жизни, а по общему происхождению человеческого рода нарушили завет Божий в том одном человеке, в котором все согрешили (Рим. V, 12). Действительно, кроме известных двух великих заветов, Ветхого и Нового, упоминается много других заветов Божиих. Каждый может убедиться в этом, прочитав Писания. Первый же завет, заключенный с первым человеком, без сомнения, следующий: «В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. II, 17). Если впоследствии был дан и более ясный закон, и апостол гово–1
О граде Божием ___________________________________________________________817
рит: «Где нет закона, нет и преступления» (Рим IV, 15~), то каким все же образом было бы верно то, что читается в псалме: «Как изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли» (Пс СХУШ, 119), если бы не все, совершившие какой–либо грех, не были бы виновны в нарушении какого–либо закона? Поэтому если даже младенцы, как утверждает истинная вера, рождаются с грехом не личным, а первородным, и мы признаем, что и им необходима благодать отпущения грехов, то поскольку они грешники, постольку признаются и нарушителями того закона, который дан был в раю; так что и то и другое из написанного и приведенного выше оказывается верным
Следовательно, если обрезание было знаком возрождения; и младенца, по причине первородного греха, не напрасно губит рождение, если не спасает возрождение, то вышеприведенные божественные слова следует понимать так, как бы ими говорилось «Кто не будет возрожден, погибнет та душа от народа своего; потому что нарушил завет Мой, когда вместе со всеми согрешил в Адаме». Если бы Господь сказал: «Нарушил этот завет Мой», тогда было бы необходимо разуметь, что говорится об обрезании Но так как Он не сказал, какой именно завет нарушил младенец, то этим дается понять, что это сказано о том завете, нарушение которого может относиться и к младенцу. Если же кто–либо будет настаивать, что это сказано именно об обрезании — что младенец нарушил только относительно его завет Божий, потому что не обрезан, — то пусть он отыщет какой–нибудь такой оборот речи, в котором бы без особой несообразности выражалась мысль, что младенец потому нарушил завет, что он нарушен хотя и не им, но в нем. Но и в этом случае следует принять в соображение, что душа необрезанного дитяти, неповинная в личной небрежности, не подвергалась бы несправедливой гибели, если бы не была повинна в первородном грехе.
Блаженный Августин_______________________________________________________818
ГЛАВА XXVIII
Итак, когда было дано такое великое и такое вразумительное обетование Аврааму, которому яснейшим образом было сказано: «Я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя… Я благословлю ее (Сарру), и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее», — обетование ныне на наших глазах исполнившееся во Христе, то вслед за тем эти супруги в Писании уже не называются, как назывались прежде: Аврам и Сара, но так, как называли мы их с самого начала, руководствуясь их общепринятыми именами: Авраам и Сарра. Причина перемены имени Авраама прямо оговаривается: «Я сделаю тебя отцом множества народов». Имя Авраам, следовательно, имеет именно это значение. Аврам же, как он назывался прежде, в переводе значит: высокий отец. Причины перемены имени Сарры не указано, но, как говорят занимавшиеся толкованием еврейских имен, содержащихся в этих священных Писаниях, имя Сара в переводе значит: госпожа моя, а имя Сарра — сила. Поэтому и написано в послании к Евреям: «Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени» (Евр. XI, 11).
Оба они, как свидетельствует Писание, были стариками; но она сверх того была и неплодна; и месячные очищения у нее уже прекратились, так что она не могла бы уже рождать, если бы даже и не была неплодной. Далее, если женщина преклонного возраста находится в таком состоянии, что обычное женское у нее еще продолжается, то от юноши она родить может, а от старика — нет; хотя тот же самый старик еще мог бы родить, но только от молодой девицы, как Авраам, по кончине Сарры, смог родить от Хеттуры, так как взял ее еще в пылком возрасте. В этом–то апостол и видит чудесную сторону, это он
О граде Божием___________________________________________________________ 819
имеет в виду, когда говорит, что тело у Авраама «уже омертвело» (Рим. IV, 19); потому что не от всякой женщины, которая доживала последние дни периода плодородия, он мог еще родить, будучи сам в таком возрасте. Омертвелость плоти мы здесь должны разуметь только относительно чего–либо одного, а не всего. Если бы относительно всего, то это был бы уже труп, а не дряхлое тело живого. Решают, впрочем, этот вопрос и в том смысле, что Авраам был в состоянии родить потом от Хеттуры потому, что дар рождения, полученный им от Господа, остался у него и по кончине жены. Но мне кажется, что предлагаемое нами решение лучше. Ибо, хотя всякий столетний старик нашего времени не может уже родить ни от какой женщины, но в то время, когда жили еще так долго, сто лет еще не делали человека дряхлым стариком.
ГЛАВА XXIX
Затем снова Господь явился Аврааму у дубравы в Мамре в образе трех мужей, которыми, без сомнения, были ангелы; хотя некоторые полагают, что одним из них был Христос, утверждая, что Он мог быть видимым еще до облечения во плоть*. Конечно, божественной власти и невидимой, бестелесной, неизменяемой божественной природе доступно открываться взорам смертных безо всякого со своей стороны изменения, — открываться не тем, что она есть, а под чем–нибудь таким, что ей подвластно. А что ей не подвластно? Но если только потому утверждают, что между этими тремя был Христос, что Авраам видел троих, а обращался в единственном чис-
* Так учили, в частности, Тертуллиан («О плоти Христа», гл. 6; «Против иудеев», гл. 9, «Против Маркиона», кн. 2, гл. 27; кн. 5, гл. 9), Иустин Мученик («Разговор с Трифоном иудеем»), Ириней, Евсевий.
Блаженный Августин_______________________________________________________820
только к Господу, как написано: «Вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. XVIII, 2, 3), и т. д.; то почему же они не обращают внимания на то, что содомлян пошли истребить только двое из них, между тем как Авраам продолжал говорить с одним, называя его Господом и ходатайствуя, чтобы праведного Он не погубил с нечестивым? Ведь и тех двоих Лот также называл в своем разговоре с ними в единственном числе Господом. Хотя он обращался к ним и во множественном числе, говоря: «Государи мои! зайдите в дом раба вашего», — и прочее, о чем там упоминается; но зато после читаем: «Владыка! вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими», и прочее. После этих слов и Господь отвечает ему в единственном числе, хотя был в лице двух ангелов: «Вот, в угодность тебе Я сделаю и это», и т. д. (Быт. XIX, 2—21). Поэтому гораздо вероятнее, что и Авраам в трех, и Лот в двух мужах видели того же Господа, с которым говорили в единственном числе; хотя и думали, что это люди. Последнее было причиной того, что , они приняли их именно так, т. е. что служили им как смертным, нуждающимся в человеческом отдохновении; но при этом, без всякого сомнения, в них, хотя и подобных людям, было видимо такое превосходство, что оказывавшие им гостеприимство не могли сомневаться, что в них пребывал Господь, как обыкновенно пребывал в пророках; поэтому–то они называли их самих во множественном числе, а Господа в лице их — в единственном. А что это были ангелы, о том свидетельствует Писание не только в книге Бытия, где об этом рассказывается, но и в послании к Евреям, в том месте, где хвалится гостеприимство: «Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. XIII, 2). Итак, через этих трех мужей, при вторичном
О граде Божием ___________________________________________________________821
обещании Аврааму от Сарры сына Исаака, высказано было и такое божественное определение: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли» (Быт. XVIII, 18). И в этом определении кратчайшим и полнейшим образом изречены два прежние обетования: относительно народа Израильского по плоти, и относительно всех народов по вере.
ГЛАВА XXX
Когда после этого обетования Лот был выведен из Содома и сошел с неба огненный дождь, то была обращена в пепел вся та область нечестивого города, в котором бесстыдство среди мужчин настолько вошло в обычай, насколько законы предоставляют обыкновенно свободу иным действиям. И это наказание содомлян было прообразом будущего суда божественного. Ибо какой имеет смысл запрещение со стороны ангелов освобожденным озираться назад, как не тот, что если мы желаем избежать последнего суда, то не следует возвращаться душою к ветхой жизни, которой совлекается возрожденный действием благодати? Поэтому и жена Лота осталась на том месте, с которого оглянулась, и обратившись в соль, представила собою для верных своего рода приправу, чтобы умудрить их относительно того, что им надлежит опасаться этого примера.
После этого Авраам в Гераре перед царем того города Авимелехом снова поступил по отношению к жене своей так, как поступил в Египте, и подобным же образом она была возвращена ему неопороченной. Когда царь стал укорять Авраама за то, что тот не сказал о том, что она ему жена, а назвал сестрою, то, указывая причину своего опасения, Авраам прибавил и следующее: «Да она и подлинно сестра мне; она дочь отца моего» (Быт. XX, 12). По отцу она, действительно,
Блаженный Августин_______________________________________________________822
была сестрой Аврааму, и с этой стороны была ему родственницей. Красота же ее была столь велика, что и в тогдашнем своем возрасте она могла внушать любовь.
ГЛАВА XXXI
После этого по обетованию Божию у Авраама родился от Сарры сын, которого он назвал Исааком, что в переводе значит смех. Ибо в радостном удивлении смеялся и отец, когда он был ему обещан, смеялась в радостном сомнении и мать, когда он снова был обещан вышеупомянутыми тремя мужами; хотя смех последней не был одобрен ангелом, потому что, будучи даже радостным смехом, он не соединялся с полнотою веры. Потом она была утверждена в вере тем же самым ангелом. От этого–то и получил свое имя отрок. Когда Исаак родился и был назван этим именем, сама Сарра показала, что смех этот клонился не к осмеянию чего–либо позорного, а к выражению радости; ибо она сказала тогда: «Смех сделал мне Бог; кто не услышит обо мне, рассмеется» (Быт. XXI, 6). Через некоторое время изгоняется из дома служанка со своим сыном и дается, согласно апостолу, преобразование двух заветов, Ветхого и Нового; причем Сарра представляет собою образ вышнего Иерусалима, града Божия.
ГЛАВА XXXII
В числе прочего, о чем рассказывать было бы слишком долго, Авраам подвергается искушению повелением умертвить этого любимейшего своего сына Исаака, чтобы благочестивое послушание его сделалось очевидным, — очевидным не для Бога, а для последующих веков. Не всякое искушение заслуживает
О граде Божием ___________________________________________________________823
порицания. Есть искушения, которые должны приниматься с радостью, так как ими испытывается добродетель. И по большей части душа человеческая не в состоянии бывает уяснить себя себе же самой иначе, как отвечая на вопросы, задаваемые ее же собственным силам не словом, а опытом, своего рода искушением; если же в этом признает она дело Божие, тогда она благочестива, укрепляется сигою благодати и не наполняется суетным тщеславием, Авраам, несомненно, отнюдь не думал, что Бог находит удовольствие в человеческих жертвах; но прогремела заповедь Божия, и нужно было повиноваться, а не рассуждать.
Впрочем, в похвалу Аврааму нужно сказать, что он верил, что сын его тотчас же по заклании воскреснет. Ибо, когда он не хотел исполнить воли своей супруги и изгнать из дома служанку с ее сыном, Бог говорил ему: «В Исааке наречется тебе семя» (Быт. XXI, 12); а вслед за тем прибавлено: «И от сына рабыни твоей Я произведу народ, потому что он семя твое» (Быт. XXI, 7). Итак, какой же смысл выражения: «В Исааке наречется тебе семя», если Бог и Измаила назвал его же семенем? Апостол, объясняя это, говорит: «То есть, не плотские дети суть дети Божий; но дети обетования признаются за семя» (Рим. IX, 8). Оказывается, что сыны обетования, чтобы быть семенем Авраама, нарекаются в Исааке, то есть собираются во Христе, призываемые благодатью.
Твердо помня это обетование, которое должно было исполниться через того, кого Бог повелевал убить, благочестивый отец и не усомнился, что ему может быть возвращен закланный, ибо он был и дан нежданным. Так это понято и объяснено и в послании к Евреям. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «в Исааке наречется тебе семя»; ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование»
Блаженный Августин_______________________________________________________824
(Евр. XI, 17—19). В чем смысл этой притчи, как не в том, о чем говорит тот же апостол: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим. VIII, 32)? Поэтому–то, как Господь нес Свой крест, так и Исаак сам нес для себя на место жертвоприношения дрова, на которые должен был быть возложен. Наконец, поскольку Исааку не надлежало быть убитым после того, как отцу его запрещено было поднимать на него руку, — кто был тот овен, закланием которого закончилось знаменательное кровавое жертвоприношение? Когда Авраам увидел его, он стоял, запутавшись рогами в кустах. Кого таким образом представлял он собою, как не Иисуса, увенчанного перед Своим закланием иудейским тернием?
Но выслушаем лучше божественные слова, сказанные ангелом. Писание говорит: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». Сказано «теперь Я знаю» в том смысле, что теперь это сделалось известным; ибо Бог знал это и прежде. Затем, по принесении в жертву вместо сына Исаака овна, Писание говорит: «И нарек Авраам имя месту тому: Иегова–ире (Господь усмотрит). Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится». Подобно тому, как там сказано «теперь Я знаю» вместо «теперь Я сделал это известным», так и здесь: «Господь усмотрит», вместо: «Господь явился», т. е. сделал Себя видимым. «И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба, и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и
О граде Божием ___________________________________________________________825
овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. XXII, 10— 18). Таким образом, это обетование Божие о призвании народов в семени Авраама после всесожжения, означавшего Христа, подтверждено было еще и клятвой. Часто обещал Бог прежде, но никогда не клялся. А что значит клятва истинного и праведного Бога, как не подтверждение обетования и некоторый укор неверующим' После этого умерла Сарра на сто двадцать седьмом году своей жизни и на сто тридцать седьмом году жизни своего мужа. Последний был старше ее на десять лет. Так говорит он сам, когда ему обещан был от нее сын: «Неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» (Быт. XVII, 17). В это время Авраам купил поле, на котором похоронил жену. Следовательно, именно в это время, по словам Стефана (Деян. VII, 4), он и поселился в той земле, потому что сделался там землевладельцем по смерти отца своего, который представляется умершим за два года до этого.
ГЛАВА XXXIII
Потом Исаак, будучи уже сорока лет, взял себе в жены Ревекку, внучку Нахора, дяди своего по отцу, на сто сороковом году жизни отца и спустя три года по смерти матери. Когда отец его посылал за нею раба в Месопотамию и сказал ему: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев» (Быт. XXIV, 2, 3), то что другое это означало, как не то, что Господь Бог неба и земли должен был прийти во плоти, которая извлечена из этого стегна? Неужто и это — недостаточное указание на предвозвещенную истину, исполнение которой мы видим во Христе?
Блаженный Августин_______________________________________________________826
ГЛАВА XXXIV
Но что значит, что Авраам, по смерти Сарры, взял себе в жены Хеттуру? Само собою разумеется, что в этом случае мы не должны предполагать невоздержания, особенно в таком уже возрасте и при такой святости веры. Неужели требовалось еще рождать сыновей, когда и без того с верою, вполне испытанной, ожидалось от Исаака размножение сыновей в количестве звезд небесных и песка земного? Но если, по учению апостола, Агарь и Измаил знаменовали плотских Завета Ветхого (Гал. IV, 24), то почему бы Хеттуре и ее сыновьям не означать тех плотских, которые думают, что принадлежат к Завету Новому? Обе ведь они названы и женами, и наложницами Авраама, тогда как Сарра ни разу не была названа наложницей. Так, когда Агарь была дана Аврааму, написано: «И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену» (Быт. XVI, 3). И о Хеттуре, взятой им по кончине Сарры, читаем: «И взял Авраам еще жену, именем Хеттура» (Быт. XXV, 1). Здесь обе они называются женами. А далее обе оказываются наложницами. После Писание говорит: «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки, и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную» (Быт. XXV, 5,6).
Итак, и сыны наложниц имеют некоторые дары; но в обетованное царство не переходят ни еретики, ни плотские иудеи, потому что другого наследника, кроме Исаака, нет, и «не плотские дети суть дети Божий; но дети обетования признаются за семя» (Рим. IX, 8), о котором сказано: «В Исааке наречется тебе семя» (Быт. XXI, 12). И я не вижу, по чему иному Хеттура, взятая в замужество по смерти жены, называется наложницей, как не в силу именно этой тайны. Но
О граде Божием ___________________________________________________________827
и те, которые не желают видеть этого в данных предзнаменованиях, пусть не порицают Авраама. Разве не может быть так, что в этом случае дано предостережение будущим еретикам, противникам вторых браков, тем, что на примере самого отца многих народов показано, что по кончине супруги вступать снова в брак не есть грех? И умер Авраам в сто семьдесят пять лет. Следовательно, он оставил сына Исаака семидесяти пяти лет, ибо родил его на сотом году жизни.
ГЛАВА XXXV
Теперь перейдем к рассмотрению временных судеб града Божия в потомстве Авраамовом. Итак, в период жизни Исаака, начиная с первого года ее и до шестидесятого, когда родились у него сыновья, достойно замечания следующее. Когда вследствие молитв его к Богу, чтобы неплодная жена его родила, Господь соизволил дать ему просимое, и жена его зачала, то близнецы, будучи еще в утробе матери, производили сильные движения. Терпя от этого болезненные ощущения, она вопросила Господа и получила ответ-. «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему» (Быт. XXV, 23). Апостол Павел видит в этом великое доказательство благодати: потому что еще до рождения их, прежде чем они сделали что–нибудь доброе или дурное, безо всяких заслуг избирается меньший, а больший отвергается (Рим. IX, 11 — 13). Ибо не подлежит сомнению, что относительно первородного греха они оба были равны, а греха собственного ни тот, ни другой не совершили никакого. Но в настоящее время говорить об этом предмете подробнее не позволяет задача предпринятого нами труда, тем более, что в других сочинениях мы уже многое сказали об этом.
Блаженный Августин_______________________________________________________828
А что сказано: «Больший будет служить меньшему», то почти никто из наших иначе и не понимал этого, как в том смысле, что старший народ, иудейский, будет служить младшему народу, христианскому. И действительно, хотя это может казаться исполнившимся на народе идумейском, произошедшем от старшего (который назывался Исавом и Едомом, откуда и иду–меи); так как впоследствии их должен был победить и подчинить своей власти народ, произошедший от меньшего, т. е. народ израильский: тем не менее, быстрее верится, что это пророчество имеет в виду нечто более важное. А что это, как не то, что наглядно исполняется на иудеях и христианах?
ГЛАВА XXXVI
Получил такое же откровение, какое несколько раз получал отец его, и Исаак. Об этом откровении написано так: «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама; и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе. Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благословлю тебя: ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные; и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт. XXVI, 1—5). Этот патриарх не имел ни второй жены, ни наложницы, а довольствовался потомством из двух близнецов, родившихся от одного ложа. Точно так же и он боялся за красоту своей супруги, когда жил между чужими, и поступил как отец, назвав ее сестрою и умолчав, что она ему жена: потому что и
О граде Божием___________________________________________________________ 829
она была ему ближнею по отцовской и материнской крови; и она точно так же осталась неприкосновенной, когда чужеземцы узнали, что она ему жена.
Тем не менее, мы не должны ставить его выше отца его на том основании, что он не знал другой женщины, кроме одной супруги. Ибо нет никакого сомнения, что у отца его были более важные заслуги веры и послушания, причем настолько большие, что Бог говорил, что только ради его отца Он делает ему то добро, какое делает: «Благословятся в семени твоем, — сказал Он, — все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои». И опять же, в другом откровении: «Не бойся, ибо Я с тобою; и благословлю тебя, и умножу потомство твое, ради Авраама, раба Моего» (Быт. XXVI, 24). Из этого мы должны понять, как целомудренно поступал Авраам в том, что людям бесстыдным и старающимся найти непотребству своему опору в святых Писаниях кажется делом похоти. Сверх того, мы должны знать, что людей следует сравнивать одного с другим не по одиночному какому–нибудь в них добру, а в каждом брать во внимание все. Может случиться, что в жизни и нравах одного человека есть нечто такое, чем он превосходит другого, и это нечто гораздо предпочтительнее, чем то, чем возвышается над ним другой. Поэтому, на здравый и истинный взгляд, хотя воздержание и предпочитается супружескому состоянию, однако человек верный, состоящий в супружестве, достойнее неверного, но воздерживающегося. Неверный человек не только менее заслуживает похвалы, но даже достоин отвращения. Представим себе, что оба они — добрые люди; и в таком случае, несомненно, будет лучшим состоящий в супружестве, но вернейший и послушнейший Богу, чем менее послушный и верный, хотя и воздерживающийся. Разумеется, если все прочее у них равно, то кто усомнится воздерживающегося предпочесть находящемуся в брачном состоянии?
Блаженный Августин_______________________________________________________830
ГЛАВА XXXVII
Итак, два сына Исаака, Исав и Иаков, растут одинаково. Первородство старшего переходит к меньшему по добровольному между ними условию и согласию: потому что старшему слишком захотелось чечевицы, которую готовил в пищу младший, и за нее он с клятвою продал брату свое первородство. Это дает нам урок, что не род пищи ставится в вину, а неумеренная жадность. Между тем, состарился Исаак, и глаза его от глубокой старости теряют зрение. Хочет он благословить своего старшего сына, и по неведению, вместо старшего, который был косматым, благословляет меньшего, который подставляет себя под отцовские руки, обложившись козьими шкурками, как бы взяв на себя чужие грехи Чтобы это лукавство Иакова мы не сочли за коварное лукавство, а видели в нем глубокий таинственный смысл, Писание сказало перед тем: «Стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах» (Быт. XXV, 27). Некоторые из наших перевели это — «человеком нелукавым». Но перевести ли то, что по–гречески называется апАасто^ словами «прямодушный»*, или «нелукавый», или «бесхитростный», — во всяком случае, что это за лукавство при получении благословения, в котором нет лукавства? Что это за прямодушное лукавство, что это за хитрость бесхитростного, как не глубокое таинство истины?
А каково само благословение? Исаак говорит: «Вот, запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Господь от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена;
' У Августина написано. «А Иаков человеком прямодушным, живущим в шатрах».
О граде Божием __________________________________________________________831
будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя — прокляты; благословляющие тебя — благословенны!» (Быт. XXVII, 27—29). Итак, благословение Иакова — прославление Христа во всех народах. Это есть, это совершается. Исаак — это закон и пророчество: они даже устами иудеев, как бы без собственного ведома, потому что остаются непонятыми, благословляют Христа. Запахом имени Христова наполняется мир, как нива. В нем это благословение «от росы небесной», т. е. от дождя божественных слов, «и от тука земли», т. е. от собрания народов. У Него множество хлеба и вина, т. е. то множество, которое представляет собою хлеб и вино в таинстве тела и крови Его. Ему служат народы. Ему поклоняются князья. Он — господин брата своего, ибо народ Его господствует над иудеями. Ему поклоняются сыновья отца Его, т. е. сыновья Авраама по вере, потому что и сам Он — сын Авраама по плоти. Проклинающий Его, — проклят, и благословляющий Его, — благословен. Говорю, что Христос наш благословляется, т. е. истинно называется даже устами иудеев, которые, хотя и заблуждаются, но все же поют псалмы и Пророков; а другой, которого они в заблуждении своем ожидают, только кажется благословляемым.
Вот старший брат начинает просить обещанного благословения. Ужаснулся Исаак, и, узнав, что благословил одного вместо другого, удивляется и расспрашивает, кто это был. Однако же он не жалуется, что был обманут; напротив, получив тотчас же в глубине души своей откровение о великом таинстве, устраняет негодование, подтверждает благословение. «Кто же это, — сказал он, — который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? он и будет благословен» (Быт. XXVII, 33). Делайся это не по небесному вдохновению, а по обычаю земному, — кто не стал бы ожидать в этом случае скорее проклятия со стороны разгневанного?
Блаженный Августин______________________________________________________832
О, дела, совершавшиеся в действительности, но совершавшиеся пророчески; совершавшиеся на земле, но по небесному; совершавшиеся людьми но божественным образом! Если начать разбирать частности, плодовитые такими таинствами, то придется написать много книг. Необходимость же дать настоящему труду умеренные границы побуждает нас торопиться к другому.
ГЛАВА XXXVIII
Родители посылают Иакова в Месопотамию, чтобы он там взял себе жену. Вот напутственные слова его отца: «Не бери себе жены из дочерей Ханаанских Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Давана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов; и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму» (Быт. XXVIII, 1—4). Здесь мы уже видим, что семя Иакова отделяется от другого семени Исаака, которое шло чрез Исава. Ибо, когда сказано было: «В Исааке наречется тебе семя» (Быт. XXI, 12), несомненно принадлежащее граду Божию, то этим самым выделено было и другое семя, шедшее через сына рабыни, равно и то, которое должно было возродиться в сыновьях Хеттуры. Но существовало пока сомнение относительно двух близнецов Исаака: на обоих ли или на одного из них, и если на одного, то на кого именно простиралось известное благословение. Теперь это объясняется, ибо отец пророчески благословляет Иакова и говорит ему: «Да будет от тебя множество народов; и да даст тебе благословение Авраама, тебе, и потомству твоему с тобою».
О граде Божием ___________________________________________________________833
Отправившись после этого в Месопотамию, Иаков получил во сне предсказание, о котором написано так «Иаков же вышел из Вирсавии, и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней с того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный; и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль'» (Быт. XXVIII, 10—19). Все это имеет значение пророчества. И Иаков возлил елей на камень не по обычаю идолопоклонников, как бы делая камень богом; ибо он не поклонился этому камню и не принес ему жертвоприношения: но так как имя Христа производится от хрисмы, то есть помазания, то, несомненно, здесь было прообразовано нечто, относящееся к великому таинству. О камне этом, очевидно, напоминает нам сам Спаситель наш в Евангелии. Сказав о Нафанаиле: «Вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства», Он в том же самом месте, поскольку Израиль, он же
* Дом Божий.
Блаженный Августин_______________________________________________________834
Иаков, видел упомянутое видение, говорит: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Иоан. 1,47, 51).
Пришел Иаков в Месопотамию за женой, но там пришлось ему получить сразу четырех жен, от которых он родил двенадцать сыновей и одну дочь, хотя божественное Писание показывает, что ни одной не вожделел он непозволительным образом. Приходил он взять одну; но когда ему подставлена была вместо одной другая, он не бросил и эту, чтобы не показалось, будто он хотел сделать ее предметом осмеяния, употребив ее по неведению ночью. А так как никакой закон в то время не запрещал ради умножения потомства иметь много жен, он взял и ту, которой одной, как будущей супруге, дал обещание. Когда эта оказалась неплодной, она дала мужу своему служанку, чтобы получить от нее себе сыновей; по примеру ее поступила и старшая сестра, хотя и имевшая детей, но желавшая увеличить потомство. Сам Иаков, как видно из Писания, не желал более одной жены и сочетался со многими только по обязательности рождения детей, сохранив права супружества; так что он и не сделал бы этого, если бы жены его, имевшие над телом мужа своего законную власть, столь настойчиво не требовали этого от него. Таким образом, он родил от четырех жен двенадцать сыновей и одну дочь. Потом он вошел в Египет благодаря сыну своему Иосифу, который, будучи продан завистливыми братьями, был отведен туда и там возвысился.
ГЛАВА XXXIX
Как я заметил несколько выше, Иаков называется еще Израилем, — именем, которое по преимуществу удержал за собою произошедший от него народ. Имя это дал ему ангел,
О граде Божием___________________________________________________________ 835
который на обратном пути его из Месопотамии боролся с ним, ясно представляя собою образ Христа. Что Иаков поборол Его, по Его же изволению, чтобы этим обозначить таинство, — это не что иное, как страдание Христа, во время которого иудеи представляются осилившими Его. Тем не менее, от того же ангела он испросил благословение, и наречение его упомянутым именем и было этим благословением. Израиль в переводе значит видящий Бога; что и будет последнею наградой всем святым. Кроме того, тот же ангел, когда Иаков как бы пересиливал, прикоснулся к жиле бедра его и таким образом отпустил его хромым (Быт. XXXII, 24—29). Итак, один и тот же Иаков получил и благословение, и хромоту: благословение в лице тех, которые из его же народа уверовали во Христа, а хромоту — в лице неверных, ибо жила бедра означает многочисленность рода; а много есть людей в том племени, о которых пророчески предсказано: «…трепещут в укреплениях своих» (Пс. XVII, 46).
ГЛАВА
Рассказывается, что с Иаковом вошло в Египет семьдесят пять' человек, считая его самого с сыновьями (Быт. ХЬУ1, 27). Женщин в том числе упоминается только две: одна дочь, другая внучка. Но если рассмотреть дело внимательно, то в день или год вступления Иакова в Египет потомство его не доходило до этого числа. Упоминаются, например, правнуки Иосифа, которые никак не могли жить уже в то время; ибо Иакову тогда было сто тридцать лет, а сыну его, Иосифу, тридцать девять. Так как известно, что Иосиф женился на тридцатом или даже более чем на тридцатом году своей жизни (Быт. ХП, 45,4о), то каким образом он
Блаженный Августин_______________________________________________________836
мог через девять лет иметь правнуков от сыновей, рожденных от одной и той же жены? Итак, если сыновья Иосифа, Ефрем и Манассия, не имели даже детей, и Иаков, вошедши в Египет, застал их менее чем девятилетними отроками, то каким образом в числе тех семидесяти пяти, которые вместе с Иаковом вошли в Египет, упоминаются не только сыновья, но и внуки их? Ибо там упоминается и о Махире, т. е. Галааде, внуке Манассии, правнуке Иосифа. Есть в том числе и рожденный от Ефрема, другого сына Иосифова, Суталаам, внук Иосифа; и сын самого Суталаама, Едем, внук Ефрема, правнук Иосифа. Все они никоим образом не могли жить в то время, когда Иаков пришел в Египет и застал сыновей Иосифа, своих внуков, дедов упомянутых здесь, отроками менее чем девяти лет. Но под приходом Иакова в Египет, когда под этим понимается переселение семидесяти пяти душ, разумеется, несомненно, не один день или год, а все то время, пока жил Иосиф, который и был причиной переселения. Ибо о самом Иосифе то же самое Писание говорит так: «И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода». Упомянутый правнук его от Ефрема и есть этот третий. Говоря о третьем роде, Писание разумеет сына, внука и правнука. Далее говорится: «Также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колена Иосифа» (Быт. Ь, 22,23). И это тоже внук Манассии, правнук Иосифа. Назван он во множественном числе по обычаю Писания: оно и одну дочь Иакова назвало дщерьми. Это свойственно и латинскому языку, в котором дети зовутся сыновьями, хотя бы их было не более одного. Итак, если выставляется на вид личное счастье Иосифа, заключавшееся в том, что он смог увидеть своих правнуков, то никоим образом не следует думать, будто они существовали уже на тридцать девятом году жизни своего прадеда Иосифа, когда пришел к нему в Египет отец его, Иаков. В заблуждение
О граде Божием __________________________________________________________837
вводит менее внимательных читателей выражение Писания: «Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его» (Быт. ХЬУ1, 8). Это сказано в том смысле, что всех их вместе с ним считалось семьдесят пять душ, а не в том, чтобы все они уже были, когда он входил в Египет. Под приходом, как я уже сказал, разумеется все время, в продолжение которого жил Иосиф, введший его в Египет.
ГЛАВА ХП
Итак, если, имея в виду народ христианский, в лице которого странствует град Божий на земле, мы станем искать плоть Христа в семени Авраама, то, по исключении сыновей его от наложниц, предстает пред нами Исаак; если в семени Исаака, то, по устранении Исава, предстает Иаков, он же и Израиль; если же в семени самого Израиля, то, по исключении прочих, предстает пред нами Иуда, ибо Христос — от колена Иуды. Выслушаем же поэтому, как Израиль пророчески благословил Иуду, когда, умирая в Египте, благословлял своих сыновей: «Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние свое. Блестящи очи его от вина, и белы зубы от молока» (Быт. ХЫХ, 8—12).
Это я объяснил в споре против Фавста манихея*; и, полагаю, достаточно, насколько пророческий смысл места ясен сам по себе. Здесь предсказана и
Блаженный Августин_______________________________________________________838
смерть Христа словом «сон», а именем льва — смерть не по необходимости, а по власти. Такую власть сам Он возвещает в Евангелии, когда говорит: «Имею власть отдать ее (жизнь) и власть имею опять принять ее» (Иоан. X, 18). Так зарыкал лев, так и исполнил, что сказал. К Его власти относится и то, что сказано о воскресении: «Кто поднимет его?» Никто, т. е. никто из людей, кроме Его Самого, сказавшего о теле Своем: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоан. II, 19). Сам род смерти, то есть вознесение на крест, выражается одним словом «поднимается». А что прибавляется: «Преклонился он, лег», — это объясняет евангелист, когда говорит: «И, преклонив главу, предал дух» (Иоан. XIX, 30). Разумеется, пожалуй, и гроб Его, в котором Он возлежал спящим и из которого никто из людей не воздвиг Его, как воздвигали пророки или сам Он других, но Сам, как от сна, восстал. Далее, одежда Его, которую Он омывает в вине, то есть очищает от грехов в крови своей, — таинство, которое знают все крещеные, почему и прибавляется: «В крови гроздьев одеяние свое», — что такое эта одежда Его, как не Церковь? «Блестящи очи его от вина» — это духовные Его, упоенные тою чашею Его, которую воспевает псалом: «Чаша моя преисполнена» (Пс. XXII, 5); «Белы зубы от молока» — молока, которое у апостола пьют младенцы: пьют слова, питающие их, так как они не способны к твердой пище (I Кор. III, 2). Итак, Он есть Тот, в Котором отложены были обетования Иуды, до исполнения которых не оскудевали от этого племени князья, то есть цари Израильские.
ГЛАВА ХП1
Как в двух сыновьях Исаака, Исаве и Иакове, были представлены образы двух народов — иудеев и христиан (хотя касательно плотского происхождения,
О граде Божием___________________________________________________________ 839
от семени Исава произошли не иудеи, а идумеи, а от Иакова не христианские народы, а иудеи: потому что значение образа выражается только в сказанном: «Больший будет служить меньшему»); так же случилось это и с двумя сыновьями Иосифа: старший послужил образом иудеев, младший — христиан. Когда Иаков благословлял их, возлагая правую руку на младшего, бывшего под левой, левую же возлагая на старшего, который был под правой, то отцу их тяжело было видеть это, и он обратил на это внимание своего отца, как бы желая исправить его ошибку, и указал ему, который из них старший. Но Иаков не захотел переменить рук, а сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ» (Быт.ХЪУШ, 19). И в этом случае указывается на два известные обетования. Не очевидно ли, что по этим двум обетовани–ям в семени Авраама содержится и народ Израильский, и вся земля, — тот по плоти, эта по вере?
ГЛАВА ХЫИ
По смерти Иакова, а также и Иосифа, в продолжение остальных ста сорока четырех лет до исхода из земли египетской, род этот увеличился до невероятных размеров и был угнетаем до такой степени, что одно время убивали в нем новорожденных младенцев мужского пола; так как изумлявшиеся египтяне боялись такого чрезмерного прироста. Тогда Моисей, тайно спасенный от детоубийц, вступает, поскольку Бог приготовляет через него великие события, в царский дом, и, будучи воспитан и усыновлен дочерью фараона (это было общее имя всех египетских царей), становится, таким образом, великим мужем, и этот род, чудесным образом размножившийся, освобождает от жесточайшего и тяжелейшего ига
Блаженный Августин______________________________________________________840
рабства, или, вернее, освобождает через него Бог, Который обещал это Аврааму. Но сперва Моисей бежит оттуда, потому что, защищая израильтянина, убил египтянина и устрашился. Потом, посланный свыше, он силою Святого Духа победил сопротивлявшихся ему фараоновых магов.
В то же самое время им были нанесены египтянам десять достопамятных казней за то, что они не хотели отпустить народ Божий: вода, обращенная в кровь, жабы и мошки, песьи мухи, мор скота, гнойные раны, град, саранча, тьма, смерть первенцев. В заключение египтяне были потоплены в Чермном море, когда, побежденные столькими и такими казнями, отпустили было израильтян, но снова погнались за ними. Ибо уходившим разделенное море открыло дорогу, а этих, преследовавших, возвращавшаяся на свое место вода поглотила. После этого народ Божий в продолжение сорока лет странствует под предводительством Моисея в пустыне. В это время узаконена Скиния Завета, где Бог был почитаем жертвоприношениями, возвещавшими будущее. Это, впрочем, было уже после того, как дан был Закон на горе, при наводящих ужас явлениях; ибо Божество проявляло себя очевиднейшим образом чудесными знамениями и голосами. Последнее совершилось вскоре по исходе из Египта и вступления народа в пустыню, через пятьдесят дней после праздновании Пасхи закланием агнца. Агнец этот до такой степени был образом Христа, возвещавшим, что Он путем жертвы страдания прейдет от мира сего к Отцу (ибо Пасха по–еврейски значит «переход»), что когда открылся Новый завет и наша Пасха, Христос был заклан, то в пятидесятый день сошел с неба Дух Святый, который в Евангелии назван «перстом Божиим» (Лук. XI, 20), чтобы вызвать в нашей памяти воспоминание об этом первоначальном преобразовательном событии; ибо и известные скрижали Закона, по словам Писания, написаны «перстом Божиим» (Исх. XXXI, 18).
О граде Божием ___________________________________________________________841
По смерти Моисея народом правил Иисус Навин, который ввел его в обетованную землю и поделил последнюю между народом. Этими двумя удивительными вождями чрезвычайно счастливо и чудесно велись войны; чем Бог свидетельствовал, что эти победы давались не столько по заслугам евреев, сколько по грехам тех народов, которых они одолевали.
После этих вождей были судьи, когда народ уже поселился в земле обетованной. Таким образом, началось уже исполняться первое обетование Аврааму об одном, т. е. о еврейском народе и о земле Ханаанской, но еще не о всех народах и не о всей земле. Последнее имело исполнить пришествие Христа во плоти и вера евангельская, а не точное исполнение обрядовых предписаний ветхого Закона. Прообразом этого служило то, что не Моисей, получивший Закон на горе Синае, ввел народ в землю обетованную, а Иисус (Навин), которому по велению Божию было изменено и имя, чтобы он назывался Иисус. Во времена же судей, смотря по грехам народа и по милосердию Божию, чередовались войны то счастливые, то несчастные.
Мы дошли, таким образом, до времен царей. Первым из них был Саул; но когда он был отвергнут, когда пал, пораженный на войне, и когда сам род его был устранен от вступления членов его на царство, то ему наследовал Давид, сыном которого преимущественно называется Христос. В лице Давида дается своего рода исторический момент и некоторым образом начало молодости народа Божия: потому что от Авраама до Давида продолжался как бы юношеский возраст этого народа. Евангелист Матфей не напрасно, конечно, исчисляя поколения, первый отдел четырнадцати родов отнес к этому промежутку времени, т. е. от Авраама до Давида (Мф. I, 17). Так как человек получает способность рождать с юношеского возраста, то и начало поколений он считает с Авраама, который притом поставлен и отцом народов, когда принял измененное имя.
Блаженный Августин_______________________________________________________842
Итак, до него, от Ноя до Авраама, было как бы своего рода отрочество народа Божия. Поэтому в то время был изобретен и первый язык, еврейский. Ибо человек начинает говорить в возрасте отроческом после младенчества, которое потому и носит такое название*, что не имеет способности слова. Возраст этот обыкновенно погружается в полное забвение, подобно тому, как и первый возраст рода человеческого уничтожен потопом. Кто найдется такой, кто припомнил бы свое младенчество? Таким образом, в этом земном росте града Божия, как предшествующая книга обнимала только один первый возраст, так настоящая обнимает два другие — второй и третий. В этом третьем возрасте, соответствующем трехлетней телице, трехлетней козе и трехлетнему овну, наложено было иго Закона, проявилось обилие грехов и возникло начало земного царства. В последнем не было недостатка и в духовных, которые имели свой таинственный прообраз в горлице и голубе.
О граде Божием ___________________________________________________________843
КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Мы знаем, что семени Авраама должен быть обязан своим существованием по плоти народ Израильский, а по вере — все народы Как исполнятся эти обетования Божий, данные Аврааму, покажет град Божий своими судьбами в порядке времен. Так как предыдущую книгу мы довели до царствования Давида, то теперь, начав с того же царствования, коснемся последующего, насколько это представляется нужным для предпринятого труда.
Итак, все это время, с тех пор, как начал пророчествовать святой Самуил, и до тех, когда народ Израиля был уведен в плен в Вавилонию и когда, по возвращении израильтян, согласно пророчеству святого Иеремии, через семьдесят лет из плена, был восстановлен дом Божий, — все это время — время пророков. Ибо хотя мы не без основания можем называть пророками и самого патриарха Ноя, во дни которого была истреблена потопом земля, и других, бывших прежде и после до того времени, когда в народе Бо–жием появились цари, принимая во внимание то будущее, относящееся к граду Божию и царству небесному, которое они или каким–либо образом предуказали, или предсказали: а особенно имея в виду, что некоторые из них буквально этим именем и называются в Писании, как, например, Авраам (Быт XX, 7) или Моисей (Втор. XXXIV, 10). Однако днями пророков в особенности и по преимуществу называется то время, с которого начал пророчествовать Самуил, первоначально помазавший на царство СаУла, а когда тот был отвергнут, помазавший по велению
Блаженный Августин_______________________________________________________844
Божию и самого Давида, от племени которого последовали и остальные (цари), пока такая последовательность их должна была сохраняться.
Но если бы я захотел упомянуть обо всем, что было предсказано о Христе пророками, когда град Божий переживал эти времена при непрерывной смене умиравших своих членов рождавшимися, пришлось бы говорить слишком много. Это, во–первых, потому, что Писание, стоящее, на первый взгляд, при хронологическом повествовании о царях, их делах и судьбах на строго исторической почве, оказывается, если надлежащим образом с помощью Духа Божия его исследовать, имеющим своею задачей более или, по крайней мере, не менее предвозвещать будущее, чем возвещать прошедшее. А кому, сколько–нибудь над этим подумавшему, не понятно, какой потребуется сложный и обширный труд, сколько нужно будет написать книг, чтобы все это внимательно изучить и обстоятельно изложить? Далее, и то самое, что имеет вполне ясный вид пророчества, содержит в себе так много о Христе и о царстве небесном, которое есть град Божий, что для раскрытия этого необходим более обширный трактат, чем какой допускают границы настоящего сочинения. Поэтому я постараюсь, если смогу, соразмерить свою речь так, чтобы, продолжая с соизволения Божия это свое сочинение, не сказать ни слишком много, ни слишком мало.
ГЛАВА II
В предыдущей книге мы говорили, что при начале обетовании Божиих Аврааму дано было два таких обетования: одно — состоявшее в том, что семя его будет владеть землею Ханаанскою; оно выражается в словах: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ» (Быт. XII, 1, 2);
О граде Божием ___________________________________________________________845
другое, гораздо более замечательное, касается не плотского, а духовного семени, по которому Авраам есть отец не одного Израильского народа, а всех народов, которые идут по следам его веры. Последнее обетование начинается словами: «И благословятся в тебе все племена земные» (Быт. XII, У). Мы показали потом и многие повторения этих двух обетовании.
Итак, семя Авраамово, т. е. народ Израильский по плоти уже находился в земле обетования, и там не только населял и держал в своей власти города врагов, но и имел царей, начинал уже царствовать. Этим большею частью уже исполнялись обетования Божий относительно самого народа, — обетования, не только данные тем трем отцам: Аврааму, Исааку, Иакову, но и данные через Моисея, с помощью которого этот самый народ был освобожден из египетского рабства и через которого было открыто все прошлое в то время жизни его, когда он вел народ через пустыню. Но обетование Божие относительно земли Ханаанской, простирающейся от некоей египетской реки до великой реки Евфрата, не было еще исполнено ни знаменитым вождем Иисусом Навином, который ввел этот народ в землю обетования и, победив населявшие ее народы, разделил ее между двенадцатью племенами, между которыми повелел разделить ее Бог, и умер; ни после него во времена судей. Не было об этом и новых пророчеств, и оно ожидалось, как долженствующее исполниться. Исполнилось же оно при Давиде и сыне его Соломоне: царстдо его было распространено именно настолько, насколько обещано (III Цар. IV, 21). И все те народы они покорили и сделали своими подданными.
При этих царях семя Авраамово устроилось в земле обетования по плоти, т. е. в земле Ханаанской, именно так, что из известного земного обетования Божия не оставалось затем для исполнения ничего, кроме разве того, что народ еврейский, если бы повиновался законам Господа Бога своего, пребывал бы
Блаженный Августин_______________________________________________________846
в той же самой земле в неизменном положении посредством смены поколений до скончания этого земного века, насколько это необходимо для временного благополучия. Но поскольку Бог знал, что еврейский народ не будет этого делать, то употреблял и временные наказания для побуждения к упражнению в этом немногих верных своих и для предостережения, в чем нужно было предостеречь, тех, которые после имели быть во всех языках и в лице которых, по откровении Нового завета, должно было через воплощение Христа исполниться другое обетование.
ГЛАВА III
Поэтому, как известные уже нам божественные откровения Аврааму, Исааку и Иакову, и все другие знамения или пророческие изречения, которые были даны в предшествующих священных Писаниях, так и остальные пророчества со времени царей частью относятся к народу плоти Авраамовой, частью же — к тому семени его, в котором получают благословение все народы, сонаследники Христовы через Новый завет в обладании вечной жизнью и царством небесным; относятся, следовательно, частью к служанке, которая рождает в рабство, т. е. к Иерусалиму
земному, который находится в рабстве вместе с сыновьями своими, частью же к свободному граду Бо–жию, т. е. к Иерусалиму истинному, в небесах вечному, но сыны которого, люди, живущие по Богу, странствуют по земле. Есть, однако же, между этими пророчествами некоторые, дающие видеть, что они относятся и к той, и другому, — к служанке в собственном смысле, к свободному граду — в образном.
Итак, пророческие изречения суть трех родов, одни относятся к Иерусалиму земному, другие — к небесному, а некоторые — к тому и другому вместе.
О граде Божием ___________________________________________________________847
Нахожу нужным подтвердить свои слова примерами. Посылается пророк Нафан, чтобы обличить царя Давида в тяжком грехе и предсказать ему бедствия, которые должны последовать в будущем. В ком могут возникнуть сомнения, что эти и другие подобные им божественные изречения, которые удостоится кто–нибудь услышать или во имя народа, т. е. ради благосостояния и общественной пользы, или безотносительно к народу, по своим личным делам, и которыми дается знать что–либо из будущего, касающееся временной жизни, относятся к земному граду? Но там, где читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, — не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иерем. XXXI, 31—3 3), — там, без всякого сомнения, изрекается пророчество о небесном Иерусалиме, достояние которого есть сам Бог и для которого владеть Им и находиться во власти Его есть самое высшее и самое полное благо.
К тому же и к другому Иерусалиму относится то, что он называет градом Божиим, что пророчествуются об имеющем в нем быть доме Божием, и пророчество это представляется исполнившимся, когда царь Соломон построил свой знаменитый храм. Это и в земном Иерусалиме, по свидетельству истории, имело место, и служило образом Иерусалима небесного. Этот род пророчеств, представляющий собою как бы соединение двух других, имеет большое значение в Древних канонических книгах, содержащих повествование о событиях исторических, и для умов, исследующих священные Писания, служил и служит сильным
Блаженный Августин_______________________________________________________848
побуждением к тому, чтобы исторически предсказанное в Писании и исполнившееся на семени Авраамо–вом по плоти объяснить аллегорически как долженствующее исполниться и на семени Авраамовом по вере; и это — до такой степени, что некоторым казалось, будто в этих книгах нет ничего предсказанного и совершавшегося, или совершавшегося, хотя и не предсказанного, что не давало бы основания применить нечто в образном смысле к вышнему Божию граду и его странствующим в этой жизни сынам.
Но если это так, то изречения пророков, или, вернее, изречения всех тех Писаний, которые разумеются под именем Ветхого завета, будут только двух, а не трех родов. В таком случае в нем не будет ничего, относящегося только к Иерусалиму земному, если все, что о нем или по поводу его говорится и выполняется, означает нечто, относящееся в качестве аллегорического прообраза и к Иерусалиму небесному; а будет только два рода изречений: один — относящийся к Иерусалиму свободному, другой — к обоим вместе. На мой же взгляд, как сильно заблуждаются те, которые думают, что в этом роде Писаний нет таких событий, которые бы обозначали что–либо иное, кроме того, что известным образом совершилось; так много берут на себя и те, которые утверждают, будто там во всем сокрыт аллегорический смысл. Поэтому я и сказал, что они имеют смысл троякий, а не двоякий. Придерживаясь такого мнения, я не порицаю, однако же, тех, которые могут из какого–нибудь упоминаемого в Писаниях события извлекать смысл духовный, сохраняя притом в неприкосновенности смысл исторический. Всякий верующий сочтет, разумеется, пустословием, когда говорится что–либо такое, что не соответствует событиям, совершившимся или долженствовавшим совершиться силою человеческой или божественной. Но кто откажется возводить это к духовному пониманию, если может, или скажет, что не должен этого делать тот, кто может?
О граде Божием ___________________________________________________________849
ГЛАВА IV
Итак, история града Божия, достигнув времени царей, дала прообраз в том, что, по отвержении Саула, Давид первый принял царство так, что потом долгое время в земном Иерусалиме преемственно царствовали его потомки. Совершившимся на деле событием она обозначила и предвозвестила относительно перемены вещей в будущем такое, чего нельзя обойти молчанием, а именно то, что касается двух заветов, Ветхого и Нового–священство и царство в этой смене заветов заменилось Священником и, в тоже время, Царем — новым и вечным, Который есть Христос. Ибо и Самуил, заступивший в своем служении Богу на место отвергнутого священника Илия, отправлявший в одно и то же время обязанности священника и судьи, и Давид, по отвержении Саула утвердившийся на царстве, служили образом того, о чем я говорю. И сама мать Самуила, бывшая сперва бесплодной, а потом родившая, пророчествует именно об этом, когда в восторге изливает Богу свою благодарность, посвящая Ему этого рожденного ею и отнятого от груди отрока с тем же благочестием, с каким испросила его. Она говорит: «Возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих; ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него возвышены. Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего,
Блаженный Августин_______________________________________________________850
досаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего» (I Цар. II, 1 — 10).
Неужели же это — просто слова женщины, выражающей благодарность за рождение сына? Неужели ум человеческий до такой степени отвращается от света истины, чтобы не понять, что высказанное превосходит умственные возможности той женщины, которая это высказала? Далее, тот, на кого производят надлежащее впечатление сами события, которые уже начали исполняться в этом земном странствовании, разве не заметит, не усмотрит, не осознает, что устами этой женщины, само имя которой — Анна, что в переводе значит благодать, говорит это в пророческом духе сама христианская вера, сам град Божий, Царем и Основателем которого есть Христос, сама, наконец, благодать Божия, которой гордые лишаются, и потому падают, а смиренные исполняются, и потому восстают; о чем, собственно, и говорится в этом пророчестве?
Возможно, кто–нибудь возразит, что женщина ничего не предсказывала, а только восторженно благодарила Бога за сына, которого испросила молитвой. Но в таком случае, что хотела она сказать словами: «Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает?» Разве она родила семь раз, хотя и перестала быть неплодною? Она родила только одного сына, когда говорила это; да и после не родила семи или шести, но всего трех мальчиков, считая и Самуила, и двух девочек. Потом, когда у того народа не было еще никакого царя, почему
О граде Божием__________________________________________________________ 851
она говорит в заключение: «И даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего?» Откуда взяла она это, если не пророчествовала?
Итак, провозглашает Церковь Христова, град Царя великого, исполненная благодати, обилующая потомством; провозглашает то, что задолго прежде было предвозвещено о ней устами этой благочестивой матери: «Возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем». Поистине возрадовалось сердце, поистине вознесся рог; потому что возрадовалось и вознесся не в ней самой, а в Господе Боге ее. «Широко разверзлись уста мои на врагов моих», ибо и в лихую годину слово Божие не молчит. «Я радуюсь о спасении Твоем». То был Христос Иисус, о Котором, как читаем в Евангелии, старец Симеон, увидев еще Младенцем, говорит: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое» (Лук. II, 29, 30).
Итак, Церковь провозглашает: «Радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш»; «Нет столь святого, как Господь», ибо никто не бывает свят иначе, чем через Него. Далее следует: «Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него возвышены»; Он знает нас, и знает с той стороны, с какой никто не знает; потому что «кто почитает себя чем–нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал. VI, 3). Это говорится противникам града Божия, принадлежащим к Вавилону, предубежденным относительно своей силы, хвалящимся собою, а не о Господе. К числу их принадлежат и плотские Израильтяне, земнородные граждане земного Иерусалима, которые, как говорит апостол, «не разумея праведности Божией», т. е. праведности, даваемой человеку Богом, Который один праведный и оправдывающий, «и усиливаясь поставить собственную праведность», т. е. как бы самими для себя изобретенную,
Блаженный Августин_______________________________________________________852
а не от Него полученную, «не покорились праведности Божией» (Рим. X, 3), потому что горды и думают, что можно, творя свою, а не Божию волю, угодить Богу, Который есть Бог ведения, а'потому и судья совести, видящий в ней «мысли человеческие, что они суетны» (Пс. ХС1 П, 11), если они — мысли человеческие, а не от Него.
«Дела, — говорит, — у Него возвышены». Какие разуметь в этом случае дела, как не те, чтобы гордые падали, а смиренные восставали? Эти начинания она излагает подробно, говоря: «Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою». Преломился лук, т. е. усилие тех, которые представляются самим себе такими могущественными, что без дара и помощи Божией, одними человеческими силами надмеваются исполнить божественные заповеди; и препоясываются силою те, которые в глубине души своей взывают: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен» (Пс. VI, 3). «Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают»*. Кого разуметь под исполненными хлеба, как не тех же самых якобы могущественных, т. е. израильтян, которым было «вверено слово Божие» (Рим. III, 2)? Да, в этом народе дети рабыни уменьшились. Хотя слово это и не вполне латинское, но им хорошо выражено то, что они из старших (в роде) сделались меньшими»: потому что и в самих этих хлебах, т. е. в божественных словах, которые в свое время из всех народов приняли одни израильтяне, они ощущают вкус только земного.
А народы, которым закон тот не был дан, — эти народы, после того, как ознакомились с этими словами через Новый завет, сильно алкая, прошли мимо земли: потому что ощущают в них вкус не земного, а небесного
«У Августина: «Исполненные хлеба уменьшились (гшпогай 5ит), а голодные прошли мимо земли». " Ех тарпЬиз ттогез гасс! зипс.
О граде Божием___________________________________________________________ 853
. И как бы на вопрос, почему так сделалось, говорит: «Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает». Сущность предсказываемого здесь ясна тем, кто знает, что числом семь обозначается полнота всей вообще Церкви. Поэтому и апостол Иоанн пишет к семи церквям (Апок. 1,4), показывая этим, что пишет к полноте одной; и в притчах Соломоновых, заранее прообразуя это, сказано: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его» (Притч. IX, 1). Град Божий был неплоден во всех народах, пока не родился тот плод, который нам известен. С другой стороны, мы видим, что земной Иерусалим, бывший многим в чадах, обессилел. Силой его были сыны свободной; а так как теперь в нем есть буква, но нет духа, то, потеряв силу, он изнемог.
«Господь умерщвляет и оживляет»; умертвил ту, которая была многою в чадах, и оживил эту, бесплодную, которая родила семерых. Естественнее, впрочем, разуметь, что Он оживляет тех же, которых умерщвлял. Это как бы повторяется прибавлением: «Низводит в преисподнюю и возводит». К таким обращает речь апостол: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. III, 1); умерщвляются от Господа, во всяком случае, с пользою для спасения. Им прибавляет апостол: «О горнем помышляйте, а не о земном»; так как это те самые, которые, алкая, прошли мимо земли. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. III, 2, 3); вот как спасительно умерщвляет Бог, вот как тех же самых Он оживляет. Но неужели тех же самых Он «низводит в преисподнюю и возводит»? То и другое мы видим исполнившимся на самом Том, Который был «предан за всех нас» (Рим. VIII, 32). Ибо тогда Он умертвил Его, а так как Он и воскресил Его из мертвых, то и оживил; Его же Он низвел в ад и возвел. Этою бедностью Его мы обогатились. Ибо «Господь делает нищим и обогащает». Чтобы понять, что это значит,
Блаженный Августин_______________________________________________________854
прочитаем дальше: «Унижает и возвышает»; унижает, конечно, гордых, а возвышает смиренных. Ибо сказанное в другом месте: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (I Пет. V, 5), выражает собою все содержание речи той, чье имя значит «благодать».
Дальнейшее же прибавление: «Из праха подъемлет Он бедного», я ни о ком так хорошо не разумею, как о Том, Который «будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою» (II Кор. VIII, 9). Ибо самого Его Он восставил от земли так скоро, что плоть Его не познала тления. Не сочту неприменимым к Нему и того, что прибавлено: «Из брения возвышает нищего». Ибо нищий тот же, кто и бедный. А под брением, из которого Он воздвигнут, совершенно правильно понимаются гонители–иудеи. Сказав, что в числе их и он гнал Церковь, апостол говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор (брение), чтобы приобресть Христа» (Филип. III, 7, 8). Итак, от земли был восстановлен выше всех богатых этот бедный, и от упомянутого брения был воздвигнут выше всех сильных этот нищий, «посажденный с вельможами». Ибо на вопрос: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?», Он ответил: «Сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых»; и это был самый могучий обет.
Но откуда у них обет, как не от Того, о Котором непосредственно далее говорится: «Дай обет приносящему обет»*? Иначе они были бы из тех сильных,
* У Августина вместо слов — «Ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают», читаем: «Дай обет приносящему обет, и благослови лета праведного».
О граде Божием ___________________________________________________________855
лук которых преломился. Ибо надлежащим образом посвятить что–либо Господу может лишь тот, кто от Него получил то, что посвящает. Затем следует: «И благослови лета праведного», т. е. чтобы он всегда жил с Тем, о Ком сказано: «И лета Твои не кончатся» (Пс. С1, 28). Ибо там лета неподвижны, а здесь проходят, даже гибнут; потому что прежде, чем они проходят, их еще нет; а когда проходят, их уже нет. Из этого же, то есть: «Дай обет приносящему обет, и благослови лета праведного», одно есть то, что мы делаем, а другое — что мы принимаем. Но другое не может быть принято, если не совершится с Его помощью первое. «Ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с Ним», т. е. тех, которые завидуют человеку, приносящему обет, и восстают против него, чтобы не дать ему возможности этот обет исполнить (в силу некоторой двусмысленности греческого выражения можно понимать под «препирающимися» и тех, кто препирается с угодными Богу людьми. Ибо коль скоро Господь стал обладать нами, то препирающийся, прежде препиравшийся с нами, становится уже препирающимся с Богом и терпит поражение от нас, но силами не нашими: Господь делает так, чтобы он потерпел поражение от святых, которых сделал святыми святой Господь святых).
А поэтому «да не хвалится премудрый премудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим; но да хвалится тот, кто разумеет и знает Господа, и творит суд и правду посреди земли»*. Разумеет и знает Господа тот, кто разумеет и знает, что от Господа дается ему даже и то, что он Господа разумеет и знает. «Что ты имеешь, — говорит апостол, — чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?»
* Этих слов Анны в современном каноническом русском издании нет.
Блаженный Августин_______________________________________________________856
(I Кор. IV, 7), — т. е. хвалишься так, будто бы от тебя самого зависело то, чем ты хвалишься? Суд же и правду творит тот, кто живет правильно. А живет правильно тот, кто повинуется велениям Божиим; а «цель же увещания (т. е. то, к чему сводится повеление) есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1,5). Любовь же эта, как свидетельствует апостол Иоанн, от Бога (I Иоан. IV, 7). Таким образом, творить суд и правду — это тоже от Бога.
Но что значит «посреди земли»? Разве не должны творить суд и правду обитатели земных окраин? Кто станет утверждать подобное? Зачем же так прибавлено? Не будь этого прибавления, а будь просто сказано: «творит суд и правду», заповедь эта яснее относилась бы и к тем и к другим людям: и к жителям твердой земли, и к обитателям стран приморских. Но чтобы кто–нибудь не подумал, будто и после жизни, которая проводится в этом теле, останется время для того, чтобы творить суд и правду, которой не творил, пока жил в теле, и иметь, таким образом, возможность избежать божественного суда; то, по моему мнению, и прибавлено: «посреди земли», т. е. пока каждый живет в теле. Ибо в этой жизни каждый носит вокруг себя свою землю, которую, когда умирает человек, принимает общая земля с тем, чтобы возвратить ее, когда он воскреснет. Поэтому нужно творить суд и правду «посреди земли», т. е. когда наша душа заключена в этом земном теле. Это принесет нам пользу впоследствии, когда каждый получит «соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (II Кор. V, 10). Словами «в теле» апостол обозначает в этом случае время жизни в теле. Ибо богохульствующий, например, в злобном уме и в нечестивом помышлении, когда это не выражается никакими телесными движениями, не останется без вины на том основании, что не выразил это движением тела, когда делал это в то время, когда действовало и тело. Таким же
О граде Божием ___________________________________________________________857
образом может получить соответствующий смысл и выражение псалма: «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли» (Пс. ЬХХШ, 12). Под Богом нашим должно разуметь Господа Иисуса, Который прежде веков, так как Им сотворены века, совершил спасение наше посреди земли, когда Слово сделалось плотью и обитало в земном теле.
Затем, после высказанного в приведенных словах \нны пророчества о том, что хвалящийся должен «валиться не собою, но о Господе, ввиду воздаяния, лмеющего быть в день суда, (она) говорит: «С небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли»*; говорит в полном соответствии с символом веры.
Так как Господь Христос взошел на небеса и оттуда должен прийти судить живых и мертвых. Ибо, как говорит апостол: «А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места зем — "«яи? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше |всех небес, дабы наполнить все» (Еф. IV, 9, 10). Воз–1гремит же Он через облака свои, которые, по восшествии, наполнил Духом Святым. О них говорил Он, Зкогда через пророка Исайю угрожал Иерусалиму–Крабу, т. е. неблагодарному винограду: «Повелю обла–1кам не проливать на него дождя» (Ис. V, 6). Выражение же-. «Господь будет судить концы земли» имеет (такое значение, как если бы сказано было: «Господь будет судить концом земли». При этом следует пони — " мать под концом земли конец человека: потому что суду будут подлежать не те изменения к лучшему или худшему, какие происходят в середине жизни, а то последнее состояние, в каком найден будет судимый. Поэтому сказано: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. X, 22). Следовательно, кто постоянно творит суд и правду посреди земли, тот не осудится, когда будут судимы концы земли.
' У Августина в этом месте читаем: «Господь изойдет на небеса и возгремит; и будет судить концы земли».
Блаженный Августин_______________________________________________________858
«И даст крепость царю Своему»*, чтобы, судя, не осудить их. Даст им крепость, с которою они, как цари, управляют плотью и побеждают мир в Том, Кто ради них пролил кровь. «И вознесет рог помазанника Своего». Каким образом Христос вознесет рог Христа (т. е. Помазанника) Своего? Ибо тот же, о ком выше сказано: «Господь взойдет на небеса» и под которым разумеется Господь Христос, тот же, как говорится в настоящем месте, «вознесет рог помазанника Своего». Кто же это — Христос Христа? Не вознесет ли, разве что, рог каждого верного Своего, как и сама она в начале этой песни говорит: «Вознесся рог мой в Боге моем?» Ибо всех помазанных помазанием Его мы правильно можем называть Христами; а все они, в совокупности с Главою своею, составляют одно тело, — Христа. Эти пророчества изрекла Анна, мать Самуила, мужа святого и весьма прославленного. Именно в нем был дан в то время прообраз изменения ветхого священства, и изменение это в настоящее время совершилось, когда «многочадная изнемогает», чтобы новое священство во Христе получило «бесплодие», родившее «семь раз».
ГЛАВА V
Но еще яснее говорит об этом человек Божий, посланный к священнику Илию. Хотя имя его и умалчивается, но, судя по возложенной на него обязанности и исполнению ее, это был, без всякого сомнения, пророк. Писание говорит так: «И пришел человек Божий к Илию, и сказал ему: так говорит Господь: не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен
' У Августина сказано во множественном числе: «И даст крепость царям нашим».
О граде Божием ___________________________________________________________859
Израилевых Себе во священника, чтоб он восходил к жертвеннику Моему, чтоб воскурял фимиам, чтоб носил ефод предо Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приношения Мои, которые заповедал Я для жилища Моего, и для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа Моего — Израиля? Посему так (говорит Господь, Бог Израилев: Я сказал тогда: «дом [твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем {Моим вовек». Но теперь говорит Господь: да не будет 1так; ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. Вот, наступают дни, I в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем; и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою; но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом: оба они умрут в один день. И поставлю Себе священника верного; он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником Моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из–за геры серебра и куска хлеба, и скажет: .«причисли меня к какой–нибудь левитской должности, чтоб иметь пропитание» (I Пар. II, 27—36). Нельзя сказать, что это пророчество, в котором с такою ясностью предсказано было изменение ветхого священства, исполнилось на Самуиле. Правда, хотя Самуил происходит из того самого колена, которое поставлено было Господом на служение алтарю, но он не был из сынов Аарона, потомки которого должны были становиться священниками. И через это
Блаженный Августин_______________________________________________________860
была предызображена та перемена, которая впоследствии была совершена Иисусом Христом. Это было пророчество не слова, а самого факта, собственным смыслом своим относившееся к Ветхому, а образным — к Новому завету; фактом оно обозначало то, что священнику Илию сказано было через пророка. Ибо и после того были священники из рода Ааронова, как, например, Садок и Авиафар в царствование Давида (II Цар. XV), а затем и другие, прежде чем наступило время, в которое надлежало совершиться через Христа тому, что было так задолго до того предсказано относительно предстоявшей перемены священства.
В настоящее же время кто, всматриваясь в дело честно, не увидит, что это исполнилось? У иудеев, действительно, не осталось никакой скинии, никакого храма, никакого алтаря, никакого жертвоприношения, и потому никакого священника, о котором в законе Божием было предписано, чтобы он происходил из семени Ааронова. На это и указывается здесь словами упомянутого пророка: «Посему так говорит Господь, Бог Израилев: Я сказал тогда: «дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек». Но теперь говорит Господь: да не будет так; ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Что, упоминая о доме отца его, Он говорит не о ближайшем отце, а о том Аароне, который был поставлен первым священником и из потомксь которого были после него все другие, это показывают предшествующие слова, когда Бог говорит: «Не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых Себе во священники». Кто из отцов Илии находился в этом египетском рабстве и при освобождении из него был избран во священство, кроме Аарона? Итак, о поколении последнего он сказал в данном случае, что будет время, когда из него не будет более священников: что мы и видим уже исполнившимся.
О граде Божием 861
Да бодрствует вера: события налицо; их видят, они продолжаются, они бросаются в глаза и нежелающим видеть. «Вот, — говорит, — наступают дни, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем; и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою». Эти предвозвещенные дни уже пришли. Священника по чину Ааронову нет ни одного; и кто ни остался из рода его, у такого, — когда он видит, каким уважением пользуется во всем мире жертва христианская и как у него отнята эта великая честь, — томятся глаза его и мучится душа его от глубокой скорби.
Собственно же к дому Илия, которому это говорилось, относятся следующие за этим слова: «Все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом: оба они умрут в один день». Итак, знамение было показано удалением священства из дома его. Этим знамением предвозвещалось изменение священства дома Ааронова. Ибо смерть его сыновей предвозвещала смерть не людей, а самого священства из сынов Аароновых. Дальнейшие слова относятся к тому священнику, прообразом которого был Самуил, становясь ему (Илию) преемником. Что говорится далее, говорится о Христе Иисусе, истинном Священнике Нового завета: «И поставлю Себе священника верного; он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым». Этот дом есть вечный и небесный Иерусалим. «Он, — прибавляет (Господь), — будет ходить пред помазанником (Христом) Моим во все дни», т. е. будет находиться, подобно тому, как выше говорилось о доме Аарона: «Я сказал тогда: «дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек». А
Блаженный Августин 862
сказанное «пред помазанником (Христом) Моим» нужно разуметь о самом доме, а не о том Священнике, Который есть Христос, Посредник и Спаситель Итак, дом Его будет ходить пред Ним. Можно разуметь и так: «будет ходить» от смерти к жизни во все дни, пока будет до скончания этого века продолжаться настоящая смертность. В силу же того, что Бог говорит: «Он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей», мы не должны представлять себе, будто Бог имеет душу, хотя Он и Творец души. Это приписывается Богу не в собственном, а в переносном смысле, так же точно, как приписываются Богу и руки, и ноги, и другие телесные члены. А чтобы, основываясь на последнего рода выражениях, не подумали, будто человек своим телесным видом создан по образу Божию, Богу придаются и крылья, которых у человека и вовсе нет, и говорится в обращении к Нему «В тени крыл Твоих укрой меня» (Пс. XVI, 8). Таким образом людям дается понять, что это говорится о неизреченной природе с употреблением не собственных, а переносных названий вещей.
Прибавление же: «И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему» относится, собственно, не к дому этого Илии, а к дому Аарона, из которого оставались люди до самого пришествия Христова, как, впрочем, существуют они и в настоящее время. Итак, если оставшийся из тех предопределенных остатков, о которых другой пророк сказал: «Только остаток его обратится» (Пс. X, 22); почему и апостол говорит: «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток» (Рим XI, 5); то естественно думать, что из числа этих остатков тот, о котором сказано: «Оставшийся из дома твоего», поистине верует во Христа, как веровали очень многие из того народа во времена апостольские, равно как и в настоящее время есть такие, которые, хотя и очень редко, но веруют; причем на них и исполняется то, что вслед за этим прибавил человек Божий:
О граде Божием 863
«Придет кланяться ему из–за геры серебра». Кому это поклонение, как не тому верховному Священнику, который вместе и Бог? Ибо в том священстве по чину Аарона люди не для того приходили к храму или алтарю Божию, чтобы поклоняться священнику. А что значит «гера серебра», как не краткость слова веры, относительно которого апостол напоминает сказанное (ранее): «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле» (Рим. IX, 28; Ис. X, 23)? А что под серебром часто разумеется слово, о том свидетельствует псалом, в котором поется: «Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле» (Пс. XI, 7). Итак, что же говорит тот пришедший поклониться священнику Божию и Священнику Богу? «Причисли меня к какой–нибудь левитской должности, чтоб иметь пропитание». Таким образом, он как бы говорит: «Не хочу я оставаться в почетном положении отцов моих, которое ничтожно: причисли меня к единому от священнослужений Твоих (т. е. к должности левитской). Ибо я хочу быть членом Твоего священства хоть каким–нибудь, хоть самым ничтожным». Священством в этом случае он называет сам народ, Священником которого является Посредник Бога и людй5^ человек Иисус Христос. Об этом народе говорит апостол Петр: «Род избранный, царственное священство» (I Пет. II, 9). Некоторые вместо «к какой–нибудь левитской должности» перевели «к какому–нибудь жертвоприношению»; но и в этом случае разумеется тот же самый народ христианский. Почему апостол Павел и говорит: «Один хлеб, и мы многие одно тело» (I Кор. X, 17). Таким образом, прибавление «и куска хлеба» превосходно обозначает сам род жертвоприношения, о котором Сам Священник говорит. «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоан. VI, 51). Жертвоприношение это не по чину Ааронову, но по чину Мельхиседекову: читающий, да поймет.
Блаженный Августин 864
Итак, это краткое и спасительно смиренное исповедание, состоящее из слов: «Причисли меня к какой–нибудь левитской должности, чтоб иметь пропитание», и есть упомянутая гера серебра; потому что оно и кратко, и представляет собою слова Господа, обитающего в сердце верующего. А так как выше Он сказал, что дал дому Ааронову пищу от жертв Ветхого завета, когда говорил: «Не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израиле–вых?», ибо таковы были жертвоприношения иудеев, то соответственно этому теперь говорится «и куска хлеба… чтоб иметь пропитание», что в Новом завете составляет жертвоприношение христиан.
ГЛАВА VI
Но хотя это предвозвещено было столь возвышенно и оправдалось в настоящее время на деле с такою ясностью, однако кто–нибудь может не без основания прийти в недоумение, и сказать: «Почему вы так уверены, что совершается все, что в виде долженствующего случиться предсказано в тех книгах, если не исполнилось даже то, что в них сказано как божественное определение: «Дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек»? Ведь мы видим, что священство это было отменено и что нет даже надежды, чтобы обещанное тому дому когда–нибудь исполнилось; потому что то священство, которое по отвержении и отмене прежнего заступило его место, еще с большею силой провозглашается вечным». Говорящий это не понимает или забывает, что и само священство по чину Ааронову было установлено в виде сени будущего вечного священства; а потому, когДа ему была обещана вечность, она была обещана не сени или образу, а тому, что ею оттенялось или прообразовывалось. Но чтобы о сени не думали, будто она должна непременно остаться, нужно было пророчество и об отмене ее.
О граде Божием 865
Подобно этому и царство Саула, в действительности отверженного и низверженного, было сенью будущего царства, долженствующего продолжиться в вечности. Тот елей, которым он был помазан, и от помазания которым был назван Христом (помазанником), должен считаться имеющим таинственный смысл и быть признаваем за великое таинство. Сам Давид до такой степени благоговел в нем пред этим помазанием, что «больно стало сердцу Давида» от страха, когда, скрываясь в темной пещере, в которую по требованию естественной нужды зашел и Саул, он тайно отрезал у последнего небольшой край одежды, чтобы было чем доказать, что он, имея возможность убить (Саула), пощадил его, и таким образом уничтожить в его душе подозрительность, по которой он, считая святого Давида врагом своим, с жестокостью его преследовал. Он начал бояться, не совершил ли он великого святотатства по отношению к Саулу, коснувшись таким образом одежды его. Ибо так об этом написано: «Больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула» (I Цар. XXIV, 6). Мужам же, которые были с ним и уговаривали его умертвить преданного в руки его Саула, он сказал: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него; ибо он помазанник Господень» (I Цар. XXIV, 7).
Этой сени будущего воздавалось такое почитание не ради нее самой, а ради того, что ей предызобра–жалось. Поэтому и слова Самуила, сказанные Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа, Бога твоего, которое дано было тебе; ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом» (I Цар. XIII, 13,14), должны пониматься не
28 О граде Божием
Блаженный Августин 866
в том смысле, будто Бог предназначал самого Саула для вечного царствования и потом изменил свое намерение вследствие его греха; Бог, разумеется, знал, что он согрешит; но Бог уготовлял царство его, представлявшее собою образ вечного царства. Поэтому он прибавляет: «Но теперь не устоять царствованию твоему». Стояло, следовательно, и будет стоять то, образ чего дан в этом царстве; но «не устоять царствованию твоему», потому что не будет царствовать вечно не только он сам, но и потомки его, так что и в лице потомков его, наследующих один другому, не получит кажущегося исполнения сказанное: «навсегда».
«Господь, — говорит (Самуил), — найдет Себе мужа по сердцу Своему», указывая или на Давида, или на самого Посредника Нового завета, прообразованного и в том помазании, которым помазан был Давид и потомство его. Ищет же Бог человека не так, как будто бы Он не знал, где он есть: просто через человека Он и говорит по–человечески; Он ищет нас и этими приемами речи. Не только Богу Отцу, но и самому Единородному Его, пришедшему «взыскать и спасти погибшее» (Лук. XIX, 19), мы до такой степени были уже известны, что были избраны в нем прежде сотворения мира (Еф. 1,4). Поэтому в латинском языке глагол ^иае^е^ (ищет) получает предлог и обращается в ас^ш^^^:, значение которого довольно известно. Впрочем, и без добавления предлога ^иае^е^е имеет значение асдшгеге: почему и прибыль (1исга) называется еще ^иае51:и5.
ГЛАВА VII
Снова Саул согрешил неповиновением, и снова Самуил говорит ему словом Господним: «За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем» (I Цар. XV, 23). И снова, когда Саул исповедал свой грех, молил о прощении и просил Са-
О граде Божием 867
муила возвратиться с ним для умилостивления Бога, Самуил говорит: «Не ворочусь я с тобою; ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его, и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему» (I Цар. XV, 26—29). Тот, кому говорится: «Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем», а также: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя», царствовал над Израилем сорок лет, т. е. столько же, сколько царствовал и Давид, а слышал приведенные слова в первой половине своего царствования. Поэтому слова эти мы должны разуметь в том смысле, что никто из потомков его не должен был царствовать; и должны обратиться к поколению Давида, из которого вышел по плоти Посредник Бога и людей, человек Христос Иисус.
В Писании нет того, что читается во многих латинских кодексах: «Тогда сказал Самуил: ныне разодрал (а не «отторг») Господь царство Израильское в руке твоей (а не «от тебя»)»; мы привели это место так, как нашли его в греческих кодексах. Выражение «в руке твоей» должно пониматься в том же смысле, что и «от Израиля». В переносном смысле этот человек представлял собою народ Израильский; а народ этот потерял царство, когда был помазан на царство Христос Иисус, Господь наш, посредством Нового завета, и царство Его стало не плотским, а духовным. Когда говорится о Нем: «И отдал его ближнему твоему», то это относится к плотскому родству: ибо Христос по плоти от Израиля, как и Саул, Добавление же «лучшему тебя» можно, пожалуй, считать равносильным выражению «доброму паче тебя»; некоторые так и перевели его. Последнее выражение лучше передает тот смысл, что поскольку он добр, то и выше, соглас-
Блаженный Августин 868
но другому известному пророческому изречению «Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. С1Х, 1). В числе этих врагов находится и Израиль, у которого, как у гонителя Своего, Христос отнял царство. Был, впрочем, в том же числе и Израиль, в котором не было лукавства (Иоан. I, 47), как своего рода пшеница в тех плевелах. Оттуда ведь вышли апостолы; оттуда же столько мучеников, и первый из них — Стефан; оттуда же столько церквей, о которых упоминает апостол Павел, как о славящих Бога по поводу обращения его (Гал. I, 22—24).
Не сомневаюсь, что в применении к этому нужно понимать и последующие слова: «И разделится Израиль надвое»*, т. е. на Израиля — врага Христу, и на Израиля — приверженного ко Христу; на Израиля, относящегося к рабе, и на Израиля, относящегося к свободной. Ибо первоначально оба эти рода существовали совместно, подобно тому, как Авраам еще держался рабы, пока бесплодная, будучи оплодотворена по благодати Христовой, не воскликнула: «Выгони эту рабыню и сына ее» (Быт. XXI, 10). Хотя мы знаем, что за грех Соломона в царствование сына его Ровоама Израиль разделился надвое и остался в этом разделении, причем каждая часть в отдельности имела своих царей до тех пор, пока весь этот народ не был разорен до основания и переселен халдеями, но какое это имеет отношение к Саулу, когда, если бы чем–либо подобным следовало угрожать, такая угроза скорее должна была быть высказана Давиду, сыном которого был Соломон? Да и, наконец, в настоящее время в среде народа еврейского нет разделения, но он беспорядочно рассеян по земле при полном согласии в одном и том же заблуждении. А то разделение, которым Бог в лице Саула, представлявшего собою образ Изра-
* Этих слов в современном каноническом русском изда-
нии нет.
О граде Божием 869
ильского царства и народа, угрожал этому царству и народу, предрекается как вечное и неизменное добавлением: «И не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему»; т. е. человек выскажет угрозу и не выполнит ее, но не Бог, Который не раскаивается, как человек. Ибо в тех случаях, когда говорится, что Он раскаивается, указывается на изменение вещей при существовании неизменного предвидения Божия. Следовательно, когда говорится, что Он не раскаивается, разумеется, что Он решений Своих не изменяет.
В этих словах высказано неизменное и во всех отношениях всегда имеющее силу божественное определение об упомянутом разделении народа Израильского. Кто бы из этого народа ни перешел, или переходит, или перейдет ко Христу, он не был из него по божественному предведению (а не по единству природы человеческого рода). Вообще всякий из израильтян, кто, прилепляясь ко Христу, пребывает в Нем, никогда не был в числе тех израильтян, которые хотят оставаться врагами Его до конца этой жизни, но всегда находился в том разделении, которое в данном случае предвозвещено. Ибо Ветхий завет «от горы Синайской, рождающий в рабство» (Гал. IV, 24) не приносит другой пользы, кроме той, что служит свидетельством завету Новому. В противном случае, «пока читают Моисея, покрывало лежит на сердце их»; когда же обратится кто–либо из них ко Христу, «тогда это покрывало снимается» (II Кор. III, 15,16). У обращающихся изменяется с Ветхого на новое само стремление, так что каждый стремится уже достигнуть не плотского, а духовного счастья. Поэтому и сам великий пророк Самуил еще прежде помазания царя Саула, — когда «воззвал к Господу об Израиле», когда вознес «всесожжение» и когда «Филистимляне пришли воевать» против народа Божия, и «Господь возгремел» на них, и «они были поражены», — взял
Блаженный Августин 870
Блаженный Августин
один камень, поставил его между Массифою новым и ветхим, дал ему имя Авен–Езер, т. е. «камень помощи», и сказал: «До сего места помог нам Господь» (I Цар. VII, 9—12). Массифа в переводе значит «стремление». А тот камень помощи есть посредство Спасителя, через Которого должно переходить от Массифы ветхого к новому, т. е. от стремления к ложному плотскому блаженству в царстве плотском, к стрем-* лению, которое через Новый завет чает истинного духовного блаженства в царстве небесном. Так как нет ничего лучше последнего, то «до сего места» и помогает Бог.
ГЛАВА VIII
Теперь нахожу нужным показать, что из того, что относится к предмету, о котором у нас идет речь, обетовал Бог Давиду, который сменил Саула на царстве, причем в этой смене был дан прообраз той конечной смены, ради которой путем божественного откровения было сказано все то, что написано. Когда многие предприятия царя Давида имели успех, он задумал создать Богу дом, т. е. тот в высшей степени прославленный храм, который потом был сооружен сыном его, царем Соломоном. Когда он об этом думал, было слово Господне к пророку Нафану, которое последний передал царю. В этом откровении Бог, сказав, что не Давид построит Ему дом и что в течение определенного времени Он не давал повеления никому в среде народа Своего созидать Ему дом кедровый, говорит: «Так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как Я поставил судей над народом Моим Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. Я буду ему отцем, и он будет мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (II Цар. VII, 8–16).
Сильно ошибается тот, кто думает, будто это столь великое обетование исполнилось на Соломоне. Он обращает внимание на слова: «Он построит дом имени Моему», имея в виду построение Соломоном известного великолепного храма; но не обращает внимания на слова: «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем Моим». Пусть же он примет в соображение дом Соломона, наполненный чужеземными женщинами, чтущими ложных богов, и обратит внимание на самого царя, некогда мудрого, но увлеченного и впавшего в то же идолопоклонство: он не осмелится тогда считать Бога или давшим ложное обещание, или не знавшим, что Соломон и дом его будут такими.
С другой стороны, у нас не должно оставаться места сомнениям с тех пор, как мы видели, что все это уже исполнилось на Господе нашем Христе, «Который родился от семени Давидова по плоти» (Рим. 1, 3), чтобы подобно плотским иудеям мы должны были в этом обетовании подразумевать кого–либо другого. Ибо и сами иудеи до такой степени понимают, что
Блаженный Августин 872
обетованный в приведенном месте Писания сын Давиду не был Соломон, что в изумительной слепоте своей ожидают кого–то другого, после того, как Обетованный открылся уже с такою ясностью Впрочем, некоторый образ будущего отразился и в Соломоне, — в том, что он построил храм; в том, что соответственно имени своему царствовал мирно (ибо имя Соломон значит «миротворец»); в том, что начало его царствования заслуживало всяческих похвал. Но этой самой личностью своею он не представлял, а как сень будущего — предвозвещал Господа нашего Христа. Поэтому в Писании нечто говорится о нем так, как будто упомянутое пророчество относилось и к нему, между тем как священное Писание, пророчествуя самими событиями, обрисовывает известным образом посредством картину его будущего.
Так, кроме книг божественной истории, содержащих повествование о его царствовании, именем его надписан семьдесят первый псалом; в этом псалме много говорится такого, что совершенно не может относиться к нему, но с полнейшею ясностью относится к лицу Господа Христа, откуда становится очевидным, что в нем оттенен некий образ, а в Христе представлена сама истина. Известно, например, какими пределами ограничивалось царство Соломона; а между тем в упомянутом псалме среди прочего, о чем я умалчиваю, можно прочесть: «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли» (Пс. ЬХХ1, 8). Это мы видим исполнившимся в Христе. Обладание Его началось от реки, где Он получил крещение от Иоанна и по указанию последнего стал узнан учениками, которые называли Его не только Учителем, но и Господом.
И начал царствовать Соломон еще при жизни отца своего Давида, чего не случалось ни с одним из царей Иудейских, не ради чего иного, как ради того, чтобы и этим уяснилось, что он не тот, кого предуказывало пророчество, обращенное к отцу его: «Ког-
О граде Божием 873
да же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Каким же образом на основании следующих за этим слов: «Он построит дом имени Моему» полагают, что это пророчество о Соломоне, а не думают на основании слов предшествующих — «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое», что обещан другой миротворец, о котором предсказано, как об имеющем быть воздвигнутым не прежде, как Соломона, а после смерти Давида? Как ни велик был промежуток времени до пришествия Иисуса Христа, без всякого сомнения по смерти Давида, как Он и был обещан ему, должен был прийти Тот, Кто создал бы дом Богу не из дерева и камней, а из людей, — такой, создание которого Пришедшим мы и приветствуем. Этому дому, т. е. верным Христа, говорит апостол: «Храм Божий свят; а этот храм — вы» (I Кор. III, 17).
ГЛАВА IX
Поэтому и в восемьдесят восьмом псалме, который именуется «Учение Ефама Езрахита», упоминаются обетования Божий, данные царю Давиду, и в числе их приводятся некоторые похожие на те, которые изложены в книге Царств. Таково, например, следующее: «Клялся Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя твое» (Пс. ЬХХХУШ, 4,5). И еще: «Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его. И положу на море
Блаженный Августин 874
руку его, и на реки — десницу его. Он будет звать Меня: Ты отец мой. Бог мой и твердыня спасения моего. И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его — как дни неба» (Пс. ЬХХХУШ, 20—30). Все это, когда понимается правильно, применяется к Господу Иисусу, Который разумеется под именем Давида вследствие вида раба, который принял этот Посредник от Девы из семени Давидова.
Говорится вслед за тем и о грехах сынов его нечто такое, что читается в книге Царств и как будто бы прямее всего относится к Соломону. Там, т. е. в книге Царств, Бог говорит: «Если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него» (II Цар. VII, 14, 15), обозначая ударами (таШш — прикосновениями) исправительные удары. Отсюда выражение: «Не прикасайтесь (пе (ег.щегШ5) к помазанным Моим» (Пс. С1У, 15), т. е. не оскорбляйте. В псалме же, ведя речь как бы о Давиде, Бог, чтобы и здесь высказать нечто в том же роде, говорит: «Если сыновья его оставят закон Мой, и не будут ходить по заповедям Моим; если нарушат уставы Мои, и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не отниму от него» (Пс. ЬХХХУШ, 31—34). Не сказал «от них», хотя говорил о сыновьях его, а не о нем; но сказал «от него», что, будучи понято правильно, имеет важный смысл. Ибо не в самом Христе, Который есть Глава Церкви, могли оказаться какие–нибудь грехи, которые потребовалось бы обуздать человеческими наказаниями, сохранив милость божественную; но могли оказаться они в теле и членах Его, т. е. в народе Его. Говорится же в псалме «сыновья его», чтобы дать нам понять, что говорится некоторым образом о Нем то, что говорится о теле Его. Поэтому и сам Он, когда Савл преследовал тело Его, т. е. Его верных, говорит с неба:
О граде Божием 875
«Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. IX, 4). Затем в последующих словах псалма Он говорит: «Не изменю истины Моей. Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостию Моею: солгу ли Давиду?» (Пс. ЬХХХУШ, 34—36); т. е. ни в коем случае не солгу Давиду. А в чем не солжет, Он разъясняет, говоря: «Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною; вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах» (Пс. ЬХХХУШ, 37, 38).
ГЛАВАХ
После этого самого сильного подтверждения столь великого обетования, чтобы не подумали, будто оно исполнилось на Соломоне (так как на это надеялись, но исполнения не видели), псалом говорит: «Но ныне Ты отринул и презрел» (Пс. ЬХХХУШ, 39). Это совершилось с царством Соломона при потомках его, когда подвергся разрушению даже земной Иерусалим, бывший столицей того царства, когда погиб сам храм Иерусалимский, построенный Соломоном. Но чтобы на этом основании не подумали, будто Бог поступил вопреки своим обещаниям, псалом прибавляет: «Прогневался на помазанника Твоего»*. Следовательно, если Христос Господень был отложен, то это был не Соломон, да и не сам Давид. Ибо, хотя Христами называются все цари, получившие посвящение таинственным помазанием, не только начиная с Давида, но даже и с самого Саула, который был помазан первым царем народу Израильскому (сам Давид называет его Христом Господним), но был только один истинный Христос, образ Которого в силу пророческого помазания они носи-
' У Августина сказано: «Отложил Христа (т. е. помазанника) Твоего».
Блаженный Августин 876
ГЛАВА XI
ли, Который, по мнению людей, думавших видеть Его в лице Давида или Соломона, надолго был отложен, а по распоряжению Божию готовился прийти в свое время.
А что меж тем, пока Он откладывался, случилось с царством земного Иерусалима, где многие надеялись, что Он будет царствовать, псалом прибавляет в последующих словах и говорит: «Пренебрег заветом с рабом Твоим, поверг на землю венец его. Разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его, и не укрепил его на брани; отнял у него блеск, и престол его поверг на землю; сократил дни юности его, и покрыл его стыдом» (Пс. ЬХХХУШ, 40—46). Все это случилось с рабом–Иерусалимом, в котором царствовали некоторые и из сынов свободного, державшие это царство во временном распоряжении, но царство небесного Иерусалима, сыновьями которого они были, содержавшие в истинной вере и чаявшие обрести его в истинном Христе. А как все это разразилось над тем царством, ясно показывает история совершившихся событий.
После этих предсказаний пророк обращается с молитвою к Богу; но и сама молитва эта есть пророчество. «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно?» Это подобно тому, как в другом месте говорится: «Доколе будешь скрывать лице Твое от меня?» (Пс. XII, 1). Можно, впрочем, разуметь и так: «Скрываешь милость твою, которую обещал Давиду». «Непрестанно» же значит «до конца». Под концом этим следует разуметь то последнее время, когда
О граде Божием 877
должен будет уверовать в Христа Иисуса и этот народ; но прежде этого конца должны случиться те бедствия, которые выше оплакивал пророк. Ввиду их и здесь говорится далее: «(Доколе) будет пылать ярость Твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век»*. В этом месте сам Иисус лучше всего разумеется под сущностью народа Его, от которого происходит природа Его плоти. «На какую суету, — продолжает пророк, — сотворил Ты всех сынов человеческих?» (Пс. ЬХХХУШ, 47, 48). Ведь если бы сущностью Израиля не был один Сын Человеческий, через Которого освободились бы многие сыны человеческие, то несомненно, что все сыны человеческие были бы созданы всуе.
Теперь же, хотя природа человеческая вследствие греха первого человека ниспала из истины в суету, почему другой псалом и говорит: «Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень» (Пс. СХ1ЛП, 4), однако Бог не всуе создал всех сынов человеческих, потому что многих освобождает Он от суеты через Посредника Иисуса, а тем, относительно неосвобождения которых имел предвидение, для пользы ли имеющих освободиться, или для сравнения между собою двух противоположных градов (но, во всяком случае, не всуе) дал свое место в прекраснейшем и справедливейшем порядке разумной твари вообще. Далее следует: «Кто из людей жил, и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?» (Пс. ЬХХХУШ, 49). Кто этот человек, как не эта сущность Израиля от семени Давидова, Христос Иисус, о котором говорит апостол, что «Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. VI, 9)? Он проживет и не узрит смерти, но так, однако же, что умрет, но душу свою избавит из руки преисподней, в которую сойдет для освобождения некоторых от уз адовых;
' У Августина сказано: «Вспомни, какова моя сущность»
Блаженный Августин 878
избавит же тою властью, о которой говорит в Евангелии: «Имею власть отдать ее (жизнь) и власть имею опять принять ее» (Иоан. X, 18).
ГЛАВА XII
Далее в этом псалме читаем: «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего» (Пс. ЬХХХУШ, 50—52). Можно не без основания спросить: говорится ли это от лица тех израильтян, которые желали исполнения для них обещания, данного Давиду, или, вернее, от лица христиан, которые суть израильтяне не по плоти, а по духу? Сказано или написано это в то время, когда жил Ефам, от имени которого данный псалом получил свое заглавие; время же это было временем царствования Давида. Поэтому выражение: «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею» не было бы употреблено, если бы пророк не представлял в своем лице тех, которые жили намного позже, для которых то время, в которое даны были упомянутые обетования Давиду, было временем прежним. Причем можно разуметь, что многие язычники во времена преследования христиан укоряли их страданиями Христа, которое в Писании называется изменением (следом): потому что через смерть Он сделался бессмертным.
Можно, впрочем, понимать и так, что изменение Христа стало укором израильтянам в том смысле, что Он, Которого они ждали как своего Христа, сделался Христом язычников. В этом их и укоряют в настоящее время многие народы, которые уверовали в Него через Новый завет, между тем как они остались при Ветхом. Потому–то и говорится: «Вспомни, Гос-
О граде Божием 879
поди, поругание рабов Твоих», что если Господь не забудет их, а скорее — пожалеет, то и они после этого поношения уверуют. Но тот смысл, который я указал прежде, кажется мне более подходящим. Врагам Христовым, которым ставят в укор, что Христос, перешедши к другим народам, их оставил, не к лицу был бы такой возглас: «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих». Рабами Божьими нельзя назвать таких иудеев. Такие слова приличны тем, которые, подвергшись тяжким унижениям гонений за имя Христово, могли вспомнить, что семени Давидову было обето–вано возвышеннейшее царство; и с желанием этого царства, не в отчаянии, а выражая просьбу, стремление, настойчивое, наконец, домогательство, могли говорить: «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов».
Выражение же: «Вспомни, Господи» что значит, как не — сжалься, и в награду за терпеливое перенесение унижений воздай высотою, которою клялся Давиду истиною Твоей? Если же припишем эти слова иудеям, то так могли говорить те рабы Божий, которые по разрушении земного Иерусалима, до рождения Иисуса Христа по человечеству, были отведены в плен с ясным представлением об изменении Христа, т. е. что через Него следует ожидать не земного и телесного счастья, каким отличались немногие годы царствования Соломона, а небесного и духовного. Не ведая этого, неверие народов, когда оно торжествовало и издевалось над пленом народа Божия, чем иным укоряло, не ведая ведающих, как не изменением Христа?
Последующие слова, которыми заканчивается пса–лом: «Благословен Господь во век! Аминь, аминь» (Пс, НОСКУ!!!, 53), вполне приличествуют всему народу Божию, принадлежащему к небесному Иерусалиму, идут ли они от лица тех, которые скрывались в завете Вет-
Блаженный Августин 880
хом до откровения Нового, или от лица тех, которые по откровении Нового завета оказываются открыто принадлежащими Христу. Ибо следует надеяться, что благословение Господне на семени Давидовом пребудет не на некоторое известное время, как обнаружилось оно в дни Соломона, а «во веки». В этой несомненной надежде говорится: «Аминь, аминь». Повторение этого слова есть подтверждение той надежды.
Разумея это, Давид в том месте второй книги Царств, от которого мы перешли к настоящему псалму, говорит: «Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль». Поэтому же немного далее он говорит: «Ныне начни и благослови дом раба Твоего… во веки» (II Цар. VII, 19,29), и т. д., так как в то время он должен был родить сына, от которого продолжилось бы поколение его до Христа; а через Христа дом его имел быть вечным и, в то же время, домом Божиим. Дом он Давидов, по причине рода Давидова; но в то же время он — дом Божий, по причине храма Божия, созданного не из камней, а из людей, в котором будет обитать во веки веков народ с Богом и в Боге своем, а Бог с народом и в народе Своем; так что Бог будет наполнять народ Свой, а народ будет наполнен Богом своим, и будет Бог во всех, Сам составляя награду в мире, будучи доблестью во брани. Поэтому после сказанного устами Нафана: «Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом», сказано устами Давида: «Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: «устрою тебе дом» (II Цар. VII, 11, 27). Этот дом созидаем и мы доброю жизнью, созидает и Бог, помогая нам в доброй жизни. Когда наступит время окончательного освящения этого дома, тогда исполнится то, что говорил в этом случае Бог через пророка Нафана словами: «Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как Я поставил судей над народом Моим Израилем».
О граде Божием 881
ГЛАВА XIII
Кто ожидает этого столь великого блага в настоящей жизни и на этой земле, тот поступает безрассудно. Не подумает ли разве кто–нибудь, что это исполнилось в мирное царствование Соломона? Мир этого царствования Писание, действительно, выставляет по преимуществу на вид, как сень будущего. Но такое предположение старательно устраняется, когда вслед за словами, — «Люди нечестивые не станут более теснить его» тотчас же прибавляется: «Как прежде, с того времени, как Я поставил судей над народом Моим Израилем». Прежде чем стали поставляться цари, над народом тем, со времени принятия им во владение земли обетования, ставились судьи. Люди нечестивые, т. е. чужеземные враги, постоянно тревожили и обижали его, так как, по свидетельству Писания, мирные времена сменялись войнами; но встречаются и в этот период еще более продолжительные времена мира, чем время Соломона, царствовавшего сорок лет. Например, при судье, который назывался Аодом, мир продолжался восемьдесят лет. Не следует поэтому думать, что в данном обетовании предсказывались времена Соломона, а тем более времена какого–либо другого царя. Из последних не было ни одного, который царствовал бы столь мирно, как Соломон; да и вообще народ этот никогда не имел такого царствования, когда не был бы подвержен опасности подпасть под власть врагов. При такой изменчивости дел человеческих ни одному народу никогда не была обеспечена безопасность до такой степени, чтобы он не страшился вражеских нападений на эту земную жизнь. Итак, то место, которое обещается, как место мирного и безопасного обитания, есть место вечное, и предопределено Вечным в свободном Иерусалиме, где поистине будет народ Израиль: ибо имя это в переводе значит «видящий Бога». В благо-
Блаженный Августин 882
честивом ожидании такой награды и следует проводить по вере жизнь в течение настоящего трудного странствования.
ГЛАВА XIV
Итак, при поступательном движении града Божия во времени, в бывшем сенью будущего земном Иерусалиме царствовал, во–первых, Давид. Был же Давид мужем сведущим в пении, любя музыку не вследствие обычной склонности к удовольствиям, а в силу своего чисто духовного настроения; и ею, как таинственным прообразом чего–то великого, послужил Богу своему, Который есть бог истинный. Ибо разумное и соразмеренное сочетание различных звуков лучше всего говорит о единстве благоустроенного града, образующегося как гармоническое сочетание разнородных частей. Далее, почти все его пророчества заключены в псалмах, содержащихся в числе ста пятидесяти в книге, называемой нами книгою Псалмов. Из этих псалмов некоторые считают произведениями Давида лишь те, которые надписаны его именем. Некоторые же думают, что им составлены только те, которые надписываются «Давида»; ате, которые надписаны «Давиду», были составлены другими, но посвящены ему. Это мнение опровергается евангельским свидетельством самого Спасителя, когда Он говорит, что сам Давид по внушению Духа назвал Христа Господом своим; потому что сто девятый псалом начинается так «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. СГХ, 1). Псалом надписывается не «Давида», а «Давиду»*, как и многие другие.
Но мне представляется более вероятным мнение тех, которые приписывают все сто пятьдесят псалмов
* В современном каноническом русском издании этот псалом надписан: «Псалом Давида».
О граде Божием 883
самому Давиду и думают, что сам же он надписал некоторые чужими именами, дававшими какой–нибудь прообраз в отношении к предмету, а в надписании остальных не захотел поставить никакого человеческого имени, соответственно тому, что такой разнообразный порядок, хотя и темный, но во всяком случае не лишенный значения, внушил ему Господь. Уменьшать вероятность этого не должно то обстоятельство, что в надписании некоторых псалмов в этой книге читаются имена каких–нибудь пророков, живших гораздо позже царя Давида, как будто сказанное в этих псалмах говорится от их лица. Пророческий Дух мог пророчествующему царю Давиду открыть и эти имена будущих пророков, чтобы он мог пророчески воспеть нечто, соответствующее ихлицу, подобно тому, как царь Иосия, имевший родиться и царствовать спустя более трехсот лет, был открыт по имени некоему пророку, предсказавшему будущие его действия.
ГЛАВА XV
Вижу, что от меня уже ждут, что в настоящем месте этой книги я изложу те пророчества, которые изрек Давид в псалмах о Господе Иисусе Христе или о Церкви Его. Но удовлетворить это ожидание (хотя в одном случае я это уже сделал) мне мешает скорее обилие их, чем недостаток. Излагать их все я удерживаюсь, чтобы избежать длиннот; а избирать некоторые опасаюсь, чтобы многим, знающим их, не показалось, что я опустил нечто более важное. Притом приводимое свидетельство должно быть связано с речью всего псалма, чтобы ничто не противоречило ему (т. е. чтобы не было обвинений в том, что приводятся фразы, вырванные из контекста); иначе может показаться, что мы, как в известного рода составленных из отрывков поэмах, выбираем для своей цели,
Блаженный Августин 884
будто отдельные строки из большого стихотворения, то, что оказывается написанным вовсе не о том предмете, а о другом, весьма от него далеком. Чтобы указать его в каком–нибудь псалме, нужно изложить весь псалом; а какого стоит это труда, достаточно показывают и книги других, и наши собственные, в которых мы это сделали. Кто хочет и может, пусть читает их: в них он найдет, сколько и каких пророчеств изрек царь и пророк Давид о Христе и о Церкви Его, т. е. о Царе и о граде, который Он создал.
ГЛАВА XVI
Хотя пророческие изречения по какому–нибудь предмету имеют прямой и ясный смысл, к ним неизбежно примешиваются и такие, которые имеют смысл переносный. Последние особенно затрудняют учителей в деле истолкования и разъяснения пророчеств людям не слишком понятливым. Некоторые, впрочем, с первого же раза, как только они высказываются, прямо указывают на Христа и Церковь; хотя и оставляют для дальнейшего разъяснения кое–что менее в них понятное. Таково следующее пророчество в той же книге Псалмов: «Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки. Препояшь Себя по бедру мечем Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею. И в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои; народы падут пред Тобою; они — в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду, и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
О граде Божием 885
Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя. Дочери царей между почетными у Тебя» (Пс. ХЫУ, 2—10).
Кто, как бы ни был он туп, не узнает в этих словах Христа, Которого мы проповедуем и в Которого веруем, когда услышит, что Он называется Богом, престол Которого «на веки», и помазанным от Бога, — помазанным, конечно, как помазывает Бог, не видимым, а духовным и умным помазанием? Разве есть кто, до такой степени невежественный в этой религии или до такой степени глухой по отношению к слухам о ней, столь далеко и широко распространенным, что не знал бы, что Христос получил имя Свое от хрисмы, т. е. от помазания? Признав же в Царе Христа, он, став уже подданным Того, Который царствует «ради истины и кротости и правды», на досуге уяснит для себя и остальное, что говорится в этом случае в переносном смысле: каким образом Он прекраснее всех сынов человеческих, — прекраснее красотою особого рода, тем более привлекательной и удивительной, чем менее она красота телесная; что за меч у Него, что за стрелы и все прочее, о чем говорится также не в собственном, а в переносном смысле.
Затем Он увидит Церковь Его, соединенную со своим Супругом союзом духовным и любовью божественной. О ней говорится далее в следующих словах: «Стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее. Приводятся с веселием и ликованием, входят в чертог Царя. Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои: Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему на-
Блаженный Августин 886
роды будут славить Тебя во веки и веки» (Пс. Х1ЛУ, 10—18). Не думаю, чтобы кто–нибудь был настолько глуп, чтобы вообразить, будто в этом месте восхваляется и описывается какая–либо обыкновенная женщина, жена Того, Кому сказано: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду, и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Разумеется — помазал Христа более христиан. Ибо последнее суть соучастники Его. Из них изо всех народов через единство и согласие составляется эта царица, в соответствии с тем, что говорится о ней в другом псалме: «Город великого Царя» (Пс. ХЬУП, У). Она же и Сион в духовном смысле; имя это в переводе на латинский язык значит «высматривание». Высматривается в этом случае великое благо будущего века, так как к нему направляются ее усилия. Она же есть и Иерусалим в том же духовном смысле, о чем многое уже было сказано. Ее враг — град дьявола, Вавилон, означающий в переводе «смешение». Через возрождение, впрочем, царица эта освобождается от Вавилона в среде всех народов, и от злейшего царя переходит к Царю благому, т. е. от дьявола к Христу. Поэтому и говорится ей: «Забудь народ твой и дом отца твоего».
Часть этого нечестивого града составляют и израильтяне по плоти, а не по вере: они даже враги великого Царя и Его царицы. Пришедший к ним и убитый ими Христос преимущественнее сделался Христом других народов, которых не видел во плоти. Поэтому в пророчестве одного псалма сам Царь наш говорит: «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне; по одному слуху о мне повинуются мне» (Пс. XVII, 44,45). Эти люди из народов, которых не ведал Христос, когда являлся во плоти, но в Которого они уверовали как в Христа, когда о Нем было им возвещено, так что о них справедливо гово-
О граде Божием 887
роды будут славить Тебя во веки и веки» (Пс. Х1ЛУ, 10—18). Не думаю, чтобы кто–нибудь был настолько глуп, чтобы вообразить, будто в этом месте восхваляется и описывается какая–либо обыкновенная женщина, жена Того, Кому сказано: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду, и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Разумеется — помазал Христа более христиан. Ибо последнее суть соучастники Его. Из них изо всех народов через единство и согласие составляется эта царица, в соответствии с тем, что говорится о ней в другом псалме: «Город великого Царя» (Пс. ХЬУП, У). Она же и Сион в духовном смысле; имя это в переводе на латинский язык значит «высматривание». Высматривается в этом случае великое благо будущего века, так как к нему направляются ее усилия. Она же есть и Иерусалим в том же духовном смысле, о чем многое уже было сказано. Ее враг — град дьявола, Вавилон, означающий в переводе «смешение». Через возрождение, впрочем, царица эта освобождается от Вавилона в среде всех народов, и от злейшего царя переходит к Царю благому, т. е. от дьявола к Христу. Поэтому и говорится ей: «Забудь народ твой и дом отца твоего».
Часть этого нечестивого града составляют и израильтяне по плоти, а не по вере: они даже враги великого Царя и Его царицы. Пришедший к ним и убитый ими Христос преимущественнее сделался Христом других народов, которых не видел во плоти. Поэтому в пророчестве одного псалма сам Царь наш говорит: «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне; по одному слуху о мне повинуются мне» (Пс. XVII, 44,45). Эти люди из народов, которых не ведал Христос, когда являлся во плоти, но в Которого они уверовали как в Христа, когда о Нем было им возвещено, так что о них справедливо гово-
рится: «Вера от слышания, а слышание от слова Бо–жия» (Рим. X, 17), — эти люди, говорю, присоединенные к истинным и по плоти и по вере израильтянам, составляют град Божий, родивший по плоти и самого Христа в то время, когда состоял еще из одних упомянутых израильтян. Ибо оттуда была дева Мария, в которой Христос принял плоть, чтобы быть человеком. Об этом граде другой псалом говорит: «О Сионе же будут говорить: «такой–то и такой–то муж родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его» (Пс. ЕХХХУ!, 5). Кто этот Всевышний, как не Бог? Поэтому Бог Христос, прежде чем соделался в этом граде через Марию человеком. Сам же и основал его в патриархах и пророках. Итак, если этой царице, граду Божию, так задолго было пророчески предсказано исполнившееся уже на наших глазах: «Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле»; ибо из ее сынов предстоятели и отцы ее по всей земле; если ей исповедываются народы, притекающие к ней с признанием бесконечных заслуг ее в веке века; то без всякого сомнения все, что в этом месте говорится несколько темновато в образных выражениях, как бы оно ни понималось, должно соответствовать указанному яснейшему смыслу этого места.
ГЛАВА XVII
То же справедливо и в отношении к тому псалму, в котором предсказывается яснейшим образом Христос–Священник, как в рассмотренном выше псалме предсказывается Христос–Царь: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. С1Х, 1). Воссе–дание Христа одесную Бога Отца составляет предмет веры, а не видения; равным образом не обнаруживается, что враги его положены под ноги Его; это делается, но обнаружится в конце; пока и это — предмет
Блаженный Августин 888
веры, а после будет предметом видения. Но то, что следует далее: «Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих» (Пс. С1Х, 2), до такой степени очевидно, что отрицать это — признак не только недобросовестности и скудоумия, но даже бесстыдства. Сами враги сознаются, что из Сиона был послан Христов закон, который мы называем Евангелием и который признаем жезлом силы Его. О господстве же Его среди Его врагов свидетельствуют сами же они со скрежетом зубовным и с сознанием своего против Него бессилия. Затем, относительно сказанного несколько далее: «Клялся Господь, и не раскается (этими словами указывается непременное исполнение в будущем того, что прибавляется): Ты священник вовек по чину Мельхиседека» (Пс. СГХ, 4), — кто, имея в виду, что священства и жертвоприношения по чину Ааронову уже нигде нет, а повсюду при священстве Христовом приносится то, что принес Мельхиседек, когда благословлял Авраама (Быт. XIV, 18), может недоумевать, к Кому относятся эти слова?
Итак, с этим, вполне ясным, сопоставляется, когда понимается правильно, то, что в том же псалме говорится несколько темнее: это мы уже и сделали в своих, писанных для народа, словах. Так и в другом псалме, где Христос словами пророчества говорит об уничижении в Своих страданиях: «Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище» (Пс. XXI, 17,18). Этими словами Он указал на распростертое на кресте тело, с руками и ногами, пригвожденными к дереву, и на то, что Он представил Собою зрелище для наблюдавших и рассматривавших Его. Он прибавил даже: «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий» (Пс. XXI, 19). Как исполнилось последнее пророчество, рассказывает евангельская история (Мф. XXVII, 35). Несомненно, что и остальное, что сказано в том же псалме менее
О граде Божием 889
ясно, будет понято правильно, если будет соответствовать тому, что выражено столь очевидно; и это тем более, что и то, что мы считаем несовершившимся, а полагаем только совершающимся, оказывается в настоящее время осуществляющимся уже по всему миру, как и предсказано в том псалме из столь отдаленного от нас времени. Ибо в нем несколько далее говорится: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он — владыка над народами» (Пс. XXI, 28, 29).
ГЛАВА XVIII
Не умолчали пророчества псалмов и о воскресении Его. Ибо о чем другом поется в псалме третьем от лица Его: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня» (Пс. III, б)? Разве кто–нибудь окажется до такой степени потерявшим здравый смысл, что подумает, будто пророк хотел представить нам как нечто великое то, что он уснет и встанет, если под сном этим не разумелась смерть, а под пробуждением — воскресение, которое в таких выражениях надлежало предвозвестить о Христе? Гораздо яснее указывается на это в псалме сороковом, где по обычаю от лица того же Посредника рассказывается в виде прошедшего то, что предсказывалось как имеющее совершиться; ибо имевшее совершиться, в предопределении и предвидении Божием, было как бы уже совершившимся, настолько оно было несомненным. «Враги мои, — читаем в псалме, — говорят обо мне злое: «когда он умрет и погибнет имя его?» И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедши вон, толкует. Все, ненавидящие меня, шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло: «слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более» (Пс. ХЬ, б—9)?
Блаженный Августин 890
На этот раз слова эти поставлены уже в такой связи, что смысл их однозначен: «Он умер; не воскреснуть Ему». Ибо предыдущие слова показывают, что враги Его задумали и подготовили Его смерть, и это приведено в исполнение через посредство того, который входил, чтобы видеть, и выходил, чтобы предать. Кто не вспомнит при этом Иуду, сделавшегося из ученика Его предателем?
Итак, поелику они имели исполнить предпринятое, т. е. убить Его, то, показывая, что они напрасно из суетной злобы убьют Того, Кто должен воскреснуть. Он прибавляет этот стих, как бы говоря: «Что вы, суетные, делаете? Что будет злодеянием вашим, то будет моим сном». А что такое великое злодеяние они совершат, однако же, не безнаказанно, Он показывает в последующих стихах, говоря: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту (т. е. попрал меня ногами). Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им» (Пс. ХЬ, 10,11). Кто станет теперь отрицать это, видя, как после страданий и воскресения Христа иудеи подверглись истреблению в кровопролитной войне, были исторгнуты с корнем из своих поселений? Убитый ими воскрес и воздал им пока временным вразумлением, помимо того, что оставляет для неисправимых на будущее, когда будет судить живых и мертвых. Да и сам Господь Иисус, указывая простертым хлебом предателя Своего апостолам, напомнил этот самый стих псалма и сказал, что он исполнился на Нем: «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (Иоан. XIII, 18). Слова же «на которого я полагался» соответствуют не Главе, а телу. Сам Спаситель знал, конечно, того, о ком еще прежде сказал: «Один из вас дьявол» (Иоан. VI, 70). Но Он имеет обыкновение представлять в Своем лице членов Своих и приписывать Себе относящееся к ним, так как и Глава и тело составляют одного Христа; отсюда известное выражение в Евангелии: «Алкал Я, и
О граде Божием 891
вы дали Мне есть». Поясняя это, Он говорит: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. XXV, 35, 40). Итак, Он сказал, что уповал, потому что на Иуду возлагали упование ученики Его в то время, когда Иуда был причисчен к апостолам.
Иудеи же не думают, что ожидаемый ими Христос может умереть. Поэтому они полагают, что предсказанный Законом и Пророками не есть наш Христос, а какой–то их, которого они воображают чуждым смертных страданий. Поэтому с изумительной суетностью и слепотою со своей стороны утверждают, будто приведенные нами слова означают не смерть и воскресение, а сон и пробуждение. Но им громкое свидетельство дает и псалом пятнадцатый: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании; ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. XV, 9,10). Кто мог бы сказать, что плоть его успокоилась в надежде, что душа в аде не останется, но, немедленно возвратившись к ней (плоти), снова оживит ее, чтобы не истлела она, как истлевают трупы, — кто мог бы сказать это кроме Того, Кто воскрес в третий день? О пророке и царе Давиде они никак не могут этого утверждать.
Громко взывает и псалом шестьдесят седьмой: «Бог для нас — Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти» (Пс. ЬХУП, 21). Можно ли сказать что–нибудь яснее? Бог во спасение есть Иисус, что в переводе значит Спаситель. Именно такой смысл был дан этому имени, когда еще до рождения Христа от Девы было сказано: «Родишь же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. I, 21). Так как ради оставления этих грехов была пролита Его кровь, то и не надлежало Ему иметь другого исхода из настоящей жизни, кроме смертного. Поэтому вслед за словами: «Бог для нас — Бог во спасение» тотчас же прибавлено: «Во
Блаженный Августин 892
власти Господа Вседержителя врата смерти», чтобы показать, что спасет Он своею смертью. Но последние слова сказаны с выражением некоторого удивления, будто хотели сказать: «Такова настоящая жизнь смертных, что и для самого Господа нет из нее другого выхода, кроме как через смерть».
ГЛАВА XIX
Так как на иудеев решительно не действуют до такой степени ясные свидетельства этого пророчества даже и в то время, когда события показали их очевидное и точное исполнение; то на них исполняется написанное в следующем за этим псалме. И здесь от лица Христова говорится пророчески о том, что относится к Его страданию, и между прочим упоминается известное из Евангелия: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» (Пс. ЬХУШ, 22; Мф. XXVII, 34). А затем, как бы после такого пира и предложенных Ему такого рода яств, вводится такая речь: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их — западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда» (Пс. ОСУШ, 23,24), и проч. Высказано это как пожелание; но под видом пожелания изложено пророческое предсказание. Удивительно ли после этого, что не видят очевидного те, чьи очи помрачились, чтобы не видеть? Удивительно ли, что не воспринимают небесного те, у которых расслаблены чресла, чтобы смотреть им вниз? Последними словами, перенесенными от тела, обозначаются пороки душевные. Приведенных свидетельств из псалмов, т. е. из пророчеств царя Давида, достаточно, и пора нам уже знать меру. Читающие это и знающие их все пусть извинят и не жалуются, если, на их взгляд или по их мнению, окажется, что я опустил нечто более важное.
О граде Божием 893
ГЛАВА XX
Итак, в земном Иерусалиме царствовал Давид, сын Иерусалима небесного, весьма восхваляемый в божественном Писании, ибо и сами проступки его были через спасительное уничижение покаяния заглажены таким благочестием, что он, несомненно, находится в числе тех, о которых сам говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты!» (Пс. XXXI, 1). По смерти его царствовал над тем же народом сын его Соломон, начавший царствовать, как сказано было выше, еще при жизни отца. Этот, после доброго начала, имел конец дурной. Счастливые обстоятельства, утомляющие души мудрых, причинили ему более вреда, чем принесла пользы самая мудрость, достопамятная теперь и впредь, а в то время далеко и повсюду прославлявшаяся. Находят, что и он пророчествовал в своих книгах. Три его книги: Притчи, Екклесиаст и Песнь Песней зачислены в число канонических. Другие же две, из которых одна называется Премудрость, а другая — Екклесиастик, по причине некоторого сходства в изложении, принято также называть Соломоновыми; но ученые не сомневаются, что они принадлежат не ему. Впрочем, церковь, в особенности же западная, издревле приняла их в число священных. В одной из них, которая называется Премудрость Соломона, излагается яснейшее пророчество о страданиях Христа. Нечестивые убийцы его представляются говорящими: «Уловим праведного, ибо он нам неприятен и противится делам нашим, и поносит прегрешения законов наших, и бесславит грехи учения нашего. Возвещает нам разумение Божие и сыном Божиим именует себя. Он — обличитель помыслов наших. Тяжко нам видеть его, ибо праведны пути его. Увидим, истинны ли слова его: если он истинный сын Божий, (Бог) защитит его, избавит его от рук противящихся (ему). Досаждением и мукой будем истязать его, да увидим
Блаженный Августин 894
кротость его, и искусим терпение его. Смертию позорной осудим его». Так помыслили и прельстились, ибо злоба их ослепила их» (Прем. II, 12—21).
В Екклесиастике же предсказывается будущая вера язычников в следующих выражениях: «Помилуй нас, Владыко Господи, и устраши все народы: воздвигни руку Твою на народы чуждые, да узрят они силу Твою. Как пред ними Ты освятился в нас, так пред нами возвеличься в них; и да познают они, как и мы познали, что нет Бога кроме Тебя, Господи» (Сирах. XXXVI, 1—5). Это пророчество, изложенное в виде пожелания и молитвы, мы видим исполнившимся через Иисуса Христа. Но против спорщиков не имеют такой силы свидетельства, приводимые из писаний, не входящих в состав иудейского канона.
Что касается тех трех книг, о которых известно, что они принадлежат Соломону и которые иудеи считают каноническими, то для указания того, что в них находится в таком же роде относящегося ко Христу и Церкви, необходимо тщательно проведенное исследование, которое вывело бы нас из надлежащих границ, если бы мы вдались в него в настоящее время. Впрочем, приводимые в Притчах слова нечестивых: «Подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и — целых, как нисходящих в могилу; наберем всякого драгоценного имущества» (Притч. I, 11—13) не до такой степени темны, чтобы их нельзя было без особого и старательного толкования применять к Христу и Его имуществу. Церкви. Нечто подобное и сам Господь Иисус влагает в евангельской притче в уста злых делателей: «Это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его» (Мф. XXI, 38). Таковы и те слова в той же книге, которые мы привели прежде, когда говорили о бесплодной, которая родила семерых: знавшие, что Христос есть Божия Премудрость, только к Христу и Церкви обыкновенно и относили их после того, как они были произнесены.
О граде Божием 895
«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворенное» (Притч. IX, 1—5). В этих словах мы действительно узнаем Божию Премудрость, т. е. совечное Отцу Слово, создавшее Себе в девственном чреве дом — тело человеческое, и к этому телу, как члены к главе, присоединившее Церковь; заклавшее жертвы мучеников; приготовившее трапезу из вина и хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мельхиседека; призвавшее безумных и бедных смыслом: ибо, по слову апостола, «избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное» (I Кор. 1,27). Однако же этим немощным Оно говорит далее: «Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» (Притч. IX, 6). Быть же причастным трапезе Его и значит начать жить. Ибо и в другой книге, которая называется Екклесиаст, когда говорится: «Нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться» (Еккл. VIII, 15), что другое имеется в виду, как не то, что относится к причастию той трапезе, которую предлагает из тела и крови Своей этот Посредник Нового завета, священник по чину Мельхиседекову? Ведь эта жертва заменила собою те жертвоприношения Ветхого завета, которые совершались как сень будущего. Это дает нам понять и в тридцать девятом псалме голос того же Посредника, Который говорит: «Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши» с. XXXIX, 7). Вместо всех тех жертв и приношений 1риносится и раздается причастникам тело Его.
Что сам Екклесиаст в изречении о еде и питье, которое часто повторяет и на которое заставляет об–затить особое внимание, разумеет не яства, доставляющие плотское удовольствие, он довольно ясно юказывает, когда говорит: «Лучше ходить в дом пла-
Блаженный Августин 896
ча об умершем, нежели ходить в дом пира». И несколько далее: «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселия» (Еккл. VII, 2, 4). Но в особенности я считаю нужным напомнить из этой книги то, что касается двух градов, одного дьяволова, другого Христова, и царей их, дьявола и Христа. «Горе тебе, земля, — говорит Екклесиаст, — когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано! Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!» (Еккл. X, 16, 17). Отроком он называет дьявола по причине глупости, гордости, наглости и других пороков, обыкновенно в изобилии присущих этому возрасту; Христа же называет сыном благородных, т. е. святых патриархов, принадлежащих к свободному граду, от которых Он произошел по плоти Князья первого града едят рано, т. е. до соответствующего часа, потому что не ждут благовременного и истинного счастья в будущем веке, желая насладиться поскорее блеском века этого. Князья же града Христова терпеливо ожидают времени неложного блаженства. На это он указывает словами: «не для пресыщения»; потому что их не обманет надежда, о которой апостол говорит: «Надежда не постыжает» (Рим. V, 5). Говорит (об этом) и псалом. «На Тебя уповаю, да не постыжусь» (Пс. XXIV, 2), Вслед за этим и Песнь Песней представляет некоторое духовное наслаждение святых умов в союзе этого Царя и царицы града, т. е. Христа и Церкви. Но наслаждение это представлено под аллегорическими покровами, чтобы пламеннее желалось и приятнее обнаруживалось, и стал бы видимым и жених, которому в этой Песне говорится: «Достойно любят тебя!» (Песн. I, 3), и невеста, которой там же говорят: «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная» (Песн. VII, б). Обходим многое молчанием, чтобы удержать настоящий труд в надлежащих границах.
О граде Божием 897
ГЛАВА XXI
Остальные еврейские цари после Соломона, если и оказываются пророчествовавшими о Христе и Церкви, то лишь некоторою загадочностью своих изречений и действий; и это как в Иудее, так и в Израиле. Последними именами были названы части этого народа с того времени, как он, вследствие наказания Божия за прегрешения Соломона, разделился при сыне его Ровоаме, наследовавшем отцу в царствовании. Десять колен, которые принял в управление раб Соломона Иеровоам, стали называться тогда Израилем, хотя это было имя всего народа. А два колена, т. е. Иудино и Вениаминово, оставшиеся подчиненными Иерусалиму ради Давида, чтобы царская власть не прекратилась в его поколении, носили имя Иуды: так как из этого колена был Давид. Другое же колено, принадлежавшее, как я сказал, к этому царству, Вениаминово, было коленом, из которого происходил Саул, царствовавший перед Давидом.
Оба Зти колена вместе, как сказано, назывались Иудою; и этим именем отличались от Израиля, каковым именем по преимуществу назывались десять колен, имевшие собственного царя. Колено же Левии–но, бывшее священническим и потому обязанное служением Богу, а не царям, считалось тринадцатым. Это потому, что Иосиф, один из двенадцати сыновей Иакова, оставил после себя не одно, как другие, а два колена, Ефремове и Манассиино. Впрочем, и колено Левиино более принадлежало к царству Иерусалимскому, где находился храм Божий, которому оно служило. Итак, по разделении народа в Иерусалиме первым царствовал Ровоам, царь Иудеи, сын Соломона, а в Самарии — Иеровоам, царь Израиля, раб Соломона. И когда Ровоам хотел было войною достигнуть власти над отделившеюся частью, то народу было запрещено сражаться со своими братьями: Бог сказал через пророка, что это разделение —
29 О граде Божием
Блаженный Августин 898
Его дело. Отсюда уяснилось, что в этом деле не было греха ни со стороны царя Израильского, ни со стороны народа, а было исполнение воли каравшего Бога. Узнав об этом, та и другая часть успокоилась, установив взаимный мир: ибо совершилось разделение не религии, а царства.
ГЛАВА XXII
Но по нелепому безрассудству царь Израиля Иеро–воам, не веря Богу, правдивость Которого он испытал в исполнении данного ему обещания царства, побоялся, чтобы народ, приходя к храму Божию, который был в Иерусалиме и куда по божественному закону должны были приходить все евреи для принесения жертв, не отложился от него и не возвратился снова под власть племени Давидова, как племени царственного. Он установил в своем царстве идолопоклонство и увлек народ Божий вместе с собою к нечестивому почитанию статуй. Впрочем, Бог не перестал всячески обличать через пророков не только этого царя, но и преемников его, бывших подражателями его нечестия, и сам народ. Ибо там появились и те знаменитые великие пророки, которые совершили многие чудеса: Илия и ученик его Елисей. Там же, когда говорил Илия: «Сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечем; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее» (III Цар. XIX, 10), ему дан был ответ, что есть еще там семь тысяч мужей, которые не преклоняли колен пред Ваалом.
О граде Божием 899
ГЛАВА XXIII
В свою очередь, и в царстве Иуды, приуроченном к Иерусалиму, даже во времена последующих царей не было недостатка в пророках. Бог посылал их по
Своему усмотрению или для предвозвещения того, что нужно было предвозвестить, или для обличения грехов и для научения справедливости. Ибо и там, хотя гораздо реже чем в Израиле, но все же появлялись цари, тяжко оскорблявшие Бога своим нечестием и подвергавшиеся с подражавшим им народом умеренным наказаниям. Но там с похвалою выставляются на вид и немалые заслуги царей благочестивых. В Израиле же Писание одних более, других менее, но не одобряет всех.
Итак, та и другая часть народа, соответственно тому, как повелевало или попускало божественное провидение, попеременно то увеличивала благосостояние свое, то терпела бедствия. Подвергались они бедствиям не только внешних, но и внутренних, междоусобных войн, соответственно тому, как при существовании известных причин проявлялись милосердие или гнев Божий; пока гнев этот не возрос до такой степени, что весь этот народ, побежденный халдеями, был не только разорен в месте своего жительства, но и по большей своей части переселен в земли ассирийцев. Сперва подверглась этому та часть, которая в составе десяти колен называлась Израилем; а потом, по разрушении Иерусалима и знаменитейшего его храма, подверглась тому же и Иудея. В землях ассирийцев народ провел семьдесят лет пленения. Спустя эти годы, будучи отпущен оттуда, он восстановил разрушенный храм; и хотя очень многие из этого народа проживали в чужих землях, он не делился после этого на два царства и не имел в каждом отдельно двух особых царей. У них был теперь только один князь в Иерусалиме; и к храму Божию, который там был, в определенные времена стекались они все отовсюду, где кто жил и откуда кто мог. Не были они защищены от врагов и завоевателей и в это время: Христос застал их данниками уже римлян.
Блаженный Августин 900
ГЛАВА XXIV
Во все это время, с тех пор как возвратились они из Вавилонии, после Малахии, Аггея и Захарии, пророчествовавших тогда, и после Ездры, они не имели пророков до пришествия Спасителя, кроме другого Захарии, отца Иоаннова, и жены его Елисаветы, — когда рождение Христа было уже весьма близко, а по рождении Его, — кроме старца Симеона, вдовицы, престарелой уже Анны и самого последнего, Иоанна. Этот, будучи юношей и во время юности Христа, хотя и не предсказал о Нем, как имеющем быть, но пророческим ведением указал Его, неведомого. Поэтому сам Господь говорит: «Все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Мф. XI, 13). Пророчества этих пяти известны нам из Евангелия; там же представляется пророчествующей до Иоанна и сама Дева, матерь Господа. Но отверженные иудеи не принимают их пророчеств; приняли же эти пророчества те из их среды, которые в несчетном количестве уверовали в Евангелие. Ибо в то время Израиль действительно разделился надвое тем разделением, которое, как бесповоротное, было через пророка Самуила предсказано царю Саулу. Малахия же, Аггей, Захария и Ез–дра и у отверженных иудеев считаются принятыми в числе последних, имеющих каноническое значение. Ибо и их книги, в числе книг немногих из великого числа пророков, были приняты в канон. Из пророчеств их, относящихся к Христу и Его Церкви, некоторые я нахожу нужным изложить в этом сочинении; но это удобнее будет сделать в следующей книге, чтобы настоящую, и без того обширную, не увеличивать еще более.
КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Я обещал написать о начале, распространении и неизбежном конце двух градов, из которых один — град Божий, а другой — град настоящего века, где странствует теперь и град Божий, насколько он принадлежит к человеческому роду. Но прежде, насколько мне помогла благодать Христова, я опроверг противников града Божия, которые Создателю его, Христу, предпочитают своих богов и с пагубной для себя злобой ненавидят христиан. Это я сделал в первых десяти книгах. Что же касается того тройственного обещания, о котором я только что упомянул, то начало обоих градов изложено мною в следующих за десятью четырех книгах. Потом в еще одной, пятнадцатой книге настоящего сочинения, говорится об их распространении от первого человека до потопа; и затем, как в истории, так и в нашем сочинении, оба града продолжают идти совместно вплоть до Авраама. Но начиная с патриарха Авраама до времени царей Израильских, — на чем мы закончили шестнадцатую книгу, — и от этого времени до пришествия во плоти самого Спасителя, на чем заканчивается книга семнадцатая, мое сочинение повествует о распространении одного только града Божия, хотя в настоящем веке этот град не жил обособленно, но оба они, как и с самого начала, всегда вместе в зависимости от успехов того или другого в делах человеческих сообщали временам различный характер. Это я сделал для того, чтобы с первого момента, как обетования Божий начали быть более ясными, и до самого рождения от Девы Того, в Ком должно было исполниться обетованное, судьбы града Божия, не переплетаясь с противоположными судьбами другого града, обрисовывались отчетливей; хотя до откровения Нового завета он ходил не в свете, а в тени. Теперь я считаю нужным сделать то, что опустил, — коснусь и судеб другого града со времени Авраама настолько, чтобы читатели сами могли оба их между собою сравнить.
ГЛАВА II
Итак, общество смертных, рассеянное на земле повсюду и при всем различии местных условий соединенное известной общностью одной и той же природы, — вследствие того, что каждый ищет своей пользы и удовлетворения своих желаний, а того, к чему он стремится, или не хватает никому, или хватает, но не всем, — не будучи тождественно, по большей части разделяется само против себя, и часть, которая пересиливает, угнетает другую. Побежденная подчиняется победившей, предпочитая, конечно, не только господству, но и самой свободе хоть какой–нибудь мир и спасение; и это — до такой степени, что те составляли предмет великого удивления, которые предпочитали лучше погибнуть, чем переносить рабство. Ибо почти у всех народов высказывался некоторым образом голос природы, по которому они обычно предпочитали покориться победителям, чем подвергнуться уничтожению вследствие истребительной войны. Из этого вышло так, что не без действия промысла Божия, во власти которого находится то, чтобы каждый посредством войны или покорялся сам, или покорял других, одни обладали царствами, а другие подчинялись царствующим. Но из многих земных царств, на которые разделяется общество земных выгод или желаний (которое мы называем градом мира сего), мы выделяем два цар-
О граде Божием 903
ства, сделавшихся самыми знаменитыми: сперва Ассирийское, затем Римское, разграниченные и отделенные друг от друга как по времени, так и по месту. Ибо как первое возникло прежде, а второе — после, так то возникло на Востоке, а это — на Западе; и притом с концом первого совпадает начало другого. Что же касается остальных царств и остальных царей, то я назвал бы их резервами тех двух.
Итак^Нин был вторым царем ассирийцев, наследовавшим отцу своему Белу, первому царю этого царства, когда в земле Халдейской родился Авраам. Было в то время еще небольшое царство Сикионское, с которого известный ученый Марк Варрон, повествуя о племени народа римского, начинает как по времени самого древнего. От царей Сикионских он переходит к афинянам, от афинян к латинянам, а от этих к римлянам. Но до основания Рима царства Сикионское и Афинское представляются весьма незначительными по сравнению с Ассирийским. Правда, и по признанию Саллюстия, римского историка, в Греции были весьма знамениты афиняне, но более благодаря молве, чем на самом деле. Ибо, говоря об афинянах, Саллюстий замечает: «Деяния афинян, как я думаю, были довольно велики и блестящи, однако несколько менее значительны, чем как говорит о них молва. Но поскольку среди них явились писатели с великим талантом, то дела их во всем мире превозносятся, как дела величайшие. Доблесть совершавших их представляется настолько удивительной, насколько смогли описать ее великие таланты». Немалую славу придали этому городу науки и философия, так как занятия этого рода процветали прежде всего именно там. Но что касается политического значения, то ни одно государство в первые времена не было сильнее и не распространялось так далеко и широко, как Ассирийское.
Повествуют, что тамошний царь Нин, сын Вела, всю Азию, которая по счету называется третьей, а по
Блаженный Августин 904
величине является половиной всего земного шара, п окорил до самых пределов Ливии. Власть его на В остоке не распространялась на одних только ин-; но и этих после его смерти покорила его , Семирамида. Таким образом, все, какие только б ыли в тех странах народы и цари, повиновались гос–п одству и власти ассирийцев и делали то, что им приказывалось. Итак, Авраам родился в этом царстве сре–дЛ халдеев во времена Нина. Но поскольку события греческие нам гораздо более известны, чем ассирий–с кие, и те, которые искали первые и древнейшие сле–ды племени римского народа, последовательность исторических периодов вели через греков к латиня-!^ам, а от последних к римлянам, которые и сами суть латиняне, то мы должны, где нужно, упоминать царей ассирийских, чтобы видно было, как Вавилония, Зтот как бы первый Рим, разрасталась параллельно со странствующим в этом мире градом Божиим; но с–обытия, которые должны быть включены в настоящее сочинение для сравнения того и другого, т. е. зем–рюго и небесного градов, мы вынуждены брать от гфеков и латинян, у которых и сам Рим является как ^ы второй Вавилонией.
Итак, когда родился Авраам, вторыми царями ^ыли: у ассирийцев Нин, у сикионцев Европе; а первыми царями были: у тех Бел, у этих Эгиалей. Когда после выхода Авраама из Вавилонии Бог обещал , что от него произойдет великое потомство и в темени его благословятся все народы, ассирийцы 0мели четвертого царя, а сикионцы — пятого. У первых после матери своей Семирамиды царствовал сын ^ина; последняя, говорят, была им умерщвлена, когда осмелилась осквернить сына кровосмесительным •соитием. Некоторые думают, что именно она построила Вавилон, хотя она могла только восстановить его: когда и как он был построен, — об этом мы сказали в шестнадцатой книге. Сына Нина и Семирамиды, который после матери наследовал царство,
О граде Божием 905
одни называют также Нином, а другие Нинием, производя его имя от имени отца. Царством же Сикион–ским управлял в то время Телксион. В его царствование были такие безмятежные и счастливые времена, что, когда он умер, его почтили, как бога, жертвоприношениями и играми, которые, говорят, и установлены были впервые в его честь.
ГЛАВА III
В это же время у столетнего Авраама, по обетованию Божию, родился сын Исаак от Сарры, которая, будучи бесплодной и состарившейся, потеряла уже надежду на потомство. А у ассирийцев был тогда пятым царем Аралий. У самого же Исаака на шестидесятом году родились близнецы Исав и Иаков, которых родила ему Ревекка, когда еще был жив дед их Авраам и имел сто шестьдесят лет от роду: он умер ста семидесяти пяти лет, когда у ассирийцев был царем старший Ксеркс, называвшийся также Баллеем, а у сикионцев Фуриак, которому некоторые дают имя Фуримаха. Это были седьмые цари. В одно время с внуками Авраама возникло царство Аргос, в котором первым царем был Инах. Нельзя не упомянуть, что, по свидетельству Варрона, сикионцы приносили жертвы и у гроба седьмого своего царя Фуриака. При восьмых царях, ассирийском Армамитре, сикион–ском Левкиппе, и при первом царе Аргоса Инахе Бог говорил к Исааку и повторил ему те самые два обетования, которые даны были отцу его, т. е. что потомству его будет принадлежать Ханаан и что в семени его благословятся все народы.
То же самое обещано было и его сыну, внуку Авраама, который назывался сначала Иаковом, а потом Израилем, когда у ассирийцев царствовал уже девятый царь Белох, у аргосцев второй, сын Инаха Форо–ней, а у сикионцев оставался еще Левкипп. В это вре-
Блаженный Августин 906
мя Греция, при Аргосском царе Форонее, сделалась более известной некоторыми установлениями законов и учреждением судов. Однако, когда умер младший брат Форонея, Фегой, над его могилой был построен храм, в котором его почитали как бога и приносили ему в жертву быков. Полагаю, что такой чести его удостоили потому, что в своем уделе (ибо отец дал обоим им по области, в которых они царствовали еще при его жизни) он установил священные места с жертвенниками для богов и научил наблюдать времена по месяцам и годам: как какое из них измеряется и вычисляется. Удивляясь этой новости, люди, в то время еще невежественные, или думали, что он после смерти сделался богом, или желали, чтобы был таковым. Ибо и Ио, которая, впоследствии названная Исидой, почиталась в Египте как великая богиня, была, говорят, дочерью Инаха; хотя другие пишут, что она пришла в Египет царицей из Эфиопии, и так как управляла египтянами с большою властью и справедливо, ввела много для них полезного и положила начало наукам, то после смерти ей оказали там божескую честь и такое почитание, что считали уголовным преступлением, если кто называл ее человеком.
ГЛАВА IV
При десятом царе Ассирии Балее и девятом Сики–она Месаппе, которого некоторые называют еще Кефисом (если только, впрочем, это был один человек с двумя именами и если те, которые в своих сочинениях поставили другое имя, не разумели под ним другого лица), когда третьим царем Аргоса был Апис, умер ста восьмидесяти лет от роду Исаак и оставил после себя своих близнецов ста двадцати лет; из них младший Иаков, принадлежавший к граду Божию, о котором мы пишем (между тем как старший был от-
О граде Божием 907
вергнут), имел двенадцать сынов, из коих тот, который назывался Иосифом, своими братьями еще при жизни их деда Исаака был продан купцам, идущим в Египет. Но Иосиф, когда ему исполнилось тридцать лет, был принят на службу к фараону, возвысившись из того унижения, которое претерпел Истолковав по божественному внушению сны царя, он предсказал, что наступят семь лет плодородия, изобилие которых истощат следующие за ними другие семь лет голода; за это царь сделал его начальником Египта, освободив из темницы, куда ввергла его целомудренная невинность: потому что, мужественно сохраняя ее, он с госпожою, воспылавшей к нему нечистой любовью и грозившей оклеветать его перед легковерным господином, не согласился на блуд, вырвавшись из ее объятий и бросив даже одежду. Во второй год семи голодных лет прибыл в Египет к сыну Иаков со всеми домочадцами, будучи ста тридцати лет, как он о том сообщил сам (Быт ХЬУП, 9); Иосифу же было тогда тридцать девять лет, если к тридцати годам, которые он имел, когда был осыпан милостями царя, прибавить семь лет плодородия и два года голода.
ГЛАВА V
В это время царь Аргоса Апис, приплыв на кораблях в Египет, сделался, когда умер, величайшим из всех египетских богов, Сераписом. Почему он после смерти был назван не Аписом, а Сераписом, весьма удовлетворительное объяснение дает Варрон. Так как гроб, в который кладется умерший и который теперь все называют оорксмрссуо^, по–гречески называется аоро^, и после похорон его начали почитать в этом гробе, прежде чем построили ему храм; то сперва он был назван как бы Сорос и Апис, Сорапис, а потом, с переменой одной буквы, как это часто бывает, Сера–пис. И относительно него также было постановлено,
Блаженный Августин 908
чтобы каждый, кто сказал бы, что он был человеком, подвергался смертной казни. А так как почти во всех храмах, в которых чтили Исиду и Сераписа, стояла и статуя, которая пальцем, прижатым к губам, по–видимому, советовала хранить молчание, то Варрон думает, что это означает, чтобы молчали о том, что они были людьми. Но тот бык, которого одержимый удивительной суетностью Египет содержал в честь Аписа с величайшей роскошью, назывался просто Аписом, а не Сераписом, потому что его чтили живого, без саркофага. Когда этот бык умирал и после этого находили теленка такого же самого цвета, т. е имеющего такие же белые пятна, то считали это чем–то чудесным и совершившимся по божественному про–мышлению. Действительно, для их обольщения демонам нетрудно было показать зачинающей и стельной корове призрак подобного быка, который бы видела только она одна; затем уже похоть матери привлечет то, что на плоде ее отразится телесным образом. Добился же Иаков при помощи разноцветных палочек, что овцы и козы рождались разных цветов (Быт. XXX, 37—42). А что люди могут производить в зачинающих животных при помощи действительных цветов и предметов, то демоны весьма легко могут делать при помощи ложных образов.
ГЛАВА VI
Итак, Апис, царь Аргосский, а не Египетский, умер в Египте. Ему наследовал в управлении царством сын его Аргос, от имени которого получили свое название Аргос, а затем аргосцы; при предшествовавших же царях ни город, ни народ этого имени еще не носили. Итак, когда у аргосцев царствовал Аргос, у си–кионцев Эрат, а у ассирийцев продолжал еще царствовать Валей, умер в Египте Иаков ста сорока семи лет; причем, чувствуя приближение смерти, благосло-
О граде Божием 909
вил своих сынов и внуков от Иосифа и изрек весьма ясное пророчество о Христе, говоря в благословении Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. ХПХ, 10). В царствование Аргоса Греция стала пользоваться зерновым хлебом и заниматься земледельческими посевами, употребляя семена, занесенные со стороны. И Аргоса после его смерти начали считать богом, построив в честь его храм и принося жертвоприношения. Раньше, в его царствование, эта почесть воздана была частному, убитому громом человеку Омогиру за то, что он первым впряг волов в плуг.
ГЛАВА VII
При двенадцатом царе Ассирийском Мамите, одиннадцатом Сикионском Племнее и при остававшемся еще в живых Аргосе умер в Египте Иосиф ста десяти лет (Быт. Ь, 25). После смерти его народ Божий, удивительным образом умножаясь в числе, прожил в Египте сперва, пока были живы знавшие Иосифа, спокойно сто сорок пять лет, а потом, так как умножение его возбуждало зависть и казалось подозрительным, он вплоть до самого освобождения своего оттуда угнетался преследованиями (среди которых, впрочем, божественной силой не переставал размножаться) и работами нестерпимого рабства. В Ассирии же и Греции оставались в продолжение этого времени те же самые царства.
ГЛАВА VIII
Итак, когда у ассирийцев царствовал четырнадцатый царь Сафр, у сикионцев двенадцатый Орфопо–лис, а у аргосцев пятый Криаз, родился в Египте Мои-
Блаженный Августин 910
сей; через него народ Божий освободился от египетского рабства, в коем он должен был томиться, чтобы возжелать помощи своего Создателя. Некоторые полагают, что в царствование упомянутых царей жил Прометей, который, говорят, из глины образовал людей; потому что, как утверждают, был самым лучшим учителем мудрости; хотя, впрочем, не указывают, какие были в его время мудрецы. О брате его Атласе говорят, что он был великий астролог: это дало повод молве представлять его носящим небо; хотя его именем называется гора, высота которой, вероятнее всего, и вызвала народное поверье о ношении неба. С того времени в Греции начало появляться и много других басен; и до самого времени Кекропса, царя афинян, в царствование которого этот народ стал называться своим теперешним именем и при котором через Моисея Бог вывел евреев из Египта, многие умершие, благодаря невежественному и пустому обычаю и суеверию греков, были отнесены к числу богов. Между ними была жена царя Криаса Мелантомика и сын их Фор–вас, который после отца был шестым царем аргосцев, равно и сын седьмого царя Триопа Нас, и девятый царь Сфенелай, или Сфенелей, или Сфенел: у различных писателей он называется по–разному.
В эти времена, по некоторым сказаниям, жил и Меркурий, внук Атласа от дочери Майи, о чем толкуется во многих самых распространенных сочинениях. Он славился знанием многих наук и искусств, которые передал людям; этим он заслужил то, что после смерти его объявили и даже вообразили богом. Позднее, говорят, жил Геркулес, относящийся, впрочем, к тем же временам аргосцев; хотя некоторые полагают, что он жил раньше Меркурия, но, на мой взгляд, они ошибаются. В какое бы, впрочем, время они ни родились, у вполне достоверных историков, писавших об этих древних событиях, считается несомненным, что оба они были людьми и удостоились божеских почестей за то, что оказали смертным много
О граде Божием 911
благодеяний в смысле улучшения удобств настоящей жизни. Что касается Минервы, то она гораздо древнее. Говорят, что она во времена Огигия явилась в девичьем возрасте на озере, называемом Тритон; почему звалась и Тритонией. Не подлежит сомнению, что она была изобретательницей многих искусств, и тем легче сочтена была богиней, чем менее было известно ее происхождение. А что распевают о ней, будто она родилась из головы Юпитера, то это нужно относить к поэзии и басням, и не к истории о действительных событиях.Впрочем, когда жил сам Огигий, во времена которого был великий потоп, — не тот всемирный потоп, от которого не спасся никто из людей, за исключением находившихся в ковчеге, и о котором не знает ни греческая, ни латинская история народов, но потоп все же гораздо больший, чем какой был позднее во времена Девкалиона, — относительно этого исторические писатели говорят по–разному. Так, Варрон начинает свою книгу, о которой я упомянул выше, с этого времени, и древнее потопа Огигиева, т. е. случившегося во время жизни Огигия, не представляет ничего, с чего мог бы перейти к истории римской. Наши же писатели хроник, сперва Евсевий, а потом Иероним, следуя каким–то более ранним историкам, полагают, что потоп Огигия был спустя более чем триста лет, в царствование второго Аргосского царя Форонея. Но когда бы этот потоп ни был, Минерва уже почиталась как богиня, когда в Афинах царствовал Кекропс, при котором, говорят, был восстановлен или даже построен этот город.
ГЛАВА IX
Ибо Варрон приводит такую причину названия города именем Афины, взятым, безусловно, от Минервы, которая по–гречески называется Авт^а, Когда
Блаженный Августин 912
там неожиданно появилось оливковое дерево, а в другом месте выступила вода, — эти чудеса обеспокоили царя, и он послал к Аполлону Дельфийскому спросить, какой они имеют смысл и чего требуют. Аполлон отвечал, что оливковое дерево означает Минерву, а вода — Нептуна, и что от воли граждан зависит, именем кого из двух богов, которых означают эти символы, лучше назвать город. Кекропс, получив этот ответ оракула, созвал для подачи голосов всех граждан обоего пола (здесь тогда было в обычае, чтобы и женщины участвовали в публичных совещаниях). И вот, посовещавшись, мужчины подали голоса за Нептуна, а женщины — за Минерву, и так как одною женщиной оказалось больше, победительницей осталась Минерва. Тогда разгневанный Нептун опустошил земли афинян взволновавшимися морскими водами, ибо демонам нетрудно разбрасывать на большие расстояния какие угодно волны. Чтобы смягчить его гнев, афиняне, как говорит тот же автор, подвергли женщин тройному наказанию, ни одна из них после этого не должна была подавать голоса, никто из рождающихся не должен был принимать имени матери, никто не должен был называть их афинянками.
Таким образом, этот город, мать и кормилица свободных наук и стольких столь великих философов, — город, славнее и прекраснее которого в Греции не было, благодаря издевательству демонов получил имя Афин от спора своих богов, мужчины и женщины, и от победы женщины через женщин; но, потерпев поражение от побежденного, вынужден был наказать и саму победу победившей, страшась более вод Нептуна, чем оружия Минервы. Ибо в лице так наказанных женщин побеждена была и победившая Минерва: она не помогла своим избирательницам даже настолько, чтобы с потерей с того времени права голоса и с отчуждением сыновей от имен матерей они могли, по крайней мере, называться афинянками и
О граде Божием 913
считаться достойными имени той богини, которой своим голосованием доставили победу над богом–мужчиной. Чего и сколько можно было бы сказать по этому поводу, если бы наша речь не спешила перейти к другим предметам!
ГЛАВАХ
Марк Варрон не хочет, однако, доверять баснословным измышлениям о богах, чтобы не подумать чего–нибудь, недостойного величия. Поэтому он не допускает, чтобы ареопаг, в котором рассуждал с афинянами апостол Павел (Деян. XVII, 19) и от названия которого все афинские сенаторы прозывались ареопагитами, получил свое имя от того, что Марс, по–гречески Арт^, когда на этом поле (ра§о) судили его двенадцать богов по обвинению в убийстве, был оправдан шестью голосами; ибо когда при произнесении приговора голоса разделялись поровну, оправдание обыкновенно предпочиталось обвинению. Вопреки этому наиболее распространенному мнению, он старается на основании не пользующихся известностью сочинений подыскать некоторое иное объяснение этому имени, чтобы не думали, будто афиняне ареопаг назвали именем Марса и поля, как бы Марсовым полем, т. е. в оскорбление божествам, которым, по его мнению, чужды ссоры и тяжбы. Варрон утверждает, что это сказание о Марсе настолько же ложно, насколько и сказание о трех богинях, Юноне, Минерве и Венере, которые якобы из–за золотого яблока спорили перед судьею Парисом о превосходстве своей красоты; хотя последнее служит предметом и повествования, и представления в пении и плясках, при громе театральных рукоплесканий во время игр, установленных для умилостивления богов, услаждающихся такими своими истинными или ложными преступлениями.
Блаженный Августин 914
Варрон этому не верит из опасения, как бы не помыслить чего–нибудь, не соответствующего природе и нравам богов. Однако, приводя не баснословное, а историческое объяснение названия Афин, он заносит в свое сочинение спор Нептуна и Минервы относительно того, чьим именем должен назваться город, — спор такого свойства, что, когда они обнаружили соперничество проявлением чудесных знамений, Аполлон, к которому обратились за советом, не решился разбирать их, но чтобы покончить распрю между богами, как Юпитер трех упомянутых богинь послал к Парису, так и он отослал их к людям, на суде которых Минерва победила большинством голосов и в то же время потерпела поражение в лице своих наказанных избирательниц, отвоевав у мужчин, оказавшихся ее противниками, Афины, но потеряв право считать дружественных ей женщин афинянками. В это же время, по свидетельству Вар–рона, при Афинском царе Кранае, преемнике Кек–ропса, а по свидетельству наших историков, Евсевия и Иеронима, еще при жизни самого Кекропса, был потоп, названный Девкалионовым потому, что Дев–калион царствовал в тех странах, где этот потоп по преимуществу имел место. Но потоп этот отнюдь не простирался до Египта и сопредельных с ним стран.
ГЛАВ А XI
Итак, Моисей вывел народ Божий из Египта в самые последние годы царствования царя Афин Кекропса, когда у ассирийцев царствовал Аскатад, у си–кионцев Мараф, у аргосцев Триопас. Он сообщил народу полученный от Бога на Синайской горе закон, который называется Ветхим заветом, потому что в нем заключаются земные обетования; а через Иисуса Христа имел быть завет Новый, в котором обещается небесное царство. Такой должен был наблюдать-
О граде Божием 915
Варрон этому не верит из опасения, как бы не помыслить чего–нибудь, не соответствующего природе и нравам богов. Однако, приводя не баснословное, а историческое объяснение названия Афин, он заносит в свое сочинение спор Нептуна и Минервы относительно того, чьим именем должен назваться город, — спор такого свойства, что, когда они обнаружили соперничество проявлением чудесных знамений, Аполлон, к которому обратились за советом, не решился разбирать их, но чтобы покончить распрю между богами, как Юпитер трех упомянутых богинь послал к Парису, так и он отослал их к людям, на суде которых Минерва победила большинством голосов и в то же время потерпела поражение в лице своих наказанных избирательниц, отвоевав у мужчин, оказавшихся ее противниками, Афины, но потеряв право считать дружественных ей женщин афинянками. В это же время, по свидетельству Вар–рона, при Афинском царе Кранае, преемнике Кек–ропса, а по свидетельству наших историков, Евсевия и Иеронима, еще при жизни самого Кекропса, был потоп, названный Девкалионовым потому, что Дев–калион царствовал в тех странах, где этот потоп по преимуществу имел место. Но потоп этот отнюдь не простирался до Египта и сопредельных с ним стран.
ГЛАВ А XI
Итак, Моисей вывел народ Божий из Египта в самые последние годы царствования царя Афин Кекропса, когда у ассирийцев царствовал Аскатад, у си–кионцев Мараф, у аргосцев Триопас. Он сообщил народу полученный от Бога на Синайской горе закон, который называется Ветхим заветом, потому что в нем заключаются земные обетования; а через Иисуса Христа имел быть завет Новый, в котором обещается небесное царство. Такой должен был наблюдать-
Блаженный Августин 916
Аттике своему гостю виноградную лозу. Тогда же были установлены музыкальные игры в честь Аполлона Дельфийского, чтобы умилостивить его гнев, вследствие которого, думали, Греция была поражена бесплодием за то, что не защитила его храма, сожженного царем Данаем, когда он опустошал Грецию войною. Установить эти игры надоумил его же (Аполлона) оракул. В Аттике эти игры Аполлону первый установил царь Эрихтоний, — и не только ему, но и Минерве, на играх в честь которой в награду победителю давалась маслина, потому что открытие ее плода приписывалось Минерве, как Либеру — открытие вина. В эти же годы, как рассказывают, царь Крита Ксанф, которого другие писатели называют другим именем, похитил Европу; от них родились Радамант, Сапердон и Минос, которых наиболее распространенное мнение считает сыновьями Юпитера от этой женщины.
Но почитатели таких богов исторической истиной считают только то, что мы сказали о царе критян; а что распевают о Юпитере поэты, чему рукоплещут театры, что празднуют народы, то считают баснословным вымыслом, чтобы иметь повод к установлению игр для умилостивления божеств хотя бы и ложными их преступлениями. В это же время в Тирии пользовался известностью Геркулес, — не тот, о котором упоминалось выше, а другой; в истории, которая сохраняется в тайне, говорится как о многих Ли–берах–отцах, так и о многих Геркулесах. Этот–то именно Геркулес, которому приписывают двенадцать великих дел, но между коими не упоминают убийства африканца Антея, так как оно относится к другому Геркулесу, сжег, как рассказывают они в своих сочинениях, сам себя на горе Эте с тем мужеством, с каким побеждал чудовищ, но с каким не смог вытерпеть болезни, которая обессиливала его. В это же время царь или, вернее, тиран Вузирис приносил своих гостей в жертву своим богам. О нем рассказывают, что он был сыном Нептуна от матери Ливии, до-
О граде Божием 917
чери Эпафа. Что Нептун совершил это прелюбодеяние, конечно, считается ложным, из опасения возвести хулу на богов; а присваивается это поэтам и театрам, чтобы было чем умилостивлять богов. Говорят также, что родителями царя Афин Эрихтония, в последние годы жизни которого умер Иисус Навин, были Вулкан и Минерва. Но так как Минерву полагают девственницей, то говорят, что Вулкан при взаимном между ними споре, возбужденный страстью, излил семя на землю; отсюда рожденному от этого семени человеку и было дано такое имя. Ибо греческое слово гтС, означает спор, а хбом — землю; из этих двух слов и сложилось имя Эрихтоний.
Нужно признаться, впрочем, что более ученые мужи подобные вещи отвергают и не допускают их в отношении своих богов; по их словам, это баснословное мнение возникло потому, что в храме Вулкана и Минервы, который в Афинах был один для них обоих, найден был подкидыш — мальчик, обвитый драконом, предсказавшим ему великое будущее; так как родители этого мальчика были неизвестны, то ради общего храма его называли сыном Вулкана и Минервы. Вышеприведенная басня, однако, лучше, чем эта история, объясняет происхождение имени Эрихтоний. Но нам, впрочем, что до этого? Пусть одно из этих сказаний, как предмет правдивых сочинений, назидает людей религиозных, а другое, как сюжет лживых игр, услаждает нечестивых демонов; но ведь эти религиозные люди почитают их как богов; и потому хотя не допускают в отношении к ним подобных вещей, не могут очистить их от другого рода преступления: так как по их же требованию дают им игры, в которых постыдно представляются вещи, якобы благоразумно отрицаемые, и боги этими ложными и гнусными играми умилостивляются. Пусть в этих играх басня воспевает преступление несомненно ложное; но услаждаться ложным преступлением есть уже преступление истинное.
Блаженный Августин 918
ГЛАВА XIII
После смерти Иисуса Навина народ Божий имел судей, во времена которых для евреев попеременно чередуются то уничиженные состояния бедствий за их грехи, то состояния утешительного благоденствия по милосердию Божию. В это время измышлены басни: о Триптолеме, якобы он по велению церкви летал на крылатых змеях, снабжая нуждающиеся страны пшеницей; о Минотавре, якобы это животное было заключено в лабиринте, из которого вошедшие в него люди, блуждая без конца, не могли выйти; о кентаврах, якобы они имели в одно и то же время природу коней и людей; о Цербере, будто это — трехглавый пес преисподней; о Фриксе и сестре его Гелле, якобы они бежали верхом на баране; о Горгоне, у которой якобы вместо волос были змеи и она обращала в камни смотревших на нее; о Беллерофонте, будто его возил крылатый конь, названный Пегасом; об Амфионе, будто приятными звуками цитры он смягчал и привлекал к себе камни; о мастеровом Дедале и его сыне Икаре, будто они летали, устроив себе крылья; об Эдипе, будто он заставил некое четвероногое с человеческим лицом чудовище, называвшееся Сфинксом, погибнуть от падения в пропасть после того, как разгадал его загадку, которую оно имело обыкновение задавать, считая ее неразрешимой; об Антее, которого убил Геркулес, будто он был сыном Земли, потому что, падая на землю, поднимался обыкновенно с большими силами; и многие другие, о которых я умалчиваю.
Все эти басни вплоть до самой Троянской войны, которой Марк Варрон заканчивает вторую книгу о племени римского народа, людская изобретательность по поводу историй, содержавших в себе истинные деяния, измышляла так, что они не служили укоризной богам. Но затем некоторые сочинили о Юпитере, будто он похитил красивейшего мальчика
О граде Божием 919
Ганимеда для удовлетворения своей гнусной страсти: мерзость эту учинил царь Тантал, а басня приписала Юпитеру; или будто Юпитер в виде золотого дождя явился для соития с Данаей, чем дается понять, что женское целомудрие было подкуплено золотом. Случилось ли это в то время на самом деле или было вымышлено, или же сделано другими, а приписано Юпитеру, — во всяком случае нельзя и выразить словами, сколько зла накопилось в человеческом сердце, если оно не только могло терпеливо переносить подобную ложь, но даже охотно ей верило; между тем, чем с большим благочестием чтили Юпитера, тем с большей строгостью должны были бы наказывать тех, кто осмеливался говорить о нем такое. На деле же они не только не гневались на сочинявших подобные басни, а напротив, боялись, чтобы сами боги на них не разгневались, если подобные вымыслы о них не будут разыгрываться в театрах.
В эти времена Латона родила Аполлона, — не того Аполлона, к оракулам которого обращались обыкновенно за советом, как упомянуто нами выше, а того, о котором говорят, что он вместе с Геркулесом пас стада царя Адмета, но которого также считают богом, так что весьма многие, даже почти все полагают, что это — один и тот же Аполлон. Тогда же воевал в Индии и Либер–отец, который в своем войске имел многих женщин, называвшихся вакханками, знаменитых не столько мужеством, сколько неистовством. Некоторые пишут, что этот Либер был побежден и заключен в оковы, а некоторые — что он был убит в сражении Персеем, и не умалчивают при этом о месте его погребения; тем не менее, в честь его, как бы в честь бога, нечистыми демонами учрежден был культ, или лучше — святотатство вакханалий, неистовая мерзость которых, спустя уже много лет после, так устыдила сенат, что он запретил совершать их в Риме. В это же время, когда умерли Персей и его жена Андромеда, их с такою уверенностью считали взятыми
Блаженный Августин 920
на небо, что не стыдились и не боялись указывать их изображения между созвездиями и называть последние их именами.
ГЛАВА XIV
В тот же период времени существовали поэты, которых называют теологами за то, что они писали стихи о богах, но о богах таких, которые были хотя и великими людьми, но все же людьми, или были стихиями этого, сотворенного истинным Богом мира, или же по воле Творца за свои заслуги облечены были начальствованием и властью; и если рядом со многими пустыми и ложными измышлениями они сказали нечто о едином истинном Боге, то, почитая вместе с Ним других, которые не суть боги, и требуя им служения, приличествующего только одному Богу, — во всяком случае Ему правильно не служили и не могли даже сами отстать от баснословной гнусности своих богов. Это были Орфей, Мусей и Лин. Но эти теологи богов почитали, а сами к богам причислены не были; хотя Орфея град нечестивых, уж не знаю каким образом, ставит во главе подземного культа, или, вернее, святотатства. Жена же царя Адаманта, по имени Ино, и сын его Мелицерт погибли, бросившись добровольно в море, и людское мнение причислило их к богам, как и других их современников, Кастора и Поллукса. Не подлежит сомнению, что эту мать Мелицерта греки называли Левкотеей, а латиняне Матутой; но те и другие считали ее, однако же, богиней.
ГЛАВА XV
В это время Аргосское царство окончило свое существование, перейдя в Микены, откуда был родом Агамемнон; и возникло царство лаврентийцев, в ко-
О граде Божием 921
тором первым царем был Пик, сын Сатурна. У евреев тогда судьею была женщина Девора. Через нее действовал Дух Божий, ибо она была и пророчицей; хотя пророчество ее не настолько ясно, чтобы мы могли показать отношение его ко Христу без пространного толкования. В то время уже несомненно царствовали в Италии лаврентийцы, от которых, после греков, яснее выводится происхождение римлян. Продолжало еще существовать и Ассирийское царство, в котором двадцать третьим царем был Лампар, когда первым царем лаврентийцев сделался Пик. Нас не касается, что думают об отце его, Сатурне, почитатели тех богов, не допускающие мысли, что он был человеком; другие писали о нем, будто он царствовал в Италии прежде сына своего Пика, и Вергилий в известнейшем своем сочинении говорит о нем:
«Он дикий народ, по высоким рассеянный горам, Свел воедино, закон ему дал и назвал Лациумом, Ибо он сам безопасно в местах тех пустынных
укрылся.
Так говорят: при царе этом век золотой продолжался».
Все это считается поэтическим вымыслом. Вернее, утверждают, что отцом Пика был Стерцей, которому, как весьма опытному земледельцу, принадлежит, говорят, мысль удобрять землю скотским навозом, названным от имени его зсегсиз; по словам же некоторых, его звали Стеркуцием. По какой бы затем причине ни назван был он Сатурном, несомненно, однако, что этого Стерцея или Стеркуция за заслуги его сделали богом земледелия. Подобным же образом приняли в число таких богов и сына его Пика, который, говорят, был превосходным авгуром и военачальником. От Пика родился Фавн, второй царь лав-
Блаженный Августин 922
рентийцев; и этот считался у них богом. Такие божественные почести воздавались умершим людям до Троянской войны.
ГЛАВА XVI
После разрушения Трои — этого повсюду воспетого и даже детям весьма хорошо знакомого события, которое и в силу своей значимости, и благодаря превосходным сочинениям писателей чрезвычайно известно и прославлено и совершилось во время царствования сына Фавна Латина, от которого получило свое название царство латинян, между тем как царство лаврентийцев прекратило свое существование, — победители греки, оставив разрушенную Трою и возвращаясь по домам, страдали и погибали от различных и ужасных бедствий; тем не менее, и из них пополнилось число их богов. Так, богом сделали Диомеда, который, говорят, в наказание, ниспосланное свыше, не возвратился к своим, а спутники его, как выдают они это уже не за баснословную и поэтическую ложь, а за историческую истину, превращены были в птиц, которым он, даже и сделавшись, как думают, богом, ни сам не смог возвратить человеческой природы, ни как недавний небожитель не испросил ее у царя своего Юпитера. Говорят, что существует даже и храм его на Диомедовом острове, недалеко от горы Гаргана в Апулии, и те пернатые летают вокруг этого храма, живут там и выказывают такую удивительную услужливость, что набирают в нос воду и производят орошение; и если туда приходят греки или имеющие происхождение от греков, то они не только бывают спокойны, но и ласкаются к ним; а если видят чужестранцев, то взлетают им на головы и наносят такие тяжкие удары, что даже убивают. Для подобной войны они, говорят, вооружены достаточно крепкими и большими клювами.
О граде Божием 923
ГЛАВА XVII
Для подтверждения этого Варрон рассказывает другие не менее невероятные вещи о знаменитой волшебнице Цирцее, которая превратила в животных спутников Улисса, и об аркадцах, которые, влекомые роком, переплывали некое озеро, превращались там в волков и жили вместе с подобными же зверьми в пустынях той страны. Если они потом не ели человеческого мяса, то через девять лет, переплыв обратно то же озеро, снова превращались в людей. Варрон называет даже по имени некоего Демента, который будто бы отведал жертвы, которую аркадцы приносили обыкновенно своему богу Ликею, закалывая мальчика, превратился в волка, и, приняв снова на десятом году человеческий образ, упражнялся в кулачном бою и остался победителем на олимпийском состязании. Историк полагает, что в Аркадии Пану–Ликею и Юпитеру–Ликею дано такое имя по причине такого превращения людей в волков, которое, думали они, могло совершаться только божественною силой. Ибо волк по–гречески называется Ал>ко$ видоизменением этого слова и является имя Ликея. Варрон говорит, что и римские Луперки произошли как бы от семени этих мистерий.
ГЛАВА XVIII
Читающие это, может быть, ожидают, что мы скажем об этом крайнем издевательстве демонов? А что нам сказать, кроме того, что нужно бежать из среды Вавилона? Эта пророческая заповедь (Ис. ХЬУШ, 20) имеет тот духовный смысл, что мы из града века сего, который есть общество нечестивейших людей и ангелов, стопами веры, споспешествуемой любовью, должны через преуспеяние находить убежище в живом Боге. Ибо чем большую мы видим власть демонов в этой низменности, тем крепче должны прилеп-
Блаженный Августин 924
ляться к Ходатаю, с помощью Которого из низин мы восходим к высочайшему. Ведь если бы мы сказали, что этому не следует верить, то еще нашлись бы и теперь люди, которые стали бы уверять, что они нечто подобное или самым достоверным образом слышали, или даже испытали. Ибо и мы, бывши в Италии, слышали подобное об одной местности этой страны, где, говорили нам, женщины, содержащие постоялые дворы и обладающие такими скверными искусствами, часто дают путешественникам, каким хотят или могут, в сыре нечто такое, от чего те мгновенно превращаются во вьючных животных и таскают на себе какие–нибудь тяжести, и затем, по окончании работы, снова принимают прежний свой вид. При этом их ум не делается животным, а остается разумным и человеческим, подобно тому, как Апулей в своем сочинении «Золотой осел» рассказывает о себе действительный или вымышленный случай, будто он, приняв яд, сделался ослом, сохраняя человеческую душу.
Все это или ложно, или до такой степени необычно, что по справедливости не заслуживает доверия. Однако нужно твердо верить, что всемогущий Бог может сделать в наказание ли, или для предупреждения все, что захочет, а демоны по могуществу своей природы (ибо она — тварь ангельская, хотя по своей собственной вине и злая) могут делать только то, что попускает Он, советов Которого тайных много, а несправедливого — ни одного. Но если демоны и делают нечто такое, о чем идет у нас речь, то, конечно, творят не новые природы, а изменяют по виду те, которые сотворены истинным Богом, так что они кажутся не тем, что они есть на самом деле.
Итак, я полагал бы, что не только душу, но и тело демоны никоим образом не могут своим искусством или властью превратить в действительные члены и формы животных; но образы человеческой фантазии, которые и в мышлении, и в сновидениях принимают вид бесчисленного множества различных вещей и
О граде Божием 925
хотя не суть тела, но с удивительной скоростью принимают телесные формы, когда телесные чувства бывают усыплены или притуплены, могут каким–то непонятным образом принимать для чувств других телесные образы; так что сами тела людей находятся в другом месте, оставаясь, правда, живыми, но в состоянии усыпления чувств гораздо более тяжелом и глубоком, чем во время сна, а известный фантастический образ является чувству других как бы воплощенный в форму какого–нибудь животного; да и самому человеку, как это случается с ним в сновидениях, кажется, что он таков и переносит тяжести; причем если эти тяжести суть тела истинные, то их переносят демоны в насмешку над людьми, видящими в этом случае, с одной стороны, истинные тела тяжестей, с другой — ложные тела вьючных животных.
Так, некто по имени Престанций рассказывает о таком случае с его отцом: тот принял в сыре у себя дома яд и лежал в своей постели как бы спящим, но так, что его никоим образом не могли разбудить. Через несколько дней он проснулся и рассказал будто бы снившиеся ему тяжелые сны, а именно: будто он был ломовой лошадью и в числе других вьючных животных возил солдатский фураж, называемый Ретий–ским, потому что он перевозился в Ретию. Оказалось впоследствии, что так и было в действительности, как он рассказывал; хотя ему все это представлялось в его же сновидении. Другой рассказывал, что он ночью у себя дома, прежде чем лечь в постель, видел, как пришел к нему один хорошо известный ему философ и объяснил нечто из философии Платона, чего прежде, когда он о том просил его, не хотел объяснить. И когда он спрашивал после философа, почему тот в его доме сделал то, что отказывался сделать у себя, когда его просили о том, отвечал: «Я этого не делал, но мне грезилось во сне, что я это сделал…» И в этом случае в фантастическом образе представлялось бодрствующему то, что другой видел во сне.
Блаженный Августин 926
Об этих вещах мы слышали не от кого–нибудь такого, кому поверить считали бы делом недостойным, но от таких рассказчиков, которые, по нашему мнению, не были лжецами. Мне кажется, что и то, что рассказывают люди и что занесено в книги, будто аркадские боги, или, вернее, демоны, превращали людей в волков, и будто Цирцея своими заклятиями превратила спутников Улисса, могло произойти так, как я объяснил, — если только оно действительно было. Что же касается диомедовых птиц, то они, ввиду того, что род их, как утверждают, продолжается преемственным выводом птенцов, по моему мнению, не были превращены из людей, а подставлены на место похищенных, как была подставлена лань на место Ифигении, дочери Агамемнона. Ибо демонам, когда по суду Божию это им попускалось, не могли быть трудны и такого рода обманы чувств. Но так как Ифи–гения впоследствии найдена была живою, то само собой уяснилось, что лань была подставлена на ее место. Спутники же Диомеда ни в то же самое время нигде не появились, ни впоследствии не были замечены в каком–либо месте, будучи истреблены мстительностью злых ангелов; потому и возникло верование, будто они были превращены в тех птиц, которые были тайно переведены в эти места из других стран, где такой род птиц водится, и внезапно подставлены на их место. А что они приносят своими носами в храм Диомеда воду и производят орошения, и что ласкаются к грекам и нападают на чужестранцев, — этому можно не удивляться, ибо делается это по наущению демонов; для них было важным убедить, что Диомед сделался богом, чтобы одурачить людей и заставить их почитать многих ложных богов и умершим людям, которые и при жизни не жили истинною жизнью, служить храмами, алтарями, жертвами и священствами, хотя все это, если совершается надлежащим образом, приличествует только одному живому и истинному Богу.
О граде Божием 927
В это время, после взятия и разрушения Трои, с двадцатью кораблями, на которых плыли остатки троянцев, прибыл в Италию Эней, когда там царствовал Латин, а у афинян Менесфей, у сикионцев Полифид, у ассирийцев Тавтан; у евреев же был тогда судьею Лабдон. После смерти Латина Эней царствовал три года, когда в вышеупомянутых странах оставались те же цари, за исключением сикионцев, у которых царем был уже Пеласг, и евреев, судьею которых был Самсон; последний, поскольку обладал удивительною силой, был принят за Геркулеса. Так как Энея, когда он умер, нигде не нашли, то латиняне сделали его своим богом. Точно так же и сабиняне первого царя своего Санка, или как некоторые называют его — Санкта, причислили к богам. В то же время Афинский царь Кодр под видом неизвестного человека отдал себя на убиение пелопон–несцам, врагам афинян, и был убит. Рассказывают, что он этим спас отечество. Ибо пелопоннесцы–де получили от оракула ответ, что они победят в том лишь случае, если не убьют царя афинян. И вот он обманул их, явившись в одежде бедняка, и ссорою вызвал их на убийство. Отсюда у Вергилия выражение «Кедровы ссоры»*. И Кодра афиняне почтили жертвоприношениями как бога. При четвертом царе латинян Сильвие, сыне Энея (не от Кревзы, от которой был Асканий, третий царь латинян, а от Лавинии, дочери Латина), который, говорят, родился уже после смерти отца, при двадцать девятом царе Ассирийском Онее, шестнадцатом Афинском Ме–ланте и при судье евреев Илие первосвященнике, погибло царство Сикион, которое по преданиям существовало в продолжение девятисот пятидесяти девяти лет.
Блаженный Августин 928
В царствование по означенным местам упомянутых лиц, вслед за окончанием времен Судей, началось с царя Саула царство Израильское; тогда жил пророк Самуил. С того же времени начался ряд царей Латинских, которых прозывали Сильвиями; ибо от Энеева сына, который первым назывался Сильвием, преемникам его давались и собственные имена, и это прозвание, подобно тому, как впоследствии Цезарями прозывали тех, которые преемствовали Цезарю Августу. Когда же Саул был отвергнут, так что не должен был царствовать никто из его рода, и когда он умер, ему преемствовал по царству Давид, через сорок лет после воцарения Саула. В это время афиняне, после смерти Кодра, перестали иметь царей, а стали иметь для управления государством гражданских сановников. После Давида, который царствовал тоже сорок лет, царем израильтян был сын его Соломон, построивший Богу знаменитейший Иерусалимский храм. В его время у латинян была построена Альба, от которой цари, хотя царствовали в том же Лациу–ме, стали называться не Латинскими, а Альбанскими. Преемником Соломона был сын его Ровоам, при котором народ еврейский разделился на два царства и каждая часть стала иметь своих собственных царей.
ГЛАВА XXI
После Энея, который был признан богом, Лациум имел одиннадцать царей, из которых ни один не был сделан богом. Но затем Авентин, бывший после Энея двенадцатым царем, когда был убит на войне и по — хоронен на той горе, которая и в настоящее время называется его именем, был причислен к таким богам, каких они себе делали. Другие, впрочем, не хотели говорить, что он был убит в сражении, и утвер-
О граде Божием 929
ждали, что он попросту исчез, да и что гора получала свое название не от его имени, а от прилета птиц (ех айуепш аушт). После него в Лациуме никого уже не делали богом, кроме Ромула, основателя Рима. Между тем и другим было, однако же, два царя, из которых первым был, выражаясь словами Вергилия,
Прока, народа троянского слава».
Так как в его время уже некоторым образом начинались роды, произведшие на свет Рим, то величайшее из всех царств, Ассирийское, окончило свое весьма продолжительное существование. Оно перешло к мидянам, просуществовав почти тысячу триста пять лет, если причислить сюда и время Бела, который был отцом Нина и первым царем тогда еще небольшого Ассирийского царства.
Прока царствовал раньше Амулия. Этот Амулий посвятил в весталки дочь своего брата Нумитора Рею, мать Ромула, иначе называвшуюся Илиею. Утверждают, будто она своих близнецов зачала от Марса: этим хотят скр'асить или извинить ее падение и добавляют в дока-^ зательство, что выброшенных детей кормила волчица. Этот род зверей они считают принадлежащим Марсу; так что волчица потому–де и дала мальчикам свои сосцы, что признала в них детей своего господина Марса. Есть, впрочем, и такие, которые говорят, что когда дети лежали выброшенные и плакали, их сперва подобрала какая–то публичная женщина и дала им свою грудь (а публичных женщин называли они волчицами (1ира5), отсюда и публичные дома в настоящее время называются лупанариями), а затем принесла их к пастуху Фавстулу, жена которого Акка их и воспитала. Хотя что удивительного в том, если Бог для обличения царя, с такой жестокостью приказавшего бросить их в воду, захотел послать млекопитающего зверя на помощь к
30 О граде Божием
Блаженный Августин 930
этим чудесно спасенным от воды детям, которые должны были основать столь великий город? После Аму–лия Лациумское царство наследовал брат его, дед Ро–мула Нумитор. В первый год царствования Нумитора основан был Рим, поэтому он царствовал одновременно со своим внуком, т. е. Ромулом.Как начали править цари, прошло триста шестьдесят два года. И в то время в Иудее был царь, и имя его было Ахаз, или, как полагают другие, преемник его Езекия, о котором известно, что этот прекраснейший и благочестивейший царь царствовал во время Ромула. В той же части еврейского народа, которая называлась Израилем, начинал царствовать тогда Осия.
ГЛАВА XXII
Скажу кратко: Рим возник как второй Вавилон, как бы дочь первого Вавилона, посредством которой Богу угодно было покорить весь мир и умиротворить его надолго и повсюду, соединив его в общество под одной государственной властью и законами. Ибо народы в это время были уже сильны и храбры, и племена искусны в военном деле; они уступали нелегко и победа над ними сопряжена была с великими опасностями, немалыми опустошениями с той и другой стороны и страшными трудностями. А когда Ассирийское царство покорило почти всю Азию, то хотя это совершилось и путем завоевания, могло быть достигнуто не слишком жестокими и трудными войнами; потому что племена были еще неискусны в сопротивлении, не так многочисленны и велики. Хотя после известного великого и всемирного потопа, от которого в ковчеге Ноевом спаслось только восемь человек, прошло немногим более тысячи лет, но Нин покорил всю Азию, за исключением Индии. Рим же не так скоро и не так легко управился с теми народностями Востока и Запада, которые мы видим подвластными теперь Римской империи; потому что, возрастая постепенно, он всюду, куда ни расширялся, встречал их сильными и воинственными. Итак, в то время, когда был построен Рим, народ израильский жил в обетованной земле семьсот восемнадцать лет. Из них двадцать семь лет принадлежат времени Иисуса Навина, следующие триста двадцать девять лет — периоду Судей, а с того времени,
О граде Божием 931
как начали править цари, прошло триста шестьдесят два года. И в то время в Иудее был царь, и имя его было Ахаз, или, как полагают другие, преемник его Езекия, о котором известно, что этот прекраснейший и благочестивейший царь царствовал во время Ромула. В той же части еврейского народа, которая называлась Израилем, начинал царствовать тогда Осия.
ГЛАВА XXIII
В то же самое время, как полагают некоторые, давала свои предсказания Эритрейская сивилла. По свидетельству Варрона, сивилл было много, а не одна. Но Эритрейская сивилла написала нечто, ясно касающееся Христа, что прежде читали и мы на латинском языке, изложенное в плохих латинских стихах каким–то, как впоследствии мы узнали, неискусным переводчиком. Ибо Флакциан, муж знаменитейший, бывший даже проконсулом, человек весьма красноречивый и многомудрый, когда мы разговаривали с ним о Христе, показал нам греческий кодекс, говоря, что это — предсказание Эритрейской сивиллы, и указал в нем одно такое место, в котором начальные буквы стихов расположены в таком порядке, что из них составляется фраза: /т/да^ Хртго^ &еоV Ую^ Есащр, т. е. по–латыни }е5Ш СЬпзшз Ое1 РИшз 5а1са1:ог*.
Эти стихи, начальные буквы которых имеют такой, как мы сказали, смысл, содержат в себе, как переводит их некто латинскими, еще и теперь существующими стихами, следующее:
п $г§пит 1ейи$ Е сое1о Кех ас^Vеп^е^ рег заес1а /иШгш: Зсшсег т сагпергаезеш Ш]шИсе1 огЪет. ипс1е Ввит сегпеЫ гпсгейгиш
' Иисус Христос Сын Божий, Спаситель.
Блаженный Августин 932
V Се1$ит сит 5апсЫ$, аы1]ат гегтто т грзо.
Е 5гс апгтае тт сагп ас1егип1, диаз]и(Иса1 грзе:
X Сит^асе^ тсиНш 4еп$г$ т Vер^^Ъш огЫ$.
Р Ш]1сгеп1 $гти1асга V^п, сипсШт ^ио^ие §агат;
Е Ехиге/ 1егга$ щпг$, ропШтдие ро^ит^ие
I 1щшгеп$, ШпроПаз е$пще1 Аиегпг.
Е ЗапсШгит $е<Л епгт сипсШе 1их НЬега сагпг
Т ТгасИеШг, $оп1е$ ае1ета/1атта сгетаЫг.
О ОссиНов асгиз ге1е&епз, Шпс дищие ^о^иеШ^
Е ЗесгеШ, аЩие Оеи$ гезегаЪй ресЮга 1исг.
0 Типе еп1 ег 1ис1из, $1пс1еЪип1 ЛепНЪиз отпев.
Е ЕпргШг $оИ$]иЪаг е1 сЬогиз т1егй О51п$.
0 УоЬеШг соеШт, 1ипаг1з 5р1епЛог оЫЬи.
V Ве]ше1 соПез, Vа^^е$ ехШШ аЬ гто.
У ^п егИ т геЬиз Ьотгпит шЪКте Vе^ аНит.
1 Ьат аедиапШг сатргз топ1е$, ег саегиШропЫ
О Отта се$заЪип1, гейш соп/гасш репЬИ.
Е 81с рапгег /оп1е$ 1оггепШг,/1иттадие г§т.
Е 5ес1 ШЬа Шт $опйит 1п51ет <ЛетШе1 аЪ аНо
О. ОгЬе §етеп§ /асгпш тгзегит Vапощие ШЬогез:
Т ТаПтеитдие сЪао$ топз&аЪи 1егга йеЪксепв.
Н Е1 согат Ыс Потто ге§е$ $г$1епШг аи ипит.
Р Е.есг<ЛеЪ е соеШ гпие е1 $и1Ьип5 атпгз.
(Звуки судной трубы раздадутся, и лик земли потом покроется.
Вот, грядет с неба Царь, и навеки Его будет царствие,
В коем, в плоти явившись, судить будет мир этот горестный.
В этот час лицезреть будут Бога неправедный с праведным
В окруженьи святых, ибо века конец у ж приблизился.
И на суд Его души предстанут, вновь плотью
своею облекшися,
Ибо мир невозделан лежит, он порос густо тернием.
Все мужи побросают кумиры, богатство свое
ненаглядное,
О граде Божием 933
И огонь, пожирая нещадно и земли и воды, и к полюсу
Приближаясь, врата уничтожит аидовы мрачные.
Всякой плоти святых свет яснейший в то врем
откроется,
А преступников будет сжигать пламя лютое, вечное,
Открывая деяния тайные, ибо будут тогда сокровенное
Говорить; так Бог свету откроет изгибы сердечные.
По земле всей тогда плач и скрежет зубовный
послышатся,
И померкнет сияние солнца, уменьшится звезд всех мерцание,
Небо в свиток совьется, луна станет мрачно–кровавою,
И опустятся горы высокие, низкие долы поднимутся,
И в делах человеческих сразу все малым окажется,
И вершины, и пропасти бездн — все с полями
тогда уравняется.
Так погибнет земля, прекратится навеки бег времени,
Иссушатся огнем и моря, и ключи, и источники.
Прозвучит в этот миг трубный звук, столь
печально–возвышенный,
Чтоб оплакать злодейства и бедные судьбы, несчастнейших.
И земля, в прах рассеясъ, явит хаос ада бездонного.
Все цари, что когда–то царили, предстанут
пред Господом.
С неба огненный хлынет поток, дождь сернистый, пылающий.)
В этих латинских стихах, как бы точно они ни передавали греческий текст, там, где в греческом варианте поставлена буква У, нельзя было сохранить тот смысл, какой выходит, если соединить буквы, стоящие в начале каждого стиха; потому что нельзя было подыскать латинских слов, которые бы начинались с этой буквы и соответствовали смыслу фразы. Таких стихов три: пятый, восемнадцатый и девятнадцатый. Но если, соединяя буквы, стоящие в начале всех сти-
Блаженный Августи 934
хов, мы этих трех стихов читать не будем, а вместо них будем помнить V, которая именно в этих местах стоит, то получится пять слов: Иисус Христос Сын Божий, Спаситель; но это — если будем читать по–гречески, а не по–латыни.
Всех стихов двадцать семь: это число составляет полный тройной квадрат. Ибо три, умноженные на три, дают девять, а само девять, взятое трижды, подобно тому, как если бы плоской фигуре мы давали высоту, двадцать семь. Если первые буквы этих греческих слов: 1цао$ Хртто^ ©еоV Ук% Яощз, что по–латы–ни значит: Иисус Христос Сын Божий, Спаситель, соединить вместе, то получится слово 1х&^, т. е. рыба. Под именем рыбы таинственно разумеется Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, Он мог оставаться живым, т. е. безгрешным. Эта сивилла, Эритрейская ли она, или, как думают некоторые, скорее, Кумейская, во всех своих стихах, из которых мы привели только маленькую частичку, не высказывает ничего такого, что относилось бы к культу ложных или измышленных богов, и что, напротив, не говорило бы против них и их почитателей; так что и сама она, по–видимому, относилась к числу тех, которые принадлежат к граду Божию.
Приводит и Лактанций в своем сочинении некоторые предсказания сивиллы, не указывая, впрочем, какой именно. Но то, что он приводит порознь, я счел лучшим изложить вместе: так как приводимое им во многих местах и в кратких выражениях представляет собою одну пространную речь. «Он предаст себя потом, — говорит она, — в беззаконные руки неверных: оскверненными руками они дадут пощечины Богу и оплюют Его ядовитыми извержениями нечистых уст; Он смиренно обнажит святой хребет для ударов. И терпя пощечины, Он будет молчать, дабы никто не знал, какое Он Слово и откуда пришел, чтобы говорить царству мертвых; и увенчается Он терновым венцом. В пищу дадут ему желчь, а дл
О граде Божием 935
питья поднесут оцет; такую негостеприимную трапезу определят Ему. Неразумная, ты сама не познала своего Бога, посмеявшегося над умами смертных; но увенчала Его терниями и примешала в питье желчь Завеса же храма раздерется, и среди дня в течение трех часов будет темная ночь. Он умрет смертью, три дня предаваясь сну, и тогда, выйдя из ада на свет, явится первым Началом воскресения для возвращенных» Эти сивиллины свидетельства Лактанций приводил отрывочно в разных местах своего сочинения, по мере того, как того требовал, как ему казалось, порядок его речи; мы же, со своей стороны, не прерывая их никакими вставками, а излагая в виде одной связной речи, позаботились только разделить их на параграфы, если, впрочем, последующие писатели посчитают нужным удержать их. По другим сведениям Эритрейская сивилла жила не во время Ромула, а во время Троянской войны.
ГЛАВА XXIV
Рассказывают, что во времена царствования Ромула жил Фалес Милетский, один из семи мудрецов, которые после поэтов–теологов, из числа коих наиболее знаменитым является Орфей, названы были оофог, т. е. мудрецами. В то же время десять колен, получившие при разделении народа Божия имя Израиля, были побеждены халдеями и отведены пленниками в их страну, между тем как в Иудейской земле оставались еще два колена, названные именем Иуды и имевшие столицей Иерусалим. Когда и Ромула после смерти нигде не оказалось, римляне, как это известно всем и каждому, включили и его в число богов. Тогда уже перестали это делать, и если делали после, во времена цезарей, то только из лести, а не вследствие заблуждения. Поэтому Цицерон ставит в великую похвалу Ромулу, что этой почести удостоен он
Блаженный Августин 936
не в грубые и невежественные времена, когда люди легко ошибались, а во времена просвещенные и цивилизованные; хотя, впрочем, тогда еще не била ключом и не множилась утонченная и остроумная философская болтовня.
Но если в позднейшее время перестали включать умерших людей в число богов, то не перестали чтить и иметь богами тех, которые были включены в их число древними; увеличили даже соблазн пустого и нечестивого суеверия прибавкою идолов, которых древние не знали; и это — по действию в их сердце нечистых демонов, обольщавших их ложными оракулами до такой степени, что они в угоду своим ложным божествам представляли в гнусных играх баснословные преступления богов, хотя в этот сравнительно более просвещенный век преступления эти уже не измышлялись. После Ромула царствовал Нума. Он счел нужным оградить Рим таким множеством ложных богов, что сам после смерти не удостоился быть включенным в их число; небо представлялось до такой степени переполненным божествами, что ему не могло найтись там места. Сказывают, что во время его царствования в Риме и в начале царствования у евреев нечестивого царя Манассии, убившего, как известно, пророка Исайю, жила сивилла Самосская.
ГЛАВА XXV
В царствование у евреев Седекии, а у римлян Тар–квиния Древнего, преемника Анка Марция, иудейский народ был отведен в плен Вавилонский, а Иерусалим и храм, построенный Соломоном, разрушены. События эти предсказывали пророки, обличавшие иудеев в их беззаконии и нечестии, особенно Иеремия, который определил даже число лет плена (Иер. XXV, 11). В это время, говорят, жил Питтак Митилен–ский, второй из семи мудрецов. А во время пребыва-
О граде Божием 937
ния народа Божия в плену Вавилонском жили, как пишет Евсевий, и остальные пятеро, которые с вышеупомянутыми Фалесом и Питтаком считаются семью мудрецами. Это Солон Афинский, Хилон Лакедемон–ский, Периандр Коринфский, Клеобул Линдский и Биант Приенский. Все они, названные семью мудрецами, приобрели после поэтов–теологов знаменитость тем, что превосходили прочих людей похвальным образом жизни и в кратких изречениях изложили некоторые нравственные правила. Но по отношению к наукам они не оставили потомству ничего достопамятного, за исключением того, что Солон, как утверждают, составил для афинян некоторые законы; Фалес же был физик и оставил после себя сочинения, излагающие его учение. Во времена Иудейского плена процветали физики Анаксимандр, Анаксимен и Ксенофан. Тогда же жил и Пифагор, от которого философы получили свое название.
ГЛАВА XXVI
В то время Персидский царь Кир, власть которого простиралась на халдеев и ассирийцев, несколько облегчил плен иудеев и дозволил пятидесяти тысячам из них возвратиться для постройки храма. Ими был заложен только фундамент и устроен алтарь. Продолжить постройку они не смогли вследствие неприятельских набегов, и дело затянулось до Дария. В течение того же времени совершились и те события, которые описываются в книге Юдифь: книгу эту иудеи благоразумно не приняли в канон Писаний. Во время Дария, царя Персидского, по исполнении семидесяти лет, предсказанных пророком Иеремией, иудеям была возвращена свобода; тогда же правил седьмой царь Рима Тарквиний. По изгнании Таркви–ния освободились от царской власти и римляне. До этого времени израильтяне имели пророков; хотя их
Блаженный Августин 938
было и много, но лишь от немногих сохранились канонические писания. Заканчивая предыдущую книгу, я обещал в настоящей сказать кое–что о них, что я считаю теперь своею обязанностью исполнить.
ГЛАВА XXVII
Чтобы определить время этих пророков, вернемся несколько назад. В начале книги пророка Осии, который считается первым в ряду двенадцати, написано следующее: «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских» (Ос. 1,1). Амос также пишет, что он пророчествовал во дни царя Озии, прибавляя еще и царя Иоафама, который жил в те же дни (Амос 1,1). Точно так же и Исайя, сын Амоса, или только что упомянутого пророка, или же, как полагают многие, другого Амоса, который, не будучи пророком, назывался тем же именем, в начале своей книги называет тех же самых четырех царей, во дни которых он пророчествовал, каких называет и Осия. Равно и Михей указывает те же самые времена своего пророчествования, только после дней Озии. Ибо он называет последующих трех царей, которых называет и Осия: Иоафама, Ахаза и Езекию (Мих. 1,1). Все они, как видно из их же книг, пророчествовали вместе в одно и то же время. К ним присоединяются Иона, (пророчествовавший) в царствование того же Озии, и Иоиль, (пророчествовавший) тогда, когда уже царствовал Иоафам, преемник Озии. Но время этих двух пророков мы смогли определить по хроникам, а не по их книгам, так как сами они о своем времени умалчивают. Продолжается этот период времени от Латинского царя Проки или его предшественника Авентина до времени Ро–мула, царя уже Римского, или даже до первых годов царствования преемника его Нумы Помпилия; ибо до этого времени царствовал в Иудее царь Езекия.
О граде Божием 939
Таким образом, эти, так сказать, ключи пророчества пробились одновременно тогда, когда Ассирийское царство разрушилось, а Римское началось; так что, как в первое время Ассирийского царства жил Авраам, которому даны были яснейшие обетования о благословении в семени его всех народов, так в начале Западного Вавилона, во времена владычества которого имел явиться Христос, в Коем эти обетования исполнились, раздались предсказания пророков не только говоривших, но и писавших в свидетельство этого великого будущего события. Ибо хотя в израильском народе никогда почти не было недостатка в пророках с того времени, как у него явились цари, но служение их касалось только евреев, а не язычников. Появление же тех более ясных пророческих писаний, которые некогда должны были принести пользу язычникам, должно было начаться с того времени, когда стал строиться город, имевший быть владыкою язычников.
ГЛАВА XXVIII
Пророк Осия тем труднее для понимания, чем глубже он говорит. Но кое–что из него мы должны взять и объяснить здесь согласно нашему обещанию. «И там, — пишет он, — где говорили им: «вы не Мой народ», будут говорить им: «вы сыны Бога живого» (Ос. I, 10). Это пророческое свидетельство о призвании народа из язычников, прежде не принадлежавших Богу, в этом смысле поняли и апостолы (Рим. IX, 26). А так как и этот народ языков по духу принадлежит к чадам Авраама и потому правильно называется Израилем, то пророк, продолжая речь, говорит: «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу и выйдут из земли» (Ос. 1,11). Если бы мы захотели еще более разъяснять это место, то затемнили бы только смысл пророческой речи.
Блаженный Августин 940
Припомним, однако же, известный краеугольный камень и две стены, одну из иудеев, а Другую из язычников (Ефес. II, 14, 15, 20—22): первая узнается под именем сынов Иудиных, вторая — под именем сынов Израилевых; и обе вместе опираются на одну и ту же крепость того камня и выходят из земли.
О тех же плотских израильтянах, которые теперь не хотят веровать во Христа, но уверуют впоследствии, т. е. о сынах их (ибо те путем смерти отойдут в свое место), тот же пророк свидетельствует, говоря: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима» (Ос. III, 4). Кому не ясно, что иудеи в настоящее время находятся именно в таком положении? Но послушаем, что прибавляет пророк: «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни» (Ос. III, 5). Яснее этого пророчества ничего не может быть, если под именем Давида разуметь Христа, бывшего, как говорит апостол, «от семени Давидова по плоти» (Рим. 1,3). Пророк предсказал еще и будущее воскресение Христа в третий день, как оно должно было быть предсказано на возвышенном пророческом языке: «Оживит нас через два дня, в третий день восставит» (Ос. VI, 3). Согласно с этим апостол говорит нам: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего» (Кол. III, 1). О подобных предметах пророчествует также и Амос-. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его» (Амос. IV, 12, 13). И в другом месте: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтоб они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие» (Амос. IX, II, 12).
О граде Божием 941
Пророк Исайя не принадлежит к числу двенадцати пророков, которые называются малыми, потому что речи их отличает краткость по сравнению с речами больших пророков, называемых так потому, что они написали пространные книги. К числу этих больших пророков принадлежит Исайя, которого я присоединяю к двум вышеприведенным потому, что он пророчествовал в одно с ними время. Обличая грехи, наставляя на путь правды и предсказывая грешному народу грядущие несчастья, Исайя больше, чем другие, пророчествовал о Христе и о Церкви, т. е. о Царе и созданном Им граде; так что некоторые называют его скорее евангелистом, чем пророком. Но чтобы не увеличивать объема сочинения, я в настоящем месте из многого приведу лишь одно.
«Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, — столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказания мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь
Блаженный Августин 942
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывая уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». (Ис. Ш, 13—15; ПИ). Это — о Христе.
Теперь послушаем, что пишет он далее о Церкви: «Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании; ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя Его, и Искупитель твой — Святый Израилев; Богом всей земли назовется Он» (Ис. 1ЛУ, 1—5), и проч. На этом и остановимся. Кое–что в словах этих требует разъяс-
О граде Божием 943
нения; но, думаю, есть в них достаточно и настолько ясного, что их поневоле должны будут понять даже наши противники.
ГЛАВА XXX
Пророк Михей, представляя Христа под образом некоторой великой горы, говорит: «И будет в последние дни: гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, — и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах» (Мих. ГУ, 1—3). Пророк указывает и место, в котором родится Христос: «И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, И станет Он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли» (Мих. V, 2—4).
Пророк же Иона пророчествовал о Христе не столько словами, сколько некоторым своим страданием, но гораздо яснее, чем если бы провозглашал о его смерти и воскресении словами. Ибо для чего он был поглощен китом и на третий день извержен, если не для того, чтобы знаменовать Христа, на третий день возвратившегося из глубины ада?
Пророчества Иоиля в своем полном составе требуют пространного изложения, чтобы стало ясным, что именно в них относится ко Христу и Церкви.
Блаженный Августин 944
Однако я приведу одно его пророчество, которое приведено и апостолами, когда на собравшихся верующих по обетованию Христа сошел Дух Святый (Деян, II, 17, 18). «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (Иоил. II, 28, 29).
ГЛАВА XXXI
Три пророка из числа малых, Авдий, Наум и Аввакум, сами не говорят о времени своего пророчества; не указывается время их пророчествования и в хрониках Евсевия и Иеронима. Правда, Авдия они ставят вместе с Михеем, но не на том месте, где помечены годы, когда, как известно из его же книги, пророчествовал Михей, что, по моему мнению, произошло от ошибки небрежно переписывавших чужие труды. Других же двух упомянутых мы не смогли отыскать в имеющихся у нас списках хроник; но так как в каноне они содержатся, то мы не можем обойти и их. Авдий, по объему своей книги кратчайший из всех пророков, говорит против Идумеи, т. е. народа Исава, отвергнутого первенца из двух сыновей–близнецов Исаака, внуков Авраама, Если допустить, что по способу выражения, по которому часть принимается вместо целого, Идумея поставлена вместо язычников, то можно разуметь о Христе следующие слова пророка: «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею» (Авд. 1,17); и несколько далее, в самом конце пророчества: «И придут спасители на гору Сион*, чтобы судить гору Исава, — и будет царство Господа» (Авд. I, 21). Ибо ясно, что это исполнилось, когда
* У Августина: «И взойдут спасаемые от горы Сион».
О граде Божием 945
спасение от горы Сион, т. е. верующие во Христа из Иудеи, под которыми главным образом разумеются апостолы, взошли, чтобы защитить гору Исава. А в чем
| состояла эта защита, как не в том, что проповедани–ем евангелия они устроили спасение тех, которые уверовали, дабы избавиться от власти тьмы и вступить в царство Божие? Это заключительными словами и выразил пророк, прибавив: «И будет царство Госпо-
I да». Ибо гора Сион означает Иудею, где по предсказанию имело совершиться спасение и святое, т. е.
| Иисус Христос; под горою же Исава разумеется Идумея, знаменующая языческую церковь, которую, как я объяснил, защищают спасаемые от Сиона, дабы она сделалась царством Господу. Это было темно, пока не сбылось; но кто из верующих не знает, что оно
I сбылось?
Пророк же Наум, или лучше — сам Бог через него, говорит: «Из дома бога твоего истреблю истуканы и
| кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что
I ты будешь в нем в презрении. Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более приходить по тебе нечестивый: он совсем унич-
] тожен. Поднимается на тебя разрушитель» (Наум. I, 14,15; И, 1). Кто помнит евангелие, тот догадается, Кто
I поднялся из преисподней и вдохнул в лицо Иуды, т. е. учеников иудеев, Святого Духа. Те празднества, кото-
| рые духовно так обновляются, что оберегают от нечестивого, принадлежат Новому завету. Мы также видим, что истуканы и кумиры ложных богов истреб-
| лены евангелием и преданы забвению, как бы моги-
| ле; и узнаем, таким образом, что пророчество исполнилось и в этом пункте.
А в следующих словах Аввакума о чем ином говорится, как не о грядущем пришествии Христа: «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определен -
Блаженный Августин 946
ному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Аввак. II, 2, 3)?
ГЛАВА XXXII
А в своей молитве и песне кому, как Господу Христу, говорит он-. «Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет» (Аввак. III, 2 и ниже)? Ибо что означает это восклицание, как не невыразимое в словах удивление предугаданному новому и неожиданному спасению людей? «Среди лет яви его» — что это значит, как не среди двух заветов, или среди двух разбойников, или среди Моисея и Илии, беседовавших с Ним на горе? «Во гневе вспомни о милости», — что это значит, как не то, что (пророк) представляет в своем лице иудеев, к коим принадлежал по своему происхождению? Смущенные великим гневом, они пригвоздили к кресту Христа, а Он, помня о милосердии, говорил: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. XXIII, 34). «Бог от Фемана грядет и Святый — от горы Фаран». Выражение «от Фемана» некоторые переводят «с юга» или «из Африки», чем обозначается полдень, т. е. пламень любви и блеск истины. Тенистую же и чащею покрытую гору (т. е. Фаран) можно объяснять различно; но я охотнее разумел бы под нею возвышенность божественных Писаний, пророчествовавших о Христе. Ибо там много предметов, покрытых тенью и мраком, которые дают упражнение уму исследователя. А приходит Он оттуда, когда там Его находит тот, кто их уразумевает. «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля». Что это, как не то же, что говорится и в псалме-. «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя» (Пс. ЬУ1,6)? «Блеск ее — как солнечный свет», т. е. слава о Нем просветит верующих. «От руки Его лучи».
О граде Божием 947
ному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Аввак. II, 2, 3)?
ГЛАВА XXXII
А в своей молитве и песне кому, как Господу Христу, говорит он-. «Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет» (Аввак. III, 2 и ниже)? Ибо что означает это восклицание, как не невыразимое в словах удивление предугаданному новому и неожиданному спасению людей? «Среди лет яви его» — что это значит, как не среди двух заветов, или среди двух разбойников, или среди Моисея и Илии, беседовавших с Ним на горе? «Во гневе вспомни о милости», — что это значит, как не то, что (пророк) представляет в своем лице иудеев, к коим принадлежал по своему происхождению? Смущенные великим гневом, они пригвоздили к кресту Христа, а Он, помня о милосердии, говорил: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. XXIII, 34). «Бог от Фемана грядет и Святый — от горы Фаран». Выражение «от Фемана» некоторые переводят «с юга» или «из Африки», чем обозначается полдень, т. е. пламень любви и блеск истины. Тенистую же и чащею покрытую гору (т. е. Фаран) можно объяснять различно; но я охотнее разумел бы под нею возвышенность божественных Писаний, пророчествовавших о Христе. Ибо там много предметов, покрытых тенью и мраком, которые дают упражнение уму исследователя. А приходит Он оттуда, когда там Его находит тот, кто их уразумевает. «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля». Что это, как не то же, что говорится и в псалме-. «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя» (Пс. ЬУ1,6)? «Блеск ее — как солнечный свет», т. е. слава о Нем просветит верующих. «От руки Его лучи».
Разве это не знак победы крестной? «Пред лицем Его идет язва*, а по стопам Его — жгучий ветер». Что это значит, как не то, что о Нем предвозвещено было прежде, чем пришел Он сюда, и проповедано после того, как отошел отсюда? «Он стал — и поколебал землю»: не то ли значит, что Он стал, чтобы оказать помощь, что поколеблется земля, чтобы уверовать. «Воззрел — и в трепет привел народы», т. е. сжалился и обратил народы к покаянию. «Вековые горы распались», т. е. силою чудес сокрушена гордость надменных. «Первобытные холмы опали», т. е. уничижены на время, чтобы быть возвеличенными вечно. «Пути Его — вечные», т. е. видел подвиг любви, получивший вечную награду.
«Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской»; т. е. народы, устрашенные внезапной вестью о чудесах Твоих, даже и не входящие в состав Римской империи, войдут в недра народа христианского. «Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки — негодование Твое, или на море — ярость Твоя?» Это сказано потому, что Он пришел теперь не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Иоан. III, 17). «Ты взошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные»; т. е. Тебя понесут евангелисты Твои, Тобою управляемые, и Евангелие Твое — спасение для тех, которые уверуют в Тебя. «Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию**, данному коленам», т. е. будешь угрожать судом Своим даже царям земли. «Ты потоками рассек землю», т. е. тогда польются речи проповедующих о Тебе, откроются для исповедания сердца людей. Что значит: «Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды», как не то, что будут блаженными, проливая слезы, что проходя здесь и там в лице повсюду благовествующих о Тебе, Ты разлива-
* У Августина: «Пред лицем Его идет слово».
" У Августина: «Ты обнажил лук Твой на скипетры»
Блаженный Августин 948
ешь потоки учения? Что значит: «Бездна дала голос свой»? Не глубина ли человеческого сердца выявила то, что ему представляется?
«Солнце и луна остановились на месте своем»; т. е Христос вознесся на небо, а Церковь учреждена под управлением Царя своего. «Пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих кольев Твоих»; т. е. слова Его понесутся не скрытыми, а явными, ибо Он сказал ученикам своим: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете» (Мф. X, 27). «Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы»; т. е. смиришь людей угрозою, а тех, которые превозносятся, сокрушишь наказаниями. «Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». Тут ничего не требует особого объяснения. «Ты с конями Твоими проложил путь по морю, чрез пучину великих вод»; здесь имеются в виду многие народы. Ибо одни не обратились бы из страха, другие не преследовались бы с яростью, если бы не были приведены в смятение все. «Я услышал — и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Он обратил внимание на то, о чем говорил, и сам устрашился своей речи, которая изливалась у него пророчески и в которой он созерцал будущее. Ибо при смущении многих народов он видел непрерывные скорби Церкви, сознавал себя ее членом и потому говорил как принадлежащий к числу терпеливых в скорби, постоянных в молитве (Рим. XII, 12). «А я, — говорит он, — должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его»; т. е. он решительно удаляется от злобного народа, родственного ему по плоти, — народа, который не странствует на сей земле, взыскуя горнего отечества.
«Хотя бы не расцвела смоковница и не было то–да на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива
О граде Божием 949
не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах». Пророку ясно видно, что народ, который убьет Христа, потеряет изобилие духовных богатств, которые, по пророческому обычаю, представляет под видом земного плодородия. Итак, поскольку народ этот заслужил гнев Божий, ибо, не зная правды Божией, захотел установить свою, то далее (пророк) говорит — «И тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!»*, т. е. в той песне, о которой нечто подобное говорится в псалме: «И поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему» (Пс. XXXIX, 3, 4). Итак, тот побеждает в песне Господа, кто поет хвалу Ему, а не самому себе, соответственно выражению: «Хвалящийся хвались Господом» (I Кор. I, 31) Но, на мой взгляд, некоторые кодексы, в коих стоит: «Буду веселиться о Боге Иисусе моем», излагают это место лучше, чем те, которые, желая это место перевести по–латыни, не поставили самого имени, сам звук которого нам любезен и приятен.
ГЛАВА XXXIII
Пророк Иеремия принадлежит к числу больших пророков, как и Исайя, а не малых, как прочие, из писаний которых я уже нечто привел. Он пророчествовал, когда в Иерусалиме царствовал Осия, а у римлян Анк Марций, и когда приближалось уже время Иудейского плена. Продолжал он пророчествование до пятого месяца плена, как мы это видим из его писаний. Рядом с ним мы ставим Софонию, одного из малых. Ибо последний сам говорит, что пророче-
* У Августина «И на высоты мои возведет меня, и одержу победу в песне Его»
Блаженный Августин 950
ствовал во дни Осии (Соф. I, 1), хотя и не указывает, до какого времени. Таким образом, Иеремия пророчествовал во времена не только Анка Марция, но и Тарквиния Древнего, который был пятым царем у римлян. Ибо последний уже начал царствовать, когда случился этот плен. Итак, пророчествуя о Христе, Иеремия говорит: «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их» (Плач. IV, 20), указывая в этих кратких словах, что Христос — Господь наш и что Он пострадал за грехи наши. И в другом месте он также говорит: «Сей Бог наш… явится на земле и будет жить с человеками» (Барух. III, 36—38). Некоторые это свидетельство приписывают не Иеремии, а его писцу, который назывался Барухом; но более распространенное мнение считает его Иере–мииным.
О Христе говорит пророк еще и в следующих словах: «Вот, наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот — имя Его, которым будут называть Его: «Господь — оправдание наше!» (Иер. XXIII, 5, 6). О призвании же язычников, которое должно было последовать и которое мы видим ныне исполнившимся, он говорит так: «К Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы» (Иер. XVI, 19). А что его не познают иудеи, которым надлежало убить Его, это пророк дает понять таким образом: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. XVII, 9). Иеремии же принадлежит и известное пророчество о Новом завете, Ходатай которого есть Христос, изложенное мною в семнадцатой книге. Ибо это — слова Иеремии: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иер. XXXI, 31), и проч., что там написано.
О граде Божием 951
Что касается пророка Софонии, пророчествовавшего с Иеремией, я приведу здесь следующие его предсказания о Христе: «Итак ждите Меня, говорит Господь, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства» (Соф. VIII, 8). И еще: «Страшен будет для них Господь; ибо истребит всех богов земли, и Ему поклонятся — каждый со своего места — все острова народов» (Соф. II, 11). И несколько ниже: «Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Ефио–пии поклонники Мои — дети рассеянных Моих — принесут Мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими Ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды» (Соф. III, 9— 13). Это те остатки, о которых находится пророчество в другом месте, приводимое и апостолом: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морский, только остаток спасется» (Ис. X, 22; Рим. IX, 27). Ибо эти остатки израильского народа уверовали во Христа.
ГЛАВА XXXIV
Затем, во время самого Вавилонского плена, пророчествовали сначала Даниил и Иезекииль, т. е. два других из числа больших пророков. Из них Даниил определил числом лет само время, в которое имел прийти и пострадать Христос: показывать это путем вычислений было бы долго, да и не раз это делалось другими прежде нас. О власти же Его и славе пророк говорил так: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, до-
Блаженный Августин 952
шел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. VII, 13, 14).
Иезекииль, изображая Христа по пророческому обычаю под образом Давида, так как он принял плоть от семени Давида (а по причине этого рабского образа, в котором Он стал человеком, Сын Божий называется также и рабом Божиим), так пророчествует о Нем от лица Бога Отца: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это» (Дан. XXXIV, 23, 24). И в другом месте: «Один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями св( жми, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, —- и они будут Моим народом, и Я буду их Богом. А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их* СДан. XXXVII, 22—24).
ГЛАВА XXXV
Остаются три малых пророка, пророчествовавшие в конце плена, Аггей, Захария и Малахия. Из них Аг–гей пророчествовал с большею ясностью о Христе и о Церкви в следующих кратких словах: «Так говорит Господь Саваоф: еще раз, — и это будет скоро, — Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, — и придет Желаемый всеми народами» (Агг. II, б, 7). Это пророчество мы видим отчасти уже исполнившимся, а отчасти надеемся, что оно должно исполниться в конце. Так, свидетельством ангелов и
О граде Божием 953
звезд, бывшим при воплощении Христа, Бог потряс небо. Он потряс землю величайшим чудом рождения Его от Девы. Потряс небо и сушу проповедью о Христе и по островам, и по всей земле. Таким образом, мы видели, как подвигнулись все народы к вере. А что говорится далее: «Придет Желаемый всеми народами», — то ожидается еще относительно второго Его пришествия. В самом деле, чтобы быть желанным для ожидающих, Ему надлежало быть прежде возлюбленным для верующих.
Захария о Христе и Церкви говорит: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной… Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли» (Зах. IX, 9, 10). О том, как случилось, что Христос воспользовался в пути вьючным животным этой породы, мы читаем в Евангелии; там же приводится и само это пророчество в той его части, в какой представлялось в том месте достаточным (Мф. XXI). В другом месте, обращая в пророческом духе свою речь ко Христу о прощении грехов Его кровью, он говорит: «А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды» (Зах. IX, 11). По–разному можно понимать, даже с точки зрения правой веры, что пророк хотел дать понять под этим рвом. По моему мнению, лучше всего понимать под ним в своем роде сухую и бесплодную глубину человеческой бедности, где нет источников правды, но много грязи неправды. Об этом говорится и в псалме: «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота» (Пс. XXXIX, 3).
Малахия, пророчествуя о Церкви, которую мы видим распространенною через Христа, говорит от лица Божия, обращаясь очевиднейшим образом к иудеям: «Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоу-
Блаженный Августин 954
годно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1,10,11). Когда мы видим, что это жертвоприношение совершается уже священством Христовым по чину Мелхиседекову на всяком месте от востока солнца до запада, а жертвоприношения иудеев, которым сказано — «Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне», прекратились, чего они сами не могут отрицать, то почему же они ждут еще доселе другого Христа, когда то, о чем читают в пророчестве и что видят уже исполнившимся, могло исполниться только через Христа? Ибо несколько ниже пророк о Нем говорит от лица Бога: «Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; и в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут из уст его, потому что он вестник Господа Саваофа»* (Мал. II, 5—7).
Не следует удивляться, что Иисус Христос назван ангелом всемогущего Бога. Как по причине образа раба, в котором Христос явился к людям, Он — раб, так ангел Он ради Евангелия, которое возвестил людям. Если эти два слова перевести с греческого, то и Евангелие значит благая весть, и ангел — вестник. О Нем же пророк говорит и еще: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день при-
* У Августина: «Потому что он Ангел Господа Вседержителя».
О граде Божием 955
шествия Его, и кто устоит, когда Он явится?» (Мал. III, 1, 2). В этом месте пророк предвозвестил и первое и второе пришествия Христа, — первое в словах. «И внезапно придет в храм Свой», т. е. в плоть свою, о которой Христос сказал в Евангелии: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоан. II, 19); второе — когда говорит: «Вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто' выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится?»; этим пророк дал понять, что и иудеи, согласно с Писаниями, которые читают, ищут и желают Христа. Но многие из них, ослепленные в своем сердце прежними своими заслугами, не познали, что Тот, Кого они искали и желали, пришел. А под заветом, о котором пророк упоминает выше и здесь, когда называет (Христа) Ангелом завета, мы должны разуметь, конечно же, завет Новый, в котором содержатся вечные обетования, а не Ветхий, заключающий обетования временные.
Придавая большое значение этим последним обе–тованиям и служа истинному Богу в надежде на награду такими временными предметами, весьма многие слабые люди смущаются, когда видят, что ими в избытке владеют нечестивые. Поэтому, чтобы показать различие между вечным блаженством Нового завета, которое даруется только добродетельным, от временного благополучия Ветхого, которое весьма часто достается и злым, пророк говорит:
«Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: «что мы говорим против Тебя?» Вы говорите: «тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал. III, 13—16). Под
Блаженный Августин 956
этою книгой разумеется Новый завет. Послушаем, что следует далее: «И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф» (Мал. III, 17—18; IV, 1—3). Это — так называемый день суда. О нем, если Бог благоволит, мы скажем в своем месте подробнее.
ГЛАВА XXXVI
После этих трех пророков, Аггея, Захарии и Мала–хии, во времена освобождения народа из рабства Вавилонского писал и Ездра. Он считается скорее историческим писателем, чем пророком; так же точно, как и книга, называемая Есфирь, повествующая во славу Божию о событии, совершившемся незадолго перед этими временами. Можно, пожалуй, признать пророчеством о Христе рассказ Ездры о возникшем между некоторыми юношами споре о том, что в мире всего сильнее-, один говорил, что сильнее всего цари, другой — вино, а третий — женщины, весьма часто повелевавшие и царями; но потом этот же самый третий доказал, что истина побеждает все. Из Евангелия мы знаем, что истина есть Христос. С этого времени иудеи, по восстановлении храма, име-
О граде Божием 957
ли не царей, а князей вплоть до самого Аристовула. Хронология этих князей находится не в тех священных Писаниях, которые называются каноническими, а в других. К числу последних принадлежат и книги Маккавейские, которые признаются каноническими не иудеями, а Церковью, ради тяжких и удивительных страданий некоторых мучеников, которые еще до пришествия Христова во плоти боролись за закон Божий до смерти и претерпели тягчайшие и ужасные бедствия.
ГЛАВА XXXVII
Итак, во время наших пророков, Писания которых сделались в последнее время известными почти всем народам, еще не существовало философов языческих. И само это имя, которым они называются, получило начало от Пифагора Самосского, ставшего знаменитым и известным в то время, когда окончился плен иудеев. Следовательно, остальные философы жили гораздо позже пророков. Так, сам Сократ Афинский, — этот учитель всех наиболее тогда прославившихся философов, занимающий в той части философии, которая называется нравственной или практической, первое место, — в хрониках встречается после Ездры. Немного позже родился и Платон, далеко превосходивший всех прочих учеников Сократа. Если мы присоединим к ним даже и старейших по времени, которые еще не назывались именем философов, т. е. семерых мудрецов и тех физиков, которые были последователями Фалеса и подражали ему в исследовании природы: Анакси–мандра, Анаксимена и Анаксагора, а также некоторых других, живших прежде, чем Пифагор впервые стал называть себя философом; то и эти не превосходят своей древностью наших пророков. Ибо о Фалесе, после которого жили остальные, известно,
Блаженный Августин 958
что он стал знаменитым во время царствования Ро–мула, т. е. тогда, когда из израильских источников образовалась уже целая река пророчеств в тех Писаниях, которые растеклись ныне по всему миру Таким образом, только теологи–поэты: Орфей, Лин, Мусей и другие, если такие у греков были, — только они одни представляются жившими по времени раньше тех пророков, Писания которых пользуются у нас авторитетом. Но и они не превосходят по времени нашего истинного теолога Моисея, который справедливо проповедал о едином истинном Боге и Писания которого в священном каноне занимают в настоящее время первое место. Поэтому, что касается греков, отдававших предпочтение преимущественно литературным произведениям светского содержания, то у них нет ничего, что могло бы доказать большую древность их мудрости, не говорю уже — большую глубину, по сравнению с нашей религией, в которой заключается истинная мудрость
Нужно, впрочем, признаться, что если не в Греции, то у варварских народов, а именно в Египте, действительно существовала еще до Моисея некоторая доктрина, называвшаяся их мудростью; иначе не было бы в священных книгах написано, что Моисей научен был всей мудрости египтян (Деян. VII, 22) в то, конечно, время, когда он там родился и дочерью фараона был усыновлен, вскормлен и воспитан как человек знатный. Но и мудрость египтян не могла превосходить древностью мудрость наших пророков: ибо пророком был и Авраам (Быт. XX, 7). Какая же мудрость могла быть у египтян прежде, чем их познакомила с письменами Исида, которую они, когда она умерла, сочли нужным почитать как великую богиню? А Исида была, по преданию, дочерью Инаха, который первым начал царствовать у аргосцев, когда явились на свет уже внуки Авраама.
О граде Божием 959
Если даже обратимся к временам более древним, то и прежде известного величайшего потопа был у нас патриарх Ной, которого я также назову пророком, потому что и сам ковчег, который он построил и в котором со своими спасся от потопа, был пророчеством о наших временах. А об Енохе, седьмом от Адама, разве не говорится в каноническом послании апостола Иуды, что он пророчествовал (Иуд. 1, 14)? Если писания их не получили авторитета ни у иудеев, ни у нас, причиной тому служит крайняя древность, вследствие которой считали нужным относиться к ним с недоверием, чтобы не принять ложного за истинное. И действительно, в обращении имеются писания, которые выдаются за их писания такими людьми, которые верят по своему вкусу и без разбора тому, чему хотят верить. Но чистота канона не приняла их; не потому, чтобы не признавался авторитет тех людей, которые сделались угодными Богу, а потому, что писания эти не считаются принадлежащими им. И не следует удивляться, что писания, обращающиеся с именем такой глубокой древности, считаются подозрительными.
В истории Иудейских и Израильских царей, содержащей в себе повествования о деяниях, относительно которых мы веруем тому же каноническому Писанию, упоминается много такого, что там подробно не излагается, а говорится, что о том можно прочесть в других книгах, написанных пророками, и в иных местах называются даже и сами имена пророков (I Пар. XXIX, 29; II Пар. IX, 29); однако в каноне, принятом народом Божиим, писаний этих мы не встречаем. Признаюсь, этого обстоятельства я не могу объяснить себе иначе, как предположением, что люди эти, которым Дух Святой открывал то, что должно было иметь религиозный авторитет, сами же могли писать одно как люди, из любви к историчес-
Блаженный Августин 960
ким исследованиям, другое — как пророки, по божественному вдохновению; и эти два рода писаний были так различны, что первый, полагали, нужно приписывать как бы им самим, а другой — Богу, говорящему через них, и таким образом, первый относился к расширению познания, а второй — к авторитету религии. Под покровом этого авторитета сохраняется и канон до такой степени, что если какие–нибудь писания выдаются даже за писания древних пророков, но в канон не внесены, они не имеют значения даже для расширения знания; потому что неизвестно, принадлежат ли они тем, за чьи выдаются. Они не считаются заслуживающими доверия, и в особенности те из них, в которых читается что–нибудь противное учению канонических книг; так как это служит очевидным доказательством, что книги эти не принадлежат тем пророкам.
ГЛАВА XXXIX
Итак, не следует думать, будто бы, как полагают некоторые, посредством того, кто назывался Еве–ром, откуда происходит имя евреев, сохранился и перешел к Аврааму только еврейский язык, а пись–менность–де еврейская получила начало со времени закона, данного Моисеем; вернее же, через указанное преемство патриархов упомянутый язык сохранился вместе со своей письменностью. Затем Моисей поставил в народе Божием людей, которые обязаны были заведовать обучением грамотности, когда еще не были знакомы ни с одною буквой божественного закона (Исх. XVIII, 21—25). Писание называет ихураццххтое–шауюуе^, т. е. по–латыни — вво–дителями письмен или в письмена: так как они некоторым образом вводят письмена в сердца учащихся, или лучше — вводят в письмена тех, кого обучают.
О граде Божием 961
Итак, пусть ни один народ по какому–нибудь зазнайству не хвалится древностью своей мудрости по сравнению с нашими патриархами и пророками, которым присуща была мудрость божественная; ибо оказывается, что и Египет, который обыкновенно ложно и напрасно величается древностью своих наук, по времени не превосходит никакой своею мудростью мудрость наших патриархов. Ведь никто не осмелится утверждать, что египтяне были весьма сведущи в заслуживающих удивления науках раньше, чем познакомились с грамотой, т. е. раньше, чем явилась к ним Исида и научила их письменам. Самая их достопамятная наука, называемая мудростью, чем иным она была, как не по преимуществу астрономией, которая, как и всякая другая наука подобного рода, обыкновенно имеет значение скорее для упражнения способностей, чем для просвещения ума истинной мудростью? А что касается философии, которая якобы учит чему–то такому, от чего люди делаются блаженными, то этого рода занятия процветали в тех странах во времена Меркурия, прозванного Трисмегистом, т. е. хотя гораздо раньше греческих мудрецов или философов, однако позже Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа, даже позже Моисея. Ибо оказывается, что в то время, когда родился Моисей, жил только известный великий астролог Атлас, брат Прометея, дед по матери Меркурия старшего, внуком которого был вышеупомянутый Меркурий Трисмегист.
ГЛАВА ХL
Итак, напрасно некоторые стараются дать ход нелепейшему мнению, будто с того времени, как египтяне владеют знанием звездочетства, насчитывается более ста тысяч лет. В каких это книгах записано такое число египтянами, которые научились
31 О граде Божием
Блаженный Августин 962
письменам под руководством Исиды от силы две тысячи лет назад? Ведь Варрон, который сообщает об этом, не последний авторитет в истории, притом это не противоречит и истине божественных Писаний. Ведь если от первого человека, называемого Адамом, не прошло еще и шести тысяч лет, то не заслуживают ли скорее насмешки, чем опровержения, те, которые относительно летоисчисления стараются убедить в таких своеобразных и столь противоречащих дознанной истине вещах? Ибо какому рассказчику о прошедшем нам надлежит верить, как не тому, который предсказал и будущее, исполнившееся уже на наших глазах? Да и само указанное нами разногласие между историками служит для нас побуждением верить скорее тому из них, который не противоречит истории, которую мы признаем божественной. Когда граждане нечестивого града, рассеянного всюду по лицу земли, читают ученейших людей, из которых, по–видимому, не следует пренебрегать ничьим авторитетом, то, будучи между собою несогласны относительно событий, от нашего времени весьма удаленных, не знают, кому они должны более верить. Но мы, опираясь в истории нашей религии на божественный авторитет, все, что только ему противоречит, не сомневаясь, считаем решительно ложным; и как бы там ни рассказывалось обо всем прочем в светских сочинениях, истинно ли остальное, или ложно, оно не даст нам ничего для жизни правильной и блаженной.
ГЛАВА ХLI
Но оставим область исторического знания; среди самих философов, от которых мы сделали это отступление к истории, — которые, по–видимому, в своих занятиях о том только и старались, чтобы открыть способ, как следует жить, чтобы достигнуть блажен-
О граде Божием 963
ства, — почему возникли эти разногласия учеников с учителями и соучеников между собой, если не потому, что люди доискивались этого человеческим смыслом и человеческими умозаключениями? Могло, конечно, иметь при этом место и стремление к славе, вследствие которого каждый из них желал казаться мудрее и остроумнее другого, быть не рабом, так сказать, чужого мнения, а изобретателем собственного учения и собственной теории; но допустим, что были между ними некоторые, и даже очень многие такие, которые расходились со своими учителями и соучениками из любви к истине, чтобы отстоять то, что они считали таковою, была ли это действительно истина, или нет; во всяком случае, что делать, куда и на чью сторону склониться человеческому несчастью для достижения блаженства, если им не руководит божественный авторитет?
Между тем, что касается наших авторов, на которых не без основания утверждается и заканчивается канон священных Писаний, то они решительно ни в каком отношении не противоречат друг другу. Поэтому–то когда они писали, то ненапрасно уверовали, что им или через них говорил Бог, не какие–нибудь немногие болтуны на словопрениях в школах и гимназиях, а столькие и такие ученые и неученые народы. Самих их (авторов Писаний), естественно, должно было быть немного, чтобы от большого количества их не терялась ценность того, что должно быть дорого религиозному чувству; но, однако, и не настолько мало, чтобы согласие их не вызывало удивления Ибо в толпе философов, даже оставивших в своих литературных работах памятники своих учений, трудно встретить таких, которые бы во всех своих мнениях были между собою согласны. Доказывать это, впрочем, в настоящем сочинении было бы долго.
Однако же кто из авторов какой–либо секты пользуется в этом демонопочитающем граде в такой степени авторитетом, чтобы остальные, иначе и не-
Блаженный Августин 964
согласно с ним мыслящие, не одобрялись? Разве в Афинах не пользовались славой и эпикурейцы, утверждавшие, что боги не заботятся о делах человеческих, и стоики, думавшие, напротив, что дела эти управляются и охраняются богами, помощниками и покровителями? Поэтому я удивляюсь, почему Анаксагор, который говорил, что солнце есть горящий камень, и отрицал, что оно — бог, был обвинен, когда в том же самом городе пользовался славой и жил в полной безопасности Эпикур, не только не веривший тому, чтобы солнце или какая–либо из звезд были богами, но даже утверждавший, что в мире вообще не существует ни Юпитера, ни кого–либо из богов, до которого доходили бы молитвы и просьбы людей. А Ари–стипп, полагавший высшее благо в чувственном удовольствии, а Антисфен, утверждавший, что блаженным человек бывает доблестью духа, оба славные философы и оба принадлежавшие к школе Сократа, полагавшие, однако же, благо жизни в таких различных и противоположных целях, причем первый даже говорил, что мудрый должен избегать государственных дел, а последний — что должен управлять государством, — разве каждый из них не привлекал там к себе учеников для обращения в последователей своей секты?
У всех на глазах, в видном и самом бойком портике, в гимназиях, в садах, в публичных и частных местах спорили толпами, и каждый отстаивал свое мнение: одни утверждали, что мир один, другие — что миров бесчисленное множество; одни — что этот единственный мир имеет начало, другие — что не имеет; одни — что он будет иметь конец, другие — что будет существовать вечно; одни — что он управляется божественным умом, другие — случаем; одни говорили, что души бессмертны, другие — смертны; и из тех, которые признавали души бессмертными, одни доказывали, что они переходят в животных, другие — что этого ни в коем случае не может быть;
О граде Божием 965
из тех же, которые называли души смертными, одни говорили, что они погибают вслед за телами, другие — что живут еще и после тел, мало или много, но не вечно; одни конечное благо полагали в теле, другие — в душе, третьи — в том и другом, а некоторые прибавляли к душе и телу и существующее вне их благо; одни полагали, что телесным чувствам всегда следует верить, другие — что не всегда, третьи — что никогда. Какой народ, какой сенат, какая общественная или правительственная власть нечестивого града старались когда–нибудь разобраться в этих и других бесчисленных противоречивых мнениях философов, одни из них одобрить и принять, другие — осудить и отвергнуть? Не терпели ли они, напротив, безо всякого разбору эти бесконечные споры несогласных между собою людей, — споры не о полях и домах или каком–нибудь денежном вопросе, а о таких предметах, которые делают жизнь несчастной или блаженной? Хотя при этом высказывалось и нечто истинное, но с такою же полной свободой говорилась и–ложь, так что такой город с полным основанием может носить таинственное имя Вавилона. Ибо Вавилон в переводе значит «смешение», о чем, помнится, я уже говорил. Для царя этого града, дьявола, решительно все равно, из–за каких противоположных заблуждений спорят между собою те, над которыми он одинаково властвует по причине их великого и разнообразного нечестия.
Но то племя, тот народ, тот град, то государство, те израильтяне, которым было вверено слово Божие, с таким произволом не смешивали псевдо–с истинными пророками; но признавали
принимали друг с другом согласных истинных ав–священных Писаний. Они были для них и фи-, т. е. любителями мудрости, и мудрецами,
богословами, и пророками, и учителями доброде–ели и благочестия. Кто мыслил и жил согласно с ими, мыслил и жил не по человеку, а по Богу, Кото-
Блаженный Августин 966
рый говорил через них. Если у них запрещено святотатство, его запретил Бог. Если было сказано: «Почитай отца твоего и мать твою», то это заповедал Бог. Если сказано: «Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради» (Исх. XX, 12—15) и прочее в том же роде, то изречено это было не человеческими, а божественными устами. Все, что некоторые философы среди лжи, которую они высказывали, могли усмотреть истинного и в чем старались убеждать путем трудных рассуждений, как, например, что настоящий мир сотворен Богом и управляется Его промыслом, равно о честности добродетелей, о любви к отечеству, о верности дружбы, о добрых делах и вообще обо всем, относящемся к добрым нравам, хотя они и не знали, к какой цели и каким образом все это должно направляться, — все это в том граде было заповедано народу пророческими, т. е. божественными, хотя и через людей, устами, а не втолковано путем словопрений, чтобы всякий, кто получал о тех предметах познание, страшился презирать не человеческий разум, а слово Божие.
ГЛАВА ХLII
Эти священные книги пожелал знать и иметь один из египетских царей Птолемеев. После удивительного, но кратковременного правления Александра Македонского (называемого также Великим), во время которого он отчасти силой, т. е. войском, а отчасти и страхом покорил всю Азию, даже почти весь мир, завоевав в своих походах в числе других царств Востока и Иудею, его сподвижники не разделили полюбовно между собой его громаднейшую монархию, чтобы овладеть ею, а скорее разорвали, чтобы все опустошать войнами. Тогда в Египте царями стали Птолемеи. Первый из Птолемеев, сын Лага, перевел в Египет из Иудеи многих пленников. Преемник его,
О граде Божием 967
другой Птолемей, называемый Филадельфом, всем, которых тот привел пленниками, даровал свободу; сверх того, он послал царские дары в храм Божий и просил у тогдашнего первосвященника Елеазара сообщить ему Писания, которые, как слышал он из носившейся молвы, считались действительно божественными и которые он желал иметь в своей, тогда составлявшейся им, знаменитейшей библиотеке. Когда первосвященник Елеазар прислал ему священные книги на еврейском языке, он попросил переводчиков; к нему и посланы были семьдесят два человека, по шесть от каждого из двенадцати колен, — люди весьма сведущие в том и другом языках, т. е. еврейском и греческом.
Перевод их принято называть переводом Семидесяти. Предание говорит, что в их словах было такое удивительное и поразившее всех согласие, что хотя за своею работой они сидели отдельно один от другого (таким путем Птолемей захотел проверить их добросовестность), однако между ними не оказалось различия ни в каком–либо слове, имевшем у них одинаковый смысл и одинаковое значение, ни в расположении слов; но как если бы переводчик был один, так переведенное ими всеми было тождественно; ибо во всех них на самом деле действовал один и тот же Дух. Такой удивительный дар Божий был сообщен им для того, чтобы придать этим еще больший авторитет Писаниям, не человеческим, а божественным, какими они и были, — авторитет, который должен был принести пользу будущим верующим из язычников, что мы и видим уже исполнившимся.
ГЛАВА ХLIV
Хотя были и другие переводчики, переводившие священные Писания с еврейского языка на греческий, как–то: Акила, Симмах и Феодотион; хотя суще-
Блаженный Августин 968
ствует и еще перевод, автор которого неизвестен и потому он без указания переводчика называется просто пятым изданием; однако перевод Семидесяти принят Церковью так, как если бы он был единственным, и находится в употреблении у греческих христианских народов, из которых весьма многие даже не знают, существует ли еще какой–либо другой. С перевода Семидесяти сделан и латинский перевод, используемый латинскими церквями. Еще в наше время жил пресвитер Иероним, человек ученейший, сведущий во всех трех языках, переведший священные Писания на латинский язык не с греческого, а с еврейского. Но несмотря на то, что иудеи признают его ученый перевод правильным, а перевод Семидесяти во многих местах неточным, однако церковь Христова полагает, что никого не следует предпочитать авторитету стольких людей, избранных для этого дела тогдашним первосвященником Елеазаром, на том основании, что если бы даже и не проявился в них единый и несомненно божественный Дух, а ученые Семьдесят по человеческому обыкновению договорились между собою относительно тех или иных слов перевода, чтобы употребить такие, которые принимались бы всеми, то и в таком случае им не следует предпочитать одного, кто бы он ни был. Но коль скоро мы видим в них такой ясный знак боговдох–новенности, то как бы любой другой переводчик Писаний с еврейского языка на какой–нибудь другой ни был точен, согласен ли он с Семьюдесятью или нет, за Семьюдесятью мы должны признать пророческое превосходство. Ибо тот же самый Дух, который был в пророках, когда они составляли Писание, тот же Дух был и в Семидесяти, когда они его переводили.
Этот Дух по божественному авторитету мог, конечно, говорить и нечто иное, подобно тому, как известный пророк говорил и то, и другое, потому что то и другое говорил тот же самый Дух, мог говорить и то же самое иначе, так что людям, хорошо понима-
О граде Божием 969
ствует и еще перевод, автор которого неизвестен и потому он без указания переводчика называется просто пятым изданием; однако перевод Семидесяти принят Церковью так, как если бы он был единственным, и находится в употреблении у греческих христианских народов, из которых весьма многие даже не знают, существует ли еще какой–либо другой. С перевода Семидесяти сделан и латинский перевод, используемый латинскими церквями. Еще в наше время жил пресвитер Иероним, человек ученейший, сведущий во всех трех языках, переведший священные Писания на латинский язык не с греческого, а с еврейского. Но несмотря на то, что иудеи признают его ученый перевод правильным, а перевод Семидесяти во многих местах неточным, однако церковь Христова полагает, что никого не следует предпочитать авторитету стольких людей, избранных для этого дела тогдашним первосвященником Елеазаром, на том основании, что если бы даже и не проявился в них единый и несомненно божественный Дух, а ученые Семьдесят по человеческому обыкновению договорились между собою относительно тех или иных слов перевода, чтобы употребить такие, которые принимались бы всеми, то и в таком случае им не следует предпочитать одного, кто бы он ни был. Но коль скоро мы видим в них такой ясный знак боговдох–новенности, то как бы любой другой переводчик Писаний с еврейского языка на какой–нибудь другой ни был точен, согласен ли он с Семьюдесятью или нет, за Семьюдесятью мы должны признать пророческое превосходство. Ибо тот же самый Дух, который был в пророках, когда они составляли Писание, тот же Дух был и в Семидесяти, когда они его переводили.
Этот Дух по божественному авторитету мог, конечно, говорить и нечто иное, подобно тому, как известный пророк говорил и то, и другое, потому что то и другое говорил тот же самый Дух, мог говорить и то же самое иначе, так что людям, хорошо понимающим, виден был, хотя и не под одинаковыми словами, тот же самый смысл; мог, наконец, иное опускать, а другое добавлять, чтобы и из этого было видно, что это было делом не рабского труда человека, каким должен был быть перевод буквальный, а делом власти божественной, которая наполнила и направляла ум переводчика. Некоторые, впрочем, полагали, что греческие кодексы перевода Семидесяти следовало исправлять по еврейским кодексам, однако опустить то, чего еврейские кодексы не имеют, а Семьдесят имеют, не решились, а только вставили то, что еврейские кодексы имеют, а Семьдесят не имеют, и эти вставки отметили в начале стихов известного рода знаками наподобие звезд, называемыми поэтому звездочками. То же, чего наоборот — еврейские кодексы не имеют, а Семьдесят имеют, обозначили, и то же в начале стихов, черточками, подобно тому, как пишутся унции. С такими значками распространены повсюду и многие латинские кодексы. Но все то, что не опущено или прибавлено, а иначе сказано, и придает или другой смысл, не несовместимый, однако же, с тем, или тот же самый, но выраженный иным образом, — то может открываться только при сличении тех и других кодексов.
Итак, если в Писании мы должны, как и следует, видеть лишь то, что через людей говорил Дух Божий, то все, что в еврейских кодексах есть, а у Семидесяти нет, — все это Дух Божий благоволил сказать не через них, а через пророков. Все же, что есть у Семидесяти и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками. Ибо точно так же одно изрек он через Исайю, другое — через Иеремию, третье — через иного какого–либо пророка, или одно и то же, но иначе, через того или другого, как было Ему угодно. Все, что находится у пророков и у Семидесяти, изрек через тех и других один и тот же Дух, но так, что те
Блаженный Августин 970
предшествовали, пророчествуя, а эти следовали за ними, пророчески их объясняя; ибо как в тех, говоривших истинное и между собою согласное, обитал один и тот же Дух мира, так и в этих, переводивших отдельно друг от друга, как бы едиными устами проявился тот же самый единый Дух.
ГЛАВА ХLV
Но кто–нибудь скажет: «Откуда я могу знать, сказал ли пророк Иона ниневитянам: «Еще три дня, — и Ниневия будет разрушена», или: «Еще сорок дней» (Ион. III, 4)?» Действительно, кто не согласится, что пророк, который был послан устрашить город угрозой неминуемой гибели, не мог сказать в одно и то же время то и другое? Если погибель угрожала на третий день, то никак не на сороковой, а если на сороковой, то не на третий. Итак, если меня спросят, что все–таки сказал Иона, я отвечу, что, скорее, то, что читается в еврейском тексте, т. е.: «Еще сорок дней, — и Ниневия будет разрушена». Ибо Семьдесят, переводившие гораздо позднее, могли сказать иное, относящееся, однако, к тому же предмету и имеющее тот же самый смысл, но заставляющее читателя, при сохранении уважения к тому и другому авторитету, обратиться от истории к исследованию того, для обозначения чего и написана эта история. Хотя события эти совершались в городе Ниневии, но знаменовали собою нечто такое, что превышает меру этого города; подобно тому, как сам пророк находился три дня во чреве кита, но знаменовал собою другого, имевшего быть три дня в глубине ада, Того, Кто есть Господь всех пророков. Поэтому, если под тем городом справедливо разумеют пророчески изображенную церковь язычников, сокрушенную покаянием, чтобы не быть уже такою, какою была; то так как в языческой церкви, образом которой была Ниневия, со-
О граде Божием 971
вершено это Христом, то под сорока и тремя днями обозначается тот же Христос; под сорока потому, что Он в продолжение сорока дней беседовал со своими учениками после воскресения и потом вознесся на небо; под тремя потому, что в третий день Он воскрес.
Читателя, мысль которого не желает подняться выше исторического факта, Семьдесят переводчиков, они же — и пророки, как бы пробуждают ото сна к созерцанию пророческой высоты и как бы говорят ему: «В сорок дней ищи Того, в Ком можешь найти и три дня: первое усмотришь в вознесении, последнее — в воскресении Его». Таким образом, тем и другим числом могло даваться совершенно согласное предуказание; причем то — через пророка Иону, а это — через пророчество Семидесяти переводчиков, но говорил один и тот же Дух. Стараюсь быть кратким и потому не привожу в доказательство многих других мест, в которых Семьдесят переводчиков представляются отклоняющимися от еврейского подлинника, но, правильно понятые, оказываются с ним согласными. Поэтому, следуя по мере сил примеру апостолов, которые приводили пророческие свидетельства из того и другого, т. е. и из еврейских кодексов, и из Семидесяти, я со своей стороны посчитал нужным пользоваться авторитетом тех и других, так как авторитет обоих одинаков и божественен. Но продолжим, как умеем, свою речь о том, что еще остается.
ГЛАВА ХLVl
После того, как народ Иудейский перестал иметь пророков, он оказался, несомненно, худшим, причем именно в то время, когда с возобновлением своего храма после Вавилонского плена надеялся видеть себя лучшим. Ибо в этом смысле тот плотский народ
Блаженный Августин 972
понял то, что предсказано было пророком Аггеем: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели первого» (Агг. II, 9). Но что речь шла о Новом завете, это пророк показал несколько выше, где высказывается ясное обетование о Христе: «И потрясу все народы, — и придет Желаемый всеми народами» (Агг. II, 7). Этому месту Семьдесят переводчиков по пророческому авторитету придали другой смысл, применимый скорее к телу, т. е. к Церкви, чем к главе, т. е. Христу: «Приидут избранные Господу от всех языков», т. е. о которых сам Иисус говорит в Евангелии: «Много званных, а мало избранных» (Мф. XXII, 14). Из таких избранных от язычников, как из живых камней, Новым заветом созидается дом Божий гораздо славнейший, чем каким был тот храм, построенный Соломоном и возобновленный после плена. Поэтому–то с того времени народ Иудейский и пророков не имел, и подвергся многим бедствиям со стороны чужеземных царей и даже со стороны самих римлян, чтобы не думал, что пророчество Аггея исполнилось этим возобновлением храма.
Ибо спустя немного времени он был покорен прибывшим туда Александром; хотя при этом не произведено было никакого опустошения, так как они не осмелились ему сопротивляться и потому, покорившись безо всякой борьбы, снискали его благосклонность: все же слава этого храма была уже не такой, какой она была во времена свободной власти их царей. Правда, Александр принес жертвы в храме Божием, но не потому, что обратился к почитанию Бога с истинным благочестием, а потому, что с нечестивой суетностью полагал, что Его следует почитать вместе с ложными богами. Затем Птолемей, сын Лага, как мною уже было упомянуто выше, после смерти Александра вывел из Иудеи в Египет пленников, которых весьма благосклонно отпустил оттуда его преемник Птолемей Филадельф; благодаря последнему мы и имеем Писания Семидесяти переводчиков. Потом Иудея по-
О граде Божием 973
трясалась войнами, описанными в Маккавейских книгах. После того она досталась царю Александрийскому Птолемею, называемому Епифаном; затем Анти–охом, царем Сирийским, посредством многих и жестоких притеснений иудеи принуждены были к почитанию идолов, а их храм был осквернен святотатственными суевериями язычников. Впрочем, вождь их, доблестный Иуда, называемый также Маккавеем, после изгнания полководцев Антиоха очистил храм от всякой идолопоклоннической скверны.
Несколько позже первосвященником в результате интриг стал некто Алким, не происходивший из священнического рода, что было незаконно. Затем, спустя почти пятьдесят лет, в продолжение которых иудеи не пользовались миром, хотя и жили до некоторой степени благополучно, Аристовул, первый надев диадему, сделался у них царем и первосвященником. Ибо до него, со времени возвращения из Вавилонского плена и восстановления храма, у них были не цари, а вожди или князья. Впрочем, и царь может быть назван и князем от первенства власти, и вождем, поскольку он предводительствует войском; но не всякие князья и вожди могут быть названы в то же время и царями, каким был тот Аристовул. Преемником его был Александр, тоже царь и первосвященник, который, говорят, управлял своими подданными весьма жестоко. После него у иудеев царствовала его жена Александра, со времени которой последовали для иудеев одно за другим еще более тяжкие бедствия. Ибо сыновья ее, Аристовул и Гиркан, ведя между собою борьбу за власть, призвали в Израиль римские силы; точнее, Гиркан попросил у них помощи против своего брата
Рим покорил уже тогда Африку и Грецию и, широко распространяя свою власть по другим частям света, но как бы не будучи в силах поддерживать сам себя, так сказать, изнемогал от собственного своего величия. Он дошел до сильных внутренних мятежей, затем до союзнических, а вскоре и гражданских войн, и
Блаженный Августин 974
до такой степени обессилел и истощил себя, что перед ним предстала необходимость изменить государственный строй, чтобы стать под управление царей. Итак, знаменитейший правитель римского народа Помпеи, вступив с войском в Иудею, взял город, отворил храм (но не с молитвенной набожностью, а по праву победителя, и вошел в него не как благочестивый почитатель, а как поругатель святыни) и проник в святая святых, куда входить не дозволялось никому, кроме первосвященника; затем, утвердив Гиркана в первосвященническом сане и поставив над побежденным народом надзирателем или, как тогда называли, прокуратором, Антипатра, увел с собою Аристовула в оковах. С того времени иудеи стали данниками Рима. Затем Кассий ограбил и сам храм. Наконец, несколько лет спустя, иудеи подверглись наказанию иметь царем чужестранца Ирода, в царствование которого родился Христос. Ибо наступила уже полнота времен, определенная пророческим Духом через патриарха Иакова: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. Х1ЛХ, 10).
Итак, иудеи не переставали иметь князей из иудеев до Ирода, в лице которого они получили себе первого чужеземного царя. Но наступило уже время прийти Тому, Кому было отложено данное Новому завету обетование, что Он будет чаянием народов. Чаять же Его грядущего, как чают ныне, что Он придет для совершения суда в блеске славы, народы не могли бы, если бы прежде не уверовали в Него, пришедшего для принятия суда в уничижении терпения.
ГЛАВА ХLVII
Итак, когда в Иудее царствовал Ирод, а у римлян, с изменением государственного строя, императором был Август Цезарь, с которым в мире настали време-
О граде Божием 975
на спокойствия, согласно предшествовавшему пророчеству (Мих. V, 2), в Вифлееме Иудейском родился Христос как человек видимый — от человека Девы, а как Бог сокровенный — от Бога Отца. Ибо пророк предсказывал: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог» (Ис. VII, 14; Мф. I, 23; Лук. I, 31). В доказательство Своей божественности Он совершил много чудес; о некоторых из них, насколько это представлялось достаточным для проповедания о Нем, повествует Евангельское писание. Первое из них то, что Он таким чудесным образом родился, а последнее — что со Своим воскресшим из мертвых телом вознесся на небо.
Иудеи же, которые Его убили и не захотели в Него уверовать, потому что Ему надлежало умереть и воскреснуть, разгромленные самым бедственным образом Римом, с корнем вырванные из своего царства, где над ними уже господствовали чужеземцы, и рассеянные по всему лицу земли (ибо они есть везде), служат для нас через свои Писания свидетельством, что пророчество о Христе — это не наша выдумка. Весьма многие из них, вникая в смысл этих пророчеств, и прежде страдания, а особенно после воскресения Христа уверовали в Него; это те, о которых предсказано: «Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится» (Пс. X, 22). Но прочие остаются ослепленными; о них предсказано: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их — западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда» (Пс. ЕХУШ, 23, 24).
Таким образом, в то время, как нашим писаниям иудеи не верят, на них исполняются их собственные, которые они читают слепыми глазами. Или, быть может, кто–нибудь скажет, что христиане выдумали те пророчества о Христе, которые въедаются от имени сивиллы или кого–нибудь другого, если есть дей-
Блаженный Августин 976
ствительно пророчества, не принадлежащие народу Израильскому? Но для нас достаточно и тех, какие содержатся в кодексах наших противников. Мы убеждены, что они и рассеяны среди всех народов, где только Христова Церковь распространяется, ради свидетельства об этих пророчествах, — свидетельства, которое они дают нам вопреки своей воле, имея и сохраняя те же самые кодексы. Ибо в псалмах, которые и они сами читают, предпослано относительно этого пророчество в словах: «Бог мой, милующий меня, предварит меня; Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею» (Пс. ЬУШ, 11, 12). Таким образом, Бог явил Церкви на врагах ее иудеях благодать Своего милосердия, потому что, как говорит апостол, их падение есть спасение язычников (Рим. XI, 11). И Он их не убивает, т. е. не теряет в них того, что они суть иудеи, хотя и побеждены и угнетены римлянами, с той именно целью, чтобы, не забывая закона Божия, они были свидетельством о том, о чем говорим мы. Поэтому мало было сказать: «Не умерщвляй их»; но еще и прибавлено: «Расточи их», ибо, если бы иудеи с этим свидетельством Писаний оставались только в своей земле, а не были рассеяны повсюду, Церковь, которая распространена повсюду, не могла бы иметь их среди всех народов свидетелями тех пророчеств, которые были изречены о Христе.
ГЛАВА ХLVIII
В дополнение мы готовы упомянуть о всяком иноземце, т. е. не принадлежащем по своему происхождению к Израилю и в канон священных Писаний этим народом не принятом, у которого читается какое–либо пророчество о Христе, если весть о том дошла или дойдет до нашего сведения. Это не пото-
О граде Божием 977
му, что в случае отсутствия такого иноземца в нем ощущалась бы необходимость, а потому, что нет никакой несообразности думать, что и в среде других народов были люди, которым было открыто это таинство и которые даже побуждены были проповедовать о нем — были или причастны той же самой благодати, или были чужды ей, но научены злыми ангелами, которые, как известно, исповедали Хрис–пришедшего, не познанного иудеями. И сами удеи, полагаю, не осмелятся утверждать, что с того |времени, как появилась отрасль Израиля по отвер-|жении его старшего брата, никто, кроме израильтян, |не имел доступа к Богу. Правда, народа, который нарывался бы народом Божиим, другого не было ника–1 кого; но что и среди других народов были люди, принадлежавшие не к земному, а к небесному граду, к I числу истинных израильтян, граждан горнего отечества, этого иудеи отрицать не могут. Если они станут отрицать это, их весьма легко обличить указанием на I святого и удивительного мужа Иова, который не был ни туземцем, ни даже прозелитом, т. е. пришельцем Израильского народа, а происходил от народа Иду–мейского, в среде которого родился и умер, божественное Писание так восхваляет его, что становится ясно: ни один из его современников не был равен ему в том, что касалось праведности и благочестия (Иов. I; Иез. XIV, 20).
Хотя указаний на время его жизни мы в хрониках и не находим, но из его книги, которую израильтяне ради его праведности включили в канон, заключаем, что он жил на три поколения позже Израиля. Я не сомневаюсь, что так было устроено божественным промыслом с той целью, чтобы мы знали, что и среди других народов могли быть люди, которые жили по Богу и угодили Ему, принадлежа к небесному Иерусалиму. А быть таким мог, как следует думать, лишь тот, кому от Бога открыт был единый Ходатай Бога и человеков Человек Христос
Блаженный Августин 978
Иисус, о будущем пришествии Которого во плоти древним святым предсказывалось так же, как возвещено нам о совершившемся, чтобы одна и та же вера вела через Него всех предопределенных к Богу в град Божий, в дом Божий, в храм Божий. Но всякие пророчества о благодати Божьей через Христа Иисуса, изреченные другими, могут считаться вымышленными христианами. Поэтому, чтобы убедить кого–либо из чужих, если бы они стали рассуждать об этом предмете, и сделать их нашими, буде они окажутся здравомыслящими, самое верное средство — это приводить те божественные пророчества о Христе, которые содержатся в кодексах иудеев, с удалением которых из их отечества и рассеяньем по всему миру ради свидетельства об этом возросла повсюду Церковь Христова.
ГЛАВА ХLIX
Этот дом Божий гораздо славнее, чем тот, первый, который был построен из дерева, камня и других драгоценных материалов и металлов. Таким образом, пророчество Аггея исполнилось не в восстановлении того храма. Ибо со времени своего возобновления храм тот никогда не имел такой славы, какую имел он во времена Соломона; напротив того, как оказывается, слава того храма, сперва вследствие прекращения пророчеств, а затем и вследствие великих бедствий самого народа умалилась до окончательного его разрушения, что сделано было римлянами, как показывает это сказанное нами выше. Между тем этот, принадлежащий Новому завету дом Божий настолько во всех отношениях славнее, насколько лучше те живые камни, верующие и возрожденные, из которых он созидается. Под видом же восстановления того храма он изображается потому, что и само обновление этого здания на
О граде Божием 979
пророческом языке означает другой завет, называемый Новым.
Таким образом, в словах, которые Бог изрек в упомянутом пророчестве: «И на месте сем Я дам мир» (Агг. II, 9), под местом означающим нужно разуметь место означаемое; а так как тем возобновленным местом обозначается Церковь, которая должна была быть создана Христом, то слова: «И на месте сем Я дам мир» нужно понимать так: «Дам мир в том месте, которое этим местом означается». Ибо все означающее представляется некоторым образом олицетворением тех предметов, которые оно обозначает, как, например, в словах апостола: «Камень же был Христос» (I Кор.Х, 4); потому что камень тот, о котором это сказано, несомненно означал Христа. Итак, слава этого новозаветного дома более, чем слава дома прежнего, ветхозаветного, а явится она большею тогда, когда он будет освящен. Тогда «придет Желаемый всеми народами» (Агг. II, 8), как читается в еврейском (кодексе). Ибо до Своего пришествия Он еще не был желанным всеми народами: кого они должны были желать, они еще не знали, еще не веровали в Него. Тогда, по переводу Семидесяти (этот смысл их перевода тоже пророческий), «придут избранные» Господом «от всех народов». Ибо тогда действительно придут только избранные, о которых говорит апостол: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. I, 4). Ведь и сам Спаситель, сказав: «Много званных, а мало избранных» (Мф. XXII, 14), желал этим показать, что тот дом, который не будет уже бояться никакого разрушения, созидается не из тех, которые, будучи призваны, чтут Его так, что бывают извергнутыми, а из избранных. В настоящее же время, когда в Церкви остаются еще и те, которых Он отделит, как бы провеяв на току, слава этого дома не является еще такою, какою она явится тогда, когда всякий, кто пребудет в нем, пребудет вечно.
Блаженный Августин 980
ГЛАВА L
Итак, в этом злобном веке, в эти несчастные дни, когда Церковь достигает будущего величия путем настоящего уничижения и воспитывается побуждениями страхов, муками скорбей, тягостью подвигов, опасностью искушений, находя радость только в надежде, если радуется правильно, — к добрым примешиваются многие отверженные: те и другие соединяются как бы в евангельском неводе (Мф. XIII, 47) и плавают в настоящем мире, как в море, безразлично захваченные этими сетями, пока не достигнут берега, где злые отделятся от добрых, и в добрых, как в Своем храме, «будет Бог все во всем» (I Кор. XV, 28). Поэтому мы признаем исполнившимся ныне Его слово, которое изрек Он в псалмах: «О чудесах и помышлениях Твоих о нас… хотел бы я проповедывать и говорить: но они превышают число» (Пс. XXXIX, 6). Это и происходит с того времени, как сначала устами Своего предтечи, Иоанна, а потом и собственными Он возвестил, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. III, 2; IV, 17).
Он избрал в ученики, которых назвал апостолами (Лук. VI, 13), людей низкорожденных, незнатных, неученых, чтобы все, что только было в них и делалось ими великого, всем тем был и все это делал в них Он сам. В числе их Он имел одного, пользуясь злобой которого добрым образом и планы относительно Своих страданий исполнил, и Церкви Своей дал пример терпимости в отношении к злым. Посеяв семя святого Евангелия, насколько должен был сделать это Своим телесным присутствием, Он пострадал, умер, воскрес, показав страданием, что должны мы переносить за истину, а воскресением — на что должны мы надеяться в вечности, став причастными возвышенного таинства пролитой крови Его в отпущение грехов. Он сорок дней беседовал на земле со Своими учениками, на их глазах вознесся на небо и
О граде Божием 981
через десять дней послал обещанного Святого Духа. Когда Дух Святый сходил на верующих, совершилось величайшее и весьма уместное знамение: каждый из них начал говорить языками всех народов, знаменуя, таким образом, единство католической Церкви, дол-
кенствующей распространиться среди всех народов
[ говорить на всех языках.
ГЛАВА LI
После этого, согласно с пророчеством: «От Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима» (Ис. II, 3), и согласно с предсказаниями самого Господа Христа, когда Он Своим изумленным ученикам отверз «ум к уразумению Писаний и сказал им: так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лук. XXIV, 45—47), и когда опять, на их вопрос о времени Его второго пришествия, Он сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти; но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. I, 7, 8); Церковь сперва вышла за пределы Иерусалима, когда явились весьма многие верующие в Иудее и Самарии, распространилась и среди других народов благодаря проповедникам Евангелия, которых, как светильники, Он подготовил словом и возжег Духом Святым. Он говорил им: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. X, 28). Чтобы не охладил их страх, они пламенели огнем любви. Потом, как через них же, которые и до страдания и по воскресении видели и слышали Его, так, после их смерти, и через их преемников Евангелие было проповедано всему миру среди жестоких преследований, различ-
Блаженный Августин 982
ных мучений и избиений мучеников, подтверждаемое божественными знамениями, чудесами, различными силами и дарами Святого Духа; так что языческие народы, уверовав в Того, Кто был распят ради их искупления, стали почитать с христианской любовью кровь мучеников, которую с дьявольскою злобой пролили. Да и сами цари, законами коих опустошалась Церковь, спасительно покорились имени, которое старались с ожесточением стереть с лица земли, и начали преследовать ложных богов, из–за которых прежде преследовались почитатели истинного Бога.
ГЛАВА LII
Но диявол, видя, что храмы демонов пустеют и человеческий род льнет к имени Освободителя и Посредника, воздвиг еретиков, которые, прикрываясь именем христиан, противодействуют христианскому учению; как будто бы в граде Божием их могут терпеть спокойно, не принимая против них никаких мер, подобно тому, как град смешения терпит у себя философов, проповедующих различные и противоположные мнения! И вот те, которые в Церкви Христовой мыслят что–нибудь вредное и превратное, когда принятым к направлению их на здравый и правильный образ мыслей мерам упорно сопротивляются и не хотят исправить своих зловредных и пагубных учений, делаются еретиками и, выходя из Церкви, пополняют ряды дающих ей занятие врагов.
Таким образом, своим злом они приносят истинным членам Церкви Христовой даже пользу, потому что Бог и зло употребляет во благо и любящим Бога все содействует ко благу (Рим. VIII, 28). Ибо все враги Церкви, каким бы заблуждением и какою бы злобою они ни были ослеплены и развращены, если получают власть вредить ей телесно, упражняют ее терпение, а если явля-
О граде Божием 983
ются ей противниками только по своему образу мыслей, упражняют ее мудрость; а так как и враги должны быть любимы, то дают упражнение и ее благорасположению или даже благотворительности, действуют ли в отношении к ним убеждающим словом учения или грозою дисциплины. Поэтому дьявол, князь нечестивого града, выдвигая свои орудия против странствующего в настоящем мире града Божия, не в силах ничем ему повредить. Божественный промысел посылает этому граду и благоденствие в утешение, чтобы несчастья не сокрушили его, и несчастья в упражнение, чтобы благоденствие не испортило его; то и другое уравновешивается взаимно так, что именно из этого града, а не откуда–либо еще мы должны считать идущим известный возглас псалма: «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою» (Пс. ХСП1, 19). Отсюда же и слова апостола: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы» (Рим. XII, 12).
Ибо и сказанное тем же учителем: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (II Тим. III, 12), может быть приложимо ко всяким временам. Потому что хотя известное время, когда внешние враги не свирепствуют, и кажется спокойным, и даже таковым и является на самом деле и доставляет великое утешение, особенно слабым; однако же и тогда есть, и даже очень много внутри таких, которые своими развращенными нравами терзают чувства людей, живущих благочестиво. Ибо через них хулится и христианское католическое имя. А чем оно дороже для желающих благочестиво жить во Христе, тем более скорбят они о том, что по вине дурных домашних оно не настолько возлюблено, насколько того желают души благочестивых. Да и сами еретики, так как представляются имеющими имя, таинства Писания и исповедание христианское, причиняют великую скорбь сердцам благочестивых; потому что, с одной стороны, многие желающие быть христианами делаются по необходимости нереши-
Блаженный Августин 984
тельными ввиду их разномыслии, а с другой — многие злоречивые находят в них основание хулить христианское имя; ибо и они называются христианами. При существовании этих и им подобных развращенных нравов и заблуждений желающие жить благочестиво во Христе терпят гонения, хотя тела их и не подвергаются нападениям и мучениям. Гонения эти они претерпевают не на теле, а в сердце. Поэтому сказано — «При умножении скорбей моих в сердце моем», а не «в теле моем». Но с другой стороны, поскольку обетования Божий мыслятся непреложными, и поскольку апостол говорит: «Познал Господь Своих; ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (II Тим. II, 19; Рим. VIII, 29); и никто из них не может погибнуть, то в псалме том говорится далее: «Утешения Твои услаждают душу мою». Да и сама эта скорбь, являющаяся в сердцах людей благочестивых, стесняющихся нравами христиан злых или ложных, приносит пользу скорбящим; потому что источником ее служит любовь, в силу которой они не хотят ни того, чтобы те сами погибли, ни того, чтобы мешали спасению других. Наконец, великим утешением служит и их исправление, которое переполняет души благочестивых людей столь же великой радостью, сколь великими скорбями огорчала их погибель. Так в этом веке, в эти злополучные дни, не только со времени телесного присутствия Христа и Его апостолов, но с самого Авеля, первого праведника, убитого нечестивым братом, и до самого конца настоящего века Церковь распространяется, совершая свое странствование среди гонений от мира и утешений от Бога.
ГЛАВА LIII
Поэтому я не считаю правильным говорить или верить, как это казалось или кажется некоторым, будто Церковь до времени антихриста не будет испы-
О граде Божием 985
тывать больше гонений, кроме того числа их, т. е. десяти, какие уже испытывала, так что одиннадцатым и последним будет якобы гонение от антихриста. Ибо первым гонением считают то, которое было от Нерона, второе — от Домициана, третье — от Траяна, четвертое — от Антонина, пятое — от Севера, шестое — от Максимина, седьмое — от Декия, восьмое — от Валериана, девятое — от Аврелиана, десятое — от Диоклетиана и Максимилиана. Так как египетских казней, прежде чем народ Божий начал выходить из Египта, было десять, то полагают, что их нужно разуметь в том смысле, что последнее гонение антихриста будет соответствовать одиннадцатой казни, когда египтяне, враждебно гнавшиеся за евреями, погибли в Красном море, между тем как народ Божий переходил через него по суше. Но я не думаю, чтобы те события в Египте пророчески прообразовывали гонения; хотя думающие так с кажущейся тонкостью и остроумием сопоставляют каждую казнь с каждым из гонений, но не по пророческому Духу, а по догадке человеческого ума, который иногда доходит до истины, но нередко и обманывается.
В самом деле, что скажут думающие так о том гонении, во время которого распят был сам Господь? В какое число его включат? Или же они полагают, что это следует исключить; потому что нужно–де считать те, которые относятся к телу, а не то, которое было направлено против самой Главы, когда была убита эта Глава? А что они скажут о том гонении, которое после вознесения Христа на небо производилось в Иерусалиме, когда блаженный Стефан был побит камнями; когда Иаков, брат Иоанна, был усечен мечом; когда апостол Петр был осужден на казнь и заключен в темницу, откуда его освободил ангел; когда братья бежали из Иерусалима; когда Савл, сделавшийся впоследствии апостолом Павлом, опустошал Церковь; когда и сам он, уже проповедуя ту самую веру, которую гнал, претерпел то, что делал сам, и в Иудее,
Блаженный Августин 986
и среди других народов, где с пламенною ревностью проповедал Христа? Почему же они думают, что следует начинать с Нерона, когда ко времени Нерона Церковь возросла среди жесточайших гонений, о которых говорить подробно было бы слишком долго? Если же полагают, что нужно принимать в расчет гонения, произведенные царями, то ведь Ирод, который после вознесения Господа на небо воздвиг самое жестокое гонение, был также царем.
Затем, что ответят они нам об Юлиане, которого также не причисляют к десяти? Разве он не гнал Церковь, — он, запретивший христианам учить и учиться свободным наукам? При нем Валентиан старший, бывший после него третьим императором, явился исповедником христианской веры и лишен был за это военной должности. Умолчу о том, что сделал бы он в Антиохии, если бы один вернейший и муже–ственнейший юноша, который из числа многих, схваченных для пыток, был первым в продолжение целого дня подвергнут истязаниям, певший псалмы под орудиями пыток и в страданиях, не привел его в ужас своею изумительной твердостью и спокойствием и не возбудил в нем страха, что остальные заставят его оказаться в еще более постыдном положении. Наконец, на нашей уже памяти брат вышеупомянутого Валентиана, арианин Валент, разве не произвел опустошения в католической Церкви жестоким гонением в восточных странах?
Далее, разумно ли не принимать в соображение того обстоятельства, что Церковь, повсюду плодоносящая и возрастающая, может у некоторых народов терпеть от царей гонения, когда у других народов не терпит? Или, быть может, не следует считать гонением то, что царь преследовал в Готии христиан с удивительной жестокостью в то время, когда там были одни православные, из которых весьма многие увенчались мученичеством, как об этом мы слышали от некоторых из братии, которые тогда были еще деть-
О граде Божием 987
ми и отчетливо вспоминали, что сами видели это? А недавно в Персии? Разве не свирепствовало там на христиан гонение (если оно не продолжается и сейчас) в такой степени, что некоторые, бежавшие оттуда, прибыли даже в римские города? Размышляя об этих и им подобных обстоятельствах, я думаю, что не следует ограничивать известным числом гонения, которыми должна испытываться Церковь. Но с другой стороны, не менее безрассудно и утверждать, что будут и еще от царей какие–нибудь гонения, кроме того последнего, относительно которого не сомневается ни один христианин. Поэтому оставим вопрос открытым и только заметим, что утверждать что–то одно из двух было бы делом смелым и даже дерзким.
ГЛАВА LIV
Упомянутое последнее гонение, которое имеет быть от антихриста, прекратит Своим явлением сам Иисус. Ибо написано, что Он «убьет (беззаконника) духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (II Фес. II, 8). Часто спрашивают: «Когда это будет?» Вопрос совершенно неуместный! Если бы нам нужно было знать об этом, то кому лучше, как не Самому учителю Богу, сообщить об этом вопрошавшим Его ученикам? А они не молчали тогда пред Ним, но спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1,6,7). Не о часе, конечно, или дне, или годе, а о времени спрашивали они, когда получили этот ответ. Таким образом, мы напрасно стали бы рассчитывать и определять годы, которые остаются еще настоящему веку, коль скоро из уст Истины слышим, что знать это — не наше дело. Некоторые, впрочем, говорили, что от вознесени
Блаженный Августин 988
Господа до Его последнего пришествия может пройти четыреста, другие — пятьсот, иные — даже и тысяча лет. А на чем каждый из них обосновывает свое мнение, выяснять и долго, и нет необходимости. Они руководствуются человеческими догадками, а не указывают что–либо несомненное из авторитета канонического Писания. Всем им, гадающим на пальцах, развязывает пальцы и велит успокоиться Тот, Кто говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти».
Но поскольку это изречение евангельское, то нет ничего удивительного в том, что оно не воспрепятствовало почитателям многих и ложных богов измыслить на основании ответов демонов, которых они считают богами, будто определено то время, в продолжение которого будет существовать христианская религия. Ибо когда они увидели, что не могут уничтожить ее столькими и такими гонениями, а напротив, в них–то она по преимуществу и достигает удивительного возрастания, то выдумали невесть какие греческие стихи, якобы свыше изреченные кому–то из спрашивавших оракула; в этих стихах они представляют Христа неповинным в преступлении этого якобы святотатства, но прибавляют, что Петр при помощи волхвований устроил так, чтобы в продолжение трехсот шестидесяти пяти лет почиталось имя Христа, но затем, по исполнении этого числа лет, это почитание немедленно прекратится.
О, смысл людей ученых! О, просвещенные умы, способные верить о Христе таким вещам, которых вы не хотите видеть в самом Христе, — будто ученик Его Петр не научился у Него магическому искусству, а при Его невинности был, однако же, Его чародеем и захотел, чтобы имя учителя почиталось больше, чем его собственное, благодаря его магическому искусству, его великим трудам, его опасностям и, наконец, его пролитой крови! Если Петр–чародей сделал так, чтобы мир возлюбил Христа, то что же сделал невинный
О граде Божием 989
Христос, чтобы так возлюбил Его Петр? Пусть они сами себе ответят на это вопрос и пусть, если могут, поймут, что то было делом сверхъестественной благодати, что мир возлюбил Христа ради приобретения от Него вечной жизни, и возлюбил даже до принятия за Него временной смерти. Да и что же это за боги, которые могут предсказывать подобные вещи, но не могут их устранять, подчинившись одному чародею и одному магическому злодеянию, при совершении которого, как рассказывают, однолетний мальчик был убит, растерзан на части и погребен по непотребному обряду, — подчинившись до такой степени, что позволили в течение столь продолжительного времени распространяться враждебной им секте, преодолеть ей не упорством, а терпением ужасные жестокости многочисленных гонений и ниспровергнуть их идолы, храмы, культ и оракулов? Наконец, что это за бог, — не наш, конечно, а их, — который прельстился таким злодеянием или вынужден был покровительствовать таким вещам? Ведь по сказанию тех стихов, Петр магическим искусством предназначал все это не какому–нибудь демону, а Богу. Такого бога имеют они, каким не представляют Христа.
ГЛАВА LV
Я мог бы привести много и другого подобного, если бы не прошел уже тот самый год, который определило придуманное гадание и которому поверила обманутая суетность. Но поскольку с того времени, как почитание имени Христа установилось через присутствие Его во плоти и через Его апостолов, уже несколько лет тому назад исполнилось триста шестьдесят пять лет; то зачем нам искать других данных для доказательства лживости этого? Не станем полагать начало христианской религии с рождества
Блаженный Августин 990
Христова, потому что, будучи младенцем и отроком, Он не имел учеников; хотя когда Он начал иметь их, тогда, без всякого сомнения, сделались через Его плотское присутствие известными учение и христианская религия, т. е. после того, как Он крестился от Иоанна в реке Иордан. По этой причине о Нем и было пророчество: «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли» (Пс. Г.ХХ1, 8). Но так как прежде Его страдания и воскресения вера не была еще предназначенною для всех, так как предназначение это она получила в воскресение Христа (ибо именно так говорит апостол Павел афинянам: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян. XVII, 30, 31); то воскресение Христа лучше всего взять за исходный пункт в решении этого вопроса, особенно потому, что тогда же дарован был и Дух Святый, как и надлежало Ему по воскресении Христа быть данным в том граде, от которого долженствовал начаться второй закон, т. е. Новый завет. Ибо первый закон, называемый Ветхим заветом, был дан с горы Синай через Моисея. О том же, которому надлежало быть данным через Христа, предсказано: «От Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима» (Ис. II, 3). Поэтому и Сам Он сказал, что покаяние должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима (Лук. XXIV, 47).
Итак, в Иерусалиме началось почитание этого имени, состоящее в вере в распятого и воскресшего Христа Иисуса. Там вспыхнула эта вера таким горячим пламенем, что несколько тысяч людей, обратившихся с удивительной живостью к имени Христа, распродав свои имущества для раздачи бедным, приняли, движимые святой решимостью и
О граде Божием 991
пламеннейшей любовью, добровольную бедность и приготовились среди свирепствующих и жаждущих крови иудеев бороться за истину до смерти, но не вооруженною силой, а препобеждающим терпением. Если все это совершилось без всякого магического искусства, то почему не хотят верить, что и во всем мире могло это совершиться тою же божественною силой, какою совершилось здесь? Если же обращение к почитанию имени Христа в Иерусалиме такого множества людей после того, как еще большее множество или пригвоздило Его к кресту, когда Он был схвачен, или смеялось над Ним, когда Он был пригвожден, было действием волхвова–ния Петра, то с этого самого года и нужно начинать отсчет тех пресловутых трехсот шестидесяти пяти лет.
Христос умер в консульство двух Геминов, в восьмой день апрельских календ. Воскрес же Он на третий день, как удостоверяют свидетельством самих своих чувств апостолы. Потом, спустя сорок дней, вознесся на небо, а через десять дней, т. е. на пятидесятый день после Своего воскресения, ниспослал Святого Духа. Тогда, вследствие проповеди апостолов, уверовало три тысячи человек. Итак, именно тогда–то и началось почитание Его имени, как мы веруем и как свидетельствует истина, действующею силой Святого Духа, а по измышлению или мнению нечестивой суетности — магическим искусством Петра. Немного позже, вследствие совершившегося чуда, — когда один нищий, от чрева матери бывший до такой степени хромым, что его носили другие и полагали при дверях храма, где он просил милостыню, по слову Петра получил исцеление во имя Иисуса Христа, — уверовали пять тысяч человек; и затем Церковь начала возрастать вследствие новых и новых приливов верующих. Таким образом, определяется даже и сам день, с которого начинается тот год: это день, когда послан был
Блаженный Августин 992
Дух Снятый, т. е. майские иды. Пересчитывая последующие консульства, мы найдем, что триста шестьдесят пять лет исполнились в те же майские иды в консульство Гонория и Евтихиана.
Что могло происходить в следующий за тем год в консульство Манлия Феодора в других странах, когда по смыслу того оракула демонов или выдумки людей христианская религия уже не должна была существовать, нам не было нужды выяснять. Но нам известно, например, что в знаменитейшем и главном африканском городе Карфагене комиты императора Гонория, Гауценций и Иовий, в четырнадцатый день апрельских календ разрушили храмы богов и сокрушили идолов. Кто не видит, насколько с того времени и доселе, т. е. почти в продолжение тридцати лет, возросло почитание имени Христа, в особенности после того, как христианами сделались многие из тех, которые потеряли доверие к упомянутому прорицанию и нашли его, когда исполнилось то число лет, пустым и заслуживающим осмеяния? Итак, мы, будучи и называясь христианами, веруем не в Петра, но в Того, в Кого веровал и Петр; мы назидаемся проповедью Петра о Христе, а не очарованы его волшебствами; не колдовством его прельщены, а укреплены его благодеяниями. Тот самый Христос, наставник Петра в учении, ведущем к вечной жизни, есть и наш наставник.
Но закончим, наконец, настоящую книгу, в которой мы доселе рассуждали и, как нам кажется, достаточно ясно показали, каков смертный исход двух градов, небесного и земного, с начала и до конца перемешанных между собою. Из них земной град творил себе, каких хотел, ложных богов или из чего ни попадя, или даже из людей, и этим богам служил жертвоприношениями; а небесный, но странствующий на земле град не создавал ложных богов, но сам был создан истинным Богом, истин-
О граде Божием 993
ным жертвоприношением Которому сам же и служил Оба они, однако же, при различной вере, надежде и любви или пользуются одинаковым временным благополучием, или одинаково удручаются временными несчастьями, пока не будут отделены один от другого на последнем суде и каждый не получит свой конец, которому не будет конца. К рассуждению об этих концах того и другого града мы сейчас и перейдем.
32 О граде Божием
Блаженный Августин 994
КНИГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Мне предстоит теперь говорить о должных концах обоих градов — земного и небесного. Но сперва, насколько это необходимо для завершения настоящего сочинения, я считаю необходимым изложить те аргументы смертных, которыми они старались в несчастьях этой жизни создать сами для себя блаженство, чтобы на основании не только божественного авторитета, но и соображений разума, какие мы можем прибавить к нему ради неверных, уяснить отличие от их пустых мечтаний нашей надежды, которую дал нам Бог, и самого исполнения ее, т. е. истинного блаженства, которое Бог даст. Ибо о конце благ и зол философы много и на разный манер судили между собою; с величайшим усилием разбирая этот вопрос, они старались открыть, что делает человека блаженным. Конец нашего блага есть то, ради чего должно быть желательно все остальное, само же оно желательно ради его самого; а конец зла — то, ради чего следует избегать прочего, само же оно должно быть избегаемо ради его самого. Поэтому концом блага мы называем в настоящее время не то, чем благо оканчивается, чтобы прекратить свое существование, а то, чем оно доводится до совершенства, чтобы сделаться полным; концом же зла не то, когда оно перестает существовать, а то, к чему оно своим вредом приводит.
Итак, концы эти суть высочайшее благо и высочайшее зло. Над открытием их и достижением в настоящей жизни высочайшего блага и избежанием высочайшего зла, как я сказал, много трудились те, которые в суетности этого века поставили задачей
О граде Божием 995
своей жизни изучение мудрости. Заблуждались они различным образом. Тем не менее, положенный самою природой предел не дозволил им настолько уклониться от пути истины, чтобы одни из них не полагали конца благ и зол в душе, другие — в теле, иные же в том и другом месте. В этом тройственном и как бы общем делении сект, подвергнув вопрос внимательному и строгому исследованию, Марк Варрон в книге о философии усмотрел такое различие учений, что весьма легко довел число сект до двухсот восьмидесяти восьми, — не таких (сект), которые непременно были, но таких, которые могли бы быть при добавлении некоторых различий. Чтобы показать это кратко, я должен начать с того, на что обратил внимание он сам и что изложил в упомянутой книге.
Есть четыре вещи, к которым люди стремятся как бы по природе, без учителя, без всякого с чьей–либо стороны наставления, без рачительности или искусства жить, которое называется добродетелью и которому, несомненно, учатся, а именно: похоть (уо1ир1аз), которая приятно возбуждает телесное чувство; покой в такой мере, чтобы кто–нибудь не испытывал никакого неприятного телесного ощущения; или то и другое вместе (Эпикур называет их одним именем похоти); или начала природы (рпта пашгае), к которым относится как указанное, так и другое, в теле ли то, как, например, свежесть членов, здоровье и неповрежденность, или в душе, каково все, малое или великое, обнаруживающееся в людях в качестве врожденных свойств. Эти четыре, т. е. похоть, покой, то и другое вместе и начала природы, существуют в нас так, что или к добродетели, которую впоследствии внушает науки, следует стремиться ради них, или к ним ради добродетели, или к тем и этой вместе ради них самих. Отсюда возникает двенадцать сект, так как каждая из них таким образом распадается на три. Когда я покажу это на одной, нетрудно будет открыть то же самое и в остальных.
Блаженный Августин 996
Итак, когда телесная похоть или подчиняется телесной добродетели, или получает над нею преимущество, или уравнивается в значении, она дает три различия сект. Подчиняется она добродетели, когда употребляется на нужды добродетели К обязанностям добродетели относится, например, жить для отечества и рожать сыновей; ни то, ни другое не может быть без телесной похоти. Без нее не принимаются пища и питье, чтобы жить; без нее не бывает и совокупления для распространения рода. Когда же она ставится выше добродетели, то бывает желательна ради себя самой, а добродетель считается заслуживающей усвоения ради нее, т. е. последняя служит лишь к тому, чтобы удовлетворять и сохранять телесную похоть. Уродлива, конечно, такая жизнь, так как добродетель при этом является рабою госпожи–по–хоти; да и не может добродетель никоим образом называться при этом добродетелью; тем не менее, и это отвратительное безобразие имело некоторых философов своими покровителями и защитниками. Похоть, далее, ставится рядом с добродетелью, когда ни одна из них не бывает желательна ради другой, а обе бывают желательны ради них же самих. Соответственно этому, как похоть, смотря по тому, подчиняется ли она добродетели или получает над нею преимущество, или уравнивается в значении, дает образование трем сектам, так и покой, так и то и другое вместе, и начала природы представляются образующими по три других секты. Ибо при наличии в складе человеческих мыслей они иногда подчиняются добродетели, иногда ставятся выше ее, иногда приравниваются ей, и таким образом число сект доводится до двенадцати.
Но число это удваивается, коль скоро прибавляется одно различие, заимствованное из социальной жизни, потому что избирая ту или другую из указанных двенадцати сект, каждый делает это или исключительно ради себя самого, или ради и члена обще-
О граде Божием 997
ства которому он должен желать того же, что и себе самому. Вследствие этого является двенадцать таких, которые полагают, что следует держаться одного какого–нибудь образа мыслей, имея в виду только себя самих, и двенадцать таких, которые останавливаются на том или другом роде философствования, имея в виду не только себя, но и других, которым желают тех же благ, что и себе.
В свою очередь, и эти двадцать четыре секты удваиваются и образуют сорок восемь, коль скоро прибавляется различие, вносимое новыми академиками. Ибо всякую из этих двадцати четырех сект один может содержать и защищать как несомненно верную, подобно тому, как стоики защищали учение, что благо человека, делающее его блаженным, состоит единственно в душевной добродетели; а другой может отстаивать как не очевидно известную, подобно тому, как новые академики защищали то, что им хотя и не было очевидно известно, однако же казалось истиноподобным. Итак, двадцать четыре секты образуются из тех, которые считают обязательным для себя следовать им как несомненно верным в силу (признанной ими) истины, а другие двадцать четыре — из тех, которые считают их для себя обязательными, хотя они и не очевидно известны, в силу подобия истине.
Затем, поскольку каждой из этих сорока восьми сект один может следовать, держась обычаев прочих философов, а другой — киников, то от этой новой особенности секты также удваиваются и получается их всего девяносто шесть. Наконец, следуя какой–нибудь одной из указанных сект, люди могут избирать для себя или жизнь, свободную от житейских дел, какую хотели и в состоянии были вести те, которые посвящали свое время только ученым занятиям; или жизнь деятельную, какую вели те, которые, хотя и занимались философией, тем не менее принимали самое горячее участие в государственном управле-
Блаженный Августин 998
нии и в ведении человеческих дел; или, наконец, жизнь, образованную из того и другого ее родов, какую проводили те, которые распределяли свое время попеременно между спокойным занятием наукой и необходимою деятельностью: эти отличия утраивают упомянутое число сект и доводят его до двухсот восьмидесяти восьми.
Это я изложил, насколько мог кратко и ясно, из книги Варрона, передавая его мысли своими словами. А как он, отвергнув остальные секты, избирает одну, а именно — древних академиков, которые, получив начало от Платона, вплоть до Полемона, который после Платона четвертым заведовал школой, носившей название Академии, имели по его представлению действительные убеждения; как он отличает их в этом отношении от академиков новых, для которых ничего не кажется достоверным, и род философии которых он начинает от Архезилая, преемника Полемона; и как он полагает, что эта секта, т. е. древние академики, далека как от колебаний, так и от всякого рода ошибок, — передавать это во всех подробностях было бы слишком долго. Но и умолчать об этом нельзя.
Итак, он устраняет сперва все те различия, которые размножают число сект; устранить их он считает нужным потому, что не в них конец блага. Он полагает, что не следует считать отдельно существующей такую философскую секту, которая отличается от остальных не тем, что иначе учит о конце благ и зол. Ведь если единственным побуждением для человека к философствованию служит достижение блаженства, а то, что делает блаженным, есть именно конец блага; и, следовательно, нет другой материи для философствования, кроме конца блага; то секта, не имеющая своим предметом известный конец блага, не должна и называться философскою сектой. Поэтому, когда стоит вопрос о социальной жизни: должен ли мудрый относиться к ней так, чтобы высочайшего блага, кото-
О граде Божием 999
рое делает человека блаженным, желать и добиваться столько же для своего друга, сколько и для себя самого, или то, что делает, делать только для собственного блаженства, — то вопрос здесь ставится не о самом высочайшем благе, а о принятии или непринятии к участию в нем союзника, причем не ради принимающего, а ради того же союзника, чтобы радоваться его благам так же, как своим собственным. Точно так же, когда ставится вопрос о новых академиках, сомневающихся во всем: так ли смотреть на вещи, составляющие предмет философии, как смотрят они, или мы должны считать их достоверными, как полагают другие философы, — вопрос ставится не о том, к чему следует стремиться, как к концу блага, а о том, следует или не следует сомневаться в действительности самого блага, составляющего предмет стремления, то есть, говоря яснее, следует ли стремиться к нему так, чтобы стремящийся считал его истинным, или так, чтобы стремящийся считал его кажущимся ему истинным, хотя бы оно могло быть и ложным; в том и другом случае предметом стремления будет одно и то же благо. Да и в том различии, которое привносится от образа жизни и обычаев киников, не ставится вопрос о том, в чем конец блага, а о том, следует ли этого образа жизни и обычаев держаться тому, кто стремится к истинному благу, что бы он ни избирал и к чему бы ни стремился как к истинному благу. И в самом деле, были люди, которые, хотя и принимали за конечные для себя блага различные предметы: одни добродетель, другие похоть, — однако держались одного и того же образа жизни и обычаев, по которым носили название киников. Таким образом то, что единственно отличает философов–киников от остальных, вовсе не имеет значения при выборе и достижении блага, которое делало бы их блаженными. Имей оно при этом какое–нибудь значение, образ жизни, без всякого сомнения, невольно приводил бы к известному концу, а иной образ жизни не позволял бы достигать этого конца.
Блаженный Августин 1000
ГЛАВА II
И относительно упомянутых выше трех родов жизни, — одного не бездеятельного в строгом смысле (слова), а посвященного созерцанию или изысканию истины; другого деятельного, посвященного ведению дел человеческих; и третьего, образованного из того и другого родов, — и относительно этого, когда ставится вопрос, что из этого предпочтительней, спора о конце блага не бывает, а все сводится к тому, что из этих трех затрудняет или облегчает достижение конца блага. Ибо конец блага, коль скоро кто–либо достигает его, сразу же делает человека блаженным. В ученом же досуге, равно как и в публичной деятельности или в чередовании того и другой, никто сразу не становится блаженным. Многие могут вести тот или другой из указанных трех родов жизни и в то же время заблуждаться в стремлении к конечному благу, делающему человека блаженным.
Итак, одно дело вопрос о конце благ и конце зол, дающий начало отдельным философским сектам, и совсем другое — вопросы об общественной жизни, о сомнении академиков, об одежде и образе жизни киников, о трех родах жизни — созерцательном, деятельном и образованном из того и другого; ни в одном из этих последних не идет речь о конце благ и зол. А так как Марк Варрон путем прибавления этих четырех различий, т. е. заимствованных из общественной жизни, от новых академиков, от киников и от указанных трех родов жизни, довел число сект до двухсот восьмидесяти восьми, то (хотя подобным же образом можно было бы прибавить к ним и еще какие–либо другие), устранив их все, как не относящиеся к вопросу об искомом высочайшем благе и потому не представляющие из себя сект и не могущие носить названия последних, Варрон возвращается к тем двенадцати, которые ставят вопрос о том, что такое благо человека, с достижением которого он
О граде Божием 1001
делается блаженным, чтобы из числа их указать одну истинную, а прочие отнести к ложным.
Действительно, с устранением известного троякого рода жизни число сект уменьшается на две трети и их остается девяносто шесть. С устранением же различия, заимствованного от киников, число уменьшается еще наполовину и остается сорок восемь. Отбросим затем добавленное от новых академиков, еще раз получится в остатке половина, т. е. двадцать четыре. Подобным же образом отбрасывается различие, привносимое из социальной жизни, и остается двенадцать сект, которые тем отличием удваивались, обращаясь в двадцать четыре. Относительно этих двенадцати уже нельзя ничего сказать, почему бы не следовало считать их сектами. В них, действительно, вопрос идет ни о чем другом, как о конце благ и зол. Раз конечные блага найдены, противоположное им само собою представляет конец зол.
Но чтобы образовались эти двенадцать сект, были утроены известные четыре: похоть, покой, то и другое вместе и начала природы, которые Варрон называет первородным (рптщеша)*. Ибо когда эти четыре вещи, каждая отдельно, то подчиняются добродетели, так что представляются желательными не ради самих себя, а для служения добродетели, то предпочитаются ей, так что добродетель считается необходимой не ради нее самой, а для достижения и сохранения тех; то уравниваются, так что и добродетель и они полагаются одинаково желательными ради них самих; они утраивают свое четверное число и доходят до двенадцати сект. Но из четырех этих вещей Варрон устраняет три, а именно: похоть, покой и совместно то и другое не потому, чтобы не одобрял их, а потому, что первородное природы совмещает в себе и похоть, и покой. Зачем, в самом деле, из этих двух делать какие–то три (разумею две, когда пред-
*Слс.,НЬ.11.с1еРт1Ъи5.
Блаженный Августин 1002
мегом стремления называются отдельно похоть или покой, и третью — когда то и другое вместе), если начала природы содержат в себе кроме этого и многое другое? Итак, Варрон решил подвергнуть тщательному исследованию три секты, чтобы определить, какая из них должна считаться более предпочтительной. Ибо истинный разум допускает существование только одной истинной, находится ли она в числе этих трех или где–либо помимо их, как это увидим после. Покажем теперь с возможной краткостью и ясностью, как Варрон из этих трех сект выбирает одну. Напомним, что эти три секты образуются когда или начала природы бывают предметом стремления ради добродетели, или добродетель ради начал природы, или то и другое, т. е. добродетель и начала природы, ради них самих.
ГЛАВА III
Итак, что из этих трех истинно и должно быть обращено в правило жизни, Варрон старается доказать следующим образом. Во–первых, поскольку в философии предмет исследования составляет высочайшее благо не дерева или животного и не Божие, а человеческое, то он полагает, что следует определить, что такое сам человек. В природе человека он различает нечто двойственное, тело и душу, и из этих двух не сомневается признать во всех отношениях лучшей и превосходнейшей душу; но ставит вопрос: одна ли душа составляет человека, так что тело служит ей как конь всаднику? Всадника ведь составляет не человек и конь, а один человек; хотя потому человек и называется всадником, что имеет известное отношение к коню. Или человека составляет одно тело, имеющее известное отношение к душе, как стакан к напитку: ибо не сосуд и вместе с ним напиток, который содержится в сосуде, называется стаканом, но только
О граде Божием 1003
один сосуд; хотя он и называется так потому, что приспособлен к содержанию напитка. Или же человека образует и не одна душа, и не одно тело, а то и другое вместе, так что одна душа или одно тело составляют только его часть, сам же он весь, чтобы быть человеком, состоит из той и другого; подобно тому, как двух запряженных вместе коней мы называем парою, из которых как правый, так и левый составляют часть пары, но парой из них мы называем не одного, в каком бы отношении к другому он ни находился, а обоих вместе.
Из этих трех Варрон избирает последнее, третье, и полагает, что человека составляет не одна душа и не одно тело, а то и другое вместе. Поэтому он утверждает, что и высочайшее благо человека, делающее его блаженным, состоит из благ того и другого, т. е. души и тела. А потому думает, что начала природы должны быть желательны ради самих себя, так же как и добродетель, которую придает наука в качестве искусства жизни, но которая из благ душевных представляет собою превосходнейшее благо. Ибо добродетель эта, т. е. искусство жить, приняв начала природы, бывшие без нее и существовавшие и тогда, когда науки при них еще не было, обращает в предмет своего стремления как их, так и саму себя; всеми ими и собою она пользуется вместе так, что всех любит и во всех находит удовольствие, большее или меньшее, смотря по сравнительно большему или меньшему значению каждого; но находя удовольствие во всех, порою меньших по значению, если того требует необходимость, пренебрегает ради достижения большего. Ни одного, однако же, из всех возможных душевных и телесных благ добродетель не предпочитает самой себе. Она пользуется надлежащим образом и собою, и остальными благами, делающими человека блаженным. Но где ее нет, там хотя бы и было много благ, но блага эти не во благо тому, чьи они; а потому и не должны называться бла-
Блаженный Августин 1004
мегом стремления называются отдельно похоть или покой, и третью — когда то и другое вместе), если начала природы содержат в себе кроме этого и многое другое? Итак, Варрон решил подвергнуть тщательному исследованию три секты, чтобы определить, какая из них должна считаться более предпочтительной. Ибо истинный разум допускает существование только одной истинной, находится ли она в числе этих трех или где–либо помимо их, как это увидим после. Покажем теперь с возможной краткостью и ясностью, как Варрон из этих трех сект выбирает одну. Напомним, что эти три секты образуются когда или начала природы бывают предметом стремления ради добродетели, или добродетель ради начал природы, или то и другое, т. е. добродетель и начала природы, ради них самих.
ГЛАВА III
Итак, что из этих трех истинно и должно быть обращено в правило жизни, Варрон старается доказать следующим образом. Во–первых, поскольку в философии предмет исследования составляет высочайшее благо не дерева или животного и не Божие, а человеческое, то он полагает, что следует определить, что такое сам человек. В природе человека он различает нечто двойственное, тело и душу, и из этих двух не сомневается признать во всех отношениях лучшей и превосходнейшей душу; но ставит вопрос: одна ли душа составляет человека, так что тело служит ей как конь всаднику? Всадника ведь составляет не человек и конь, а один человек; хотя потому человек и называется всадником, что имеет известное отношение к коню. Или человека составляет одно тело, имеющее известное отношение к душе, как стакан к напитку: ибо не сосуд и вместе с ним напиток, который содержится в сосуде, называется стаканом, но только
О граде Божием 1005
мы точнее называем ангелами. При этом отрицают всякое сомнение относительно конца благ и зол и утверждают, что именно в этом и заключается различие между ними и новыми академиками и что они не придают никакого значения тому, философствует ли кто в этом направлении, признаваемом ими за истинное, придерживаясь обычаев и образа жизни киников или каких–либо других (философов). Наконец, из трех вышеупомянутых родов жизни: чуждого деятельности, деятельного и образующегося из того и другого, они высказывают предпочтение третьему. Так думали и учили древние академики: Варрон утверждает это со слов Антиоха, бывшего учителем Цицерона и его, хотя Цицерон представляет Антиоха скорее стоиком, чем древним академиком. Но что до этого нам, для которых гораздо важнее рассмотреть само дело, чем знать, кто и чему придавал особое значение относительно людей.
ГЛАВА IV
Если бы спросили нас, что на каждый из рассматриваемых вопросов ответит град Божий, и прежде всего — что думает он о конце благ и зол, то он ответит, что высочайшее благо есть вечная жизнь, а величайшее зло — вечная смерть; для приобретения первой и избежания последней нам следует жить праведно. Поэтому написано: «Праведный верою жив будет» (Аввак. И, 4; Рим. I, 17; Гал. III, 12; Евр. X, 38). Так как блага своего мы еще не видели, то и нужно, чтобы искали его верой; да и сама праведная жизнь для нас не по нашим силам, если по нашей вере и молитвам не поможет нам Тот, Кто дал нам саму веру, в силу которой мы веруем, что Он должен нам помочь. Те же, которые думали, что конец благ и зол лежит в настоящей жизни, полагая высочайшее благо или в теле, или в душе, или в том и другой вместе, а говоря чест-
Блаженный Августин 1006
нее: или в похоти, или в добродетели, или в той и другой вместе; или в покое, или в добродетели, или в том и другой вместе; или совместно в похоти, в покое и в добродетели; или в началах природы, в добродетели и вместе в тех и другой, — те по удивительному пус–томыслию хотели быть блаженными здесь и сами собою. Смеется над ними истина через пророка, который говорит: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. ХС1 П, 11), или как привел это свидетельство апостол Павел. — «Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (I Кор. III, 20).
Ибо кто в состоянии, каким бы даром красноречия он ни обладал, изобразить несчастья настоящей жизни? Оплакивал ее Цицерон в утешении по случаю смерти дочери, оплакивал, как мог; но как велико было то, что он мог? Эти так называемые начала природы: когда, где и каким образом могут сохраняться они в этой жизни столь хорошо, чтобы не подвергаться влиянию непредвиденных случайностей? Какое страдание, противоположное похотливому наслаждению, какое беспокойство, противоположное покою, не может обрушиться на тело мудрого? Отнятие или увечье человеческих членов уничтожает их целостность, уродство — их красоту, болезнь — здоровье, изнурение — силы, вялость или оцепенение — подвижность; что из всего этого не может случиться с телом мудрого? Прямое положение и движение тела, как приличные и соответствующие, считаются в числе начал природы; но что, если какая–нибудь болезнь приведет члены в состояние дрожи? Что, если спинной хребет согнется до того, что руки опустятся до земли, обратив человека некоторым образом в четвероногое животное? Не извратит ли это совершенно положение и движение тела и его красоту? А первородное самой души, так называемые блага ее, между которыми, имея в виду понимание и восприятие истины, прежде всех полагают чувство, если, умалчивая о другом, человек сделался глухим и
О граде Божием 1007
слепым? А куда девается, где засыпает разум и рассудок, если от какой–нибудь болезни человек впадает в безумие? Когда сумасшедшие говорят или делают множество глупостей, очень часто чуждых и даже противоположных своим добрым намерениям и нравам, мы, слыша о том или видя, едва удерживаемся или даже вовсе не можем удержаться от слез, если серьезно над этим задумаемся. А что скажу я о тех, которые подвергаются нападениям демонов? Где у них скрыт или зарыт собственный смысл, когда душою и телом их пользуется по своей воле злой дух? И кто поверит, что подобное зло не может приключиться в этой жизни с мудрым? Затем, какого свойства или какого объема восприятие истины в этой плоти, когда, как читаем в правдивой книге Мудрости, «тленное тело отягощает душу, и земное жилище обременяет многозаботливый ум» (Прем. IX, 15)?
Далее, порыв к действительности, или 1треШ5 (если этим словом правильно выражается по–латы–ни то, что греки называют ОРЦ–ПУ), — так как и считают между начальным благом природы, — разве не он же и представляет собою то, чем управляются жалкие движения безумных и те действия, которые наводят на нас ужас, когда извращается смысл и усыпляется разум?
Затем сама добродетель, которой нет в числе начал природы, так как она присоединяется к ним после при посредстве науки, —- добродетель, усвояющая себе высшее место между человеческими благами, — чем другим она здесь занята, как не беспрерывной войною с пороками, не внешними, а внутренними, не чужими, а нашими собственными? В первую очередь это относится к добродетели, которая по–гречески называется аахрроогпть а по–латыни сетрегапиа (воздержание, целомудрие), которою обуздываются телесные похоти, чтобы не располагали души к со–умышлению на какие–либо постыдные дела. Это ведь действительный порок, если апостол говорит так:
Блаженный Августин 1008
«Плоть желает противного духу»; и пороку этому противодействует добродетель, если он же говорит так: «А дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. V, 17). А что хотим мы творить, когда желаем достигнуть конца высочайшего блага, как не то, чтобы плоть перестала страстно желать противного духу, чтобы в нас не существовало этого порока, которому противится своими желаниями дух? Хотя мы этого и хотим в настоящей жизни, но поскольку выполнить этого не в состоянии, с помощью Божией успеваем по крайней мере в том, что похотствующей против духа плоти не уступаем с покорностью со стороны духа и не допускаем увлечь себя к совершению греха с сочувствием ему со своей стороны. Итак, пока мы находимся в этой внутренней войне, мы должны быть далеки от мысли, будто достигли уже того блаженства, которого желаем достигнуть победой. И есть ли кто–нибудь до такой степени мудрый, что не имел бы решительно никакого столкновения с похотью?
А та добродетель, которая называется благоразумием? Не вся ли ее бдительность направлена на определение различия между добром и злом, чтобы не сделать какой–нибудь ошибки в стремлении к первому и в избежании последнего? А потому и она служит доказательством, что или мы живем во зле, или зло живет в нас. Ибо она учит нас, что зло состоит в сочувствии, а благо — в несочувствии похоти и греху. Само же это зло, которому благоразумие учит не сочувствовать, а воздержание дает такую возможность, ни благоразумие, ни воздержание не искореняют, однако, из этой жизни. А справедливость, состоящая в том, чтобы воздать каждому то, что суть его (откуда и в самом человеке проявляется некоторый естественный порядок справедливости, по которому душа подчиняется Богу, плоть — душе, а через это и плоть и душа — Богу), не показывает ли она, что скорее истощает свои силы в этом деле, чем приво-
О граде Божием 1009
лит его к благополучному завершению? Ибо душа тем менее подчиняется Богу, чем менее представляет Бога в своих помышлениях; и тем меньше душе подчиняется плоть, чем более желает противного духу. Итак, пока присуща нам эта болезнь, эта язва, эта слабость, каким образом мы можем считать себя здоровыми? А если мы еще нездоровы, каким образом осмелимся называть себя уже блаженными тем конечным блаженством? Да и та добродетель, имя которой мужество, при какой угодно мудрости служит очевиднейшим свидетельством человеческих зол, которые она вынуждена переносить с терпением.
Относительно этих зол философы–стоики с удивительным бесстыдством утверждают, что они не суть зло, признаваясь между тем, что если они будут так велики, что мудрый или будет не в состоянии, или не должен будет выносить их, то они могут вынудить его самому себе причинить смерть и переселиться из этой жизни. В этих людях, полагающих, что конец блага здесь и что блаженными делаются они сами собою, так велика гордая тупость, что хотя бы их мудрец, каким они представляют его себе в своем удивительном пустомыслии, и ослеп, оглох, онемел, потерял члены, подвергся страданиям, и хотя бы обрушилось на него другое подобное бедствие, которое можно назвать или придумать, чтобы принудить его к самоубийству, они и такую бедственную жизнь не стыдятся называть блаженной. Нечего сказать, блаженная жизнь, которая, чтобы покончить с собою, обращается за помощью к смерти! Если она блаженна, пусть продолжают ее; если же по причине указанных зол от нее убегают, каким образом она блаженна? Или каким образом не суть зло эти бедствия, которые преодолевают благо мужества и это самое мужество заставляют не только уступать себе, но и доходить до такого бессмыслия, чтобы ту же самую жизнь и называть блаженной, и убеждать избегать ее? Кто слеп до такой степени, чтобы не видеть,
Блаженный Августин 1010
что если она блаженна, то избегать ее не следует? А если они признают, что ее следует избегать по причине давящего ее гнета слабости, то почему бы им, склонив гордую голову, не признаться, что она вместе с тем и несчастна? Скажите, ради Бога, знаменитый Катон убил себя вследствие терпения или нетерпения? Не сделал бы он этого, если бы терпеливо перенес победу Цезаря. Где же мужество? Оно уступило, оно ослабело, оно до такой степени было побеждено, что он оставил блаженную жизнь, бросил ее, бежал. Или она уже не была блаженной? В таком случае она была несчастна. Каким же образом эти бедствия не были злом, когда они обратили жизнь в несчастную и заставили избегать ее?
Толковее говорят те, которые признают эти бедствия действительным злом, как перипатетики и древние академики, секту которых защищает Вар–рон. Но и они заблуждаются, утверждая, что жизнь все же остается блаженной и при этих бедствиях, хотя бы они были так тяжки, что заставили бы терпящего их обратиться к самоубийству, чтобы избежать их. «Страдания и телесные муки, — говорит он, — суть действительное зло, и зло тем худшее, чем сильнее они бывают! Чтобы ты освободился от них, нужно бежать из этой жизни». Из какой же жизни, скажите, ради Бога? Из этой, отвечает, которую гнетут столь великие бедствия. Выходит, таким образом, что она блаженна при этих самых бедствиях, по причине которых, по твоим словам, от нее следует бежать? Или ты называешь ее блаженною потому, что она дозволяет тебе освободиться от этих зол посредством смерти? Ведь если бы, в самом деле, какими–нибудь божественными судьбами ты остался при них и не было бы дозволено тебе ни умереть, ни когда–нибудь освободиться от них, ты, конечно, назвал бы тогда подобную жизнь несчастной. В таком случае она не перестает быть несчастной только лишь потому, что легко оставляется; будь она вечной, ты и сам признал
О граде Божием 1011
бы ее несчастной. Итак, не следует отрицать несчастья на том основании, что оно кратковременно; или, что еще бессмысленнее, на том основании, что несчастье коротко, называть его даже блаженством.
Велика сила тех зол, которые принуждают чело-| века, по их мнению, даже мудрого, отнимать у самого себя то, что составляет человека. Сами же они говорят, и говорят справедливо, что в своем роде первый и сильнейший голос природы внушает человеку, чтобы он ладил сам с собою, и потому, естественно, избегал смерти; что он друг себе до такой степени, что хочет быть одушевленным существом, | хочет жить в этом соединении души и тела и горячо стремится к этому. Велика сила тех зол, которые побеждают это естественное чувство, избегающее смерти всяческим образом, всеми силами и средствами; и .побеждаеттак, что избегаемое становится предметом (желания, домогательства, и если не случится откуда-| нибудь со стороны, наносится самому себе самим же [человеком. Велика сила тех зол, которые делают му-|жество человекоубийцей; если, впрочем, следует нарывать мужеством то, что побеждается злом до такой [степени, что человека, которого в качестве доброде-|тели приняло для управления и охранения, не толь-|ко не в состоянии уберечь посредством терпения, но Вдаже само вынуждает убить. Правда, мудрый должен ггерпеливо перенести и смерть, но такую, которая |случится со стороны. Если же, по их мнению, он мо–кет быть вынужден нанести ее себе сам, то они во всяком случае должны сознаться, что то не только зло, «но и невыносимое зло, что вынуждает его решиться на это.
Итак, жизнь, которая подавляется гнетом столь великих и тяжких зол или подвержена их случайностям, ни в каком отношении не называлась бы блаженной, если бы говорящие это люди, как уступают они несчастью, когда, побежденные отягощающими бедствиями, сами себе наносят смерть, так же точно со-
Блаженный Августин 1012
благоволили бы сделать уступку истине, побеждаемые несомненными доводами при рассуждениях о блаженной жизни; они и не думали бы, что им возможно достигнуть конца высочайшего блага в этой смертности, где сами добродетели, в сравнении с которыми действительно ничего здесь не оказывается в человеке лучшего и полезнейшего, сколько служат великим пособием против угрожающих опасностей, столько и являются несомненным свидетельством бедствий.
Но если добродетели суть добродетели истинные, возможные лишь в тех, кому присуще истинное благочестие, — они не станут обещать, что могут сделать то, что люди, которым они присущи, не будут терпеть никаких бедствий; истинные добродетели не лживы, чтобы обещать это; они скажут открыто, что жизнь человеческая, которую столько и таких зол настоящего века вынуждают быть несчастной, блаженна, равно как и невредима, надеждою будущего века. Ибо как ей быть блаженной, когда она еще и не невредима? Поэтому и апостол Павел не о людях неблагоразумных, нетерпеливых, невоздержанных и неправедных, а о тех, которые жили по истинному благочестию и потому имели, какие у них были, добродетели истинные, говорит: «Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. VIII, 24, 25). Таким образом, как надеждою мы спасены, так надеждою же облаженствованы; и как спасением, так и блаженством мы не обладаем уже, как настоящими, а ожидаем их, как будущие; а это и есть «в терпении», потому что мы находимся в бедствиях, которые должны переносить терпеливо, пока не достигнем тех благ, где будет все, что будет доставлять нам несказанное удовольствие, и не будет уже ничего, что мы должны будем переносить. Те философы не хотят верить этому блаженству, так как
О граде Божием 1013
не видят его; а усиливаются сколько гордою, столько же и лживою добродетелью создать для себя здесь фальшивое (блаженство).
ГЛАВА V
А что они представляют жизнь мудрого жизнью общественной, то мы, со своей стороны, даем этой мысли еще более широкое развитие. Ибо этот град Божий, о котором у нас под руками вот уже девятнадцатая книга настоящего сочинения, откуда получил бы свое начало, как продолжил бы свое существование и каким образом достигал бы должного конца, если бы жизнь святых не была общественной? Но кто в сочинении исчислит, кто в силах взвесить, скольким и каким злом переполнено общество человеческое в этой бедственной смертности? Пусть послушают, как у их комиков человек с общим человеческим чувством и сочувствием говорит:
Взял, я жену себе, то–то узнал я беду! Дети роди/шея, вот вам другая забота'.
А те пороки, связанные с любовью, которые перечисляет тот же Теренций:
Обиды,
Ревность и злоба, затем перемиръе, Снова война и опять кратковременный мир»;
не переполнили ли они повсюду человеческие отношения? Не встречаются ли они почти всегда даже в почтенных взаимных привязанностях друзей? Не наполняют ли они вообще человеческие отношения.
Блаженный Августин 1014
так, что обиды, ревность, злобу, войну мы чувствуем в них как зло, не подлежащее никакому сомнению, а мир — как благо сомнительное, потому что не знаем сердца тех, с кем желали бы жить в мире? Да если бы и могли знать сегодня, не можем знать, каким оно будет завтра. Кто, в самом деле, обыкновенно бывает или должен быть дружественнее между собою тех, которые входят в состав одной семьи? А между тем, кто может быть уверен в своей безопасности с этой стороны, когда тайное коварство членов семьи часто бывало причиной столь великих зол, — зол тем более горьких, чем приятнее был мир, принимаемый за мир истинный в то время, как был делом лукавейшего притворства? Потому–то это поражает сердца всех до такой степени, что мы явственно слышим стон в словах Туллия: «Нет ко–варств более скрытых, чем те, которые таятся под притворным видом долга или под каким–нибудь именем родства. Открытого врага ты можешь избежать легко, принимая меры предосторожности; это же, скрытое, домашнее и семейное зло не только существует, но и поражает тебя прежде, чем ты будешь в состоянии предостеречься и заметить его»*. Поэтому же без глубокой сердечной скорби нельзя слышать известных божественных слов: «Враги человеку — домашние его» (Мф. X, 36). Хотя бы кто и был столь мужественен, что равнодушно бы перенес, или так бдителен, что предусмотрительно принятыми мерами избежал бы того, что замышлялось против него под личиною дружбы; однако если сам он — человек добрый, зло таких вероломных людей, когда он по опыту узнает, что они люди самые дурные, поневоле будет жестоко его мучить независимо от того, были ли они дурными всегда и только притворялись добрыми, или изменили свою доброту на эту злость. Итак, если
О граде Божием 1015
небезопасно семейство, это общее убежище рода человеческого в бедствиях настоящей жизни, то что сказать о гражданском обществе, суды которого, чем оно больше, тем более обременены гражданскими тяжбами и уголовными делами, хотя бы и не возникало не только мятежных, но часто и кровавых возмущений и междоусобных войн, от действительного появления которых общества иногда бывают свободны, но от опасности появления не бывают свободны никогда?
ГЛАВА VI
А суды людей о людях, неизбежные в гражданских обществах, в каком бы мире они ни находились: каковы они, как жалки, какое представляют собою скорбное зрелище! Ведь судят те, которые не могут знать совести тех, кого судят. Поэтому часто бывают вынуждены пытками свидетелей отыскивать истину по чужому для свидетелей делу. А когда кто–нибудь подвергается пыткам по собственному делу, и терзают его, доискиваясь, виноват ли он, и он, будучи невинным, терпит слишком ведомые казни за неведомое злодеяние не потому, что он совершил его, а потому, что не знают, что он его не совершал? Неведение судьи почти всегда бедствие для невинного. А что еще невыносимее, что должно еще более вызывать скорбь и быть омыто, если бы только это было возможно, потоками слез, — так это такое несчастное последствие человеческого неведения, когда судья, подвергнув обвиняемого пытке для того, чтобы не убить по неведению невинного, убивает истерзанного пытками и невинного, кого пытал, чтобы не убить без вины. Предпочти последний согласно их мудрости скорее убежать из этой жизни, чем терпеть упомянутые пытки, он сказал бы этим, что совершил то, чего не совершал. Осудив и
Блаженный Августин 1016
убив его, судья еще не знает, виновного или невиновного он убил, пытая, чтобы не убить по неведению без вины; и выходит, что он терзал невинного, чтобы узнать, и убил потому, что не знал.Будет ли мудрый в этом мраке общественной жизни отправлять должность судьи, или не будет? Будет, конечно. Его привязывает, его влечет к этой должности человеческое общество, изменить которому он считает преступлением, но при этом он не считает преступлением, что невинные свидетели подвергаются пыткам по чужим делам; что обвиняемые, часто не вынося страданий и давая о себе ложные показания, подвергаются и наказаниям без вины после того, как без вины подвергались пыткам; что если они и не наказываются смертью, то очень часто умирают от самих пыток; что иногда и сами обвиняющие, желавшие, быть может, принести пользу человеческому обществу (чтобы преступления не оставались безнаказанными), вследствие лжи свидетелей, вследствие необыкновенной твердости в пытках самого виновного, подвергаются от судьи по неведению осуждению потому, что не в состоянии доказать того, в чем обвиняют, хотя бы обвиняли и справедливо. Все это и подобное этому зло он грехом не считает, потому что мудрый судья делает это не по желанию вредить, а по необходимости неведения; а насколько вынуждает к этому человеческое общество, и по необходимости суда. Итак, если это — не злость мудрого, то, по крайней мере, бедствие человека, о котором мы говорим. Или для него, когда по необходимости неведения и суда он терзает пытками и казнит невинных, мало быть неответственным, а нужно быть еще и блаженным? Насколько справедливее и достойнее человеку признаться в этой необходимости бедствия и ненавидеть его в себе, а если он мудрствует благочестиво, восклицать к Богу: «Выведи меня из бед моих» (Пс. XXIV, 17)!
О граде Божием 1017
За гражданским обществом или городом следует государственный союз, в котором видят третью степень человеческого общения, начиная от семьи, переходя к городу и оканчивая государством; последнее, как собрание вод, чем обширнее, тем большую представляет опасность. Прежде всего в нем отчуждает человека от человека различие языков. Ибо, если встретятся, не будучи в состоянии разойтись, но вынужденные какой–нибудь необходимостью быть вместе двое таких, из которых один не знает языка другого, то легче вступят во взаимное между собою общение бессловесные животные различной породы, чем эти двое, хотя оба они и люди. Такое сходство природы нисколько не благоприятствует общению людей, коль скоро они вследствие различия языков бывают не в состоянии делиться между собою чувствами; и это справедливо до такой степени, что человек охотнее проводит время со своею собакой, чем с чужим человеком. Установился порядок, по которому повелевающий город путем мирных отношений налагает на покоренные народы не только иго, но и свой язык; почему в переводчиках не только нет недостатка, но чувствуется даже изобилие. Это верно; но сколькими и какими великими достигнуто это войнами, какими людскими поражениями, каким пролитием человеческой крови? С окончанием последних не окончилась, однако, тяжесть того же рода зол. Кроме того, что были и остаются врагами народы внешние, против которых всегда велись, ведутся и будут вестись войны, сама обширность империи породила войны худшего свойства, т. е. союзнические и гражданские; они лежат на человеческом роде еще более тяжким гнетом, ведутся ли для того, чтобы когда–нибудь прекратиться, или составляют предмет опасения, как могущие возникнуть снова.
Блаженный Августин 1018
Если бы я захотел надлежащим образом изложить множество и разнообразие бедствий от этих зол, их тяжелые и несчастные последствия, хотя изложить их так, как требует того дело, я и не в состоянии, будет ли конец моей длинной речи? Но мудрый, говорят, будет вести войны справедливые, как будто бы он, если только помнит, что он человек, не гораздо более будет скорбеть, что ему необходимо вести справедливые войны; ведь если они не были бы справедливыми, ему не предстояло бы их вести, и в таком случае для мудрого войн не было бы вовсе. Несправедливость противной стороны вынуждает мудрого вести справедливые войны; и эта несправедливость должна вызывать скорбь в душе человека, потому что она несправедливость человеческая, хотя бы из–за нее и не возникало никакой необходимости начинать войну. Итак, кто с душевной болью вникнет в эти виды зла, такие тяжкие, такие ужасные, такие жестокие, тот признает в них бедствие. А кто терпит их или размышляет о них без душевной боли, тот уже по самому этому слишком жалок, когда считает себя блаженным, потому что потерял и само человеческое чувство.
ГЛАВА VIII
Если не случится незнания, похожего на глупость, которое, однако же, в несчастных условиях настоящей жизни случается часто, что другом считается враг, а врагом друг, — единственное, что утешает нас в этом человеческом обществе, переполненном ошибками и скорбями, это нелицемерная преданность и взаимная любовь между истинными и добрыми друзьями. Но чем больше и в больших местах мы их имеем, тем больше и чаще боимся, чтобы не случилось с ними какого–нибудь зла из этой массы зол настоящего века. Мы беспокоимся не только о том, чтобы они не пострадали от голода, войн, болезней, плена, чтобы в са-
О граде Божием 1019
мом том рабстве не потерпели чего–либо такого, чего мы и придумать не в состоянии; мы опасаемся даже (и опасения наши в этом случае гораздо более горьки), чтобы их дружба не перешла в вероломство, в злобу, в лукавство. И когда подобное случается (а случается тем чаще, чем их самих больше и в больших они находятся местах) и доходит до нашего сведения, кто в со–стоя1ши понять, кроме самого чувствующего, те муки, какие терзают наше сердце? Лучше бы мы желали слышать об их смерти; хотя без скорби мы не можем слышать и об этом. Ибо если жизнь их по причине утешений дружбы радовала нас, то их смерть не может не причинить нам печали. Не допускающий такой печали пусть не допускает, если может, дружеских разговоров; пусть запретит само чувство дружбы; пусть с дикой оцепенелостью души разорвет все человеческие связи или пусть укажет способ пользоваться ими так, чтобы из них не следовало никакой приятности для души. Если же это решительно невозможно, то как будет возможно то, чтобы нам не была горькою смерть того, чья жизнь была сладкой?
Оттого–то и сетование, как бы своего рода рана или вред в человеческом сердце, для излечения которой применяются соответствующие утешения. То не доказательство отсутствия раны, что она излечивается, потому что чем лучше душа, тем она скорее и легче излечивается. Итак, хотя жизнь смертных иногда легче, а иногда сильнее расстраивается смертью дорогих людей, а особенно таких, услуги которых необходимы человеческому обществу, однако нам желательнее видеть мертвыми тех, кого любим, чем слышать о потере ими честности или добрых нравов, т. е. о том, что они умерли в самой душе. Земля полна таким величайшим питательным веществом для зол. Поэтому написано: «Не определено ли человеку время на земле?»* (Иов. VII, 1). Поэтому же сам Господь
* У Августина: «Не искушение ли жизнь человеку на земле?»
Блаженный Августин 1020
говорит: «Горе миру от соблазнов» (Мф. XVIII, 7). И еще: «По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. XXIV, 12). Потому–то бывает так, что мы радуемся за добрых умерших друзей, и хотя смерть их нас печалит, но она дает и более верное успокоение, потому что они избежали зол, которые или подавляют в этой жизни даже добрых людей, или портят их, или грозят опасностью того и другого (рода).
ними вечное наказание. Это с достаточной ясностью | показали сами почитаемые ими тем священнослуже–зием или, вернее, святотатством, которым их считает должным почитать, и теми безнравственнейшими •играми, в которых прославляются их преступления, (которыми считали должным их умилостивлять; так •как они же и установители, и исполнители этих безобразий.
ГЛАВА IX
В обществе святых ангелов, которому те философы, пожелавшие иметь друзьями богов, отводят четвертое место, переходя как бы от круга земной жизни ко всей совокупности творения, чтобы через это объять некоторым образом и небо, — в этом обществе мы не боимся нисколько, чтобы подобные друзья опечалили нас своею смертью или порчей. Но ангелы не вступают с нами в такие тесные связи, как люди (что также относится к тяготам этой жизни), а иногда и сатана, как читаем, преобразуется в ангела света (II Кор. XI, 15), чтобы искушать тех, кого нужно таким образом научить или кого справедливо обольстить. Поэтому необходимо особое милосердие Божие, чтобы кто–либо в то время, как считает в числе своих друзей добрых ангелов, не имел на самом деле мнимыми друзьями злых демонов и терпел в их лице врагов тем более вредных, чем они хитрее и коварнее. И кому это особое милосердие Божие необходимо, как не крайне жалкому человеческому состоянию, на котором лежит такой гнет неведения, что оно легко обманывается демонским притворством? Нет никакого сомнения, что и те философы в нечестивом граде, которые утверждали, что имели богов своими друзьями, натолкнулись на злых демонов, которым подчиняется весь тот град, имея разделить вместе с
О граде Божием 1021
ними вечное наказание. Это с достаточной ясностью показали сами почитаемые ими тем священнослуже–зием или, вернее, святотатством, которым их считает должным почитать, и теми безнравственнейшими •играми, в которых прославляются их преступления, (которыми считали должным их умилостивлять; так •как они же и установители, и исполнители этих безобразий.
ГЛАВА Х
Не гарантированы от обманов и разнообразных искушений с их стороны и святые и верные почитатели единого истинного и высочайшего Бога. Ибо в этой стране изменчивости и в эти злые дни небесполезно и этого рода беспокойство, чтобы с тем более пламенным желанием стремились они к той безмятежности, где мир самый полный и самый надежный. Дары природы, т. е. то, что дается нашей природе Творцом всех природ, там будут уже не только добрыми, но и вечными; и не только в душе, которая излечится мудростью, но и в теле, которое обновится через воскресение. Добродетели там не будут вести войны против каких–нибудь пороков или против какого–либо зла, а будут пользоваться в награду за победу вечным миром, которого не нарушит никакой противник. Этот мир есть конечное блаженство, предел совершенства, не имеющий уже своего конца. Хотя мы называем себя блаженными и здесь, когда пользуемся миром, какой только возможен здесь при доброй жизни; но это блаженство по сравнению с тем, которое мы называем конечным, представляется весьма жалким состоянием. Когда мы, смертные люди в условиях смертной жизни имеем мир, какой только здесь возможен, то если надлежащим образом живем, добродетель пользуется его благами надлежащим образом; когда же не имеем его, доброде-
Блаженный Августин 1022
тель хорошо пользуется и тем злом, которое человек терпит. Но истинная добродетель есть тогда, когда и все блага, которыми пользуется хорошо, и все то, что делает при благом пользовании благами и бедствиями, и саму себя она направляет к тому концу, где для нас будет такой и столь великий мир, лучше и больше которого мир быть не может.
ГЛАВА XI
Поэтому концом наших благ мы можем назвать мир, как называли этим концом жизнь вечную: особенно ввиду того, что этому граду Божию, о котором ведется нами такое многотрудное рассуждение, говорится в святом псалме: «Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего. Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя; утверждает в пределах твоих мир» (Пс. СХЬУП, 1—3). Когда будут укреплены вереи врат его, никто уже в него не войдет, никто из него и не выйдет. А потому пределами его мы должны считать в этом случае мир, который хотим выставить конечным. Ибо и само таинственное имя этого града, Иерусалим, как мы уже говорили и прежде, в переводе значит «видение мира». Но так как слово мир очень часто употребляется и в условиях этой смертной жизни, где во всяком случае нет жизни вечной; то конец этого града, где будет высочайшее его благо, мы решили называть лучше жизнью вечною, чем миром. Об этом конце апостол говорит: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» (Рим. VI, 22).
Но, с другой стороны, так как те, которые мало знакомы со священным Писанием могут под вечной жизнью разуметь и жизнь злую, или по причине, как полагают и некоторые философы, бессмертия души, или по причине, как тому веруем и мы, бесконечнос-
О граде Божием 1023
ти наказаний для нечестивых, которые, само собой разумеется, не могли бы мучиться вечно, если бы не жили также вечно; то конец этого града, в котором он будет иметь высочайшее благо, следует называть или миром в жизни вечной, или жизнью вечной в мире, чтобы легче можно было отличать его от всего другого. Ибо благо мира так велико, что даже в условиях жизни земной и смертной обыкновенно ни о чем с большим удовольствием не слушают, ничего сердечнее не желают, да и ничего, наконец, лучшего найти не могут. Если мы решимся поговорить о нем несколько долее, то не наскучим, как я полагаю, своим читателям, как по причине конца этого града, о котором у нас речь, так и по причине самой приятности мира, который любезен всем.
ГЛАВА XII
Кто вместе со мною окинет беглым взглядом дела человеческие и природу вообще, признает, что как нет никого, кто отказался бы от радости, так нет никого, кто не захотел бы иметь мир. Те самые, которые желают войн, ничего другого не желают, кроме победы; желают, следовательно, достигнуть посредством войны славного мира. Ведь что такое победа, как не покорение сопротивляющихся. Когда это совершится, наступит мир. Итак, с целью мира ведутся и войны, даже теми, кто старается посредством гос–подствования войн упражнять воинскую доблесть. Отсюда ясно, что мир есть желательный конец войны. Ведя войну, всякий добивается мира; но никто, заключая мир, не добивается войны. Ибо и те, которые хотят нарушить мир, в котором находятся, не питают ненависти к миру, а желают изменить его по своему произволу. Не того хотят они, чтобы не было мира, а того, чтобы он был таким, каким им хочется его видеть.
Блаженный Августин 1024
Затем, и отделившиеся от других через возмущение, если не будут поддерживать хоть какого–нибудь мира со своими сообщниками или соучастниками в заговоре, не достигнут того, к чему стремятся. Да даже и разбойники, чтобы сильнее и безопаснее вредить миру других, стараются быть в мире с товарищами. Даже если бы нашелся между ними один, обладающий такими огромными силами и до такой степени опасающийся сообщников, что не доверился бы никакому товарищу, и, делая засады и нападения в одиночку, производил бы разбои сам, режа и убивая, кого мог; то и такой непременно сохранял бы какую–нибудь тень мира с теми, кого не может убить, или от кого желает, чтобы они скрывали его действия. В собственном же доме с женою, с детьми и со всеми другими, кто бы там ни был, он, конечно, старается жить в полном мире; исполнение ими его воли по одному его мановению доставляет ему удовольствие. Если этого повиновения не бывает, он раздражается, волнуется, настаивает на нем, и если это необходимо, устанавливает в своем доме мир путем самых свирепых мер; он понимает, что мир этот невозможен, если в домашнем союзе не будет все подчиняться одной известной власти, которую он и представляет собою в собственном доме. Поэтому если заявят ему о своей покорности очень многие, город или народ, и будут подчиняться ему так же, как он хотел, чтобы подчинялись ему в его доме, — он уже не будет прятаться в укромных местах в качестве разбойника, а поставит себя открыто в высокое положение царя, хотя в нем останутся та же жадность и та же злость. Итак, все желают быть в мире со своими, от которых хотят, чтобы они жили по их воле. Ибо, ведя с кем–либо войну, хотят сделать их, если возможно, своими, и, покорив их, наложить на них законы своего мира.
Но представим себе кого–нибудь таким человеком, какого изображает поэтический и сказочный рас-
О граде Божием 1025
сказ, именно по причине несовместимой с общежитием лютости выставляя его скорее получеловеком, чем человеком. Царством его была уединенная дикая пещера, а злость его была такой единственной в своем роде, что по ней дано было ему его имя; потому что зло по–гречески называется како^, и таковое имя он и имел. Никакая супруга не обращалась к нему и не отвечала ласковой речью; не было детей, с которыми он бы шутил, когда они были маленькими, или которым бы приказывал, когда подрастали. Не имел он удовольствия вести беседу ни с одним другом, даже с отцом, Вулканом, которого он был гораздо счастливее по крайней мере в том отношении, что сам не родил подобного чудовища. Ничего никому не он давал, но у кого мог и когда мог отнимал, что хотел и сколько хотел. Тем не менее, в самом уединении своей пещеры, земля которой, как описывается, была всегда тепла от только что совершенного убийства, он не желал ничего, кроме мира, — чтобы никто не докучал ему, чтобы чья–нибудь сила или страх перед кем–нибудь не тревожили его покой. Желал он, наконец, иметь мир со своим телом, и насколько имел, чувствовал себя хорошо. Держал он в повиновении свои члены; и когда его смертность возмущалась против него в случае недостатка в чем–нибудь и возбуждала мятеж голода с целью разорвать связь между душой и телом и удалить первую из последнего, он, с какою только мог поспешностью, умиротворял ее, грабил, убивал, пожирал; лютый и свирепый, он мир своей жизни и своего благосостояния отстаивал с той же лютостью и свирепостью. Следовательно, если бы тот мир, который он весьма старательно сохранял в своей пещере и с самим собою, желал он сохранять и с другими, — его не называли бы ни злом, ни чудовищем, ни получеловеком. Или, если от общения с ним удерживали людей наружный вид его тела и извергаемое из уст смрадное пламя, то возможно, что он свирепствовал не из страсти вре-
33 О граде Божием
Блаженный Августин 1026
дить, а по необходимости, ради поддержания жизни. Но его не было вовсе, или, что гораздо вероятнее, он не был таким, каким описывает его поэтический вздор. Не будь Какус выставлен с крайне дурной стороны, Геркулесу было бы мало чести.
Итак, подобного человека или получеловека, как я сказал, вероятнее всего, не существовало, как не было в действительности множества других поэтических вымыслов. Ибо и самые свирепые животные, от которых он заимствовал часть зверства (потому что назывался и по;гузверем), охраняют в известном мире свой род, совокупляясь, выводя, рождая, согревая и питая детей, хотя по большей части они не общительны и скитаются по одному, не как овцы, олени, голуби, скворцы, пчелы, а как львы, лисицы, орлы, сычи. Какой, например, тигр не мурлыкает потихоньку своим детям и не ласкает их, укротив свое зверство? Какой коршун, сколько бы в одиночку ни кружился в воздухе за добычей, не соединяется в пару, не вьет гнезда, не высиживает яйца, не кормит детенышей и не сохраняет в возможном мире как бы домашнего общения с матерью своего семейства? Тем более человек некоторым образом законами своей природы располагается к вступлению в общение и к сохранению мира, насколько это от него зависит, со всеми людьми; и когда злые ведут войну ради мира своих и желают, если это для них возможно, сделать своими всех, чтобы все и вся покорялись одному, то почему делается это, как не потому, что из любви или из страха они подчиняют свои действия его миру. Так гордость превратно возражает Богу. Ибо она ненавидит равенство с товарищами при подчинении Ему, но старается наложить на товарищей, вместо Него, свое господство. Ненавидит она правый мир Божий, а любит свой неправый. Не любить, однако же, какого–нибудь мира она никоим образом не может. Нет такого противоестественного порока, который изглаживал бы до конца следы природы.
О граде Божием 1027
Итак, что мир несправедливых по сравнению с миром праведных не может и называться миром, это ясно тому, кто умеет предпочитать правое неправому и упорядоченное превратному. Ведь и то, что превратно, в какой–нибудь части, какою–нибудь и с какою–нибудь частью чего–либо, в чем находится или из чего состоит, непременно умиротворено; иначе оно не существовало бы вовсе. Например, кто–нибудь висит головою вниз. Положение его тела и порядок членов, очевидно, превратны; потому что то, чему природа назначила быть вверху, оказывается внизу; а что по природе должно быть внизу, стало вверху. Превратность эта возмутила мир плоти, и потому болезненна. Тем не менее, душа находится в мире со своим телом и заботится о его спасении; а потому и есть, кто скорбит. А если бы вследствие болезненности душа отрешилась от тела, вышла из него, и тогда, пока удерживается связь членов, остающееся продолжало бы сохранять некоторый мир в своих частях: был бы еще тот, кто висит. И когда земное тело тянется на землю и удерживается петлею, на которой повешено, оно стремится к состоянию своего мира и как бы голосом своей тяжести просит места, на котором бы могло успокоиться; и бездушное уже, и лишенное всякого чувства, оно не меняет своего естественного мирного положения, когда достигнет его или будет в него приведено. Если будут применены врачебные средства и уход, который не допустит разложения и разрушения наружного вида трупа, и тогда некоторого рода мир будет соединять части с частями и всю массу приурочит к земному и соответствующему, а потому — покойному месту. Если же бальзамирование употреблено не будет, а будет все предоставлено естественному ходу, то труп как бы испытывает мятеж от разделившихся на партии и потому не соответствующих нашему чувству (ибо именно это ощущается в зловонии до тех пор, пока сольется со стихиями мира и по частям и понемногу
Блаженный Августин 1028
войдет в их мир). При этом ничто, однако же, не происходит помимо законов верховного Творца и Распорядителя, Который управляет миром всего; когда из трупа большого животного рождаются животные мелкие, в силу того же закона Творца всякий атом служит мирному благосостоянию их душонок; и когда тела умерших пожираются другими животными, они, куда бы ни растаскивались, с какими бы вещами ни соединялись, в какие бы вещи ни обращались и ни изменялись, встречают те же законы, во всем разлитые к благополучию всякого рода смертных, умиротворяющие соответствующее с соответствующим.
ГЛАВА XIII
Итак, мир тела есть упорядоченное расположение частей. Мир души неразумной — упорядоченное успокоение позывов. Мир души разумной — упорядоченное согласие суждения и действия. Мир тела и души — упорядоченная жизнь и благосостояние одушевленного существа. Мир человека смертного и Бога — упорядоченное повиновение в вере под вечным законом. Мир людей — упорядоченное единодушие. Мир дома — упорядоченное относительно управления и повиновения согласие сожительствующих. Мир града — упорядоченное относительно управления и повиновения согласие граждан. Мир небесного града — самое упорядоченное и едино–душнейшее общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге. Мир всего — спокойствие порядка. Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой ее место.
В силу этого несчастные, которые настолько несчастны, насколько не имеют мира, хотя и не пользуются таким спокойствием порядка, в котором не было бы никакого расстройства, однако, поскольку несчастны заслуженно и справедливо, не могут на-
О граде Божием 1029
ходиться в самом этом своем несчастье вопреки порядку, — не как соединенные с блаженными, а как отделенные от них, но — законом порядка. Насколько они находятся без расстройства (порядка), они соединены с вещами, среди которых находятся, каким ни есть согласием; поэтому у них есть некоторое спокойствие порядка; некоторый мир присущ и им. Но они потому несчастны, что, хотя при известном спокойствии не скорбят, но и не находятся, однако, в таком положении, в котором не должны были бы быть спокойными и скорбеть; еще же несчастнее они, если у них нет мира с самим законом, которым управляется естественный порядок. Когда же они скорбят, нарушение мира произошло в той части, со стороны которой они чувствуют скорбь; но мир остается еще в той части, где не мучит скорбь и не порвана еще сама связь. Следовательно, как есть некоторая жизнь без скорби, но скорбь без какой–нибудь жизни быть не может, так есть некоторый мир без всякой войны, но войны без какого–нибудь мира быть не может; это не в силу того, что она война, а в силу того, что она ведется теми или происходит в тех, которые представляют собою какие–нибудь естества; такими естествами они не могли бы ни в коем случае быть, если бы не пребывали в каком бы то ни было мире.
Поэтому существует естество, в котором вовсе нет зла или в котором невозможно никакое зло; но естества, в котором не было бы никакого добра, быть не может. И природа самого дьявола, насколько она природа, не есть зло; злою сделала ее развращенность. Итак, он в истине не устоял (Иоан. VIII, 44), но суда истины не избежал; не остался он в спокойствии порядка, но через это не ушел от власти Распорядителя. Благо Божие, которое у него в природе, не дало ему убежать от правосудия Божия, которое назначает его к наказанию; не то благо преследует в этом случае Бог, которое сотворил, а преследует зло, ко-
Блаженный Августин 1030
торое тот совершил. Ибо не все отнимает Он, что дал природе, но нечто отнял, нечто оставил, чтобы было чему скорбеть об отнятом. И сама скорбь есть свидетельство о благе Отнятом и о благе оставленном. Если бы благо не было оставлено, не была бы возможна скорбь о потерянном благе. Тот гораздо злее, кто, греша, находит удовольствие в потере правоты. А кто терзается, тот, если не получает от этого никакого блага, скорбит о потере благосостояния. А так как то и другое, правота и благосостояние, суть блага, и о потере блага, скорее, должно скорбеть, чем радоваться (если, впрочем, не имеет места вознаграждение утраты лучшим, а правота души лучше благосостояния тела), то несправедливому гораздо соответственнее скорбеть в мучении, чем радоваться в преступлении. Следовательно, как радость о потере блага в грехе свидетельствует о злой воле, так скорбь о потере блага во время наказания свидетельствует о доброй природе. Ибо кто скорбит о потере мира своей природы, скорбит об этом в силу некоторых остатков мира, которые делают ему любезной природу. При последнем же наказании будет прямым делом справедливости, чтобы несправедливые и несчастливые оплакивали в мучениях потерю благ естественных, чувствуя, что отнял эти блага справедливейший Бог, Которого они презрели, когда Он был благосклон–нейшим их подателем. Бог, премудрый Создатель и справедливейший Распорядитель всех природ, давший в смертном человеческом роде величайшее украшение земле, дал людям некоторые блага, соответствующие этой жизни, т. е. временный мир в самом благосостоянии, целости и общении его рода, и то, что необходимо для охранения и восстановления этого мира, каково суть все, что пристойно и соответственным образом подпадает нашим чувствам: этот видимый свет, удобовдыхаемый воздух, годную для питья воду; и что соответствует питанию, прикрытию, лечению и украшению тела, — дал при том
О граде Божием 1031
справедливейшем условии, что правильно воспользовавшийся такими смертными благами, приспособленными к миру смертных, получит большие и лучшие, т. е. мир бессмертия и соответствующую ему славу и честь в жизни вечной для наслаждения Богом и ближним в Боге, а воспользовавшийся дурно и тех не получит, и эти потеряет.
ГЛАВА XIV
Итак, всякого рода пользование временными вещами важно для приобретения земного мира во граде земном; а в граде небесном важно для приобретения мира вечного. Так, если бы мы были животными неразумными, мы не желали бы ничего, кроме упорядоченного состояния частей тела и успокоения позывов, — ничего, кроме покоя плоти и удовлетворения желаний, чтобы мир тела споспешествовал миру душевному. Ибо отсутствие телесного мира мешает и миру неразумной души, так как она не может достигнуть успокоения позывов. Вместе же то и другое благоприятствует тому миру, который имеют между собою душа и тело, т. е. миру упорядоченной жизни и благосостояния. Как обнаруживают животные свою любовь к миру телесному, когда избегают болезненных ощущений, и к миру душевному, когда для удовлетворения позывов следуют животной страсти; так, когда они избегают смерти, показывают с достаточной ясностью, насколько они любят мир, соединяющий взаимно душу и тело. Но поскольку человеку присуща разумная душа, то все то, что имеет общего с животными, он подчиняет миру разумной души, чтобы то или другое обсудить умом и соответственно этому что–либо сделать, чтобы было у него упорядоченное согласие суждения и действия, которое мы назвали миром души разумной. Желать, чтобы его не беспокоили болезненные ощущения, не
Блаженный Августин 1032
волновали потребности, не разрушала смерть, он должен для того, чтобы узнать что–либо полезное и соответственно этому познанию устроить свою жизнь и нравы.
А чтобы в самом стремлении к познанию не впасть по причине слабости человеческого ума в какое–либо гибельное заблуждение, он нуждается в божественном наставлении, которому с уверенностью мог бы следовать, и в божественной помощи, с которою свободно мог бы сообразовываться. И так как он, пока находится в этом смертном теле, странствует вдали от Господа, то ходит верою, а не видением (II Кор. V, 7); а потому всякий мир, тела ли, или души, или вместе тела и души, направляет к тому миру, который установился у человека смертного с Богом бессмертным, чтобы быть в упорядоченном повиновении Ему в вере под вечным законом. А так как наставитель–Бог учит двум главным заповедям: любви к Богу и любви к ближнему, то в этих двух заповедях человек находит три предмета для своей любви: Бога, себя самого и ближнего; и тот, кто любит Бога, не заблуждается в любви и к самому себе; естественно также, что он заботится, чтобы и ближний любил Бога, — ближний, которого повелевается ему любить как самого себя. Такого рода заботы его о жене, детях, о домашних, обо всех людях, кого могут касаться; и такого же рода забот о самом себе желает он от других, если встречает в таких заботах нужду.
Таким путем он будет в примирении, насколько это от него зависит, со всяким человеком и с миром человеческим, т. е. упорядоченным согласием; порядок же этот заключается, во–первых, в том, чтобы никому не вредить, а во–вторых, в том, чтобы приносить пользу, кому нужно. Итак, прежде всего ему предстоят заботы о своих домашних: они ближе и доступнее других его советам и попечениям в силу порядка природы, в силу порядка самого человеческого общения. Почему апостол и говорит: «Если же
О граде Божием 1033
кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (I Тим. V, 8). Отсюда возникает домашний мир, т. е. упорядоченное согласие относительно управления и повиновения сожительствующих. Управляют те, которые заботятся, как–то: муж — женою, родители — детьми, господа — рабами. Повинуются же те, о которых заботятся, как–то: жены — мужьям, дети — родителям, рабы — господам. Но в доме праведного, живущего верою и находящегося еще в странническом удалении от оного небесного града, и управляющие служат тем, кем, по–видимому, управляют. Ибо управляют они не из желания господствовать, а по обязанности заботиться, и не из гордого своего начальственного положения, а из сострадающей предусмотрительности.
ГЛАВА XV
Это предписывает естественный порядок, так создал человека Бог. «Да владычествуют, — говорит Он, — над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею» (Быт. I, 26). Он хотел, чтобы разумное по образу Его творение господствовало только над неразумным: не человек над человеком, а человек над животным. Поэтому первые праведники явились скорее пастырями животных, чем царями человеческими; Бог и этим внушал, чего требует порядок природы, к чему вынуждают грехи. Дается понять, что состояние рабства по праву назначено грешнику. В Писании мы не встречаем раба прежде, чем праведный Ной покарал этим именем грех сына (Быт. IX, 25). Не природа, таким образом, а грех заслужил это имя. Название же рабов (зет) на латинском языке имеет, по–видимому, такое происхождение: когда победители тех, кого по праву войны могли убить, оставляли в живых, последние делались рабами, получая название от сохране-
Блаженный Августин 1034
ния (зет а 5егуапс1о). Но и в этом случае не беспри–частен грех. Ведь и в то время, когда ведется справедливая война, ради греха подвергает себя опасности противная сторона, и всякая победа, хотя бы склонилась она и на сторону дурных, по божественному суду уничижает побежденных, или исправляя, или наказывая грехи. Свидетель этому — человек Божий Даниил, который, находясь в плену, исповедовал перед Богом свои грехи и грехи своего народа и в них с благочестивой скорбью указывал причину этого плена (Дан. IX, 5).
Итак, грех — первая причина рабства, по которому человек подчиняется человеку в силу своего состояния; и это бывает не иначе, как по суду Божию, у Которого нет неправды и Который умеет распределять различные наказания соответственно вине согрешающих. А так как верховный Господь говорит, что «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоан. VIII, 34), и потому многие благочестивые служат господам неправедным, которые сами, однако же, не свободны: «Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (II Пет. II, 19); то во всяком случае лучше быть рабом у человека, чем у похоти; ибо сама похоть господство–вания, чтобы не говорить о других, со страшной жестокостью опустошает души смертных своим гос–подствованием. В порядке же мира, по которому одни люди подчинены другим, как уничижение приносит пользу служащим, так гордость вредит господствующим. Но по природе, с которою Бог изначально сотворил человека, нет раба человеку или греху. Впрочем, и присужденное в наказание рабство определяется в силу того же закона, который повелевает сохранять естественный порядок и запрещает его нарушать; потому что, не будь проступка против этого закона, нечего было бы наказывать принуждением к рабству. Почему апостол увещевает и рабов подчиняться господам и служить им от души с готовностью (Ефес. VI, 6, 7), т. е. если они не могут полу-
О граде Божием 1035
чить от господ своих свободу, то сами они могут сделать служение свое некоторым образом свободным, служа не из притворного страха, а по искреннему расположению, пока прейдет неправда, упразднится всякое начальствование и власть человеческая и будет Бог все во всех.
ГЛАВА XVI
В связи с этим наши праведные отцы, хотя и имели рабов, устраивали, однако же, домашний мир так, что, отличая в отношении этих временных благ жребий детей от состояния рабов, в том, что касается почитания Бога, в Котором покоятся надежды вечных благ, с одинаковой любовью заботились обо всех членах своего дома. Это предписывается естественным порядком до такой степени, что отсюда произошло имя рагеггатШаз* и получило такое широкое применение, что сами господствующие находят удовольствие называться этим именем, пускай и не заслуженно.
Истинные отцы семейства во всем, что касается почитания Бога и служения Ему, заботятся обо всех членах семьи, как о детях, желая и молясь достигнуть дома небесного, где уже не будет необходимости в обязательном долге повелевать смертными, потому что не будет уже необходимости в обязательном долге заботиться о их счастье в том бессмертии. Пока же это наступит, господствование требует от отцов большего терпения, чем служение — от рабов. Если же кто–нибудь в доме противится домашнему миру своим неповиновением, такой укрощается или словом, или бичем, или другим справедливым и дозволенным родом наказания, насколько это допускает
* Отец «семейства», в состав которого входила и домашняя прислуга, и рабы.
Блаженный Августин 1036
человеческое общество, ради пользы самого укрощаемого, чтобы присоединить его к миру, от которого тот уклонился. Как не будет благодеянием, помогая, причинить потерю большего блага, так не будет делом невинным, щадя, допустить совершение более тяжкого зла. К обязанности человека невинного относится не только никому не делать зла, но и сдерживать от греха или наказывать грех, чтобы или сам наказуемый, испытав наказание, исправился, или другие, видя наказание, удерживались страхом перед ним. А так как дом человека должен быть началом или частичкою града, а всякое начало имеет известное отношение к своему концу и всякая часть — к целому, которого она составляет часть, то отсюда очевидно следствие, что домашний мир имеет отношение к миру гражданскому, т. е. что упорядоченное согласие относительно приказаний и повиновения между сожительствующими служит к установлению упорядоченного согласия относительно повеления и повиновения между гражданами. Отец семейства должен поэтому брать правила из гражданского закона и управлять согласно им своим домом так, чтобы он служил к упрочению мира гражданского общества.
О граде Божием 1037
ются вещами, необходимыми для этой смертной жизни; но цель пользования у каждого своя и весьма различная. Так же точно и земной град, который верою не живет, стремится к земному миру и к нему направляет согласие в управлении и повиновении граждан, чтобы относительно вещей, касающихся смертной жизни, у них был до известной степени одинаковый образ мыслей и желаний. Град же небесный, или, вернее, та его часть, которая странствует в этой смертности и живет верой, поставлен в необходимость довольствоваться и таким миром, пока минует сама смертность, для которой он нужен. Поэтому, пока он проводит как бы плененную жизнь своего странствования в областях земного града, хотя и получив уже обетование искупления и в виде залога его — дар духовный, он не колеблется повиноваться законам земного града, которыми управляется то, что служит для поддержания смертной жизни, чтобы, поскольку обща сама смертность, в вещах, к ней относящихся, сохранялось согласие между тем и другим градами. Но земной град имел неких своих, божественным учением не одобряемых мудрецов, которые, будучи надоумлены или обмануты демонами, полагали, что к человеческому миру следует приурочить многих богов, к различным как бы должностям которых относятся различные подведомые предметы: одному подведомо тело, другому — душа; и в самом теле одному — голова, другому — шея и прочее, особое —. особому; так же точно в душе одному — ум, другому — наука, иному — гнев, иному — пожелание; и в самих житейских делах одному — скот, другому — пшеница, третьему — вино, тому — масло, этому — леса, иному — монета, иному — судоходство, иному — войны и победы, иному — супружества, иному — роды и плодовитость, иным — прочее в том же роде. Град же небесный знал, что следует почитать только единого Бога, и с истинным благочестием полагал, что только ему следует служить тем служе-
Блаженный Августин 1038
нием, которое по–гречески называется Аотреш и обязательно лишь в отношении к Богу. Из–за этого вышло так, что он не мог иметь с градом земным общих религиозных законов и был поставлен в необходимость вследствие этого спорить с последним, стал в тягость людям противоположного образа мыслей, подвергся их гневу, ненависти и преследованиям, пока, наконец, страхом своего многолюдия и всегдашней божественной помощью не обуздал дерзости своих врагов.
Итак, этот небесный град, пока он находится в земном странствовании, призывает граждан из всех народов и набирает странствующее общество во всех языках, не придавая значения тому, что есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми мир земной устанавливается или поддерживается; ничего из последнего не отменяя и не разрушая, а напротив, сохраняя и соблюдая все, что хотя у разных народов и различно, но направляется к одной и той же цели земного мира, если только не препятствует религии, которая учит почитанию единого высочайшего и истинного Бога. Пользуется, таким образом, и небесный град в этом земном странствовании своим миром земных, и в предметах, относящихся к смертной человеческой природе, насколько это совместимо с благочестием и религией, сохраняет и поддерживает единство образа человеческих мыслей и желаний и направляет этот земной мир к миру небесному. Последний же мир такого свойства, что единственно должен считаться и называться миром разумной твари. Это — самое упорядоченное и самое единодушное общение в наслаждении Богом и взаимно — в Боге. Когда этот мир наступит, будет жизнь не смертная, а непосредственно и несомненно живая; и тело не душевное, которое, пока тленно, отягощает душу, а духовное, без ощущения неудовлетворенности в чем–либо, во всех отношениях подчиненное воле. Пока странствует, он
О граде Божием 1039
имеет этот мир в вере и по этой вере живет праведно, когда направляет к достижению оного мира все доброе, что совершает для Бога и ближнего, так как жизнь града, во всяком случае, есть жизнь общественная.
ГЛАВА XVIII
А что касается той особенности в воззрениях, которую Варрон заимствовал у новых академиков, считающих все недостоверным, то град Божий решительно отклоняет от себя такое сомнение, как безумие; ибо имеет о доступных пониманию и разуму предметах познание хотя и малое, по причине отягощающего душу тленного тела, ибо, как говорит апостол, «мы отчасти знаем» (I Кор. XIII, 9), но достовернейшее; и чувствам, которыми пользуется душа через посредство тела, при очевидности какой–либо вещи верит; так как более жалким образом обманывается тот, кто полагает, что им никогда не следует верить. Верит он и священным Писаниям, древним и новым, которые мы называем каноническими: ими воспиталась сама вера, от которой праведник жив (Аввак. II, 4), которою, не колеблясь, ходим, пока устранены от Господа (II Кор. V, 6). Сохраняя ее и убежденные в ее истинности, мы относительно каких–либо таких вещей, которых не можем уловить ни чувством, ни разумом, которых не уясняет нам каноническое Писание или сведения о которых дошли до нас не от таких свидетелей, не верить которым было бы нелепостью, сомневаемся, не подвергаясь справедливому порицанию.
ГЛАВА XIX
Но града этого вовсе не касается, какого кто держится внешнего образа и обычая жизни, лишь бы это не было против множественных заповедей и против
Блаженный Августин 1040
той веры, которая приводит к Богу. Поэтому и самих философов, когда они становятся христианами, он заставляет переменить не одежду и образ жизни, вовсе не препятствующие религии, а ложные догмы. Потому и той особенности, которую Варрон указал в киниках, град Божий решительно не придает значения, если она не выражается в бесстыдстве и распутстве. Относительно же тех трех родов жизни, т. е. свободной от житейских дел, деятельной или образованной из того и другого ее родов, то хотя и может каждый без вреда для веры проводить жизнь во всяком упомянутом роде и достигнуть вечных наград, важно, однако же, то, какого из них держится он из любви к истине, какому посвящает себя из долга любви. И каждый не настолько должен чураться житейских дел, чтобы в этом своем покое не думать о пользе ближнего; и не настолько быть деятельным, чтобы не предаваться размышлению о Боге. В покое от дел не бездеятельная праздность должна доставлять удовольствие, а изыскание или открытие истины; чтобы каждый преуспевал в ней, чтобы сохранил, что открыл, и другому не завидовал. При деятельности же предметом любви должны быть не почет в настоящей жизни или власть (ибо все суетно под солнцем), а само дело, которое делается порою посредством почета и власти, если делается правильно и с пользой, т. е. так, чтобы могло послужить тому благосостоянию подчиненных, которое соответствует воле Божией, как об этом мы уже говорили выше.
Поэтому апостол и говорит: «Если кто епископства желает, доброго дела желает» (I Тим. III, 1). Апостол хотел пояснить, что такое епископство: это — название дела, а не чести. Слово это греческое и смысл его таков, что поставленный над чем–нибудь надзирает за тем, над чем поставлен, имея о нем попечение. Ибо еяг значит зирег (над); около? же — тсеппо (цель, намерение); следовательно, мы можем, если захотим, выразить (греческое «епископ») латин-
О граде Божием 1041
ским словом 5ирепгиепс1еге, чтобы дать понять, что тот не епископ, кто предпочитает начальствовать, а не приносить пользу. Итак, ревностное стремление к познанию истины не воспрещается никому; это похвальная сторона покоя от житейских дел. Но высшего места, без которого невозможно управление народом, хотя бы на него вступали и занимали его как следует, добиваться, однако же, неприлично. Святого покоя ищет любовь к истине; общественные обязанности принимает на себя неизбежный долг любви. Если никто этого бремени не налагает, следует пользоваться досугом для познания и созерцания истины; если же его налагают, его следует принять по неизбежному долгу любви. Но и в последнем случае не следует отказываться от удовольствия, доставляемого истиной, чтобы та приятность не исчезла, а эта необходимость не подавила.
ГЛАВА XX
Если, таким образом, высочайшее благо града Бо–жия заключается в мире вечном и совершенном, — не в том, который переживают смертные, рождаясь и умирая, а в том, в котором пребывают бессмертные, не терпя вовсе никакого бедствия, то кто станет отрицать, что та жизнь — блаженнейшая; или кто не признает, что в сравнении с тою настоящая жизнь — самая жалкая, какими бы внешними душевными и телесными благами она не изобиловала? Впрочем, кто проводит последнюю так, что пользуется этою для достижения той, составляющей предмет его пламенной любви и непоколебимой надежды, о том не без основания можно сказать, что он и в настоящей жизни блажен, но только — надеждой, а не в действительности. Настоящая же действительность без этой надежды есть блаженство ложное и бедствие великое, ибо пользуется неистинными душевными бла-
Блаженный Августин 1042
гами. То не истинная мудрость, которая свои усилия в том, что она разумно различает, мужественно совершает, умеренно сдерживает, справедливо распределяет, направляет не к тому концу, в котором «Бог все во всем» (I Кор. XV, 28), а с Ним — вечность неизменная, мир совершенный.
ГЛАВА XXI
Теперь уместно исполнить обещание, данное во второй книге этого сочинения: доказать с возможной краткостью и ясностью, что Римской республики, соответственно тем определениям, какие дает ей у Цицерона в книгах «О республике» Сципион, никогда не существовало. Республику он определяет кратко, как дело народа. Если такое определение верно, то республики Римской не существовало никогда, потому что она никогда не была делом народа, на которое указывает определение республики. Ибо народ он определяет как совокупность множества людей, соединенных взаимно согласием в праве и общею пользой. А что называет он согласием в праве, он объясняет в своих рассуждениях, показывая, что республика не может управляться без справедливости. Итак, где нет истинной справедливости, там не может быть и права. Ибо что бывает по праву, то непременно бывает и справедливо. А что делается несправедливо, то не может делаться и по праву.
Нельзя считать и называть правом несправедливые постановления людей. Сами же они называют правом то, что имеет свой источник в справедливости, и ложью то, что имеют обычай утверждать люди неправильного образа мыслей, будто бы право есть то, что полезно более сильному. Поэтому, где нет истинной справедливости, там не может быть и совокупности людей, соединенных взаимно согласием в праве; следовательно, не может быть и народа, соот-
О граде Божием 1043
ветственно приведенному определению Сципиона или Цицерона, а если нет народа, нет и дела народного, а есть дело какой–нибудь толпы, недостойной имени народа Таким образом, если республика есть дело народа, народа же нет, если он не соединен согласием в праве, и права нет, где нет справедливости, то отсюда несомненно следует, что, где нет справедливости, там нет республики. Далее, справедливость есть такая добродетель, которая отдает каждому, что ему следует. Какова же после этого та человеческая справедливость, которая самого человека отнимает у истинного Бога и подчиняет нечистым демонам? Значит ли это отдавать каждому, что ему следует? Или отнимающий земли у того, кем она куплена, и отдающий ее тому, кто не имеет на нее никакого права, несправедлив; а кто самого себя отнимает у владычествующего Бога, Которым создан, и вступает в рабство к коварным демонам, справедлив?
В тех же самых книгах «О республике» весьма остроумно и сильно защищается справедливость против несправедливости. Сперва выступает сторона, защищающая несправедливость против справедливости и утверждающая, что республика не может держаться и расширяться иначе, как посредством несправедливости. В качестве самого сильного положения выставляется следующее: несправедливо, что люди находятся в рабстве у людей господствующих; а между тем, если бы располагающий властью город, которому принадлежит великая республика, не руководствовался этой несправедливостью, он не мог бы повелевать провинциями. Сторона, защищающая справедливость, отвечает, что это справедливо потому, что для таких людей полезно рабство, что оно бывает к их выгоде, когда устанавливается как следует, т. е. когда у дурных людей отнимается возможность причинять обиды; покоренные, они будут лучше, потому что в состоянии независимости были хуже. А чтобы подкрепить этот довод, приводится как
Блаженный Августин 1044
бы прекрасный пример, заимствованный от природы, и говорится: «Ради чего же Бог повелевает человеком, душа — телом, разум — похотью и другими порочными сторонами души?» Этот пример действительно показывает, что рабство полезно некоторым, а служить Богу — полезно всем. Служащая же Богу душа правильно повелевает телом, и в самой душе покорный Господу Богу разум правильно повелевает похотью и остальными пороками. Поэтому какую справедливость можно предполагать в человеке, не служащем Богу, коль скоро ни душа телом, ни человеческий разум пороками отнюдь не могут повелевать справедливо, не служа Богу? А если в таком человеке нет никакой справедливости, то, без всякого сомнения, ее нет и в собрании человеческом, состоящем из таких людей. Следовательно, нет в этом собрании и того согласия в праве, которое образует из толпы человеческой народ, дело которого называют республикой.
Зачем мне после этого говорить о пользе, связанная общностью которой совокупность людей, согласно упомянутому определению, называется народом? Ведь если вникнуть в дело надлежащим образом, то нет никакой пользы от жизни тем, которые живут нечестиво, как живет всякий, кто не служит Богу, а служит демонам; тем более нечестивым, чем более они, будучи самыми нечестивыми духами, желают, чтобы им приносили жертвы как богам. Но полагаю, что сказанного нами о согласии в праве достаточно, чтобы видеть, что есть по смыслу упомянутого определения тот народ, образующий так называемую республику. Говорят, правда, что римляне в своей республике служили не нечестивым духам, а добрым и святым богам. Но неужели мы должны по нескольку раз повторять то, о чем сказали уже достаточно, и даже более, чем достаточно? Кто из прочитавших предшествующие книги этого сочинения до настоящего места может еще сомневаться, что римляне слу-
О граде Божием 1045
жили злым и нечистым демонам, если он только не крайне глуп и не бесстыднейшим образом упрям? Оставлю даже в стороне вопрос о том, каковы те, кого они чтили жертвоприношениями; в законе Бога истинного написано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исх XXII, 20). Заповедавший это не хотел, чтобы приносились жертвы ни добрым, ни злым богам.
ГЛАВА XXII
Но могут возразить: «Кто этот Бог, чем можно доказать, что римляне должны были повиноваться Его повелению и не чтить жертвоприношениями никого из богов, кроме Его?» Признак великого ослепления продолжать спрашивать: «Кто этот Бог?» Это тот Бог, пророки Которого предсказали то, что совершается на глазах у нас; это тот Бог, от Которого Авраам получил ответ: «Благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. XXII, 18). Что это исполнилось в лице Христа, по плоти происшедшего от его семени, вольно или невольно признают даже те, которые остались врагами христианства. Это тот Бог, божественный Дух Которого говорил устами тех, чьи предсказания и исполнение этих предсказаний в лице Церкви, распространенной на наших глаза по всему миру, я изложил в предшествующих книгах. Это тот Бог, Которого ученейший из римлян, Варрон, считает Юпитером, хотя не знает сам, что говорит. Я счел нужным упомянуть об этом потому, что муж с такими познаниями не мог ни отрицать этого Бога, ни считать Его маловажным. Он думал, что это тот Бог, Которого он считал высочайшим. Наконец, это тот самый Бог, Которого ученейший из философов, хотя и величайший враг христиан, Порфирий, признает великим богом, следуя оракулам тех, кого считает богами.
Блаженный Августин 1046
ГЛАВА XXIII
В книгах, которые он надписывает ек фЛооофш^ и в которых подробно излагает и описывает якобы божественные ответы о вещах, относящихся к философии, он (приведу его собственные слова, как они переведены с греческого языка на латинский) говорит: «Спрашивавшему, молитвою к какому богу мог бы он отвлечь жену свою от христианства, Аполлон отвечал в стихах следующее». Потом приводятся такие слова якобы Аполлона: «Можешь, пожалуй, скорее научиться чертить письмена по воде или, расправив легкие крылья, летать, как птица, чем вернешь назад чувство оскверненной и нечестивой жены. Пусть продолжает, как хочет, упорствуя в пустых обманах и воспевая лживыми рыданиями мертвого Бога, Которого, погубленного правильно мыслящими судьями, умертвила самая худшая из благовидных, совокупно с железом, смерть». После этих стихов Аполлона, переведенных на латинский язык без соблюдения метра, он продолжает так: «Уклонение их не поддающихся исправлению мыслей он указал в следующих словах: «Иудеи веруют в Бога более, чем эти». Таким образом он, бесчестя Христа, ставит иудеев выше христиан, признавая, однако, что иудеи веруют в Бога. Ибо тот стих Аполлона, в котором последний говорит, что Христос был убит правильно мыслящими судьями, он изложил так, как если бы Христос вследствие справедливого их суда был подвергнут заслуженному наказанию.
Действительно ли лживый предсказатель Аполлона говорил это о Христе, а Порфирий ему поверил, или последний сам, быть может, сочинил речь, которую тот не говорил, это его дело; но насколько он верен самому себе, насколько у него согласуются друг с другом изречения оракулов, это мы увидим после. Пока же заметим, что об иудеях, как верующих в Бога, он говорит, что они правильно судили о Хри-
О граде Божием 1047
сте, когда решили подвергнуть Его самому мучительному роду смерти. Следовательно, Бога иудеев, Которого он признает за Бога, должно слушать, когда Он говорит: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исх. XXII, 20). Но послушаем дальше, сколь великим представляет он Бога иудеев. На подобный же вопрос Аполлону, что лучше: слово ли, или разум, или закон, последний, по его словам, «отвечал стихами, говоря так». Затем он приводит стихи Аполлона. Из их числа считаю достаточным привести следующее: «В Бога же родоначальника и в вышнего Царя, пред Которым трепещут и небо, и земля, и море, и сокровенные убежища преисподних, и ужасаются сами божества; для них закон есть Отец, которого чтут истинно святые евреи». Этим изречением оракула своего бога Аполлона Порфирий представляет Бога евреев таким великим, что его ужасаются и сами божества. Если же Бог этот сказал: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен», то удивляюсь, как не пришел в ужас сам Порфирий и, принося жертвы богам, не устрашился подвергнуться истреблению.
Говорит этот философ и хорошее о Христе, как бы забыв о своем поношении Его, о котором мы перед этим упоминали, или как бы боги его злословили Христа во сне, а пробудившись, нашли добрым и похвалили по достоинству. Потом, как бы намереваясь высказать нечто удивительное и невероятное, он говорит: «Некоторым, без сомнения, покажется неожиданностью то, что мы скажем. Боги провозгласили Христа благочестивейшим и сделавшимся бессмертным и отзывались о Нем с большой похвалою; но христиан, — говорит, — они называют порочными, оскверненными, преданными заблуждению, употребляя в их адрес и многие другие укоризны». Вслед за этим он приводит нечто вроде оракульских изречений богов, поносящих христиан. А затем говорит: «Когда спрашивали о Христе, Бог ли Он, Геката отве-
Блаженный Августин 1048
чала: «Шествие бессмертной души после тела тебе известно; блуждает же душа, потерявшая истину; то — душа мужа, превосходнейшего в благочестии, но чтут ее не сообразно с ее действительным состоянием».
Вставляя после этих изречений якобьцэракула собственные слова, Порфирий говорит: «Итак, она сказала, что Он — муж благочестивейший, и что душа Его, как и души других благочестивых людей, одарена после разлучения с телом бессмертием, но что христиане чтут ее невежественно. А на вопрос: за что же Он осужден? — богиня, — продолжает он, — отвечала: «Тело всегда подвержено истязаниям и увечьям, душа же благочестивого пребывает в небесном жилище. Та же душа определением судеб позволила впасть в заблуждение другим душам, которым рок не дал ни пользоваться дарами богов, ни иметь познание о бессмертном Юпитере. Поэтому они ненавистны богам; ибо им, которым не суждено было ни знать Бога, ни получить дары от богов, — им, определением судьбы, Он дал впасть в заблуждение. Сам же Он благочестив, и как благочестивый удалился в небо. Итак, Его не хули, но пожалей о безумии людей, об их легком и опасном через Него падении».
Кто до такой степени глуп, чтобы не понять: эти изречения оракулов придуманы лукавым человеком, который в то же время — страшный враг христиан; не исключено, что эти ответы с подобным же умыслом были даны нечестивыми демонами. Хвалят Христа, чтобы придать большую правдоподобность своим поношениям христиан; чтобы таким образом заградить, если возможно, путь к вечному спасению, на котором стоит каждый христианин. Они чувствуют, что их лукавому искусству вредить тысячью различных способов нисколько не помешает, если им поверят, когда они будут хвалить Христа, лишь бы только поверили им, когда они в то же время будут хулить христиан; кто поверит тому и другому, того они сделают таким хвалителем Христа, что он не за-
О граде Божием 1049
хочет быть христианином; а потому и хвалимый им Христос не освободит его от господства демонов. Ведь хвалят они Христа так, что всякий, кто уверует в Него такого, каким они Его выставляют, будет не истинным христианином, а еретиком Фотинианом, который Христа считал только человеком, но не Богом; и потому не сможет ни получить через Него спасения, ни избежать ловушек, расставляемых этими лживыми демонами, ни освободиться от них.
Мы, со своей стороны, не можем принять ни слова Аполлона, который поносит Христа, ни Гекаты, которая хвалит Его. Тот выставляет Христа как бы неправым, говоря, что Он был убит правильно мыслящими судьями, а эта — человеком благочестивейшим, но только человеком. У обоих, однако же, цель одна: они не хотят, чтобы люди были христианами, потому что, не став христианами, они не смогут высвободиться из–под их власти. Философ же тот, или лучше, те, которые верят таким якобы оракульским изречениям против христиан, пусть позаботятся, если могут, чтобы Геката и Аполлон предварительно согласились между собою относительно самого Христа и оба или в один голос осуждали Его, или оба одинаково хвалили. Но если бы им и удалось это сделать, мы, тем не менее, все равно избегали бы лживых демонов, хвалили бы они или хулили Христа. Теперь же, когда их бог и богиня противоречат друг другу, тот укоряя, а эта хваля Христа, и их хулам на христиан не верят люди, если сами правильно мыслят.
В самом деле, хваля Христа, Порфирий ли то, или Геката, когда говорит, что Он же дал христианам впасть по определению судьбы в заблуждение, раскрывает и причины этого, как он думает, заблуждения. Прежде, чем излагать эти причины его же словами, я спрошу: если Христос дал христианам впасть по определению судьбы в заблуждение, хотел Он или не хотел сделать этого? Если хотел, то каким образом Он справедлив? Если не хотел, то каким образом
Блаженный Августин 1050
Он блажен? Но выслушаем сами причины заблуждения. «Существуют, — говорит он, — в некоем месте самые низшие земные духи, подчиненные власти злых демонов. От этих злейших и низших духов предостерегали благочестивых людей мудрейшие из евреев, к числу которых принадлежал и Иисус, как сказано это в вышеприведенных божественных изречениях Аполлона; они запрещали совершать им празднества, чтить же велели преимущественно небесных богов, а наиболее всех — Бога Отца. То же самое, — прибавляет он, — заповедают и боги, и мы показали выше, как они увещевают душу обратиться к Богу и как повсюду повелевают почитать Его. Но невежественные и нечестивые люди, которым судьба справедливо не дозволила ни воспользоваться дарами богов, ни иметь понятия о бессмертном Юпитере, не слушая ни богов, ни божественных мужей, отвергли всех богов, а запрещенных демонов не только не возненавидели, но и стали почитать. Притворяясь же, что поклоняются Богу, не делают того, в чем единственно выражается поклонение Богу. Ибо хотя Бог, всемогущий Отец всего, не нуждается ни в чем, но полезно для нас самих, когда мы поклоняемся Ему правдой, чистотой и другими добродетелями, обращая в молитву к Нему саму нашу жизнь через подражание и искание Его. Ибо искание, — говорит он, — очищает, а подражание обоготворяет, производя любовь к Нему».
О Боге Отце он сказал хорошо; хорошо сказал он и о том, какими нравами следует почитать Его. Подобными заповедями наполнены пророческие книги евреев, когда в них порицается (жизнь нечестивых) или хвалится жизнь святых. Но в отношении христиан он столько заблуждается и столько дозволяет себе клеветы, сколько желают того демоны, которых он считает богами; как будто так трудно припомнить, сколько гнусного, сколько безобразного совершается под видом служения богам в театрах и храмах, и
О граде Божием 1051
сопоставить это с тем, что читается, говорится, выслушивается в церквях или что приносится Богу истинному, и понять из этого, где совершается созидание, а где — разрушение нравов. Кто же, как не диявольский дух, подсказал или внушил ему такую вздорную и открытую ложь, будто христиане обращаются с почитанием, а не питают ненависть к тем демонам, которых запрещали почитать евреи? Тот Бог, Которого чтили мудрейшие из евреев, запрещает приносить жертвы даже небесным и святым ангелам и силам Божиим, которых мы в этом смертном странствовании нашем почитаем и любим как блаженнейших своих сограждан, когда гремит в законе Своем, данном Им еврейскому народу, и с величайшим требованием говорит: «Приносящий жертву богам… да будет истреблен». А чтобы кто–нибудь не подумал, будто велено не приносить жертв только злейшим демонам или, как называет их Порфирий, самым низшим, ибо и эти в священном Писании называются богами, но не евреев, а язычников; что с ясностью подтвердили Семьдесят толковников в псалме, говоря: «Ибо все боги народов — идолы» (Пс. ХСУ, 5), — итак, чтобы не подумал кто–нибудь, что запрещено приносить жертвы только этим демонам, а небесным, всем ли то, или некоторым, дозволено, тотчас же прибавляет: «Кроме одного Господа», т. е. исключительно только Господу. Слыша выражение: «Только одному (5о11) Господу», пусть кто–нибудь не сочтет Господом солнце (зо1ет) и не подумает, что ему следует приносить жертвы; что это следует понимать не так, весьма легко уясняется из греческого Писания.
Итак, еврейский Бог, к Которому высказывает такое глубокое уважение и упомянутый великий философ, дал Своему еврейскому народу закон, написанный на еврейском языке, не какой–нибудь невразумительный и неведомый, а сделавшийся уже известным всем народам, в котором сказано: «Приносящий жертву бо-
Блаженный Августин 1052
гам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (Исх. XXII, 20). Нужно ли по этому предмету отыскивать многое в Его законе и в Его же пророках? Даже не отыскивать, так как указания на это не темны и не редки, а собирать и излагать в настоящем моем исследовании то, из чего яснее света обнаруживается, что истинный и высочайший Бог не хотел, чтобы жертвы приносились вообще кому бы то ни было, кроме Него самого? Пусть это одно, кратко, но возвышенно, с угрозой, но справедливо сказанное тем Богом, Которого так превозносят их ученейшие люди, выслушивается, наводит страх, исполняется, чтобы неповинующиеся не подверглись истреблению. «Приносящий, — говорит, — жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен»; это не потому, чтобы Он имел нужду в какой–либо вещи, но потому, что для нас спасительно, чтобы мы были Его вещью. Поэтому–то в священных Писаниях евреев поется: «Я сказал Господу: Ты Господь мой; блага мои Тебе не нужны» (Пс. XV, 2). Чистейшая и превосходнейшая жертва Ему — мы сами, т. е. град Его; таинство этого мы совершаем своими приношениями, которые известны верным, как о том мы говорили в предшествующих книгах. Ибо о прекращении жертв, которые приносились иудеями, жившими в сени, и о приношении народами от востока солнца и до запада одной жертвы, как это совершается уже на глазах у нас, много и громко говорили божественные изречения через еврейских пророков; некоторые из этих изречений, по мере надобности, мы уже приводили в настоящем сочинении.
В силу этого там, где нет той справедливости, чтобы единый и высочайший Бог повелевал повинующемуся по Его благодати граду не приносить жертв никому, кроме Него самого, а вследствие этого во всех людях, принадлежащих к тому граду, законным порядком душа вполне повелевала бы телом и разум — пороками; чтобы как каждый отдельно праведник,
О граде Божием 1053
як и собрание и народ праведников жил верою, про–теляющей свои действия в–любви, которой человек дабит Бога соответственно тому, как должен быть добим Бог, и ближнего, как самого себя, — где, гово–эю, нет такой справедливости, там решительно нет :обрания людей, объединенного согласием в праве
[ общностью пользы. Если же последнего нет, то нет, конечно, и народа, если подобное определение на–эода верно. Следовательно, нет и республики; нет народного дела там, где нет самого народа.
ГЛАВА XXIV
Если же народу дать не это, а другое определение, гели сказать, например: народ есть собрание разум–юй толпы, объединенной некоторой общностью
гщей, которые она любит, в таком случае, чтобы видеть, каков тот или иной народ, нужно обратить внимание на то, что он любит. Что бы, впрочем, он ни побил, если это собрание не животной толпы, а су-
деств разумных, и если оно объединено общностью побимых ими вещей, оно не без основания носит извание народа. Народ будет, конечно, настолько тучше, насколько он единодушен в лучшем, и на-
голько хуже, насколько единодушен в худшем. По нашему последнему определению римский народ действительно есть народ; и дело его, без всякого сомнения, есть дело публичное — республика. Что побил этот народ в свои первые и последующие времена и вследствие каких нравов, дойдя до жестоких возмущений, а от них до союзнических и гражданских войн, пошатнул и расстроил это единодушие, составляющее некоторым образом здоровье народа, о том свидетельствует история. В предыдущих кни-
ах мы многое привели из нее.
Из этого, однако же, не следует, чтобы он не был 1ародом или чтобы дело его не было республикой,
Блаженный Августин 1054
пока остается какое бы то ни было собрание разумной толпы, объединенной общностью вещей, которые любит. А что я сказал об этом народе и об этой республике, то нужно считать за сказанное мною и за мой образ мыслей о народе и республике афинян или каких–либо других греков, о народе и республике египтян, о том первом Вавилоне ассирийцев, когда в народном управлении своем держали они малые и великие царства, и о всяком другом каком бы то ни было народе. Вообще, град нечестивых, который не находится в повиновении у Бога, повелевшего, чтобы жертвы приносились только Ему одному, и в котором вследствие этого душа правильным образом не повелевает телом, а разум — пороками, чужд истинной справедливости.
ГЛАВА XXV
Хотя бы и казалось, что душа блестящим образом повелевает телом, а разум — пороками, но если сама душа и разум не служат Богу так, как Бог заповедал служить Ему, они отнюдь не повелевают телом и пороками правильным образом. Ибо каким господином над телом и пороками может быть ум, не ведающий об истинном Боге, не подчиненный Его власти, а поддавшийся под развращающее влияние пороч–нейших демонов? Почему и сами добродетели, которыми, по–видимому, он располагает, через которые повелевает телу и порокам принимать или удерживать то или иное направление, если он к Богу их не относит, скорее пороки, чем добродетели. Хотя некоторые тогда считают добродетели истинными и честными, когда они бывают относимы только к ним самим, а не ищутся ради чего–либо другого; но тогда они — надменны и горды, а потому должны считаться не добродетельными, а порочными. Как не от плоти, но выше плоти то, что дает плоти жизнь; так не от
О граде Божием 1055
человека, но выше человека то, что дает блаженную жизнь человеку, и не только человеку, но и всякой Власти и Силе небесной.
ГЛАВА XXVI
Поэтому как жизнь плоти есть душа, так блаженная жизнь человека есть Бог, о чем священные Писания евреев говорят: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Пс. СХШ1, 15). Следовательно, отчужденный от Бога народ несчастен. Но и этот народ любит своего рода мир, хотя и не отличающийся честностью, которого, впрочем, в конце иметь не будет, так как прежде конца ненадлежащим образом им пользуется. А чтобы до времени он в этой жизни имел его, это важно и для нашего града; пока оба града взаимно перемешаны, пользуемся и мы миром Вавилона, из которого народ Божий освобождается верою так, как если бы находился в нем во временном странствии. Поэтому–то и апостол увещевает церковь молиться за царей и начальствующих, прибавляя: «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (I Тим. II, 2). И пророк Иеремия, когда предсказывал древнему народу Божию предстоящий плен и от лица Божия повелевал, чтобы с покорностью шли в Вавилон, служа своему Богу самим этим терпением, убеждал также, чтобы молились за него (Вавилон), говоря, что «при благосостоянии его и вам будет мир» (Иерем. XXIX, 7); мир, разумеется, временный, общий и добрым и злым.
ГЛАВА XXVII
Наш же частный мир и в данное время есть с Богом в вере, и в вечности будет с Ним в видении (II Кор. V, 7). Но в данное время как тот общий, так и наш осо-
Блаженный Августин 1056
бенный мир таков, что представляет собою скорее утешение в несчастье, чем радость блаженного состояния. Даже сама справедливость наша, хотя и истинна по причине конечной цели истинного блага, к которой имеет непосредственное отношение, в этой жизни, однако же, такова, что скорее осуществляется отпущением грехов, чем усовершением добродетелей. Свидетельствует об этом молитва града Божия, странствующего на земле. Ибо через всех членов своих он взывает к Богу: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. VI, 12). Не за тех действительна эта молитва, вера которых без дел мертва (Иак. II, 17 и 26); но за тех, чья вера действует любовью (Гал. V, 6). Ибо, будучи и в подчинении Богу, но в условиях настоящей смертности и в тленном теле, обременяющем душу, разум не может вполне повелевать пороками. Потому и необходима праведным такая молитва. Как в действительности ни повелевают, никогда не повелевают без столкновения с пороками. И у хорошо сражающегося, и у господствующего после победы над такими врагами и подданными непременно в условиях настоящей немощи укроется от глаз что–нибудь такое, в чем он согрешил если не уклончивым действием, то нетвердым словом или летучей мыслью. И потому, пока приходится повелевать пороками, полного мира нет; потому что и с теми, которые сопротивляются, ведется война, полная опасностей; и те, которые побеждены, не оставляют еще места безопасному и спокойному торжеству, а должны удерживаться в подавленном состоянии заботами повелевающей власти. В таких искушениях, о которых божественными словами коротко сказано: «Не определено ли человеку время на земле?» (Иов. VII, 1), — в таких искушениях разве только человек надменный представляет себя живущим так, что он не имеет нужды говорить Богу: «Прости нам долги наши». Поистине, не велик, а надменен и напыщен, которому справедливо противится тот,
О граде Божием 1057
Кто дает благодать смиренным. Потому и написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. VI, 6; 1 Пет. V, 5)
Итак, в настоящей жизни справедливость в ком бы то ни было сводится к тому, чтобы Бог повелевал повинующимся Ему человеком, душа — телом, а разум — пороками, еще упорствующими или уже подавленными; и чтобы у самого же Бога просить и благодати заслуг, и прощения грехов, и Ему же приносить благодарение за полученные блага. В состоянии же того конечного мира, с которым должна соотноситься и для достижения которого должна соблюдаться эта справедливость, так как восстановленная в бессмертии и неповрежденности природа пороков иметь не будет и так как никто из нас ни со стороны другого, ни в себе самом не будет встречать никакого сопротивления, не будет уже нужды, чтобы разум повелевал пороками, которых не будет вовсе. Но будет повелевать Бог человеком и душа телом; и в повиновении там будет такая же приятность и легкость, каковым будет и счастье в жизни и царствовании. И во всех и в каждом это будет там вечным, а вечное будет несомненным. А потому мир того блаженства или блаженство того мира будет высочайшим благом.
ГЛАВА XXVIII
Тем же, которые не принадлежат к этому граду Божию, предстоит тогда вечно продолжающееся бедствие. Оно называется еще второю смертью, потому что нельзя сказать, что они будут там жить, ни о душе, которая будет отчуждена от жизни Божией, ни о теле, которое будет подвержено вечным скорбям. В том и состоит ужас этой второй смерти, что она не будет в состоянии окончиться смертью. Но так как подобно противоположению несчастья и блаженства, смерти и жизни, предполагается также и противоположение
34 О граде Божием
Блаженный Августин 1058
войны и мира, то не без основания задают вопрос: если в качестве конечного блага проповедуется и восхваляется мир, то, в противоположность этому, что за война и какого свойства может предполагаться как конечное зло? Ставящий такой вопрос пусть обратит внимание на то, что в войне вредно и опасно, и тогда он увидит, что это не что иное, как взаимная вражда и столкновение вещей. Какую же войну можно придумать тяжелее и ужаснее той, когда воля так неприязненна страсти, а страсть — воле, что подобной вражде не может положить предел никакая с их стороны победа; или когда сила страдания вступает в борьбу с самой природой тела так, что ни одна из них не уступает другой? Когда в настоящей жизни происходит подобное столкновение, то или побеждает страдание л смерть отнимает ощущение боли, или побеждает природа и ощущение боли устраняется выздоровлением. Но там и страдание будет оставаться, чтобы терзать, и природа будет продолжать свое существование, чтобы ощущать страдание; то и другое не прекратится, чтобы не прекратилось наказание. А так как к этому конечному благу и к конечному злу, к тому, желательному, и к этому, наводящему ужас, к первому добрые, а к последнему злые перейдут вследствие суда, то об этом суде я поговорю, насколько даст Бог, в следующей книге.
О граде Божием 1059
КНИГА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА I
Намереваясь говорить о дне последнего суда Божия, который будет производить Он сам, и имея целью защитить действительность его против нечестивых и неверующих, мы должны начать с божественных свидетельств, положив их как бы в основу здания. Не желающие верить этим свидетельствам стараются противопоставить им ложные и обманчивые доводы человеческого разума или для того, чтобы доказывать, будто приводимые из священных Писаний свидетельства имеют иное значение, или для того, чтобы вовсе отрицать в них божественность изречений. Ибо не найдется, по моему мнению, смертного, который бы, поняв эти свидетельства в их буквальном смысле и веря, что они изречены высочайшим и истинным Богом через святые души, не принял бы их к сердцу и не согласился бы с ними; выразит ли он это открыто или постыдится и побоится признаться в том вследствие какой–нибудь слабости; или же по упрямству, весьма похожему на помешательство, будет со всевозможным старанием защищать заведомую и сознательную ложь против заведомой и признанной всеми истины.
Итак, вся церковь истинного Бога исповедует и проповедует, что Христос должен прийти с неба судить живых и мертвых. Это мы называем окончательным днем божественного суда, т. е. последним временем. Ибо сколько дней продолжится этот суд, неизвестно; но всякий, пусть даже и невнимательно читающий священное Писание, знает, что там слово «день» обыкновенно употребляется в смысле време-
Блаженный Августин 1060
ни. Но, говоря об этом дне суда, мы прибавляем: окончательный или последний, потому что Бог судит и теперь, судил и с самого начала человеческого рода, когда изгнал из рая и удалил от дерева жизни первых людей, совершивших великое преступление; судил, несомненно, и тогда, когда не пощадил согрешивших ангелов, глава которых, погубив себя, погубил из зависти и людей. Не без Его же высокого и справедливого суда, как в воздушных пространствах неба, так и на земле, переполнена заблуждениями и скор–бями несчастнейшая жизнь и демонов, и людей. Да если бы никто и не согрешил, не без благого и праведного суда Он удерживал бы в блаженном состоянии всю вообще разумную тварь, питающую неизменную привязанность к Нему, как к своему Господу.
Судит Он, притом, не только всеобщим образом, карая демонский и человеческий род нечестием соответственно тяжести первых грехов, но судит Он и личное дело каждого, совершаемое по произволу воли. Ибо и демоны молятся, чтобы не терпеть мучений (Мф. VIII, 29); и когда им оказывается пощада или каждый из них терпит мучения соответственно своему непотребству, это во всяком случае бывает без нарушения справедливости. И люди, большею частью открыто, тайным же образом — всегда, несут за свои дела божественные наказания, в этой ли жизни, или после смерти; хотя ни один человек не поступает надлежащим образом без содействия божественной помощи, ни один демон и ни один человек не поступает несправедливо, если это не бывает попущено ему тем же справедливейшим божественным судом. Ибо, как говорит апостол, нет неправды у Бога (Рим. IX, 14). И как тот же апостол говорит в другом месте: «Непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» (Рим. XI, 33).
Итак, в настоящей книге я буду говорить не о тех первых и не об этих промежуточных Божиих судах, а о самом последнем суде, насколько Он же будет тво-
О граде Божием 1061
рить этот суд, когда придет с неба Христос, чтобы судить живых и мертвых. Называется он днем суда в собственном смысле, потому что там уже не останется места для недоуменных вопросов, почему этот несправедливый человек счастлив, а тот праведник — несчастен. Ибо тогда истинное и полное счастье обратится в удел добрых, а заслуженное и величайшее несчастье — в удел злых.
ГЛАВА II
В настоящее же время мы учимся и зло переносить равнодушно, так как его терпят и добрые, и благам не придавать большого значения, так как ими пользуются и злые. Поэтому божественное учение оказывается спасительным и при настоящих обстоятельствах, когда божественная справедливость не проявляется очевидностью. Ибо мы не знаем, по какому Божию уду тот добрый человек беден, а этот злой — богат; гот, кто за свои развратные нравы, по нашему мне — «о, должен был бы терзаться скорбями, радуется, а гот, чья похвальная жизнь должна была бы прино-:ить радости, терпит огорчения; невинный выходит 13 суда не только не отмщенным, но и осужденным, не имея сил бороться с неправдой судьи или опровергнуть ложные свидетельства, а злодей, его противник, наоборот, не только безнаказанным, но и торжеству–ьющим над ним; нечестивый пользуется отменным (здоровьем, благочестивый изнывает в расслаблении; (разбойничают юноши самого превосходного здоровья, а кто не мог оскорбить кого–либо и словом, тот [подвергается разного рода жестоким болезням; ран — [няя смерть уносит полезных для человечества детей, [а кому, казалось бы, не следовало и родиться, тот [живет сверх меры долго; обремененный преступле — [ниями окружен общественным уважением, а человека безупречного скрывает мрак неизвестности, и так
Блаженный Августин 1062
далее; кто соберет или перечислит все подобные явления? Будь в этих явлениях, при самой их как бы нелепости, определенное постоянство, так, чтобы в этой жизни, в которой «человек, — по выражению священного псалма, — подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень» (Пс. СХ1ЛП, 4), преходящими и земными благами пользовались только злые, а зло терпели лишь добрые, — это можно было бы отнести к справедливому и даже благосклонному суду Божию; для тех, которые не имеют наследовать благ вечных, дающих блаженство, блага преходящие и земные служили бы или соблазном, соответственно их злобе, или утешением, по милосердию Божию; а для тех, которым вечные мучения не угрожают, временные бедствия служили бы или наказанием за их какие–либо большие или малые грехи, или упражнением для их добродетелей. Теперь же, когда не только добрые терпят бедствия, а злые благоденствуют, что представляется несправедливым, но когда очень часто бывает и так, что злые терпят бедствия, а добрые достигают благосостояния, — судьбы Божий делаются еще более непостижимыми, и пути Его — неисследимыми (Рим. XI, 33).
Итак, хотя мы не знаем, по какому суду делает или допускает это Бог, у Которого высочайшая сила, высочайшая мудрость и высочайшая правда и у Которого нет слабости, нет неосмотрительности и нет неправды, однако мы спасительно учимся не придавать большого значения тем благам или злу, которые видим общими и добрым, и злым, а искать тех благ, которые исключительно принадлежат добрым, и избегать тех зол, которые составляют исключительную принадлежность злых. Когда же мы явимся на этот Божий суд, время которого по преимуществу называется днем суда, а иногда днем Господним, тогда обнаружится высшая степень справедливости не только того суда, который будет изречен в то время, но и того, который был изрекаем от начала, и того,
О граде Божием 1063
который будет изрекаться до того времени. Там также обнаружится, как справедлив суд Божий и в том отношении, что в настоящее время столь многие, даже почти все справедливые суды Божий укрываются от чувства и понимания смертных; хотя, впрочем, в этом деле от веры благочестивых не укрывается, что это сокровенное — справедливо.
ГЛАВА III
Соломон, например, мудрейший царь израильский, царствовавший в Иерусалиме, так начал книгу, которая называется книгой Екклесиаста и помещается иудеями в канон священных книг: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (Еккл. 1,2, У). Развивая эту мысль в применении ко всему прочему, упомянув о скорбях и заблуждениях этой жизни и об исчезающем течении времен, в котором ничто не остается прочным, ничто — устойчивым, он некоторым образом оплакивает в этой суете вещей под солнцем и то, что хотя и есть преимущество мудрости над глупостью, как есть преимущество света над тьмой, и хотя очи мудрого в голове его, а глупый во тьме ходит, однако одна участь постигает их всех (Еккл. II, 13, 14); одна, разумеется, в этой жизни, которая проходит под солнцем. Участью называет он те бедствия, которые мы видим общими для добрых и злых. Указывает он и на то, что добрые терпят зло, как если бы были злыми, а злые пользуются благами, как если бы были добрыми, го–оря так: «Есть и такая суета на земле-, праведников юстигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела [раведников. И сказал я: и это — суета!» (Еккл. VIII, 14). этой суете, достаточному уяснению которой пре–здрый муж посвятил целую упомянутую книгу дл
Блаженный Августин 1064
того, конечно, чтобы мы имели предметом желаний своих ту жизнь, которая слагается не из суеты под солнцем, а имеет своим содержанием истину под Тем, Кто сотворил это солнце, — в этой, говорю, суете, не по справедливому ли и правильному суду Бо–жию обращается в ничтожество человек, сделавшийся подобным этой самой суете? В высшей степени важно, однако, противится ли он во дни этой суеты, или повинуется истине, непричастен или причастен истинному благочестию. Важно это не ради приобретения благ или избежания зол этой жизни, преходящих вследствие своей ничтожности; важно это ради будущего суда, вследствие которого добрые получат благо, а злые — зло, имеющие пребывать до конца.
Наконец, мудрый муж заключает эту свою книгу такими словами: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. XII, 13, 14). Можно ли сказать что–нибудь короче, справедливее, спасительнее? «Бойся, — говорит, — Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Всяк, кто есть, есть хранитель заповедей Божиих, ибо кто не есть этот (хранитель), тот суть ничто, так как он не преображается по образу истины, а остается в подобии суеты. «Ибо всякое дело», т. е. все, что делается человеком в этой жизни, «Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо», т. е. на суд над всем, что казалось здесь презренным и потому не обращало на себя внимания. Ибо Бог и это видит, и этого не презирает, и не обходит его Своим судом, когда судит.
ГЛАВА IV
Итак, из свидетельств священного Писания об этом последнем суде Божием, которые я предположил изложить, следует привести сперва свидетельства
О граде Божием 1065
книг Нового, а потом и Ветхого завета. Хотя Ветхий предшествует по времени, Новый, однако же, должен предпочитаться ему по достоинству; ибо тот Ветхий был предвозвестником этого Нового. Новый поэтому будет изложен прежде, а для большего подтверждения приведутся и древние (свидетельства). К Ветхому относятся Закон и Пророки, к Новому — Евангелие и апостольские послания. Апостол же говорит: «Законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих» (Рим. III, 20—22). Эта правда Божия относится к Новому завету и имеет свидетельство о себе в ветхих книгах, т. е. в Законе и Пророках. Итак, прежде должно быть изложено само дело, а потому взяты показания от свидетелей. Показывая, что именно этот порядок следует соблюдать, сам Иисус Христос говорит: «Книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. XIII, 52). Он не сказал: «старое и новое», что сказал бы непременно, если бы не желал отдать предпочтение достоинству перед временем.
ГЛАВА V
Итак, укоряя города, в которых Он явил великие силы, но которые не уверовали, и ставя выше их иноплеменников, сам Спаситель говорит: «Тиру и Сидо–ну отраднее будет в день суда, нежели вам» (Мф. XI, 22). И несколько ниже говорит другому городу: «Земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Мф. XI, 24). Здесь Он очевиднейшим образом предсказывает будущий день суда. И в другом месте Он говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица Южна
Блаженный Августин 1066
восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Мф, XII, 41,42). Две вещи узнаем мы из этих слов: то, что настанет суд, и то, что он настанет с воскресением мертвых. Ибо говоря о ниневитянах и о царице Южной, он говорил, несомненно, об умерших; однако предсказал, что они восстанут в день суда. А сказал «осудят» не потому, чтобы они сами судили, но потому, что по сравнению с ними те будут достойно осуждены.
Еще в другом месте, говоря о смешении в настоя-' щее время добрых и злых и о разделении их впослед–ствии, в день суда, Он привел притчу о посеве пшеницы и о посеве на нее плевел. Объясняя эту притчу $ ученикам своим, Он сказал: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя; •• это — сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого^' враг, посеявший их, есть дьявол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. XIII, 37—43). Хотя суда или дня суда Он здесь не назвал, но достаточно ясно изобразил его самим делом и предсказал, что он имеет быть в конце века.
Он же говорил ученикам своим: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. XIX, 28). Здесь мы узнаем, что Иисус будет судить вместе со своими учениками. Почему и в другом месте Он сказал иудеям: «И если Я силою веельзевула изгоняю бе-
О граде Божием 1067
сов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями» (Мф. XII, 27). На том основании, что Он говорит только о двенадцати, имеющих воссесть на престолы, мы не должны думать, будто с Ним будут судить только двенадцать человек. Числом двенадцать обозначена известная совокупность всех судящих по причине двух частей числа семь, которым обыкновенно обозначается совокупность всего: эти две части, т. е. три и четыре, умноженные одна на другую, дают двенадцать. Ибо и четырежды три, и трижды четыре — двенадцать. Возможна, впрочем, и другая причина, достаточно уясняющая употребление этого числа двенадцать. Но при буквальном понимании его, после того, как мы читаем о доставлении на место Иуды–предателя апостолом Матфея (Деян. I, 26), апостол Павел, который более всех потрудился (I Кор. XV, 10), не имел бы престола для суда; а между тем он прямо указывает, что вместе с другими святыми и сам принадлежит к числу судей, когда говорит: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов» (I Кор. VI, У). Такая же несообразность при буквальном понимании числа двенадцати была бы и в применении к имеющим подлежать суду. Из того, что сказано «судить двенадцать колен Израилевых» не следует, будто колено Иуды, которое по числу тринадцатое, не будет ими судимо, или что они будут судить только этот народ, но не все остальные. А говоря «в пакибытии», Он давал разуметь под именем пакибытия воскресение мертвых. Ибо наша плоть так же возродится нетлением, как возрождена душа наша верою.
Оставляю в стороне такие изречения о последнем суде, которые при внимательном рассмотрении представляются сомнительными или, скорее, относящимися к другому предмету, как–то: к тому пришествию Спасителя, которое все это время Он являет в Своей церкви, т. е. в ее членах, частным образом и в известной доле, так как вся она — тело Его; или к разрушению земного Иерусалима, так как и при речи об
Блаженный Августин 1068
этом предмете говорится по большей части так, будто речь идет о конце века и о том последнем и великом суде. Разобраться во всем этом нельзя иначе, как только сопоставив между собою все, что говорится об этом предмете одинаково у трех евангелистов: Матфея, Марка и Луки. Что один из них говорит более темно, то другой излагает яснее; так что становится очевидным, какой смысл давать тому, что говорится относительно одного и того же предмета. Когда–то я уже сделал это в одном письме, которое написал к блаженной памяти мужу Гезихию, епископу Салок–скому; озаглавлено это письмо «О конце века».
Я перейду в настоящем случае непосредственно к тому, что в евангелие от Матфея говорится о разделении добрых и злых на суде Христовом, составляющем предмет нашего исследования и самом последнем. «Когда же, — говорит Иисус Христос, — приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
О граде Божием 1069
диаволу и ангелам его» (Мф. XXV, 31—41). Далее Он подробнейшим же образом перечисляет им, чего они не сделали, что, по словам Его, сделали правые. На подобный же вопрос их, когда они видели Его нуждающимся в том, Он отвечает, что несделанное меньшим братьям Его, не сделано Ему; и заключая речь свою, говорит: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. XXV, 46). Евангелист же Иоанн повествует, что Он предсказал, что суд имеет быть по воскресении мертвых. Ибо сказав: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его», он тотчас же прибавил: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан. V, 22—24). Здесь Он сказал, что верные Его не придут на суд. Каким же образом они по суду будут отделены от злых и станут по правую от Него сторону? Очевидно, что в этом месте Он употребил слово «суд» вместо слова «осуждение». В такой суд, действительно, не придут те, которые слушают слово Его и веруют в Пославшего Его.
ГЛАВА VI
Продолжая, Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Иоан. V, 25, 26). Он не говорит еще о втором воскресении, т. е. о воскресении тел, но говорит о первом, которое совершается ныне, чтобы отличить именно последнее. Он употребляет выражение: «Наступает время, и настало уже», но это — воскресение не тел, а душ. Ибо и души имеют свою смерть в нечестии и грехах; они мертвы этой
Блаженный Августин 1070
смертью. Это о них тот же Господь говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. VIII, 22), т. е. чтобы мертвые в душе погребали мертвых телом. Итак, имея в виду этих мертвых в душе нечестием и неправдой, Он говорит: «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Бо–жия и услышавши оживут». Сказал «услышавши», т. е. послушавшись, уверовав и пребывши непоколебимыми до конца. На этот раз Он не сделал никакого различия между добрыми и злыми. Ибо для всех благо услышать Его голос и ожить, переходя к жизни благочестия от смерти нечестия Об этой смерти говорит апостол Павел: «Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (II Кор. V, 14, 15). Итак, умерли все, не исключая никого, во грехах, первородных ли то, или добавленных волей, по неведению или сознательно, или по неисполнению того, что требуется справедливостью; и за всех этих мертвых умер один живой, т. е. не имеющий никакого греха, чтобы получившие жизнь через отпущение грехов жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за всех по причине грехов наших и воскрес ради оправдания нашего, чтобы, веруя в Него, оправдывающего нечестивого, мы, оправдавшись от нечестия, как бы ожившие от смерти, могли участвовать в первом воскресении, которое совершается ныне. В этом первом воскресении участвуют только те, которые имеют быть блаженными вечно; во втором же, последующем за этим, по словам Его, будут участвовать и блаженные, и несчастные. Первое — дело милосердия, второе — суда. Потому–то в псалме и написано: «Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь» (Пс. С, 1).
Переходя к этому суду, Он вслед за тем говорит: «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Иоан. V, 27). Здесь Он показывает, что придет судить в той же плоти, в которой
О граде Божием 1071
приходил, чтобы быть судимым. С этой целью Он употребляет выражение: «Потому что Он есть Сын Человеческий». И вслед за словами, которые мы привели, говорит: «Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Иоан. V, 28, 29). Это тот суд, который Он назвал несколько прежде, говоря: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан. V, 24), т. е. участвуя в первом воскресении, которым ныне совершается переход от смерти к жизни, он не будет подлежать осуждению, которое Он обозначил словом «суд». Пусть же, следовательно, воскресает в первое воскресение тот, кто не желает подвергнуться осуждению во второе воскресение. Ибо «наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут», т, е. не подпадут осуждению, которое называется второй смертью; в эту вторую смерть, после второго, имеющего быть телесным, воскресения, низвергнутся те, кто в первое воскресение, которое есть воскресение душ, не воскрес. «Наступает время (теперь не говорит: «И настало уже»; потому что оно наступит в конце века, т. е. на последнем и великом суде Божием), в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут». Не сказал, как о первом воскресении: «И услышавши оживут». Ибо не все оживут тою жизнью, которая, поскольку она блаженна, одна должна носить название жизни. Конечно, слышать и изойти из гробов при воскресении плоти не могут без какой бы то ни было жизни. Но почему не все оживут, Он учит в последующих словах, говоря: «Делавшие зло (изыдут) в воскресение осуждения», — это те, которые не оживут, потому что умрут второю смертью. Сотворили они зло потому, что худо жили; а жили худо потому, что в первое, совершающеес
Блаженный Августин 1072
ныне воскресение душ не ожили, или ожив, не пребыли в том до конца Итак, как есть два пакибытия (возрождения), о которых я говорил выше, одно — верою, которое совершается ныне через крещение, а другое — по плоти, которое будет в нетлении и бессмертии на великом и последнем суде, так есть и два воскресения, одно, которое есть и теперь, есть воскресение душ, не допускающее впасть во вторую смерть; другое — второе, которого ныне нет, но которое будет в конце века, и будет оно воскресением не душ, а тел, и на последнем суде отведет в удел одним вторую смерть, другим жизнь, не имеющую смерти.
ГЛАВА VII
Об этих двух воскресениях тот же евангелист Иоанн в книге, называемой Апокалипсис, говорит так, что первое из них, будучи некоторыми из наших не понято, обратилось как бы в своего рода смешные басни. Говорит апостол Иоанн в упомянутой книге: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет: прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними
О граде Божием 1073
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Апок. XX, 1 —6).
Пришедшие на основании этих слов Апокалипсиса к заключению, будто первое воскресение будет телесным, остановили, между прочим, особое внимание на числе тысяча, найдя в нем указание на то, что якобы у святых надлежало таким образом быть своего рода субботствованию в продолжение такого периода времени в виде святого покоя после трудов шести тысяч лет с того времени, как был сотворен человек и в наказание за великий свой грех низвергнут из райского блаженства в бедствия настоящей смертности; так что соответственно словам Писания: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (II Пет. III, 8), когда исполнится шесть тысяч лет, равняющихся шести дням, последует как бы седьмой день субботы в виде последних тысячи лет, с воскресением, т. е. для празднования этой субботы, святых. Мнение это могло бы быть до некоторой степени терпимо, если бы предполагалось, что в эту субботу святые будут иметь некоторые духовные радости от присутствия Господня. Некогда и мы думали так. Но коль скоро они утверждают, что воскресшие в то время будут предаваться самым неумеренным плотским пиршествам, на которых будет столько пищи и питья, что они не только не будут соблюдать никакой умеренности, но превысят меру самого неверия, то никто, кроме плотских, никоим образом этому поверить не может. Духовные же называют их, верящих этому, греческим именем хЛ^аата^; переведя это название буквально, мы можем называть их тысячниками. Вдаваться в особое опровержение их было бы долго; скорее, мы должны в настоящем случае показать, как следует понимать это место Писания.
Сам Господь Иисус Христос говорит: «Никто, во–шед в дом сильного, не может расхитить вещей его,
Блаженный Августин 1074
если прежде не свяжет сильного, — и тогда расхитит дом его» (Марк. III, 27). Под именем сильного Он дает разуметь диявола, потому что диявол в силах был удержать в плену род человеческий; под вещами же его, которые имел расхитить, дает разуметь будущих верных Своих, которых тот держал в различных грехах и нечестиях. Так как тому сильному предстояло быть связанным, то упомянутый апостол видел в Апокалипсисе «Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Апок. XX, 1, 2), т. е. устранил и ограничил его власть обольщать и держать в своих руках тех, которых ожидало освобождение. Тысяча же лет, как мне кажется, может пониматься двояким образом: или что это совершается в остальные годы тысячелетия, т. е. в тысячелетие шестое, как бы в шестой день, последние часы которого проходят в настоящее время, а затем последует не имеющая вечера суббота, т. е. не имеющий конца покой святых; так что тысячью лет апостол назвал последнюю, остающуюся до конца века часть тысячелетия, как бы часть дня, употребив тот способ выражения, по которому часть называется именем целого; или же тысячью лет он назвал все остальные годы этого века, так что совершенным числом обозначается полнота времени. Ибо число тысяча есть полный квадрат числа десять, Десять, взятые десять раз, дают сто; получается фигура квадратная, но плоская. Чтобы она получила высоту и сделалась полной, сто умножается снова на десять, и получается тысяча. Иногда даже сто употребляется для обозначения всей совокупности чего–либо, как в том случае, когда Господь дает обетование оставившему все и последовавшему за ним, говоря: «Получит во сто крат» (Мф. XIX, 29; Марк. X, 30); как бы поясняя это, апостол говорит: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем» (II Кор. VI, 10). Тем более для обозначени
О граде Божием 1075
совокупности всего употребляется тысяча, которая представляет собой полноту десятичной квадратуры. Лучшего толкования нельзя дать и тому выражению, которое читается в псалме: «Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов» (Пс. С1У, 8), т. е. во все роды.
«И низверг его, — говорит, — в бездну, и заключил его». Последним именем (бездна) обозначается бесчисленное множество нечестивых, сердца которых слишком безмерны в злобе против церкви Божией. («Заключил» туда говорится не потому, чтобы там дьявола прежде не было, а потому, что, будучи устранен эт верующих, он стал сильнее владеть нечестивыми. 1бо тот находится в большей власти дьявола, кто не только отчужден от Бога, но и без всякого повода и «основания ненавидит служащих Богу. «И заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет»; т. е. принял меры, чтобы он не мог выйти, т. е. преступать запрещенное. Прибавка же: «И положил над ним печать», по моему мнению, значит то, что он хотел оставить в тайне, кто принадлежит и кто не принадлежит к части дьявола. Ведь в настоящем веке это совершенно скрыто; падет ли, кто, по–видимому, стоит, и встанет ли, кто представляется лежащим, остается неизвестным. Наложением же печати и заключением дьявол удерживается и устраняется от обольщения тех принадлежащих Христу народов, которые обольщал или которые держал в своей власти прежде. Ибо их избрал Бог прежде создания мира, чтобы исхитить из власти тьмы и поставить в Царство возлюбленного Сына Своего, как говорит апостол (Еф. 1,4; Колос. I, 13). Ведь кто из верующих не знает, что дьявол обольщает и увлекает за собой в вечную казнь народы и в настоящее время, но только те, которые не предназначены к вечной жизни?
То обстоятельство, что он часто обольщает и тех, которые, будучи уже возрождены во Христе, вступа-
Блаженный Августин 1076
ют на путь Божий, также не должно смущать. Ибо «познал Господь Своих» (II Тим. II, 19): из этих никого он не увлечет в вечное осуждение. Господь знает их как Бог, от Которого не укрывается ничто и из будущего, а не как человек, который в настоящем человека видит (если только видит того, чье сердце не видит), а каким будет после, — не видит и себя самого. Итак, дьявол связан и заключен в бездну для того, чтобы не обольщал он уже народы, из которых состоит Церковь и которых, обольщенных, держал в своей власти прежде, пока Церкви не было. Ибо не сказано: «Да не прельстит кого–либо», но: «Дабы не прельщал уже народы», под которыми он, без всякого сомнения, разумел Церковь. Говорит: «Доколе не окончится тысяча лет», т. е. или то, что остается еще от шестого дня, состоящего из тысячи лет, или все годы, которые остается еще прожить в этом веке.
Не следует эти слова: «Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет» понимать и в том смысле, будто потом он будет прельщать только те народы, из которых состоит предопределенная Церковь, от прельщения которых он удержан оковами и заключением. В данном случае или употреблен тот способ выражения, который иногда встречается в Писаниях, например в псалме: «Так очи наши — к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас» (Пс. СХХ11,2), не в том, конечно, смысле, будто когда помилует, очи рабов Господних не будут к Господу Богу их; или, вернее, порядок слов таков: «И заключил его, и положил над ним печать, доколе не окончится тысяча лет»; а промежуточные слова: «Дабы не прельщал уже народы» представляют собою вставку, не стоящую в зависимости от занимаемого ею места, а имеющую отдельный смысл, как бы она была прибавлена после; так что все изречение могло бы быть изложено так «И заключил его, и положил над ним печать, доколе не окончится тысяча лет, дабы не прельщал уже народы», т. е. для того заключил, пока окончится тысяча лет, чтобы он уже не прельщал народы.
О граде Божием 1077
«После же сего, — говорит, — ему должно быть I освобожденным на малое время» (Апок. XX, 3). Если быть связанным и заключенным для дьявола значит не иметь возможности обольстить Церковь, то освобождение его не то ли значит, что он будет иметь эту возможность? Отнюдь. Никогда не обольстит он Церкви, предназначенной и избранной от создания мира, о которой сказано: «Познал Господь Своих» (II Тим. II, 19). И однако же Церковь эта будет здесь и в то время, когда получит свободу дьявол, как была I здесь со времени своего учреждения и будет все время в тех членах своих, которые, рождаясь, заступают место умирающих. Ибо немного ниже он говорит, что освобожденный дьявол увлечет обольщенные им по всему свету народы в войну против нее и что чис–I ло врагов этих будет как песок морской. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Апок. XX, 8—10). Но последнее относится уже к окончательному суду; привести это свидетельство я счел нужным в настоящем случае для того, чтобы кто–нибудь не подумал, будто в тот краткий период времени, на который получит свободу диявол, Церкви на этой земле не будет, так что освободившийся диявол или уже не найдет ее здесь, или истребит, употребив всякого рода преследования. Итак, на все то время, какое обнимает упомянутая книга, т. е. начиная от первого пришествия Христова до конца века, когда будет Его второе пришествие, дьявол связан будет не так, чтобы эти самые узы препятствовали ему в тот промежуток времени, который называется тысячью лет, обольщать Церковь; хотя он никоим образом не обольстит ее и после своего освобождения. Ведь если бы быть свя-
Блаженный Августин 1078
занным значило для него не иметь возможности и дозволения обольщать, то что бы означало его освобождение, как не получение возможности и дозволения обольщать? Но да не будет этого; заключение диявола в узы значит недозволение ему производить искушения во всем объеме, какой он может дать им посредством силы или коварства для обольщения людей, то насильственно принуждая, то обманом привлекая их на свою сторону. Если бы ему это было дозволено на такое продолжительное время и при таком малодушии большинства, то очень многих таких, которых желает предохранить от этого Бог, он заставил бы пасть и не допустил бы уверовать; чтобы он не сделал этого, он заключен в узы.
Будет же он освобожден тогда, когда и времени будет мало, потому что всеми своими силами и силами своих сторонников он будет свирепствовать, по словам Писания, в течение трех лет и шести месяцев; и когда те, с которыми ему придется вести войну, будут таковы, что подобное нападение столь великой рати их не сломит. Но если бы он никогда не получил свободы, его злобное могущество не обнаружилось бы в достаточной степени, не было бы испытано в достаточной мере преданнейшее терпение святого града; да и не уяснилось бы достаточно то, как прекрасно его великою злобой воспользовался Всемогущий. Ибо Всемогущий не вовсе пресек для него возможность искушать святых, хотя удалил его от их внутреннего человека, в котором живет вера в Бога, чтобы нападения его, имея внешний характер, приносили им пользу; связал же его в его же сторонниках для того, чтобы тех бесчисленных слабых, которыми должна была умножаться и наполняться Церковь, он, изливая и упражняя всю силу злобы своей, одних, имевших уверовать, других, уже уверовавших, первых не отвратил от веры благочестия страхом, последних не лишил мужества; а освободил его под конец для того, чтобы град Божий увидел, какого
О граде Божием 1079
сильного противника победил он во славу своего Искупителя, Помощника и Освободителя. Что же после этого мы по сравнению с теми святыми и верными, которые будут в то время? Для испытания их получит свободу такой враг, с которым мы, когда он связан, боремся с великими опасностями! Впрочем, и в этот промежуток времени, без всякого сомнения, были и есть некоторые воины Христовы до такой степени мудрые и мужественные, что если бы жили в этой смертности и в то время, когда диявол получит свободу, мудрейшим образом предусмотрели бы и с величайшим терпением выдержали бы все его козни и нападения.
Узы же эти не только были наложены на диявола в то время, когда Церковь, вышедшая за пределы Иудеи, стала распространяться между новыми и новыми народами, они наложены теперь и будут наложены до конца века, при котором дьявол получит свободу. Ибо и в настоящее время люди обращаются к вере из неверия, в котором он их держал, и будут, без всякого сомнения, обращаться до самого упомянутого конца. В отношении к каждому из них оный сильный непременно связывается в то время, когда кто–нибудь, как его вещь, у него похищается. И пропасть, в которой он заключен, не уничтожилась со смертью тех, которые жили в то время, когда началось его заключение; их заступили, рождаясь, другие, и пока не окончится этот век, их будут заступать ненавистники христиан, в слепом и мрачном сердце которых он будет заключен, как в бездне. Но возникает вопрос: в эти последние три года и шесть месяцев, когда освобожденный диявол будет свирепствовать со всею силой, примет ли кто–нибудь веру, который прежде ее не содержал? Каким образом сохранит в таком случае свою силу сказанное: «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного»? Изречение это, по–видимому, заставляет нас предположить, что в то малое врем
Блаженный Августин 1080
никто не вступит в ряды народа христианского и что диявол будет сражаться с теми, кого уже застанет христианами; и если из последних кто–нибудь, будучи побежден, перейдет на его сторону, таких не следует считать в предопределенном числе сынов Божи–их. Ведь не напрасно тот же апостол Иоанн, который написал Апокалипсис, говорит в своем послании о некоторых: «Они вышли от нас, но не были наши; ибо если бы они были наши, то остались бы с нами» (1 Иоан.П, 19).
Но что будет с маленькими детьми? В высшей степени невероятно, чтобы то время не застало между детьми христиан только что рожденных и еще не крещенных младенцев, чтобы и в сами те дни никто более не рождался, или, если такие будут, чтобы родители их тем или иным способом не приводили их к купели возрождения. Если же это будет, то каким образом у диявол а, уже развязанного, будут похищаться эти вещи, когда никто не может войти в дом его, чтобы похитить его вещи, не связав прежде его самого? Но гораздо с большею вероятностью можно думать, что не будет в то время недостатка ни в отпадающих от церкви, ни в обращающихся к церкви; причем, как родители в отношении крещения своих малюток, так и те, которые имеют тогда впервые уверовать, будут настолько мужественны, что победят оного сильного и не связанного, т. е. когда он будет строить козни и нападать со всеми силами, какими прежде никогда не располагал, предусмотрительно поймут и терпеливо перенесут; и, таким образом, будут похищены у него и не связанного. От этого не потеряет своей истины и приведенное евангельское изречение: «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного». Ибо, по буквальному смыслу изречения, указанный в нем порядок сохранится; сперва сильный связан, и по расхищении у него вещей долго и повсюду в среде всех народов из сильных и сла-
О граде Божием 1081
бых церковь будет размножаться так, что, укрепившись верою при виде исполнения на деле свыше предсказанных событий, в состоянии будут похищать вещи и у развязанного. Как следует признать, что любовь многих охладеет, когда умножится беззаконие (Мф. XXIV, 12), и что многие, которые не записаны в книгу жизни, поддадутся необычным и величайшим преследованиям и обманам диявола, на ту пору освобожденного, так же следует думать, что не только те, которых время не застанет добрыми и верными, но и некоторые из тех, которые еще будут вне Церкви, через внимательное с помощью благодати Божией изучение Писаний, предсказавших среди прочего и сам этот конец, наступление которого они почувствуют, окажутся более твердыми для того, чтобы победить дьявола и не связанного. Если это будет так, то нужно сказать, что наложение уз предшествовало для того, чтобы расхищение производилось и в то время, когда он был связан, и в то, когда развязан; потому что об этом сказано: «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного».
ГЛАВА IX
Пока диявол в продолжение тысячи лет связан, святые, несомненно, царствуют со Христом в эти самые тысячу лет, т. е. царствуют уже и в это время Его первого пришествия. Если бы, независимо от того царствования, о котором Христос скажет в конце: «При–идите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство» (Мф. XXV, 34), святые Его, которым Он говорит: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. XXVIII, 20), не царствовали уже с Ним ныне некоторым иным, хотя и далеко не равным образом, то церковь Его, конечно, не называлась бы уже теперь Его царством или царством небесным (Мф. XIII, 52). В
Блаженный Августин 1082
настоящее, конечно, время научается в царствовании небесном тот книжник, выносящий из сокровищницы своей новое и старое, о котором мы говорили выше. От Церкви же будут собирать жнецы и те плевелы, которым Он дозволил расти вместе с пшеницей, о чем, поясняя, Он говорит: «Жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны» (Мф. XIII, 39—41). От того ли царства соберут, в котором соблазнов нет? Очевидно, соберут от этого царства, которое представляет из себя здесь Церковь. Говорит Он также: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. V, 19). И того и другого, и не исполняющего на деле заповедей, которым научает, ибо нарушать — значит не соблюдать, не исполнять на деле; и того, который исполняет на деле и так учит, Он представляет в царствии небесном, но первого малейшим, а второго великим. И, продолжая речь, прибавляет: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев (т. е. не будет выше праведности тех, которые нарушают то, чему учат. Ибо о книжниках и фарисеях Он говорит в другом месте: «Они говорят и не делают» (Мф. XXIII, 3); итак, если праведность ваша не превзойдет их в том смысле, что вы не будете нарушать, но будете на деле исполнять то, чему учите), то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. V, 20). В том, следовательно, смысле нужно понимать то царствие небесное, в котором они представляются оба, но первый — малейшим, а последний — великим. Где существует тот и другой род людей, там Церковь такова, какова она в настоящее время; а где будет только один последний род, там Церковь такова, каковою она будет в то время, когда злого в ней не будет.
О граде Божием 1083
Следовательно, и в настоящее время Церковь есть царствие Христово и царствие небесное. Поэтому и в настоящее время святые Его царствуют с Ним, хотя иначе, чем будут царствовать тогда; не царствуют с Ним только плевелы, хотя и растут в Церкви вместе с пшеницей. Ибо царствуют с Ним те, которые исполняют, что говорит апостол: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. III, 1, 2). О таких же в другом месте он говорит: «Наше же жительство — на небесах» (Филип. III, 20). Царствуют, наконец, с Ним те, которые так принадлежат к Его царству, что сами составляют царство Его. Но каким образом составляют царство Христово те, которые, чтобы не говорить о других, хотя и находятся в нем, пока в конце века не соберутся от него все соблазны, однако ищут в нем своего, а не того, что Христово?
Об этом воинствующем царстве, в котором еще идет борьба с врагом и сражение с пороками, а иногда повелевают и пороками смирившимися, пока не достигнут того полного мира царства, в котором будет царствование без врага, и об этом первом воскресении, которое совершается ныне, упомянутая выше книга говорит следующее. Сказав, что диявол связан на тысячу лет и потом освободится на короткое время, и вкратце упомянув вслед за тем, что в течение этих тысячи лет будет делать церковь или что будет в ней делаться, книга говорит: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить» (Апок. XX, 4). Эта речь не о последнем суде; нужно разуметь те престолы председателей и тех самых председателей, которыми Церковь управляется в настоящее время. Под данным же судом ничего лучшего нельзя разуметь, кроме сказанного: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. XVIII, 18). Почему и апостол говорит: «Что мне судить и внешних? Не
Блаженный Августин 1084
внутренних ли вы судите?» (I Кор. V, 12). «И души, — продолжает, — обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие» (Апок. XX, 4); подразумевается то, о чем она скажет после — о воцарении с Иисусом на тысячу лет; души разумеются мучеников, не получившие еще обратно своих тел. Ибо души благочестивых умерших не отделяются от Церкви, которая и в настоящее время представляет собой царствие Христово. В противном случае память о них не совершалась бы в общении тела Христова; не приносило бы никакой пользы в случае опасности для жизни прибегать к Его крещению, если бы случилось, что кто–нибудь был отлучен от того же тела покаянием или худою совестью. Почему все это делается, как не потому, что и умершие суть члены Его?
Итак, хотя они еще не со своими телами, однако души их царствуют уже с Ним, пока пройдет эта тысяча лет. Почему в той же самой книге в другом месте читается: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Апок. XIV, 13). Итак, в настоящее время Церковь царствует с Христом в первый раз в лице живых и умерших. «Ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, — как говорит апостол, — чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим. XIV, 9). Упоминается же только о душах мучеников потому, что из умерших царствуют по преимуществу те, которые сражались за истину даже до смерти. Но как под частью целое, разумеем под ними и других, умерших, принадлежащих к Церкви, которая есть царство Христово.
Следующие же слова: «Которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою» (Апок. XX, 9) мы должны понимать как сказанные совместно о живых и мертвых. Упоминаемый здесь зверь может быть предметом особого исследования; однако же правой вере не противоречит разуметь под ним сам нечестивый град
и народ неверных, враждебный народу верному и граду Божию. Образом же его, по моему мнению, называется лукавство его в тех людях, которые веру как будто исповедуют, но живут как неверные. Ибо они изображают из себя не то, что они на самом деле, и называются не истинным видом, а ложным подобием христианина. К тому же самому зверю относятся не только открытые враги имени Христова и славнейшего града Его, но и те плевелы, которые в конце века должны быть собраны от Его царства, под которым разумеется Церковь. А эти, не поклонившиеся ни зверю, ни его образу, кто они, как не те, которые исполняют слова апостола: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» (II Кор. VI, 14)? Они не поклоняются ему, т. е. не сочувствуют, не подчиняются; и не принимают начертания, т. е. клейма преступления: на чело — ради исповедания, на руку — ради дел. Чуждые этого зла, они, при жизни ли еще в этой смертной плоти, или после смерти, царствуют уже со Христом и теперь известным, соответствующим настоящему времени образом, во весь тот период, который обозначается числом тысяча лет.
«Прочие же из умерших, — говорит, — не ожили» (Апок. XX, 5). Ибо ныне есть час, когда мертвые слышат глас Сына Божия; и услышавшие — оживают (Иоан. V, 25), прочие же из них не оживают. А добавление: «Доколе не окончится тысяча лет» должно быть понимаемо в том смысле, что они не ожили в то время, когда должны были ожить, перейдя от смерти к жизни. И потому, когда наступит день, в который совершится воскресение тел, они выйдут из гробов не для жизни, но для суда, т. е. для осуждения, которое называется второй смертью. Ибо кто не ожил, пока окончится тысяча лет, т. е. кто во весь тот период времени, в который совершается первое воскресение, не услышал глас Сына Божия и не перешел от смерти к жизни, тот во второе воскресение, которое будет воскресением плоти, окончательно вмес-
Блаженный Августин 1086
те с этой плотью перейдет в смерть вторую. Далее говорится: «Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом» (Апок. XX, 5, 6), т. е. тот, кто участник его. Участник же его тот, кто не только возвратился к жизни от смерти, состоящей в грехах, но и остался твердым в той жизни, к которой возвратился. «Над ними, — говорит, — смерть вторая не имеет власти». Имеет, следовательно, эту власть над теми прочими, о которых выше говорит: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет»; потому что сколько бы каждый из них не жил в теле во весь тот промежуток времени, который называется тысячью лет, никто из них не возвратился к жизни от той смерти, в которой держало его нечестие, чтобы, оживши так, сделаться участником первого воскресения и чтобы над ним смерть вторая власти не имела.
ГЛАВАХ
Некоторые думают, что речь может идти только о воскресении тел; и потому утверждают, что и это первое воскресение будет в телах. Кому свойственно, говорят они, падать, тому свойственно и восставать (воскресать). А падают, умирая, тела; от падения они и называются падалью. Следовательно, заключают они, возможно, воскресение не душ, а тел. Но зачем говорят они вопреки апостолу, который разумеет это воскресение? Те, несомненно, воскресли по внутреннему человеку, а не по внешнему, которым он говорит: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. III, 1, 2). Туже мысль в другом месте он излагает иными словами, говоря: «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. VI, 4). Отсюда и известное изречение: «Встань, спя-
О граде Божием 1087
щий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Ефес. V, 14). Касательно же того, что говорят, будто восставать (воскресать) могут только те, кто падает; и потому думают, что воскресение может относиться только к телам, а не к душам; то почему они пропускают мимо ушей следующее: «Пред своим Господом стоит он или падает» (Рим. XIV, 4); и еще: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (I Кор. X, 12). Думаю, что предостережение дается относительно падения душевного, а не телесного.
Итак, если воскресение свойственно падающим, а падают и души, то следует само собою признать, что и души воскресают. А что после слов: «Над ними смерть вторая не имеет власти» добавлено: «Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Апок. XX, 6), то это во всяком случае сказано не об одних епископах и пресвитерах, которые в настоящее время исключительно называются в Церкви священниками. Как всех мы называем христианами по причине таинственного помазания, так называем всех и священниками, потому что они члены одного Священника. О них говорит апостол Петр: «Вы — род избранный, царственное священство» (I Пет. И, 9). Метко, хотя коротко и мимоходом вставлена мысль, что Христос есть Бог, выражением «священниками Богу и Христу», т. е. Отцу и Сыну; хотя по причине вида рабского и Христос, как сын человеческий, сделался, таким образом, священником во веки по чину Мелхиседекову (Пс. С1Х, 4). Об этом в настоящем сочинении мы говорили не раз.
ГЛАВА XI
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выР дет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как пе-
Блаженный Августин 1088
сок морский» (Апок. XX, 7). В то время, следовательно, он прельстит именно для того, чтобы вовлечь в эту войну. Ибо всякими способами, какими мог, он прельщал множеством и разнообразием зла и прежде. Сказано «выйдет», т. е. от тайной ненависти перейдет к открытому преследованию. Это будет последнее преследование, которому, перед наступлением последнего суда, по всей земле подвергнется святая Церковь, т. е. град Христов от всего града дьявольского, пока они оба еще будут на земле. Под народами, которые называются Гог и Магог, не следует разуметь каких–нибудь варваров, населяющих какую–либо часть земли, вроде Гетов и Массагетов, как думают некоторые на основании сходства в буквах их имен, или вроде других иноплеменных, не находящихся под римскою властью (народов). Ибо они выставляются живущими по всей земле, когда говорится: «Выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли», а затем прибавляется: «Гога и Магога». Значение этих имен в переводе таково: Гог — кровля, Магог — из–под кровли; как будто бы — дом, и тот, кто выходит из дома.
Итак, это те народы, в которых, как мы показали выше, заключен, как в бездне, диявол; и сам он — как бы выступает и выходит из них: те — кровля, он — из–под кровли. Если же оба названия отнесем к народам, а не одно — к ним, другое — к дияволу, то они будут и кровлею, потому что в них в настоящее время заключен и ими некоторым образом прикрывается древний враг; и они же будут из–под кровли, когда перейдут от тайной ненависти к явной. Сказанное же: «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный» (Апок. XX, 8) не то значит, что они пришли или придут в одно место, так, как будто в одном каком–либо месте будет находиться в то время стан святых и город возлюбленный. Речь идет о Церкви Христовой, распространенной по всей земле. Где она в то время ни будет, — а она будет в
О граде Божием 1089
среде всех народов, что обозначается названием широты земли, — там будет и стан святых, там будет и возлюбленный Богом град Его; там все враги ее, — так как и они вместе с нею будут находиться в среде всех народов, — окружат ее своим жестоким преследованием, т. е. будут стеснять, тревожить, ставить в безвыходное положение тяжкими напастями. И она, со своей стороны, не оставит воинствующего положения, потому что названа именем стана.
ГЛАВА XII
А что книга говорит: «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Апок. XX, 9), то под этим нужно разуметь не ту последнюю казнь, которая наступит, когда будет сказано: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его» (Мф. XXV, 41). Ибо тогда они будут посланы в огонь, а не на них придет с неба огонь. Здесь же под огнем с неба уместно разуметь саму твердость святых, с которою они не поддадутся производящим жестокости, не станут поступать по их воле. Ибо твердь есть небо, твердость которого заставит их терзаться жесточайшею ревностью; так как они окажутся не в состоянии привлечь на сторону антихриста святых Христовых. И ревность эта будет тем огнем, который пожрет их, и это будет от Бога; то — дар Божий, что святые остаются непобедимыми, заставляя этим терзаться врагов. Как говорится в добрую сторону: «Ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс. ОСУТП, 10), так говорится и наоборот: ревность овладела народом ненавидящим, и ныне «огонь пожрет врагов Твоих» (Ис. XXVI, II). Именно ныне, т. е. независимо от огня того последнего суда. Если же огнем, нисходящим с неба и пожирающим их, книга назвал а тот удар, которым будут поражены преследователи Церкви, которых застанет живущими на земле в само уже при-
35 О граде Божием
Блаженный Августин 1090
шествие Свое Христос, когда «откроется беззакон–ник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих» (II Фес. II, 8), то и это не будет последнею казнью нечестивых, но такою казнью будет то, чему они подвергнутся уже по воскресении тел.
ГЛАВА XIII
Это последнее гонение, имеющее быть от антихриста, как мы уже говорили (потому что так сказано и в этой книге выше, и в книге пророка Даниила), продолжится три года и шесть месяцев. Естественно, возникает недоумение, относится ли это, пускай и небольшое, время к той тысяче лет, в течение которых, по словам книги, диявол связан, а святые царствуют с Христом; или это малое время прибавляется к тем годам и не входит в их число. Если мы скажем, что оно относится к той же тысяче лет, то окажется, что царствование святых со Христом продолжится не столько же, но более того времени, на какое связан диявол. Ибо, без всякого сомнения, святые будут царствовать с Царем своим, торжествуя над силою зла, по преимуществу в то именно гонение, когда диявол уже не будет связан и будет в состоянии преследовать их всеми силами. Каким же после этого образом Писание определяет тою же тысячью лет то и другое, т. е. и заключение в узы диявола, и царствование святых, когда в течение этой тысячи лет заключение диявола прекратится на три года и шесть месяцев раньше, чем царствование святых со Христом? Если же мы скажем, что этот небольшой период гонения не следует полагать в числе тысячи лет, а нужно прибавить его к этим годам, когда они исполнятся, — сделанная после слов: «Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» прибавка: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей» удержит
О граде Божием 1091
свой прямой смысл; ибо она будет, таким образом, показывать, что и царствование святых, и заключение в узы дьявола прекратятся одновременно, так что последующее за этим время гонения представляется не принадлежащим ни к царствованию святых, ни к заключению дьявола, а добавочным и имеющим свой особый счет, но в таком случае мы вынуждены будем допустить, что святые не будут в это гонение царствовать со Христом.
Между тем, кто осмелится утверждать, что с Ним не будут царствовать члены Его, когда будут соединены с Ним теснейшим и сильнейшим образом, и в такое время, когда чем ожесточеннее будет натиск битвы, тем больше слава сопротивления, тем густо–лиственнее венец мученичества? Уж не потому ли нельзя сказать, что они будут царствовать, что будут терпеть известные бедствия? Но в таком случае последовательность требовала бы сказать, что не царствовали со Христом и в предшествующее время в течение той же тысячи лет те из святых, которые подверглись бедствиям, так как это было время их бедствий; выходило бы, что и те, о которых писатель книги говорит, что видел души убитых за свидетельство Иисусово и за слово Божие, не царствовали со Христом в то время, когда терпели гонения; да и сами они не были царством Христа, — они, бывшие по преимуществу достоянием Христовым! Заключение в высшей степени нелепое и ни с чем не сообразное. Не подлежит никакому сомнению, что победоносные души славнейших мучеников, восторжествовавшие над всеми скорбями и совершившие подвиги, после того, как сложили смертные члены, воцарились и царствуют со Христом, пока окончится тысяча лет, чтобы потом царствовать и с воспринятыми вновь, бессмертными уже телами. Таким образом, в течение этих трех с половиной лет души убитых за свидетельство Его, как разлучившиеся с телами прежде, так и те, которые имеют разлучиться во время того
Блаженный Августин 1092
последнего гонения, будут царствовать со Христом, пока окончится смертный век и перейдут они к тому царствованию, в котором смерти не будет. Поэтому для царствования святых со Христом будет большее число лет, чем для заключения в узы и лишения свободы дьявола; они будут царствовать с Царем своим, Сыном Божиим, и те три с половиною года, когда диявол уже не будет связан.
Итак, когда мы слышим: «Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей» (Апок. XX, 6,7), нам остается разуметь, что окончится тысячелетие не царствования святых, а заключения в узы и лишения свободы диявола; так что каждая сторона имеет для окончания тысячелетия, т. е. всех своих лет, различные и особые сроки: царствование святых — более отдаленный, заключение диявола — более близкий; или, что вероятнее, представлять дело так, что в силу незначительности срока трех лет и шести месяцев Писание не хотело ни вычитать его из времени заключения в узы сатаны, ни прибавлять ко времени царствования святых. Пример в этом роде я указал в шестнадцатой книге этого сочинения относительно сорока лет; хотя лет было несколько больше, но о них говорится как о сорока. Подобные примеры встречаются в священном Писании часто, разумеется, для внимательного читателя.
ГЛАВА XIV
После этого рассказа о последнем гонении в кратких словах излагается то, чему подвергнется диявол уже на окончательном суде, а вместе с князем своим—и вражеский град. Книга говорит: «А диявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и
О граде Божием 1093
ночь во веки веков» (Апок. XX, 10). Под зверем, как мы уже сказали выше, следует разуметь сам нечестивый град. Лживый же пророк его есть или антихрист, или тот образ, т. е. измышление, о котором мы говорили тогда же. Затем, возвращаясь к повествованию о том окончательном суде, который будет во второе воскресение мертвых, имеющее быть для тел, Иоанн, соответственно данному ему откровению, говорит: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места» (Апок. XX, II). Не говорит: «Видел я престол великий и белый, и Сидящего на нем, и от лица Его бежало небо и земля, потому что это совершилось не в то время», т. е. прежде суда над живыми и мертвыми; но сказал, что видел сидящим на престоле Того, от лица Коего бежало небо и земля, — бежало, но потом. Ибо это небо и эта земля перестанут существовать уже после совершения суда, тогда, когда явятся небо новое и земля новая. Мир этот перейдет не в смысле совершенного уничтожения, а вследствие изменения вещей. Почему и апостол говорит: «Проходит образ мира сего. А я хочу, чтоб вы были без забот» (I Кор.УП, 31, 32). Уничтожится образ его, но не природа.
Итак, сказав, что видел сидящим на престоле Того, от лица Коего бежало небо и земля, что имеет быть потом, Иоанн говорит-. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно делам своим» (Апок. XX, 12). Сказал, что открыты были книги и еще одна книга, но о последней не умолчал, какого рода эта книга. Книга эта, говорит он, есть книга жизни каждого. Следовательно, под теми книгами, о которых он сказал прежде, нужно разуметь книги священные, как древние, так и новые; так что в этих книгах показывалось, что повелел Бог Своими заповедями делать, а в той, кото-
Блаженный Августин 1094
рая есть книга жизни, что из поведенного каждый сделал или не сделал. Если последнюю книгу представлять телесным образом, — кто в состоянии определить ее величину и длину? Или сколько бы времени потребовалось на прочтение книги, в которой описана вся жизнь всех и каждого? Разве не предстанет ли такое же число ангелов, в каком числе будут люди, и каждый из людей будет слушать свою жизнь, читаемую от приставленного к нему ангела? Но в таком случае, книга была бы не одна для всех, но отдельная для каждого. Между тем, давая разуметь, что книга эта будет одна, Писание говорит — «И иная книга раскрыта»
Итак, нужно представлять некую божественную силу, действием которой воспроизведутся в памяти и с удивительной живостью встанут перед умственным взором каждого все дела его, как добрые, так и злые; так что знание осудит или оправдает совесть, и таким образом будут судимы совместно все и каждый Эта божественная сила, очевидно, и получила название книги. В ней как бы читается то, что по действию ее воспроизводится в памяти. А чтобы показать, какие это мертвые, малые и великие, имеют быть судимы, он, как бы по воспоминанию возвращаясь снова к тому, что прежде опустил или, вернее, отложил на время, говорит: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них» (Апок. XX, 13). Это совершилось, несомненно, раньше, чем мертвые были судимы; и, однако же, о суде сказано прежде. Поэтому–то я и сказал, что он по воспоминанию возвратился к тому, что опустил. Теперь же он держится порядка, и чтобы сам порядок этот уяснился, находит уместным повторить в данном случае сказанное уже прежде о суде над мертвыми. Сказав — «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них», он тотчас же прибавляет то, о чем уже упомянул несколько выше: «И судим был каждый по делам своим».
О граде Божием 1095
ГЛАВА XV
Но кто эти мертвые, которых отдало море? Ведь нельзя же полагать, чтобы умирающие в море не были в аду, или чтобы тела их сохранились в море, или, что было бы еще нелепее, чтобы море содержало добрых мертвецов, а ад — злых. Кому придет в голову подобная мысль? Вполне основательно думают некоторые, что в этом случае слово «море» употреблено в смысле настоящего века. Итак, давая разуметь, что вместе с теми, которые воскреснут, будут подлежать суду и те, которых Христос застанет здесь еще в телах, он назвал и их мертвыми, причем как добрых, о которых говорится: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. III, 3), так и злых, о которых сказано: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. VIII, 22). Мертвыми они могут быть названы уже потому, что носят смертные тела, почему и апостол говорит: «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Рим. VIII, 10), — говорит, показывая, что то и другое, и мертвое тело, и живой дух, существует в человеке живущем, находящемся в этом теле. И не назвал плоть смертной, а назвал мертвой; хотя несколько ниже называет те же самые тела более употребительным словом — смертными (Рим. VIII, 11). Итак, отдало море мертвых, бывших в нем, т. е. отдал настоящий век людей, которые в нем находились, потому что еще не умерли. «И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Море отдало, потому что они предстали так, как были застигнуты; смерть и ад возвратили, потому что их снова призвали к жизни, которая уже миновала.
Возможно, что были основания, по которым недостаточно было сказать просто «смерть» или «ад*, но должно было быть сказано то и другое: смерть — в применении к добрым, которые могли претерпеть только смерть, но не быть в аду; ад — в применении к злым, которые несут наказание и в аду. Ибо если не
Блаженный Августин 1096
безосновательно представляется вера, что и древние святые, исповедавшие веру в непришедшего еще Христа, находились хотя и в весьма удаленных от мучений нечестивых местах, но все же в аду, пока не извлекла их оттуда кровь Христова, проникшая и в те места, то совершенно в порядке вещей, если добрые верующие после того, как эта цена искупления уже пролита, вовсе не ведают ада, пока, по восприятии самих тел, не воспримут те блага, какие заслужили. Сказав же: «И судим был каждый по делам своим» (Апок. XX, 13), (автор) поясняет кратко, как они были судимы. «И смерть и ад, — говорит, — повержены в озеро огненное» (Апок. XX, 14); этими именами он обозначает как диявола, так как он был виновником и смерти, и казней адских, так и все общество демонов. Это то же самое, что говорил он и выше, но с большей ясностью: «А диявол, прельщавший их, ввер–жен в озеро огненное и серное». Затем он прибавил нечто менее понятное: «Где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Апок. XX, 10). Но то, что он там прибавил с большею темнотою, то говорит здесь яснее: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Апок. XX, 15). Не для напоминания Богу эта книга, не для того, чтобы не забыл Он, она указывает на предназначение тех, кому дана будет жизнь вечная. Бог знает их и не читает этой книги, чтобы знать. Само пред–ведение Его о них, которое обманываться не может, и есть эта книга жизни, в которую они записаны, т. е. • предузнаны.
О граде Божием 1097
нить и непосредственно следующие за этим слова: «А праведники в жизнь вечную» (Мф. XXV, 46). «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уж нет» (Апок. XXI, 1). Это будет в том порядке, о котором, предваряя, он уже сказал выше, что видел Сидящего на престоле, от лица Коего бежало небо и земля (Апок. XX, 11). По осуждении тех, которые не записаны в книге жизни, и по ввержении их в огонь вечный (какого рода этот огонь и в какой части мира или вселенной он будет, полагаю, не знает никто из людей, разве что тот, кому откроет Дух Святый), пройдет образ мира сего через истребление его мировыми огнями, подобно тому, как потоп совершился через наводнение мировыми водами. Итак, в этом, как сказал я, мировом пожаре, уничтожатся от огня те свойства тленных стихий, которые соответствовали нашим тленным телам, а сама субстанция получит такие свойства, которые через удивительное изменение окажутся соответствующими телам бессмертным; так что мир, обновившись к лучшему, получит полное приспособление к людям, обновившимся к лучшему и по плоти. Относительно же слов: «И моря уж нет» я затрудняюсь сказать, иссушится ли оно, или также обратится в нечто лучшее. Ибо мы читаем, что небо будет новым и земля новой, но я не упомню, чтобы где–либо читал о новом море, за исключением тех мест этой же книги, где сказано о «море стеклянном, подобном кристаллу» (Апок. IV, 6; XV, 2). Но в тех случаях не идет речь о конце века, да и о море говорится, похоже, не в собственном смысле слова, а как бы о море. Впрочем, так как пророческая речь любит к прямым выражениям примешивать переносные, то и в словах: «И моря уж нет» может идти речь о том море, которое «отдало мертвых, бывших в нем» (Апок. XX, 13). Ибо тогда этот мятежный и бурный век, подразумеваемый под именем моря, не будет уже жизнью смертных.
Блаженный Августин 1098
ГЛАВА XVII
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Апок. XXI, 2 — 5). Говорится, что город сходит с неба, потому что благодать, по которой Бог творит его, небесная. Почему Он говорит ему через Исайю: «Я, Господь, творю это» (Ис. ХЬУ, 8). Правда, нисходит он с неба с самого начала, с того времени, как граждане его в течение этого века по благодати Божией, сходящей свыше, возрастают через купель возрождения в Духе Святом, ниспосланном с неба. Но по суду Божию, который будет последним судом через Сына Его — Иисуса Христа, град этот по дару Божию явится в таком великом и новом блеске, что не останется никаких следов ветхости; так как и сами тела от ветхого тления и смертности перейдут к нетлению и бессмертию.
Относить же это к тому времени, когда он царствует с царем своим тысячу лет, на мой взгляд, было бы крайним бесстыдством; ибо он совершенно ясно говорит: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Кто же будет так глуп и до такого сумасбродства упрям, что осмелится утверждать, чтобы, не говорю святой народ, а хоть бы кто–либо из святых, ведущий или уже проведший настоящую бедственную жизнь, не знал ни слез, ни скорбей; когда, напротив, чем кто святее, чем более исполнен святым желанием, тем обильнее его плач в молитве?
О граде Божием 1099
Или это голос не гражданина горнего Иерусалима: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь» (Пс. Х1Л, 4)? И еще: «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» (Пс. VI, 7). Еще: «Воздыхание мое не сокрыто от Тебя» (Пс. XXXVII, 10). Еще — «Скорбь моя подвиглась» (Пс. XXXVIII, 3). Или (это голос) не Его сына (о том), что стенают под бременем, потому что не хотят совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью (II Кор. V, 4)? Не о тех ли речь, которые, имея начаток Духа, сами в себе стенают, ожидая усыновления, искупления тела своего (Рим. VIII, 23)? Или же сам апостол Павел не был вышним иерусалимлянином, и не тогда ли и был им по преимуществу, когда терпел великую печаль и непрестанное мучение сердцу своему за израильтян, братьев своих по плоти (Рим. IX, 2,3)? Да и когда в том граде не будет смерти, как не в то время, когда будет сказано: «Смерть! где твое жало? Жало же смерти — грех» (I Кор.ХУ, 55, 56). Этого, конечно, не будет тогда, когда будет спрошено: «Где?» А в настоящее время не какой–нибудь самый последний гражданин этого града, а тот же Иоанн в послании своем восклицает. — «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (I Иоан. I, 8).
Правда, в этой книге, называемой Апокалипсисом, многое говорится прикровенно, чтобы дать упражнение уму читателя, и немного в ней есть такого, что своею ясностью дает возможность привести к уразумению остальное, пускай и с трудом; хотя бы потому, что книга повторяет одно и то же так многоразлично, что кажется, будто она говорит все новое и новое, между тем как при исследовании обнаруживается, что говорится разными словами то же самое. Но в этих словах, когда он говорит: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет», столь недвусмысленно говорится о будущем веке и о бессмертии и
Блаженный Августин 1100
вечности святых (ибо только тогда и только там этого не будет), что мы не должны уже искать или находить в священном Писании ничего ясного, если это сочтем прикровенным.
ГЛАВА XVIII
Теперь посмотрим, что писал об этом суде апостол Петр. «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим по–хотям и говорящие: «Где обетование пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». Думающие так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых челове–ков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (II Пет. III, 3–13).
О воскресении мертвых он здесь ничего не говорит, но о разрушении этого мира говорит достаточно. Упоминая при этом о совершившемся прежде потопе, он, по–видимому, определяет неко-
О граде Божием 1101
торым образом тот объем, в каком мы должны представлять себе разрушение этого мира в конце настоящего века. Ибо, по его словам, и в то время погиб бывший тогда мир; не только шар земной, но и небеса, под которыми, конечно, мы понимаем эти воздушные небеса, место и пространство которых покрыла поднимавшаяся в то время вода. Итак, весь или почти весь этот образующий ветры воздух (называет он его небом или небесами, но в смысле, конечно, этих низших, а не тех высших небес, в которых размещены солнце, луна и звезды) был обращен во влагу, и таким образом погиб вместе с землею, первоначальный вид которой был совершенно разрушен потопом. «А нынешние, — говорит, — небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых чело–веков».
Итак, эти небеса и эта земля, т. е. этот мир, восстановленный вместо того мира, который погиб от потопа, из той же воды, в свою очередь, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. Не колеблясь говорит он и о будущей погибели людей, хотя природа их сохранится даже в вечных мучениях. Но, может быть, кто–нибудь спросит: «Если по окончании суда этот мир будет объят пламенем, то прежде, чем его заменят новое небо и новая земля, где во время этого пожара будут находиться святые, так как, имея тела, они по необходимости должны быть в каком–нибудь пригодном для тела месте?» На это мы можем ответить, что они будут находиться в высших пространствах, куда так же не достигнет пламя того пожара, как не достигала вода потопа. Ибо у них будут такие тела, что будут находиться там, где пожелают. Впрочем, сделавшись бессмертными и нетленными, они не побоятся и самого огня; смогли же остаться живыми в раскаленной печи тленные и смертные тела трех мужей (Дан. III, 24).
Блаженный Августин 1102
ГЛАВА XIX
Чтобы иметь возможность когда–нибудь закончить эту книгу, я вынужден опустить множество евангельских и апостольских изречений об этом последнем божественном суде; но никоим образом не нахожу возможным обойти апостола Павла, который, обращаясь к фессалоникийцам, говорит: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами (посланного), будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, — и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (II Фес. II, 1 — 12) Никто не сомневается, что апостол говорил это об антихристе; и говорил, что день суда (ибо это его он называет днем Христовым) не наступит прежде, чем придет тот, кого он называет беззаконником. Если последнее название вполне применимо ко всем не-
О граде Божием 1103
честивым, то не тем ли более к нему? Но неизвестно, в каком сядет он храме Божием: на развалинах ли того храма, который был построен царем Соломоном, или в церкви. Ибо храма какого–нибудь идола или демона апостол не назвал бы храмом Божиим. Поэтому некоторые хотят разуметь в этом месте под антихристом не самого князя, а как бы все тело его, т. е. вместе с князем и всю принадлежащую ему массу людей; и полагают, что было бы правильнее и по–ла–тыни читать это место так, как читается по–гречески: сядет не «в храме Божием», а «в храм Божий», как будто бы сам он был храмом Божиим, под которым разумеется Церковь, как, например, мы говорим «сидит в друга», т. е. как друг, и т. п. Говоря же: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время», т. е. вы знаете, что его удерживает, в чем причина его промедления, он дал понять, что они–то знают, а он не хочет говорить об этом открыто. А потому мы, не знающие того, что знали они, при всем своем желании не в состоянии уяснить себе того, что разумел апостол; это тем более, что последующие слова его затемняют этот смысл. Ибо что значит выражение: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, — и тогда откроется беззаконник?» Признаюсь, я не понимаю этих слов. Не скрою, однако, тех человеческих догадок, какие мне пришлось слышать или читать.
Некоторые думают, что в этом случае речь шла о римской власти и что апостол Павел не хотел писать об этом открыто из опасения подвергнуться преследованиям из–за недоброжелательного отношения к этой власти, которую многие считали вечной, так что говоря: «Тайна беззакония уже в действии», он якобы имел в виду Нерона, действия которого казались ему Действиями антихриста. Поэтому иные делали предположения, что Нерон воскреснет и будет антихристом. Другие же полагали, что он и не убит, а, скорее,
Блаженный Августин 1104
скрыт, чтобы считали его убитым; и что в то время, как его считают убитым, он скрывается, сохраняя свой возраст, и будет так скрываться до тех пор, пока в свое время не откроется и не восстановится на царство. Но такого рода предположения мне кажутся слишком странными.
Что же касается слов апостола: «Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь», то в них не без основания видят речь о самой римской власти, как если бы было сказано: «Только повелевающий ныне да повелевает, пока не будет взят от среды удерживающий теперь», т. е. пока не выбудет из среды. «И тогда откроется беззаконник». Никто не сомневается, что под этим именем разумеется антихрист. Иные же думают, что и слова апостола «Тайна беззакония уже в действии» относятся не более, как к злым и притворным, которые находятся в Церкви, пока не возрастут до такого числа, что составят для антихриста великий народ; что это и есть «тайна беззакония», так как представляется скрытой. Верующих же апостол–де увещевает пребывать твердо в вере, которую содержат, говоря: «Не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь», т. е. пока не выйдет из среды Церкви тайна беззакония, которая в настоящее время скрыта. Полагают, что к этой самой тайне относится то, что говорит евангелист Иоанн в своем послании: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши; ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и чрез то открылось, что не все наши» (I Иоан. II, 18, 19). Итак, говорят, как прежде конца в тот час, который Иоанн называет последним, вышли из среды Церкви многие еретики, которых он называет многими антихристами, так и тогда выступят оттуда все, которые будут принадлежать не Христу, а тому последнему антихристу, и тогда явится он сам.
О граде Божием 1105
Между тем как темные слова апостола толкуются гадательно одними так, другими иначе, несомненно одно: Христос придет судить живых и мертвых не прежде, чем придет для обольщения мертвых душою Его противник, антихрист; хотя обольщение с его стороны есть уже дело тайного божественного суда. Ибо пришествие его будет «по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих». Тогда получит свободу сатана и посредством его самым чудесным, хотя и лживым образом будет действовать антихрист. Часто спрашивают: потому ли эти знамения и чудеса называются ложными, что он будет обольщать смертные чувства призраками, так что будет казаться делающим то, чего не делает; или потому, что эти чудеса, хотя сами по себе и истинные, будут вовлекать в обман тех, которые, не зная силы диявола, поверят, что они могли совершаться только божественной силой, — и это тем более, что он получит тогда такую власть, какой никогда не имел. Ведь не призраки же то были, когда упал с неба огонь и одновременно уничтожил множество слуг и многочисленные стада святого Иова, а налетевшая и разрушившая дом буря умертвила сыновей его; а между тем, это были действия сатаны, которому Бог дал подобную власть (Иов. I). Итак, по какой из этих двух причин чудеса и знамения названы ложными, это прояснится в надлежащее время. Но по какой бы причине они ни были так названы, обольстятся этими знамениями и чудесами те, которые заслужат быть обольщенными «за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И затем апостол, не колеблясь, прибавляет: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Пошлет Бог, потому что Бог допустит дьявола совершать это, — допустит по праведному со Своей стороны суду, хотя агот будет совершать по неправедному и злому умыслу. |Да будут осуждены все не веровавшие истине, но зазнобившие неправду». Судимые, они подвергнутс
Блаженный Августин 1106
обольщению и, обольщенные, осудятся. Но подвергнутся обольщению судимые теми Божиими судами, тайно праведными и праведно тайными, которыми не переставал Бог судить с самого начала греха разумной твари; а обольщенные осудятся последним и явным судом через Иисуса Христа, праведнейшего будущего судию, неправеднейшим образом осужденного.
ГЛАВА XX
В этом месте апостол умолчал о воскресении мертвых. Но в первом послании к ним же он говорит: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (I Фес. IV, 13—17). Эти апостольские слова яснейшим образом указывают на воскресение мертвых, имеющее совершиться тогда, когда придет для суда над живыми и мертвыми Господь Христос.
Но обыкновенно спрашивают: «Те, которых Христос застанет здесь живыми, от имени которых говорит апостол как бы от себя и своих современников, вовсе ли никогда не умрут, или в тот самый момент, когда вместе с воскресшими будут восхищены на облаках в воздухе на сретение Христу, с неуловимой быстротою перейдут к бессмертию через смерть?» Нельзя, в самом деле, сказать, чтобы не было возможно, что они умрут и оживут снова в тот промежуток времени, пока будут подниматься в высоту по воздуху. А слова «И так всегда
О граде Божием 1107
с Господом будем» должны пониматься не в том смысле, что якобы апостол хотел сказать: «Мы навсегда останемся с Господом в воздухе»; Он и Сам не останется, конечно, там, потому что будет проходить его, шествуя. Встречают идущего, а не остающегося на месте. Но «так всегда с Господом будем», т. е. где бы с Ним ни были, будем так, имея вечные тела.
Остановиться же на мысли, что и те, которых Христос застанет здесь живыми, в тот краткий промежуток времени и претерпят смерть, и получат бессмертие, побуждает нас сам апостол. Сказав в одном месте: «Во Христе все оживут» (I Кор. XV, 2 2), он в другом, ведя речь о самом воскресении тел, говорит: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» (I Кор.ХУ, 36). Каким бы образом ожили во Христе бессмертием те, кого Он застанет здесь живыми, если бы они не умерли, когда относительно именно этого сказано: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет»? Или если действительно посеянными считать лишь те человеческие тела, которые через смерть непременно возвращаются в землю, соответственно известному божественному приговору над преступным отцом рода человеческого: «Прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. III, 19), то придется признать, что на тех, кого Христос в пришествие Свое застанет еще не исшедшими из тел, не простираются ни приведенные слова апостола, ни слова из книги Бытия. Восхищенные в высоту на облаках, конечно, не посеются; не отойдут они в землю и не возвратятся из нее (независимо от того), вовсе ли не испытают никакой смерти, или как бы умрут в воздухе.
Но затем — новое указание: тот же апостол, беседуя с коринфянами о воскресении тел, говорит: «Все воскреснем», или, как это читается в других кодексах: «Все успнем»'. Так как ни воскресения быть не
* Такого рода свидетельства в дошедших до нас кодексах не сохранились. Августин ссылается на I Кор. XV, 51, где читаем: «Не все мы умрем, но все изменимся»
Блаженный Августин 1108
может, если не будет предшествовать смерть, ни под успением в этом месте мы не можем подразумевать ничего другого, кроме смерти, то каким образом уснут или воскреснут все, если не уснут и не воскреснут столь многие, кого застанет еще в теле имеющий прийти Христос? Итак, если мы будем представлять себе, что святые, которые в пришествие Христово окажутся живыми и будут восхищены в сретение Ему, разлучатся со смертными телами во время самого этого восхищения и тогда же мгновенно возвратятся в тела бессмертные, то для нас не представят никаких затруднений слова апостола: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет», или когда он в другом месте говорит: «Все воскреснем». Ибо и они возвратятся к жизни через бессмертие; так или иначе, хотя и на незначительное время, но предварительно умерев; а потому не будут чужды и воскресения, которому предшествует, хотя и самое краткое, но все–таки успение.
Почему также считать невероятным, что та масса тел посеется некоторым образом в воздухе и в то же самое время оживет там бессмертно и нетленно, коль скоро мы верим, когда тот же апостол говорит яснейшим образом, что воскресение имеет совершиться во мгновение ока (I Кор. XV, 52) и что прах древнейших трупов с такою легкостью и такою невообразимою быстротою возвратится в тела, имеющие жить без конца? Да не подумаем также, будто известный приговор: «Прах ты, и в прах возвратишься», изреченный человеку, не будет простираться и на этих святых, если тела их, когда они будут умирать, не упадут на землю, но как умрут, так и воскреснут они во время самого восхищения, когда будут нестись в воздухе. Ибо «в прах возвратишься» значит: отойдешь, потеряв жизнь, в то, чем был прежде, чем жизнь получил, т. е. лишенный души будешь тем, чем был, пока не получил души. Так как в лице земли вдунул Бог дыхание жизни,
О граде Божием 1109
когда был сотворен человек в душу живу, то как бы там ему было сказано: «Ты теперь — земля одушевленная, каким прежде не был; будешь землею бездушною, каким был». Что представляют собою все тела умерших, прежде чем обратятся в прах, то будут представлять собою и те тела, если умрут, где бы они ни умерли, коль скоро потеряют жизнь, которую вслед за тем получат снова. Следовательно, они и отойдут в землю, потому что из живых людей сделаются землею, как идет в прах то, что бывает прахом; идет в ветошь то, что бывает ветхим; идет в глину то, что бывает черепком из глины, и так далее. То, о чем — как оно будет — строим мы теперь своим маленьким умом кое–какие посильные предположения, совершится тогда способом, превышающим наше познание. Если мы хотим быть христианами, мы должны верить, что когда придет Христос судить живых и мертвых, последует воскресение в плоти умерших. Но вера наша в это не суетна, даже если мы и не в состоянии понять, каким образом оно будет. Впрочем, согласно прежде данному нами обещанию, нам следует указать теперь и те предсказания об этом последнем суде Божием, какие даны древними пророческими книгами; полагаю, что долго останавливаться на них и толковать их нет необходимости, если читатель постарается припоминать предыдущее.
ГЛАВА XXI
Пророк Исайя говорит: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис. XXVI, 19). Все предшествующее относится к воскресению блаженных; а слова: «земля же нечести-
Блаженный Августин 1110
вых падет»* хорошо разумеются в том смысле, что тела нечестивых подпадут разрушению осуждения. Затем, если бы мы пожелали обратить внимание и на частности в выражениях, касающихся воскресения блаженных, то слова: «Оживут мертвецы» должны относиться к первому воскресению, а следующие за ними: «Восстанут мертвые тела» — ко второму. А если зададимся вопросом о тех святых, которых в пришествие Свое застанет здесь Господь живыми, то к ним применяется вполне добавление: «Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений». Под исцелением» в этом месте мы совершенно правильно разумеем бессмертие. Ибо оно есть полнейшее здравие, которое не восстанавливается, как ежедневными лекарствами, едой и питьем.
Кроме того, тот же пророк так говорит о дне суда, сперва подавая надежду добрым, а потом устрашая злых: «Так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов — как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого–либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается. Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его — как вихрь, чтоб излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом» (Ис. КХУ1, 12—16). Под рекою мира при обетовании благ мы, без сомнения, должны разуметь обилие того мира, выше которого другого нет. Этот мир,
' Эти слова приведены Августином вместо слов «И земля извергнет мертвецов».
" У Августина сказано: «Ибо роса Твоя — исцеление им»
О граде Божием 1111
действительно, разольется на нас в конце; в предыдущей книге мы достаточно говорили о нем. Говорит, что на тех, кому обещается такое блаженство, Он направит эту реку, чтобы дать нам понять, что в той стране счастья, которая на небесах, напьются от той реки все. Но так как оттуда втечет мир нетления и бессмертия и в тела земные, то и говорит, что Он направит эту реку, чтобы оросить некоторым образом свыше то, что лежит внизу, и сделает людей равными ангелам. Равно и под Иерусалимом мы должны разуметь не тот, который находится вместе с сынами своими под игом рабства, а нашу, по апостолу (Гал. IV, 6), свободную мать, вечную в небесах. Там утешимся мы после смертных бедствий и забот, как маленькие дети, на руках и коленях ее. Ибо неопытных и непривычных то незнакомое нам до этого времени блаженство окружит нас самою ласковой помощью. Там мы увидим, и возрадуется сердце наше. Не пояснил (пророк), что увидим; но что, как не Бога, чтобы исполнилось на нас евангельское обетование: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. V, 8). Увидим и все то, чего теперь не видим, но что, веруя, представляем себе по мере человеческих сил гораздо меньшим и несоответствующим тому, как оно есть на деле. «И увидите это, — говорит, — и возрадуется сердце ваше». Здесь — верите, там — увидите.
Но слыша слова: «И возрадуется сердце ваше», да не подумаем, будто тот блаженный Иерусалим будет доступен только нашему духу. «И кости ваши расцветут, — говорит Он, — как молодая зелень». Он коснулся слегка воскресения тел, как бы пополняя допущенный пробел; потому что не после того, как мы узрим, оно совершится, но после того, как совершится оно, мы узрим. Ибо он уже выше говорил о новом небе и о новой земле, когда часто и различным образом упоминал о том, что обетовано святым в конце: «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы
Блаженный Августин 1112
будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача» (Ис. ЬХУ, 17—19), и прочее, что некоторые усиливаются относить к известному плотскому тысячелетию. По пророческому обычаю образные выражения перемешиваются в этом случае с собственными, чтобы трезвый ум некоторым полезным и спасительным упражнением доходил до духовного понимания; между тем, плотская лень или тупость необразованного и неразвитого ума, поверхностно довольствующегося буквой, вовсе не считает нужным искать более сокровенного смысла. Этого достаточно сказать о тех пророческих словах, которые предшествуют приведенному месту. Но возвратимся к тому месту, от которого сделали отступление.
Сказав: «И кости ваши расцветут, как молодая зелень», чтобы показать, что хотя Он и упоминает в это время о воскресении плотском, но о воскресении добрых, Он прибавляет: «И откроется рука Господа рабам Его». О чем эта речь, как не о руке, различающей Своих почитателей от презрителен? О последних, переходя к дальнейшему, Он говорит: «А на врагов Своих Он разгневается», или, как читаем в другом переводе, — «на неверных». И не ограничится Он тогда прещением; но то, чем теперь угрожа–ется, тогда исполнится на деле. «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его — как вихрь, чтоб излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Огнем, вихрем, мечом он обозначает наказание на суде; да и когда говорит, что Господь придет в огне, то разумеет. — как огонь для тех, для кого пришествие Его будет карою. Под колесницами же Его (так как о них говоритс
О граде Божием 1113
во множественном числе) мы не без основания понимаем ангельские чины. А когда он говорит, что вся земля и всякая плоть будут судимы огнем и мечом Его, то разумеем в этом случае не духовных и святых, а земных и плотских, о которых сказано: «Они мыслят о земном» (Филип. III, 19), и еще: «Помышления плотские суть смерть» (Рим. VIII, 6), и которых, как таких, Господь прямо называет плотью, когда говорит: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегае–мым человеками, потому что они плоть» (Быт. VI, 3). «Много будет пораженных Господом», сказано здесь же: этою язвой будет смерть вторая. Могут иногда и огонь, и меч, и язва пониматься и в хорошую сторону. Господь, например, говорил о Себе, что хочет «огонь низвесть не землю» (Лук. XII, 49). «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные», когда сошел Дух Святый (Деян. II, 3). «Не мир пришел Я принести, — говорил Господь, — но меч» (Мф. X, 34). И слово Божие называется в священном Писании мечом обоюдоострым (Евр. IV, 12) по причине остроты двух заветов. Равно и в Песни Песней святая Церковь говорит о себе, что она «изнемогает от любви»* (Песн. II, 5), как бы получила рану от стрелы, пущенной любовью. Но когда мы читаем или слышим, что придет Господь–мститель, то само собою ясно, в каком смысле следует понимать эти выражения.
Упомянув затем о тех, которые этим судом истребятся, разумея под образом запрещенных ветхим законом яств, от которых не воздержались, грешников и нечестивых, пророк кратко повторяет сказанное им о действии благодати Нового завета, начиная с первого пришествия Спасителя и доводя речь до последнего суда, предмета теперешнего нашего исследования, на котором он свою речь и заканчивает. Он говорит, что Господь сказал, что Он придет для того, чтобы собрать все народы, и что эти народы придут
* У Августина: «Уязвлена любовью».
Блаженный Августин 1114
и узрят славу Его. «Потому что все согрешили, — говорит апостол, — и лишены славы Божией» (Рим. III, 23). Сказал также, что оставит на них знамения, для того, конечно, чтобы поражаемые этими знамениями веровали в Него; что пошлет спасенных из них к различным народам и на отдаленные острова, которые не слышали имени Его и не видели славы Его; что они и возвестят славу Его между народами и приведут братьев тем, кому говорилось, т. е. братьев по вере по Богу Отцу избранным израильтянам; привезут же от всех народов дары Господу на скоте вьючном и на возах (под которыми мы разумеем божественную помощь, подаваемую через всякого рода служение Богу, ангельское ли то, или человеческое) во святой град Иерусалим, в лице святых верных рассеянный в настоящее время по земле. Ибо где подается божественная помощь, там и веруют; а где веруют, там приходят. При этом Господь сравнил их с сынами Израиля, приносящими Ему жертвы свои в Его дом с псалмами, — что повсеместно уже делает Церковь, — и обещал взять Себе из них священников и левитов, — что также на глазах у всех совершается в настоящее время. Ибо мы видим, что священники и левиты избираются ныне не по роду плоти и крови, как это было сперва по чину Ааронову, а по вере заслуг каждого, насколько помогла ему в том благодать Божия, как надлежало этому быть в завете Новом, в котором Христос есть Верховный Священник по чину Мель–хиседекову; соответствие их своему назначению определяется не именем, которое часто носят и недостойные, а той святостью, которая не бывает общей добрым и злым.
Сказав о том, что по очевидному и вполне нам известному милосердию Божию дано уже ныне Церкви, Господь предначертал и тот исход, по которому проведет сделанное на последнем суде отделение добрых от злых. Он через пророка, или сам пророк от лица Господа, говорит: «Ибо как новое небо и новая земля, ко-
О граде Божием 1115
торые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис. КХУ1, 22—24). Пророк заключил свою книгу тем, чем закончится век Некоторые, впрочем, перевели не «члены человеков»*, а «трупы мужей», обозначая словом «труп» видимую телесную казнь. Трупом обыкновенно называется плоть неодушевленная, а те тела будут одушевленными, потому что они иначе не могли бы испытывать никакого мучения; хотя, так как они будут телами мертвых, т. е. впавших во вторую смерть, не без основания, пожалуй, могут быть названы и трупами. Отсюда и известное, приведенное уже мною выше выражение пророка: «Земля же нечестивых падет». Кому не ясно, что падаль (труп) получила свое название от падения? Слово же «мужей» употреблено теми переводчиками, очевидно, вместо слова «чело–веков». Никто ведь не станет утверждать, что преступницы–жены не подвергнутся тому наказанию; под мужским (полом), от которого притом и создана жена, разумеется тот и другой пол. Но, что ближе касается дела, когда в применении к добрым говорится: «Будет приходить всякая плоть», — в том смысле, что народ тот составится из всякого рода людей, а не в том, что там будут все люди, так как очень многие будут нести наказание, — когда, говорю, в применении к добрым употребляется слово «плоть», а в применении к злым — «члены» или «трупы», то этим, несомненно, дается понять, что по воскресении плоти, достоверность которого этими названиями вещей вполне подтверждается, имеет быть суд, на котором добрые и злые получат различный приговор.
' Так приведено у Августина.
Блаженный Августин 1116
ГЛАВА XXII
Но каким образом добрые «будут приходить», чтобы видеть казни злых? Неужели они телесным движением оставят свое блаженное местопребывание и направятся к местам казни, чтобы телесными глазами видеть муки злых? Без всякого сомнения — нет; но они «будут приходить» познанием. Этим словом обозначается, что те, которые подвергнутся мучениям, будут вне. Поэтому и Господь называет те места тьмою внешнею (Мф. XXV, 30); противоположность же ей представляет тот вход, о котором говорится рабу доброму: «Войди в радость господина твоего» (Мф. XXV, 21). Представляется, что злые не войдут сюда, чтобы дать о себе узнать, но что скорее добрые как бы выйдут к ним познанием, чтобы получить о них сведения, так как будут узнавать то, что вне. Те, которые будут нести наказания, не будут знать о том, что будет происходить внутри в радости Господа; но те, которые будут в этой радости, будут знать, что делается вне, в той тьме внешней. Потому и сказано: «будут приходить», что от них не укроется и то, что будет в отношении к ним вне. Если могли знать это, когда оно еще не совершилось, смертные пророки в силу того, что в умах их был Бог, хотя Он был и очень мало; то как не будут знать этого, тогда уже действительно исполнившегося, бессмертные святые, когда Бог будет во всех (I Кор. XV, 28)? Итак, твердо станет в том блаженстве семя и имя святых, то, разумеется, семя, о котором Иоанн говорит: «Семя Его пребывает в нем» (I Иоан. III, 9); а имя то, о котором через того же Исайю сказано: «Дам им вечное имя» (Ис. ЬУ1, 5). И «из месяца в месяц, и из субботы в субботу», как бы луна от луны и покой от покоя, то и другое будут они сами, когда от этих ветхих и временных сеней перейдут в те новые и вечные светила. Огонь же неугасимый и червь долговечный в наказаниях злым разные толкователи объясняли различно. Одни относили то
О граде Божием 1117
и ДРУГ06 к телУ> ДРУ™0 то и ДРУ1406 ~~ к ДУ1116–Иные же к телу относили огонь в буквальном смысле, а к душе червя — в смысле переносном; последнее представляется более вероятным. Но теперь не время входить в рассуждения по этому предмету. Эту книгу мы предположили посвятить последнему суду, на котором совершится отделение добрых и злых; о наградах же и наказаниях будет подробная речь в другом месте.
ГЛАВА XXIII
Даниил в своих пророчествах об этом последнем суде также начинает с предсказания об имеющем быть пришествии антихриста и доводит повествование свое до вечного царства святых. В пророческом созерцании он видел четырех зверей, означающих четыре царства; видел, что царство четвертое будет покорено некиим царем, в котором узнается антихрист; видел после этого царство Сына Человеческого, под которым разумеется Христос, а затем сказал: «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого». Затем, что услышал от того, у кого обо всем этом спрашивал, он передает как бы словами рассказывавшего ему следующим образом: «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во веки веков». «Тогда пожелал я, — продолжает (Даниил), — точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали три, — о том самом роге, у которого были глаза и уста, гово-
Блаженный Августин 1118
рящие высокомерно, и который по виду стал больще прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми ц превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, ц суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые».
Об этом, говорит Даниил, он спрашивал. А что он получил в ответ, о том сообщает вслед за этим: «Об этом он сказал (т. е. ответил тот, у кого он спрашивал): зверь четвертый — четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца, царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем» (Дан. VII, 15—28).
Некоторые толковали это в применении к известным четырем царствам: ассирийцев, персов, македонян и римлян. Насколько удачны были такие применения, желающие знать, пусть прочитают книгу пресвитера Иеронима на Даниила, составленную довольно тщательно и со знанием дела. Но что речь идет о царстве антихриста, по отношению к Церкви весьма жестоком, хотя имеющем продержаться недолго, пока святые на последнем Божием суде получат вечное царство, то в этом не усомнится и тот, кто читал бы приведенные слова в полусне. Что временем, временами и полувременем обозначается год,
О граде Божием 1119
два года и полгода, и, следовательно, три с половиною года, это видно и из приводимого несколько ниже числа дней, и поясняется иногда в Писаниях числом месяцев. На латинском языке выражение «времена» представляется в этом месте неопределенным; но оно употреблено в двойственном числе, которого у латинян нет. Как есть оно у греков, так, говорят, имеют его и евреи. Выражение «времена» употреблено, следовательно, так, как если бы было сказано «два времени». Но, признаюсь, у меня есть опасение, что мы можем обмануться относительно десяти царей, которых как десять человек представляется застающим антихрист; он может прийти нежданным, когда в Римской империи не будет стольких царей. Но что, если этим десятичным числом обозначается все общее число царей, после которых он придет; подобно тому, как тысячным, сотенным и разными другими числами, упоминать о которых теперь нет необходимости, по большей части обозначается все вообще количество.
В другом месте тот же Даниил говорит: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, во веки, навсегда» (Дан. XII, 1—3). Вот и еще место, весьма сходное с известным евангельским изречением (Иоан. V, 28, 29), насколько это касается воскресения тел мертвых. Называемые там «находящимися в гробах» здесь называются «спящими в прахе земли». Как там говорится: «Изыдут творившие добро в воскресение жизни, а Сделавшие зло в воскресение осуждения», так здесь: 1«Одни для жизни вечной, другие на вечное поруга — [ние и посрамление». А что там сказано «все», а здесь
Блаженный Августин 1120
пророк говорит «многие», то это не следует считать противоречием. Писание местами употребляет «многие» вместо «все». Аврааму, например, сказано: «Я сделаю тебя отцом множества народов» (Быт. XVII, 5), а между тем, в другом месте ему же Бог говорит: «Благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. XXII, 18). О том же воскресении и тому же самому пророку Даниилу несколько ниже говорится: «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» (Дан. XII, 13).
ГЛАВА XXIV
Многое говорится о последнем суде в псалмах, но по большей части мимоходом и вкратце. Не могу, однако же, обойти молчанием того, что яснейшим образом говорится о конце настоящего века. «В начале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, — и изменятся. Но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс. С1, 26—28). Что значит, что Порфирий, восхваляя благочестие евреев, по которому они чтут великого, истинного и для самих божеств страшного Бога, укоряет христиан на основании оракульских изречений своих богов в величайшей глупости за то, что они утверждают, что этот мир погибнет? Вот в писаниях еврейского благочестия говорится Богу, пред Которым, по признанию великого философа, трепещут эти его божества: «Небеса — дело Твоих рук. Они погибнут». Неужели в ту пору, как погибнут небеса, не погибнет мир, высшую и безопаснейшую часть которого эти небеса и составляют? Если такая мысль не нравится Юпитеру, оракул которого, в качестве наиболее авторитетного, как пишет этот философ, порицает ее в веровании христиан, то почему подобным же образом не порицает он, как
О граде Божием 1121
глупость, мудрость евреев, в религиозных книгах которых она встречается? Затем, если в этой мудрости, которая нравится Порфирию до такой степени, что он заявляет о ней через изречения даже своих богов, говорится, что небеса погибнут; то к чему такая пустая увертка: между прочим или сверх всего прочего выставлять на вид в вере христиан как нечто ужасное то, что в ней мир представляется имеющим погибнуть, когда только при его гибели и могут погибнуть небеса?
Притом, хотя в собственно наших священных Писаниях, а не в тех, которые у нас общие с евреями, а именно, в Евангелии и в книгах апостольских, говорится: «Проходит образ мира сего» (I Кор.УИ, 31); говорится: «Мир проходит» (I Иоан. II, 17); говорится: «Небо и земля прейдут» (Мф. XXIV, 35); — но выражения «проходит, прейдут», по моему мнению, гораздо мягче, чем — «погибнут». Равным образом, и в послании апостола Петра, когда говорится о гибели потопленного водою, как оно некогда и случилось, мира, довольно ясным представляется как то, какая часть мира обозначается названием целого, так и то, в какой мере она называется погибшею, а равно и то, какие небеса содержатся для сбережения огню на день суда и погибели нечестивых людей (II Пет. III, 6, 7). И в словах, которые читаются у него несколько далее: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» (II Пет. III, 10, 11) — под имеющими погибнуть небесами можно разуметь те, которые он назвал сберегаемыми для огня; а под сжигаемыми стихиями — те, которые находятся в этой самой низшей, бурной и мятущейся части мира, в которой, по словам его, содержатся и эти самые небеса, между тем как те высшие, на тверди которых установлены звезды, останутся целыми и неприкос-
36 О граде Божием
Блаженный Августин 1122
ношенными. Ибо и выражение Писания, что «звезды спадут с небес» (Мф. XXIV, 29), независимо от того, что с большей вероятностью может быть понимаемо в другом смысле, скорее указывает на то, что последние (высшие) небеса останутся, если только лишь звезды упадут оттуда; хотя гораздо вероятнее, что это выражение образное, или совершится это в низшем небе, но, разумеется, — более удивительным образом, чем бывает теперь. Из этого неба и известная верги–лиевска
Комета песлася с длинным хвостом'
и скрылась в лесу Иды. Приведенное же мною место из псалма представляется не исключающим ни одного неба, о котором не было бы сказано, что оно погибнет. Ибо коль скоро говорится: «Небеса — дело Твоих рук. Они погибнут», то как ни одно из них не выделяется из числа дел Божиих, так ни одно не выделяется и из числа имеющих погибнуть. На то, чтобы для защиты еврейского благочестия, одобренного оракулами их богов, воспользоваться образом выражения апостола Петра, которого крайне ненавидят, они не решатся; тогда можно было бы полагать, что речь идет о гибели не всего мира; можно бы было полагать, что в выражении «они погибнут», между тем как погибнут только одни низшие небеса, целое употреблено для обозначения части точно так же, как употребляется целое для обозначения части в упомянутом апостольском послании, когда говорится, что от потопа погиб мир, между тем как погибла одна низшая его часть со своими небесами. Но, как я сказал, они не решатся на это, чтобы не выразить одобрения мысли апостола Петра или чтобы не высказать согласия с мыслью о последнем истреблении мира огнем в таких же размерах, в каких мы счи-
О граде Божием 1123
таем его истребленным потопом; они утверждают, что ни от каких вод, ни от какого пламени весь род человеческий погибнуть не может. Поэтому им остается сказать, что боги их хвалили еврейскую мудрость потому, что приведенного псалма не читали. Еще в сорок девятом псалме написано о последнем Божием суде: «Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше небо и землю судить народ Свой: «Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве» (Пс. ХПХ, 3—5). Мы разумеем это о Господе нашем Иисусе Христе, Которого ожидаем, что Он придет с неба для суда над живыми и мертвыми. Ибо Он придет, чтобы праведно судить праведных и неправедных. Тот, Кто прежде приходил тайно, чтобы подвергнуться неправедному осуждению со стороны неправедных. Это Он, говорю, «грядет не в безмолвии», т. е. открыто и с голосом судьи явится Он, Который в Свое прежнее сокровенное пришествие молчал пред судьею, будучи веден на заклание, как овца, и будучи, как агнец пред стригущими, безгласен, как читается это в пророчестве в Евангелии (Мф. XXVI, 63). Относительно же огня и бури, т. е. как понимать это, мы уже сказали, когда рассматривали подобное же выражение в пророчестве Исайи. Что же касается выражения: «Призывает свыше небо», то, поскольку небом справедливо называются святые и праведные, оно, очевидно, относится к тому, что говорит апостол: «Мы… восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (I Фес. IV, 17). Ибо каким образом, если держаться буквы, призовется небо свыше, когда оно и может быть только свыше? Прибавление же «и землю», — если подразумевать только «призовет», т. е. «призовет землю», но не подразумевать «свыше», — имеет, очевидно, согласно с правою верой, такой смысл: небо представляют собою те, которые вместе с Ним будут судить, а землю те, которые будут подле-
Блаженный Августин 1124
жать суду; так что выражение «призовет небо свыше» значит не «восхитит на воздух», но «посадит в судейские седалища». Можно понимать это и так: созовет в высших небесных пространствах ангелов, чтобы сойти с ними для производства суда; призовет и «землю», т. е. людей на земле, для того, конечно, чтобы судить их. Если же к словам «и землю» относить то и другое, т. е. и «призовет», и «свыше», чтобы выходило, что Он призовет и небо свыше, и землю свыше, то, по моему мнению, лучше всего будет разуметь в этом случае людей, которые будут восхищены на сретение Христу на воздухе, но название неба относить к душам, а земли — к телам.
Затем, выражение «судить народ Свой», что иное значит, как не отделить добрых от злых, как бы агнцев от козлищ? Потом речь обращается к ангелам: «Соберите ко Мне святых Моих». Исполнение такого дела, конечно, относится к обязанности ангелов. На случай же вопроса, каких праведных соберут Ему ангелы, продолжает: «Вступивших в завет со Мною при жертве». Вся жизнь праведных в том и состоит, чтобы совершать завет Божий над жертвами (зирег засгШаа). Тот ли это имеет смысл, что дела милосердия должны быть поставлены «над жертвами», т. е. выше жертв, соответственно изречению Божию: «Милости хочу, а не жертвы» (Ос. VI, 6), или выражение это значит «в жертвах», подобно тому, как говорится, что что–нибудь делается над землею, когда оно совершается в земле; во всяком случае, дела милосердия суть именно те жертвы, которыми умилостивляется Бог, как рассуждал я, помнится, об этом в десятой книге настоящего сочинения. Этими делами праведные совершают завет Божий, потому что делают их ради обетовании, содержащихся в Новом Его завете. Почему, когда праведные Его собраны будут к Нему и поставлены по правую Его руку, Христос на последнем суде скажет им: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
О граде Божием 1125
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть…» (Мф. XXV, 34, 35), и прочее, что высказывается там как последний приговор Судьи о добрых делах добрых и о вечных наградах за эти дела.
ГЛАВА XXV
Пророк Малахия, или Малахи, называемый и ангелом, а некоторыми признаваемый священником Ездрою, которому принадлежат другие писания, принятые в канон (такого мнения, по словам Иеронима, придерживаются евреи), пророчествует о последнем суде так: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот. Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он — как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левин и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо Я — Господь, Я не изменюсь» (Мал. III, 1—6). Из приведенных слов более всего обращают на себя внимание ожидающие некоторых на том суде известные очистительные наказания. Ибо какой другой смысл могут иметь слова: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он — как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как зо-
Блаженный Августин 1126
лото и как серебро?» Нечто подобное говорит и Исайя: «Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня» (Ис. IV, 4).
Может быть, впрочем, под омытием от скверны и своего рода очищением следовало бы разуметь то, что когда осуждение на казнь отделит от них злых, отделение и осуждение последних будет для них очищением, потому что потом они будут жить уже не смешиваясь со злыми. Но когда он говорит: «И очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима», он показывает, несомненно, что те самые, которые будут подвергнуты очищению, будут потом угождать Богу жертвами правды, а через это и сами очистятся от своей неправды, которая делала их неугодными Господу. Жертвами же в правде, полной и совершенной, будут они сами, когда очистятся. Ибо что, кроме себя самих, принесут они более угодного Богу? Впрочем, чтобы этот вопрос об очистительных наказаниях рассмотреть внимательнее, его следует отложить до другого времени. Под сынами же Левия, Иуды, Иерусалима мы должны разуметь саму церковь Божию, составившуюся не только из евреев, но и из других народов, и не такую, какова она в настоящее время, когда «если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (I Иоан. 1,8), а такую, какой она будет тогда, очищенная последним судом, как пшеница провеянная; когда очищены будут огнем и те, для кого такое очищение необходимо, так что не останется решительно никого, кто приносил бы жертвы за свои грехи. Ибо все, приносящие таким образом жертвы, несомненно пребывают во грехах, за отпущение которых и приносят, чтобы получить это отпущение, когда принесут и принесенное будет принято Богом.
О граде Божием 1127
Желая же показать, что Его град не будет в то время в подобном положении, Бог сказал, что сыны Ле–виины принесут жертвы в правде, — не во грехе, следовательно, а потому и не за грех. Поэтому, когда он, продолжая речь, говорит: «Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние», в словах этих иудеи напрасно видят обещание им прошлых времен их жертв по ветхозаветному закону. Не в правде, а во грехах приносили они жертвы тогда, когда главным образом и прежде всего приносили их за грехи, так что и сам священник, которого, во всяком случае, мы должны считать праведнее всех прочих, по заповеди Божией сперва обыкновенно приносил жертву за свои грехи, а потом уже — за грехи народа (Лев. XVI, 6; Евр. VII, 27). Ввиду этого мы должны разъяснить, как следует понимать слова «как во дни древние и как в лета прежние». Может быть, ими напоминается то время, когда первые люди жили в раю. Чистые, никаким грехом не оскверненные и не запятнанные, они приносили в то время Богу себя самих, как чистейшие жертвы. Но с того времени, как за нарушение заповеди они были оттуда изгнаны и в лице их человеческая природа подверглась осуждению, за исключением одного Посредника, даже после купели возрождения, хотя бы некоторые были еще малютками, «кто родится чистым от нечистого? ни один» (Иов. XIV, 4).
Скажут на это, что и о тех, которые приносят жертвы, можно не без основания сказать, что они приносят в правде, ибо «праведный верою жив будет» (Рим. 1,17); хотя он обманул бы себя, если бы сказал, что греха не имеет, но потому и не скажет, что живет верою. Но разве кто–нибудь станет утверждать, что настоящее время веры может идти в сравнение с тем концом, когда огонь последнего суда очистит тех,
Блаженный Августин 1128
которые будут приносить жертвы в правде? Поскольку после такого очищения праведные, как следует думать, не будут иметь никакого греха, то, без всякого сомнения, это время в том, что касается неимения греха, может идти в сравнение только с тем временем, когда первые люди до нарушения заповеди жили в раю в невиннейшем блаженстве. Итак, справедливо разуметь, что на последнее содержится указание в словах «как во дни древние и как в лета прежние». Ибо и через Исайю, после обетовании нового неба и новой земли, между прочими подробными аллегорическими и загадочными описаниями блаженства святых (излагать которые надлежащим образом не дозволяет нам желание избегнуть длиннот), Бог говорит: «Дни народа Моего будут, как дни дерева» (Ис. ЬХУ, 22). Кому, открывавшему священные книги, не известно, где насадил Бог дерево жизни*, вокруг которого, когда от вкушения его были отстранены люди, изгнанные из рая собственной неправдой, была поставлена огненная и ужасающая стража (Быт. III, 24)? Кто–нибудь возразит, что дни дерева жизни, о которых упомянул Исайя, суть именно те дни, которые в настоящее время переживает церковь Христова, что деревом жизни пророчески назван сам Христос, потому что Он есть Премудрость Божия, о которой Соломон говорит: «Она — дерево жизни для тех, которые приобретают ее» (Притч. III, 18), и что те первые люди провели в раю отнюдь не годы, но были изгнаны из него так скоро, что не родили там ни одного сына, и потому времени того нельзя разуметь в вышеприведенных словах. Я обхожу это возражение, чтобы не быть вынужденным (что было бы слишком длинно) разбирать все, чтобы из этого всего обнаруженная истина утвердила нечто. Я имею другое соображение и не согласен с той мыслью, будто через про-
* У Августина: «Дни народа Моего будут, как дни дерева жизни».
О граде Божием 1129
рока обещаны нам, как великий дар, древние дни и прежние годы плотских жертв. Ведь те жертвы ветхого закона повелевалось из всякого рода животных приносить чистые и безо всякого порока, и обозначали они людей святых, каким единственно оказался Христос, не имевший вовсе никакого греха. Поэтому, так как после суда, когда будут очищены огнем оказавшиеся достойными такого очищения, во всех святых не найдется уже вовсе никакого греха и они принесут себя самих (в жертву) в правде; так что жертвы такие будут во всех отношениях чистыми и безо всякого порока; то эти жертвы, действительно, и будут как в древние дни и в прежние годы, когда в преобразование этого будущего приносились чистейшие жертвы. В бессмертной плоти и душе святых будет тогда та чистота, образом которой служили тела этих жертв. Потом, относительно тех, которые достойны не очищения, а осуждения, Он говорит: «И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо Я — Господь, Я не изменюсь». Последними словами Он как бы говорит: «Тогда как вас изменила к худшему ваша вина, а к лучшему — Моя благодать, сам Я не изменяюсь». Говорит же о Себе как о будущем свидетеле (обличителе) потому, что на суде Своем в свидетелях нуждаться не будет; и называет Себя свидетелем скорым или потому, что придет внезапно, и суд Его, казавшийся крайне медлительным, совершится весьма быстро при неожиданности самого пришествия Его; или потому, что Он обличит сами совести безо всякого продолжительного разглагольствования. «В совести (помышлениях), — как говорит Писание, — будет истязание нечестивого» (Прем. 1,9). И апостол говорит: «Дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, — в день, когда, по благовество-
Блаженный Августин 1130
ванию моему, Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа» (Рим. II, 15,16). И в том смысле Господь будет свидетелем скорым, что немедленно воспроизведет в памяти то, чем обличит и казнит совесть.
ГЛАВА XXVII
К последнему же суду относится и то место из этого пророка, которое я привел по другому поводу в книге восемнадцатой. Пророк говорит там: «И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф» (Мал. III, 17—18; IV, 1—3). Когда это различие в виде наград и казней, разделяющее праведных от неправедных, незаметное под теперешним солнцем в суете настоящей жизни, обнаружится под тем солнцем правды с открытием той жизни, тогда действительно будет суд, какого никогда не было.
ГЛАВА XXVIII
Тот же пророк прибавляет далее: «Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хо–риве для всего Израиля» (Мал. IV, 4). После указани
О граде Божием 1131
на великое будущее различие между исполнителями закона и презрителями его он вполне уместно напоминает им о повелениях и оправданиях; между прочим и для того, чтобы научились они понимать закон духовным образом и открыли в этом законе Христа, суд Которого должен провести это различие между исполнителями и презрителями закона. Ибо не напрасно тот же Господь говорит иудеям: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне» (Иоан. V, 46). Понимая закон в плотском смысле и не зная, что земные обетования суть только образы вещей небесных, они дошли до такого ропота, что осмелились говорить: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы», (Мал. III, 14, 15). Эти слова их некоторым образом и побудили пророка предвозвестить последний суд, на котором злые не будут даже мнимо–блаженными, а окажутся с полной очевидностью самыми несчастными, а добрые не потерпят никакого даже временного бедствия, но будут наслаждаться ясным для всех и вечным блаженством. Выше пророк приводил даже такие слова из их речи: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит» (Мал. II, 17). К такому, говорю, ропоту пришли они, понимая закон Моисеев в плотском смысле. Отсюда и держащий речи в псалме семьдесят втором говорит, что он едва удержал во власти ноги свои, едва сдержал стоны свои, от падения, конечно, потому что явилась в нем ревность к грешникам при виде мира беззаконных; так что он даже говорил: «Как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?» (Пс. ЬХХН, 11). Говорил также: «Не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои?» (Пс. ЬХХИ, 13). Относительно разрешения этого труднейшего
Блаженный Августин 1132
вопроса, возникающего при виде добрых несчастными и злых счастливыми, он прибавляет: «Это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их» (Пс. ЬХХИ, 1б, 17). На последнем суде, действительно, будет не так: открытое бедствие неправедных и открытое счастье праведных покажет далеко не то, что теперь.
ГЛАВА XXIX
После увещания иудеям помнить закон Моисеев, так как предвидел задолго, что они будут понимать его не в смысле духовном, пророк тотчас же прибавляет: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришел не поразил землю проклятием» (Мал. IV, 5, 6). Величайшее торжество на устах и в сердцах верных составляет то, что в последнее время перед судом иудеи уверуют в истинного Христа, т. е. в нашего Христа, когда разъяснит им закон Илия, этот великий и удивительный пророк. Ожидание, что он придет до пришествия Спасителя и Судьи, имеет свое основание, потому что не зря же он считается живущим и в настоящее время. Ибо по весьма ясному свидетельству Писания он был восхищен из круга человеческой жизни на огненной колеснице (IV Цар. II, 11).
Итак, когда он придет, излагая в духовном смысле закон, понимаемый в настоящее время иудеями в смысле плотском, он обратит «сердце отца к сыну», т. е. отцов к детям, потому что Семьдесят толковников употребили здесь число единственное вместо множественного. А смысл этого в том, что и дети, т. е. иудеи, уразумеют закон так, как разумели его отцы, т. е. пророки, в числе которых был и сам Моисей. Тогда сердца отцов обратятся к детям, когда разумение отцов придет в согласие с разумением детей; «и сер-
О граде Божием 1133
дца детей к отцам их», когда тому, что чувствуют одни, будут сочувствовать и другие. Семьдесят перевели это так. «И сердце человека к искреннему его»*; потому что отцы и дети суть самые близкие между собою. Впрочем, в словах Семидесяти толковников, переводивших в пророческом духе, может также заключаться и другой, более возвышенный смысл; может разуметься, что Илия обратит к Сыну сердце Отца Бога, — не воздействуя, конечно, на Отца, чтобы Отец любил Сына, а уча, что Отец любит Сына, чтобы иудеи полюбили того самого, который и наш, Христа, Которого прежде ненавидели. Для иудеев в настоящее время сердце Божие отвращено от Христа нашего потому, что они держатся такого образа мыслей. Поэтому для них сердце Божие тогда обратится к Сыну, когда они сами, обратившись сердцем, научатся и уразумеют любовь Отца к Сыну. Следующие же за тем слова: «И сердце человека к искреннему своему4, т. е. что Илия обратит и сердце человека к его ближнему, какой могут иметь лучший смысл, как не тот, что обратит сердце человека к человеку Христу? Ибо, будучи образом Божиим, Бог наш принял образ раба (Филип. II, 6, 7), удостоив нас стать ближним нашим. Итак, это совершит Илия, «чтобы Я пришел не поразил землю проклятием». Земля — это те, которые мудрствуют о земном; таковы плотские иудеи и в настоящее время. Из этого несовершенства возник упомянутый ропот на Бога: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит».
ГЛАВА XXX
Есть много других свидетельств в божественных Писаниях о последнем суде Божием; если бы я стал их приводить все, было бы слишком длинно. Доста-
* Так читается в Вульгате.
Блаженный Августин 1134
точно и того, что мы доказали, что это предвозвещено в священных книгах и Ветхого, и Нового заветов. Но в книгах ветхозаветных о будущем суде через Христа, т. е. о том, что Христос придет с неба в качестве судьи, говорится не с такою ясностью, как в новозаветных; когда в них Господь Бог говорит о Себе, что Он придет, или просто говорится, что Господь Бог придет, — прямо Христос не разумеется. Ибо Господь Бог есть и Отец, и Сын, и Дух Святый. Тем не менее, мы не должны оставить этого без подтверждения свидетельствами. Итак, покажем, во–первых, что Иисус Христос говорит в пророческих книгах как Господь Бог, между тем как совершенно ясно, что это Иисус Христос; тогда и при недостатке подобной очевидности, когда будет идти речь о пришествии Господа Бога для имеющего наступить последнего суда, можно будет разуметь Иисуса Христа.
У пророка Исайи есть место, представляющее ясный пример того, о чем я говорю. Бог говорит через пророка: «Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все, и слушайте: кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над Вавилоном, и явит мышцу Его над Халдеями. Я, Я сказал, и призвал его; Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. ХЬУШ, 12—16). Ведь это то же самое лицо, которое говорило как Господь Бог; признать, однако же, в нем Иисуса Христа было бы нельзя, если бы говорящий не прибавил: «И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его». Сказал Он это по образу раба, употребив о будущем событии глагол в прошедшем времени, подобно тому, как у того же пророка читаем: «Как овца, веден был Он на закла-
О граде Божием 1135
ние» (Ис. Ш1, 7). Не говорит «поведется», но вместо обозначения того, что будет, употребляет глагол прошедшего времени. Пророчества так говорят постоянно.
Есть и другое место у Захарии, показывающее это с очевидностью, потому что представляет, что Вседержитель (Саваоф) послал Вседержителя (Саваофа): Кто Кого, как не Бог Отец Бога Сына? Говорится так: «Так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал меня к народам, грабившим вас; ибо касающийся вас, касается зеницы ока Его. И вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня» (Зах. II, 8, 9). Ваш Господь Вседержитель говорит, что Он послан Господом Вседержителем. Кто осмелится разуметь здесь кого–либо другого, кроме Христа, говорящего, очевидно, к погибшим овцам дома Израилева? В Евангелии Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. XV, 24). Этих овец Он сравнил здесь с зеницею ока Божия для обозначения высочайшей степени чувства любви. Из этого рода овец были и сами апостолы. Но после славы воскресения, до наступления которой, по словам евангелиста, «Иисус еще не был прославлен» (Иоан. VII, 39), Он послан был в лице апостолов Своих во все народы. И таким образом исполнилось то, что читается в псалме: «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников» (Пс. XVII, 44); так что обобравшие израильтян, которым израильтяне служили, будучи под властью народов, сами сделались добычей израильтян. Именно это Он обетовал апостолам, говоря: «Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. IV, 19). Итак, они сделались ловцами, но на добро, как похищенные сосуды у оного «сильного», но еще сильнее связанного (Мф. XII, 29).
И еще через того же пророка говорит Господь: «И будет в тот день, Я истреблю все народы, напа-
Блаженный Августин 1136
дающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне» (Зах. XII, 9, 10). Кто, как не Бог, удалит все враждебные святому граду Иерусалиму народы, идущие против него, т. е. неприятельски действующие по отношению к нему, или, как перевели другие, идущие на него, чтобы покорить его; или изольет на дом Давида и на обитателей этого града дух благодати и милосердия? К лицу это, конечно, только Богу, и от лица Божия говорится это через пророка. И, однако же, этим Богом, совершающим такие великие и божественные дела, являет Себя самого Христос, когда добавляет и говорит: «И они воззрят на Него*, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне». Раскаются в тот день иудеи, даже имеющие принять дух благодати и умиления, что поносили Христа во время Его страданий, когда воззрят на Него, грядущего в величии, и узнают в Нем Того, над Кем издевались прежде в лице отцов своих во время Его уничижения; увидят, впрочем, Его, воскреснув, и сами их отцы, виновники такого великого нечестия, но уже в казнь, а не в исправление. Не их поэтому нужно разуметь в этом месте, когда говорится: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят…» и т. д., подобно тому, как мы говорим иудеям: вы–де убили Христа, хотя это сделали их отцы; подобно тому и они будут скорбеть, что сами совершили некоторым образом то, что совершили те, от чьего корня они происходят. Итак, хотя по принятии духа благодати и умиления, став уже верными, они не осудятся вместе с нечестивыми отцами своими; однако будут скорбеть, как бы сами сделали то, что сделано
' У Августина: «И они воззрят на Меня, Которого пронзили».
О граде Божием 1137
отцами. Будут скорбеть не по сознанию преступления, а по чувству благочестия.
Кстати, где Семьдесят толковников выразились: «И они воззрят на Меня, Которого поносили», там с еврейского переводится так: «И воззрят на Меня, Которого пронзили». Этим словом еще очевиднее указывается на Христа распятого. Но и то поношение, о котором предпочли упомянуть Семьдесят, имело место во время страданий Его; Его подвергали поношению и когда Он был задержан, и когда связан, и когда стоял на суде, и когда в поругание был облечен в позорную одежду, и увенчан тернием, и бит по голове тростью, и чтим в насмешку коленопреклонениями, и нес крест Свой, и висел уже на кресте. Следуя, поэтому, не одному переводу, а принимая в соображение тот и другой, мы, когда читаем и «поносили», и «пронзили», с большею полнотою узнаем событие страданий Господних.
Итак, когда в Писаниях пророчески говорится, что для совершения последнего суда имеет прийти Бог, то, хотя бы особого признака не указывалось, вследствие самого упоминания о суде должно разуметь Христа. Ибо хотя Отец и будет судить, но будет судить через пришествие Сына Человеческого. Сам Он, через явление Своего присутствия, «не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Иоан. V, 22), Который явится человеком, имеющим судить, как был человеком судимым. Ибо о ком другом под именем Иакова и Израиля, от семени которого Он принял тело, говорит подобным же образом Бог через Исайю? Читается это так: «Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его бу-
Блаженный Августин 1138
дут уповать острова» (Ис. XXII, 1—4). В еврейском не читается «Иаков и Израиль»*, но читается «раб Мой». Семьдесят толковников, желая, очевидно, показать, в каком смысле нужно понимать последнее выражение, т. е. что оно употреблено для обозначения образа раба, в котором Высочайший явился уничижен–нейшим, употребили для названия Его имя того человека, от племени которого принят сам образ раба. Дан на Него Дух Святый, на что указанием, по свидетельству Евангелия, послужит и вид голубя (Мф. III, 16). Возвестил Он народам суд, ибо предвозвестил суд будущий, который был для народов тайной. По кротости не возвышал Он голоса; однако и не прекратил проповеди истины. Но вне не был услышан и не слышится голос Его, так как те, которые вне, отсечены от Его тела, не Ему повинуются. Но и самих гонителей Своих, иудеев, которые по причине потери правдивости уподоблены надломленной трости и льну курящемуся, когда пламени в нем уже нет, Он не переломил и не угасил; Он пощадил их, потому что пришел пока не их судить, а быть от них судимым. На самом же деле по истине произнес суд, предсказывая им время неизбежного наказания, если будут упорствовать в своей злобе. Воссияло на горе лицо Его, на земле слава Его; не стерт, не потушен Он, потому что ни в собственном лице, ни в лице Своей церкви не уступил гонителям, не прекратил Своего существования. Не случилось и не случится того, что говорили и говорят гонители Его: «Когда он умрет и погибнет имя его?» (Пс. ХЬ, 6).
«Доколе на земле не утвердит суда». Вот и то сокровенное, которое мы искали, открыто. Этот суд, который Он положит на земле, когда явится Сам с неба, последний суд. Что сказано о нем здесь в конце: «И на закон Его будут уповать острова», — мы ви-
* У Августина: «Иаков, отрок Мой, которого Я держу за руку; Израиль, избранный Мой».
О граде Божием 1139
дим уже исполнившимся. Ведь то, чего нельзя отрицать, убеждает и в том, что бесстыдно отрицается. Кто, в самом деле, стал бы ожидать (а это и не желающие еще веровать во Христа уже вместе с ними видят, и так как отрицать не могут, скрежещут зубами и терзаются от досады), — кто, говорю, подумал бы, что на имя Христово станут уповать народы, в то время, когда он был взят, связан, бит, подвергнут поношениям, пригвожден ко кресту; когда и сами ученики потеряли надежду, которую начали было питать на Него? На что в то время выразил надежду один лишь разбойник на кресте, того чают ныне народы, широко и далеко распространенные; и чтобы не умереть навеки, знаменуют себя тем самым крестом, на котором Он умер.
Итак, что будет последний суд через Иисуса Христа в том виде, в каком предвозвещен в священных книгах, этого не отрицает и в этом не сомневается никто, кроме того, кто, не знаю уж по какой невероятной смелости или слепоте, не верит этим Писаниям, которые уже доказали свою истину всему свету. Во время суда или прежде и после самого суда, как мы выяснили, имеют произойти следующие явления: пришествие Илии, уверование иудеев, гонение антихристово, суд Христов, воскресение мертвых, разделение добрых и злых, воспламенение мира и его возобновление. Что все это произойдет, тому следует верить; но каким образом и в каком порядке оно будет, это лучше покажут тогда сами события; в настоящее время человеческое разумение не в состоянии возвыситься до полного понимания предмета. Полагаю, впрочем, что произойдет это в том порядке, в каком у меня изложено.
Чтобы с помощью Божией выполнить данные нами обещания, нам остается написать две книги, относящиеся к предмету настоящего сочинения. Одна из них будет о наказании злых, другая — о блаженстве праведных. Если Бог даст, в них по преиму-
Блаженный Августин 1140
ществу будут опровергаться человеческие аргументы, которые, направляя их против божественных предсказаний и обетовании, жалкие люди, как им кажется, грызут мудро, пренебрегая, как ложным и достойным осмеяния, питанием, доставляемым спасительною верой. Для мудрствующих же по Богу на все, что людям представляется невероятным, но что содержится, однако же, в священных Писаниях, истина которых уже удостоверена разными способами, величайшим аргументом служит несомненное всемогущество Божие. Они непреложно знают, что Бог не мог в тех Писаниях говорить неправду, и может сделать то, что для неверного кажется невозможным.
О граде Божием 1141
КНИГА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА I
В настоящей книге со всей возможной для нас (с помощью Божией) тщательностью мы исследуем вопрос о том, в чем будет состоять наказание дия–вола и всех его приверженцев, когда оба града, из которых один — Божий, а другой — диявола, достигнут через Господа нашего Иисуса Христа, Судию живых и мертвых, своего предназначенного конца. Этого порядка, по которому о блаженстве святых речь будет после, я решил придерживаться потому, что то и другое (наказание и блаженство) будет с телами, а мысль об ожидающих тела вечных муках кажется более невероятной, чем мысль об ожидающем их вечном блаженстве. Поэтому, когда я докажу, что мысль о таком наказании не должна казаться невероятной, — это мне будет весьма полезным в том смысле, что тогда скорее поверят, что бессмертие тел у святых будет чуждо всякой болезни. К тому же такой порядок не исключается и божественными Писаниями, в которых блаженство добродетельных ставится иногда прежде, как в словах: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Иоан. V, 29); но иногда и после, в следующем месте: «Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. XIII, 41 —43), или: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. XXV, 46). Кто желает, найдет и у пророков и тот и другой
Блаженный Августин 1142
порядок; но приводить все эти места было бы долго. Я же уже сказал, почему предпочел последний порядок.
ГЛАВА II
На что же мне указать, чтобы неверующие смогли убедиться, что одушевленные и живые человеческие тела не только могут не разрушаться смертью, но и выдерживать мучения вечного огня? Они ведь не хотят, чтобы мы в этом случае ссылались на могущество Всемогущего, а требуют, чтобы убеждали их каким–нибудь примером. Если мы им ответим, что есть животные, которые, как смертные, подвержены разрушению, и однако же живут в обыкновенном огне, а один род червей находят даже в термальном источнике, температура воды которого такова, что безнаказанно никто ее коснуться не может, а между тем черви не только живут в ней безо всякого для себя вреда, но вне ее и жить–то не могут, то они или не захотят нам поверить, если мы не сможем предъявить им эти предметы, или же, если бы смогли это сделать или доказать их существование, предоставив достоверных свидетелей, под влиянием того же недоверия станут утверждать, что данный факт — недостаточно убедительный пример для предмета, о котором у нас идет речь, потому что подобные животные живут не вечно, и притом живут в указанной температуре без страданий, так как в этой соответствующей их природе стихии они испытывают животворное воздействие, а не страдание. Но разве испытывать в таких условиях животворное воздействие менее невероятно, чем испытывать страдание? Страдать в огне и все–таки жить, конечно, удивительно; но еще удивительнее жить в огне и не страдать. Если верят последнему, почему же не хотят верить и первому?
О граде Божием 1143
ГЛАВА III
Но, говорят, нет такого тела, которое могло бы страдать и не умереть. Интересно, откуда они это знают? Кто скажет что–либо достоверное о телах демонов? Не в них ли страдают демоны, когда сознаются, что удручены великими муками? Если на это нам ответят, что нет никакого земного, грубого и видимого тела, или, выражаясь яснее, такой плоти, которая могла бы страдать и не умереть; то это значит, что они ссылаются на то, о чем люди узнают на основании телесного чувства и опыта. Кроме смертной плоти они не знают никакой другой, и вся аргументация их сводится к тому, что чего они не испытали, того, по их мнению, и быть не может. Ибо на каком основании должны мы считать страдание доказательством смерти, если само по себе оно служит скорее признаком жизни?
В самом деле, хотя речь у нас о том, может ли жить вечно то, что страдает, однако несомненно, что все то живет, что страдает, и что всякое страдание может быть только в живом существе. Таким образом, не обязательно, чтобы страдание действовало разрушающим образом, потому что далеко не всякое страдание разрушает даже и смертные тела, неизбежно долженствующие умереть; и если какое–либо страдание может действовать разрушительно, причина этого заключается в том, что душа соединена с этим телом так, что уступает слишком сильным страданиям и уходит из тела, ибо сама связь органов и жизненных частей настолько слаба, что не может выдержать той силы, которая причиняет великое или крайне сильное страдание. Между тем, тогда душа будет соединена с таким телом и таким образом, что этой связи уже не расторгнет никакая продолжительность времени, не разрушит никакое страдание. Поэтому, хотя в настоящее время нет плоти, которая могла бы испытывать чувство страдания и не умереть, однако
Блаженный Августин 1144
тогда плоть будет не такою, какова она теперь; равно и смерть тогда будет не такою, какова она ныне. То будег не ничтожная смерть, а смерть вечная, когда душа не будет в состоянии, не имея Бога, жить, а умирая, освободиться от телесных страданий. Первая смерть изгоняет душу из тела против воли; вторая смерть против воли будет держать душу в теле; у той и другой смерти общим является претерпевание душою от своего тела того, чего она не хочет.
Наши оппоненты обращают внимание на то, что нет плоти, которая могла бы страдать и не умереть, но не хотят замечать, что есть нечто такое, что выше тела. Ведь сам дух, присутствием которого тело живет и управляется, может и испытывать страдания, и не умирать. Вот и оказывается существо, которое хотя и испытывает чувство страдания, однако же — бессмертно. И в телах осужденных будет тогда то же самое, что, как видим, бывает теперь в душе каждого человека. А если присмотреться повнимательней, то страдание, называемое телесным, скорее, имеет отношение к душе. В самом деле, страдает, собственно, душа, а не тело, даже когда причина страдания души заключается в теле, когда страдание чувствуется там, где повреждено тело. Отсюда, как тела мы называем тг/всгвующими и живыми, хотя жизнь и чувство получают они от души, так же называем тела и страдающими, хотя страдание в теле может чувствоваться только благодаря душе.
Таким образом, душа страдает вместе с телом в той его части, где происходит что–нибудь, что причиняет страдание. Страдает она и одна, хотя находится в теле, когда по какой–нибудь, часто невидимой, причине бывает печальна при совершенно здоровом состоянии тела. Страдает она, когда уже и не находится в теле; страдал же оный богач в аду, когда говорил: «Я мучусь в пламени сем» (Лук. XVI, 24). Тело же как неодушевленное не страдает, так и одушевленное не страдает без души. Следовательно, если бы страдание служило
О граде Божием 1145
основанием к прямому заключению о смерти, так, что смерть являлась бы вследствие того, что раньше имело место страдание, то свойство умирать нужно было бы приписать душе, которой, собственно, и принадлежит свойство страдать. Но так как душа, которая может страдать, умирать не может, то какое же отсюда основание верить, что те тела умрут потому, что будут подлежать страданиям? Правда, платоники говорили, что свойство бояться, желать, страдать и радоваться душа получает от земных тел и смертных органов. На этом основании Вергилий говорит: «Отсюда (т. е. от смертных органов земного тела) и страхи у них, и желанья, страданья и радость»*.
Но в четырнадцатой книге настоящего сочинения мы доказали им, что души, даже и очищенные от всякой телесной скверны, сами по себе имеют страстное желание, в силу которого начинают хотеть снова вернуться в тела. А где может быть желание, там, конечно, может быть и страдание. Ибо желание, обманутое недостижением того, к чему оно стремилось, или потерей того, чего достигло, переходит в страдание. Поэтому, если душа, которая страдает или одна, или, в наибольшей степени, имеет сама по себе известное бессмертие, то и тела те не умрут от того, что будут страдать.
Наконец, если тела служат причиной страданий душ, то почему причинять им страдание они могут, а смерть — не могут, как не потому, что непоследователен вывод, будто причина смерти заключается в том, от чего происходит страдание? Итак, почему же невероятна мысль, что огонь может причинять тем телам страдание, а не смерть, точно так же, как тела могут причинять страдание душам, которым, однако, не могут через это причинить смерти? Следовательно, страдание не является неопровержимым доказательством будущей смерти.
•У1г§.Аепек1.У1,у.733.
Блаженный Августин 1146
ГЛАВА IV
Поэтому если саламандра живет в огне, как пишут любознательные исследователи природы животных; если некоторые всем известные горы Сицилии столь продолжительное время, с глубокой древности и до наших дней, непрерывно извергают пламя и остаются целыми, тем самым непререкаемо свидетельствуя, что не все то гибнет, что горит; наконец, если и душа наша показывает, что не все умирает, что может страдать, то каких еще требуют от нас примеров, которые бы показывали, что нет ничего невероятного, если тела людей, осужденных на вечное мучение, будут сохранять душу и в огне, будут гореть, не сгорая, и страдать, не погибая? Субстанция плоти получит тогда это свойство от Того, Кто наделил все видимые нами вещи самыми удивительными и разнообразными свойствами, которые лишь потому не возбуждают в нас удивления, что их много. Ибо кто, как не Бог, Творец всего, сообщил мясу мертвого павлина свойство не портиться? Хотя рассказ мой и покажется, пожалуй, невероятным, но с нами действительно был такой случай. В Карфагене нам предложили сваренного павлина; мы приказали из его груди вырезать кусок мякоти, достаточной на наш взгляд величины, и спрятать; этот кусок через некоторое время, более чем достаточное для того, чтобы всякое другое мясо испортилось, когда его нам предложили, не имел никакого неприятного запаха. Спрятав его снова, мы нашли его таким же по истечении более чем тридцати дней, и таким же по истечении года, с той только разницей, что мясо сделалось несколько суше и жестче.
А кто дал соломе силу, то такую охлаждающую, что она сберегает покрытый ею снег, то такую согревающую, что она помогает дозревать недозрелым яблокам? Кто объяснит удивительные свойства самого огня, который все обожженное делает черным, буду-
О граде Божием 1147
чи сам светлым, — будучи самого яркого цвета сам, обесцвечивает почти все, что охватывает и поглощает и блестящий раскаленный уголь обращает в уголь самого черного цвета? Да и это свойство огня не составляет, так сказать, правила, потому что, наоборот, побывавшие в его пламени камни становятся и сами белыми; и хотя огонь имеет скорее красный цвет, а они — белый, однако белое соответствует свету, как черное соответствует тьме. Итак, когда огонь горит в дровах, раскаляя камни, он имеет противоположные действия, но не противоположные предметы. Ибо хотя дрова и камни различны между собою, однако не противоположны так, как белое и черное, из которых одно огонь производит в камнях, а другое — в дровах, камни делая светлыми, а дрова темными, — не противоположны потому, что огонь исчезает и в камнях, как только потухает в дровах. А в углях разве не заслуживают удивления, с одной стороны, такая их хрупкость, что они ломаются от самого легкого удара и рассыпаются от самого слабого нажима, с другой — такая прочность, что они не разрушаются и не побеждаются никаким временем; так что их обыкновенно подсыпают межевщики под межевые камни, дабы убедить спорщика, который вздумал бы по истечении некоторого времени доказывать, что поставленный камень не составляет межи. Кто же, как не огонь, этот разрушитель вещей, служит причиной, что они, зарытые во влажную почву, могут так долго оставаться невредимыми?
Обратим также внимание на удивительное свойство известкового камня, который, независимо от того, о чем мы говорили выше, т. е. что от огня он белеет, тогда как все другое чернеет, получает еще самым незаметным образом от огня огонь, и глыба, снаружи уже холодная, содержит в себе этот огонь столь сокровенно, что он абсолютно неприметен ни Для одного из наших чувств, и только опытный человек знает, что он содержится в извести и тогда, ког-
Блаженный Августин 1148
да его не видно. На этом основании такую известь мы называем живой (негашеной), как будто бы этот скрытый огонь был невидимою душой видимого тела. Разве не заслуживает удивления то, что известь воспламеняется тогда, когда гасится? Ибо для того, чтобы она лишилась скрытого огня, известь заливается и растворяется водою; и вот, будучи прежде холодной, она начинает кипеть от того, от чего все кипящее охлаждается. Таким образом, в то время, когда известковая масса, так сказать, испускает дыхание, огонь, бывший скрытым, исходя из нее, обнаруживает себя; а затем масса становится, как бы вследствие смерти, такою холодной, что уже не загорается от прибавления воды; и мы ту самую известь, которую называли живой, начинаем называть гашеной. Что же еще можно прибавить к этому удивительному свойству? Можно, пожалуй, прибавить следующее. Если в известь влить не воды, а масла, которое для огня — тот же трут, налитая и растворенная в нем известь не закипит. Если бы о подобном удивительном свойстве мы вычитали или от кого–либо услышали, не наблюдая этого сами, — мы сочли бы все это вымыслом или, по крайней мере, изумились бы в высшей степени. Примеры подобных явлений мы имеем перед своими глазами ежедневно и они теряют для нас свое значение не потому, что заурядны, а потому, что часто повторяются, подобно тому, как перестали мы удивляться некоторым и из тех диковинок, которые занесены к нам из Индии, этой удаленной от нас страны.
У нас многие, особенно же ювелиры и резчики драгоценных камней, имеют алмаз, о котором идет молва, что он не поддается ни железу, ни огню, ни чему–либо другому, за исключением козлиной крови. Но для тех, которые знают и имеют его, разве он в такой же степени диво, как для тех, перед которыми это его свойство показывается в первый раз? Те же, которым его не показывали, вероятно, и не поверят
О граде Божием 1149
этому, а если и поверят, будут удивляться, как явлению неиспытанному; если же им представится случай познакомиться с ним на опыте, то хотя оно и возбудит в них удивление, как выходящее из обычного ряда явление, но повторение опыта это удивление в них мало по малу охладит. Известно, что камень–магнит имеет удивительное свойство притягивать железо; когда я в первый раз это увидел, я попросту ужаснулся. Я видел, как этим камнем было притянуто и подцеплено железное кольцо, потом — как будто камень передал и сообщил свою силу железу, которое им было притянуто — это кольцо было придвинуто к другому и притянуло его к себе, и как первое кольцо прицепилось к камню, так второе прицепилось к первому кольцу; таким же образом при–деплено было и третье кольцо, а потом и четвертое, вот из этих взаимно соединенных между собою фужочков нанизалась как бы цепь колец, не вне–1ним, а внутренним образом соединенных одно с фугим. Кто не пришел бы в изумление перед этой силою камня, которая не только заключалась в нем самом, но и проходила через столько колец и невидимою связью прицепляла их одно к другому?
Но гораздо более удивительно то, что слышал я тро этот камень от моего собрата и соепископа Севера Милевитского. Он рассказывал, что сам видел, как некто Батанарий, комит Африки, во время пре–Зывания у него епископа принес такой камень и дер–кал над ним серебро, а на серебро положил железо; затем он начал двигать бывшей внизу рукой, которою ^держал камень, и вместе с нею двигалось сверху и железо; в то время, как находившееся посередине серебро оставалось в совершенно спокойном положении, за самыми быстрыми движениями взад и вперед камня внизу в руках человека тянулось вверху и железо к камню. Это я передал то, что видел сам и что слышал от такого лица, которому верю так, как если бы видел сам. Теперь скажу, что я читал о магните
Если подле магнита положить алмаз, он уже не притягивает к себе железа, а если железо уже было притянуто к нему, оно тотчас отпадает, лишь только приблизится алмаз. Эти камни доставляются к нам из Индии; но если мы перестали удивляться и им, как нам уже вполне известным, то во сколько раз менее удивляются им те, от кого мы их получаем, если они у них — вещи самые обыкновенные, такие же, пожалуй, как у нас известь, удивительным образом кипящая от воды, которая обыкновенно тушит огонь, и не кипящая от масла, от которого обыкновенно огонь воспламеняется, но которой мы не удивляемся потому, что это для нас — обыденное явление?
ГЛАВА V
Несмотря на это, когда мы говорим о бывших или грядущих чудесах Божиих, люди неверующие, которым мы не можем доказать их опытным путем, требуют от нас их объяснения, и так как мы не в силах этого сделать (ибо оно превышает возможности человеческого ума), считают наши слова ложью. Пусть же сами они дадут объяснение тем весьма многим удивительным явлениям, которые мы или можем видеть, или даже видим. Если они поймут, что объяснить подобные явления человек не в состоянии, то должны будут признаться, что если что–нибудь не может быть объяснено, это еще не служит доказательством, что его не было или не будет; ибо и теперь есть явления, объяснить которые мы также не можем.
Не стану слишком много распространяться о том, что сообщается в книгах не о прежде бывшем и уже минувшем, но о существующем еще и теперь в некоторых странах, где всякий, кто хочет и может туда отправиться, способен проверить, так ли оно на самом деле. Остановлюсь на немногом. В Сицилии есть агригентская соль; если, говорят, приблизить ее к
О граде Божием 1151
огню, она делается жидкой, как в воде, а если приблизить к воде, трещит, как в огне*.
В Гарамантах есть один источник, который днем бывает таким холодным, что из него нельзя пить, а ночью таким горячим, что нельзя к нему прикос нуться». В Эпире есть другого рода источник, в котором горящие факелы тухнут, как и во всех других, но потухшие — зажигаются, не как в других»*. Аркадийский камень асбест называется так потому, что один раз зажженный уже не может потухнуть'*". Дерево какой–то египетской пальмы в воде не плавает, как всякое другое дерево, а тонет, и что еще удивительнее — побыв некоторое время в глубине, всплывает на поверхность, тогда как намокшее должно
было бы сделаться тяжелее воды*"**. В земле содомитов растут и созревают яблоки, которые, если пожевать их или подавить, обращаются в дым и пепел, как только лопается их кожица»****. Персидский камень пирит, если сильно сжать его, обжигает руку, отчего и получил свое название»*"". В той же Персии растет селенит (лунный камень), внутренний блеск коего увеличивается и уменьшается вместе сфазами луны»"*"*. В Каппадокии кобыла иногда нагинает от ветра, и такие порождения живут не боль
ше трех лет *"*. Индийский остров Тилон отличается от других стран тем, что всякое растущеетам дерево никогда не обнажается от своей листвы *"".
Блаженный Августин 1152
Пусть объяснят нам, если могут, эти и другие бесчисленные удивительные явления, о которых рассказывает история, не прежде бывших и уже не существующих, а существующих и теперь стран (для меня, имеющего в виду другие цели, говорить обо всем этом подробно ни к чему), те неверующие, которые не хотят верить божественным Писаниям, не считая их божественными именно потому, что в них говорится о невероятных предметах, подобных тем, о которых ведется настоящая наша речь. «Разум не допускает, чтобы плоть горела и не уничтожалась, страдала и не умирала», — говорят они, эти великие умники, могущие дать объяснение всем, какие только известны, чудесным предметам Пусть же объяснят они нам те немногие упомянутые нами явления, которым они, если бы о существовании их не знали, а мы бы сказали, что такие явления будут, поверили бы еще менее, чем верят теперь, когда мы говорим о том, что некогда будет. В самом деле, кто из них поверил бы нам, если бы мы, подобно тому, как говорим про будущие живые тела людей, что они будут вечно гореть и страдать и, однако, никогда не умрут, сказали, что в будущем веке будет такая соль, которая от огня будет разжижаться, как от воды, а от воды трещать, как от огня; или такой источник, вода которого во время ночной прохлады будет делаться столь горячей, что к ней нельзя будет прикоснуться, а во время дневной жары, напротив, столь холодной, что ее нельзя будет пить; или такой камень, который обожжет руку того, кто его попробует сжать, или же такой, который, будучи раз зажженным, не сможет уже погаснуть; и все остальное, о чем я сказал выше, опустив при этом бесчисленное множество других подобных явлений?
Итак, если бы на нашу речь о том, что будет в будущем веке, неверующие возразили нам' «Если хотите, чтобы мы этому верили, объясните нам каждый пункт в отдельности»; то мы признались бы, что дать тако-
О граде Божием 1153
го объяснения не можем, ибо эти и подобные дивные дела Божий превышают слабое разумение смертных. Но в то же время мы твердо убеждены, что Всемогущий не без основания устроил так, что слабый человеческий ум такого объяснения дать не может. И хотя нам во многих случаях и не ясно, чего Он хочет, однако очевидно, что для Него возможно все, чего бы Он ни захотел! И когда Он говорит, мы веруем Ему, так как не можем допустить в Нем ни бессилия, ни обмана. Что же эти гонители веры и искатели объяснений ответят нам относительно тех явлений, которых человек объяснить не может, но которые, однако же, существуют и, по–видимому, противоречат самому закону природы? Если бы мы сказали, что такие явления будут, неверующие и в этом случае потребовали бы от нас объяснения, совершенно так же, как теперь требуют от нас объяснения того, что некогда произойдет согласно нашему учению. А так как для объяснения этих дел Божиих недостаточны ни ум, ни слово человека, то как эти (явления) бывают, так и те будут невзирая на то, что человек не в состоянии их объяснить.
ГЛАВА VI
На это нам могут сказать: «Ничего этого нет, и ничему этому мы не верим; все, что говорится и пишется об этом, — ложь»; и прибавят к этому еще и такие соображения: «Если этому следует верить, то верьте и вы тому, о чем сообщается в книгах, будто бы было или существует некое капище Венеры, а в нем — подсвечник, а на подсвечнике — лампада, горящая под открытым небом так, что ее не тушат ни буря, ни дождь; отчего, подобно тому камню, она называется ^зсто^ аареото^, т. е. неугасимая лампада». Это могут сказать нам затем, чтобы поставить нас в тупик: если мы скажем, что этому не следует верить, то таким
37 О граде Божием
Блаженный Августин 1154
ответом ослабим свидетельства о вышеприведенных нами чудесных явлениях; а если согласимся, что верить следует, то тем самым признаем истинность языческих богов. Но мы, как я сказал уже в восемнадцатой книге настоящего сочинения, не считаем необходимым верить всему, что содержится в истории народов, коль скоро сами историки, по словам Вар–рона, во многом как бы намеренно и с умыслом противоречат друг другу; а верим, если хотим, только тому, что не противоречит книгам, которым, по нашему убеждению, мы должны верить. Из области чудес для убеждения неверующих в том, что будет, для нас вполне достаточно и вышеприведенного, что каждый из нас может проверить на опыте и чему нетрудно найти достоверных свидетелей.
Впрочем, что касается капища Венеры и неугасимой лампады, то в этом случае для нас не только нет ни малейшего затруднения, но, напротив, открывается широкое поле. К этой неугасимой лампаде мы прибавим и многие другие чудеса, совершаемые и людьми с помощью человеческого и магического, т. е. демонского, искусства, и самими демонами; если бы мы захотели отрицать их, то стали бы в противоречие со свидетельством священных книг, которым мы веруем. Итак, или в лампаде той устроено было человеческим искусством какое–нибудь приспособление из камня асбеста; или же то, чему в том храме удивлялись, производилось при помощи магического искусства; или, наконец, под именем Венеры находился тут какой–нибудь демон, чтобы пред людьми явилось и оставалось это чудо. А к такой оседлости среди тварей, которых не они создали, а Бог, демоны приманиваются, смотря по своему различию, разными привлекательными для них не родами пищи, как животные, а знаками, как духи, — знаками, которые соответствуют вкусу каждого из них, а именно — разного рода камнями, травами, деревьями, животными, заклинаниями, обрядами. Приманкою служат
О граде Божием 1155
для них и люди, но в этом случае демоны прежде сами обольщают людей какою–нибудь коварнейшей хитростью, или отравляя их сердце тайным ядом, или прикрываясь ложной дружбой, и делают немногих из них своими учениками, которые являются уже учителями весьма многих. Ибо никто не мог знать, чего каждый из демонов желает, чего страшится, каким именем призывается, каким принуждается, прежде чем сами они этому научили; именно отсюда и возникли магические искусства и мастера в них. Но преимущественно демоны овладевают сердцами людей, когда преобразуются в ангелов света (II Кор. XI, 14), и этим обладанием похваляются более всего. Таким образом, деяний демонских весьма много, и чем более мы признаем их удивительными, тем с большей осторожностью должны их избегать. Но по отношению к тому, о чем идет у нас речь, они имеют и полезную для нас сторону, а именно: если такие дела могут делать нечистые демоны, то во сколько же раз могущественнее их святые ангелы, а всех ангелов — Бог, Который и самим ангелам даровал силу совершать такие чудеса?
Таким образом, если человеческое искусство, пользуясь творением Божиим, совершает столько и таких удивительных дел (которые у греков называются теаупцата), что люди незнающие называют их божественными, — к числу которых относится и то, что в одном храме в полу и крыше на соразмерном расстоянии установлены были магниты, а в средине между тем и другим камнем в воздухе — железный истукан, который для незнавших, что находится выше и ниже его, казался висящим в пространстве как бы по мановению божества, — равно и то, что, как я уже сказал, могло быть устроено искусником и в лампаде Венеры при посредстве камня асбеста; если действия магов, которых наши писания называют волхвами и чародеями, могли до такой степени возвеличить демонов, что знаменитый поэт шел, очевидно, вслед за
Блаженный Августин 1156
понятиями людей, говоря о некоей женщине, которая была сильна в подобном искусстве:
Она говорит, что ее волшебство тому радует душу,
Кому она хочет, другим же печаль насылает,
Прудит в ручьях воду и звезды назад обращает.
Кпич кликнет ночным божествам — сам увидишь,
как дрогнет Земля под твоими ногами и ясени рухнут с холмов»,
то во сколько же раз скорее Бог может совершать то, что для неверующих невероятно, а для Его могущества — легко, когда Он же сотворил и силу камней и других вещей, и способности людей, которыми они пользуются удивительным образом, равно и превосходящие могуществом все земные существа ангельские природы, — сотворил дивной и превосходящей все чудеса силой и совершающей, повелевающей и попускающей премудростью, распоряжаясь всем так же чудесно, как чудесно и сотворил?
ГЛАВА VII
Итак, что может помешать Богу сделать так, чтобы и тела мертвых воскресли, и тела осужденных вечно мучились в огне, — Богу, Который сотворил мир, наполненный бесчисленными чудесами как на небе, так и на земле, как в воздухе, так и в водах, хотя сам этот мир есть чудо, несомненно, большее и превосходящее все, чем он наполнен? Но те, с которыми или против которых мы ведем речь, — которые веруют и в Бога, сотворившего мир, и в богов, которых Он сотворил и через которых управляет миром, и, наконец, в кудесников, как добровольных, так и вынуждаемых каким–нибудь культом и обрядом, а ес-
О граде Божием 1157
тественную силу магов не только не отрицают, но даже еще и превозносят, — когда мы говорим им об удивительной силе других предметов, которые не суть неразумные существа, а одаренные разумом духи, каковы суть те предметы, о коих мы упомянули выше, обыкновенно отвечают: «Такова уж сила их природы; так устроена их природа; таковы действия их природы».
Выходит, все основание, почему агригентская соль от огня делается жидкой, а от воды трещит, заключается в том, что такова ее природа. Но ведь такое явление представляется скорее противоречащим природе, которая свойство растворять соль дала не огню, а воде, свойство же сушить ее — не воде, а огню. Но, говорят, такова уж естественная сила этой соли, что в огне и воде она претерпевает обратные действия. Такой же ответ дается и о том гарамантском источнике, в котором одна и та же струя днем бывает холодна, а ночью горяча, являясь по тому и другому своему свойству одинаково неприятной для тех, кто к ней прикасается. Такое же объяснение дается и относительно другого источника, который, будучи холодным для осязания и для гашения, как и другие, зажженного факела, зажигает чудесным образом факел потухший. То же самое говорится и относительно камня асбеста, который, не имея никакого собственного огня, зажженный от огня постороннего горит так, что уже не может погаснуть. Равно и относительно других предметов, перебирать которые заново — скучно, хотя, по–видимому, им присуща необычайная и противная природе сила, дается не иное объяснение, но то, что такова уж, говорят, их природа. Объяснение, признаюсь, весьма сжатое, и ответ достаточный. Но если Бог есть Творец всякой природы, то почему же они не хотят, чтобы мы им привели основание сильнейшее, когда на их нежелание верить чему–либо как невозможному и на требование дать этому объяснение отвечаем, что такова вол
Блаженный Августин 1158
всемогущего Бога, Который потому и называется всемогущим, что может все, чего пожелает; Который мог сотворить многое такое, что мы сочли бы решительно невозможным, если бы не видели этого сами или не говорили нам о том достоверные свидетели, причем не только рассказанное мною и вовсе у нас неизвестное, но и такое, что вполне известно. Ибо тому, чему у нас нет прямых свидетельств, кроме тех трех, чьи книги мы читали и что описано людьми, которые не просвещены свыше и как люди могут ошибаться, каждый по своему усмотрению может и не верить, не подвергаясь за это справедливому укору. Да я и не требую, чтобы верили всему вышеприведенному, ибо и сам этому не верю до такой степени, чтобы в моей мысли не оставалось уже никакого сомнения, за исключением того, что я сам узнал и что каждому легко узнать на опыте, например, что известь в воде кипит, а в масле остается холодной; магнит, который и соломинки не сдвинет, притягивает железо; мясо павлина не портится, а между тем даже тело Платона истлело; солома так холодна, что не допускает снег таять, и так тепла, что помогает дозревать яблокам; огонь, раскаляя камни, делает их белыми сообразно своему свету, а весьма многое, сжигая, чернит вопреки своему свету. Сюда же относится и то, что прозрачное масло оставляет черные пятна и белое серебро проводит черные линии, а также и то, что в горящем огне дрова претерпевают такие превращения, что из самых ярких по цвету, твердых и подверженных гниению превращаются в темные, хрупкие и не гниющие угли. Все это и весьма многое другое, о чем в настоящей книге говорить долго, я узнал вместе со многими, а кое–что и вместе со всеми. Относительно же того, приведенного мною, чего сам я не видел и о чем узнал из книг, а именно: источника, в котором зажженные факелы гаснут, а погашенные зажигаются, а также яблок содомской земли, которые снаружи выглядят созревшими, а внутри
О граде Божием 1159
наполнены дымом, — я даже не смог найти достоверных свидетелей, от которых мог бы доподлинно узнать, действительно лк оно так на самом деле.
Впрочем, если я не встретил людей, которые бы сказали, что видели такой источник в Эпире, то встречал таких, которые знали подобный источник в Галлии, недалеко от Гренобля. Что же касается плодов содомских деревьев, то о них не только упоминают заслуживающие доверия сочинения, но и многие, как говорят, видели их сами, так что в этом случае я не могу сомневаться. Об остальном же я не считаю нужным ни утверждать, ни отрицать; а привел все это потому, что вычитал о нем у историков из лагеря тех, против которых ведется наша речь, — привел с целью показать, как многие из них безо всякого основания верят многому такому, о чем пишется в сочинениях их ученых; между тем, когда мы говорим, что всемогущий Бог сотворит такое, что превышает их опыт и чувство, словам нашим не хотят верить, хотя нами приводится и основание. Ибо что может быть приведено лучше и сильнее того основания, какое приводим мы, когда говорим, что Всемогущий может исполнить то, предсказание о чем мы читаем там же, где предсказано Им многое и другое, что видим уже исполнившимся? Все это, что считается невозможным, исполнится потому, что предсказал об исполнении Тот, Кто обещал, что неверующие народы уверуют невероятному, и исполнил это.
ГЛАВА VIII
Нам скажут, что не верят нашим словам о вечных страданиях человеческих тел и в то же время об их бессмертии потому, что организация–де человеческих тел совершенно иная; что в данном случае не может иметь применение то основание, которое приводилось выше в применении к чудесным при-
Блаженный Августин 1160
родам; что нельзя–де сказать, что такова их естественная сила, такова их природа, потому что не такою мы знаем природу человеческой плоти. На это мы могли бы ответить на основании священных Писаний, что одна и та же человеческая плоть иначе была устроена до греха, т. е. так, что могла не подвергаться смерти; и иначе является устроенною после греха, какою мы знаем ее в злополучном состоянии настоящей смертности, когда она продолжать жизни без конца не может. Точно так же и в воскресении мертвых она организована будет иначе, чем как известно нам теперь. Но поскольку этим нашим писаниям, в которых изображается, как человек был в раю и как он был далек от необходимости смерти, они не верят (ведь если бы они им верили, нам нечего было бы и толковать с ними пространно о будущем наказании осужденных); то мы из сочинений их мудрейших писателей должны привести что–нибудь такое, из чего было бы видно, что всякий предмет может оказаться иным, чем каким он был известен в ряду других предметов прежде по существенным признакам своей природы.
В книгах Марка Варрона, озаглавленных «О происхождении римского народа», пишется следующее (привожу в тех самых выражениях, в каких оно читается у Варрона): «На небе, — говорит он, — совершилось удивительное чудо: в звезде Венере, которую Плавт называет Вечерней звездою, а Гомер — Геспером, с прибавлением эпитета «прекраснейший», произошло, как пишет Кастор, такое диво, что звезда эта изменила цвет, величину, форму и течение, чего не было ни прежде, ни после Адраст Кизический и Дион Неапольский, известнейшие математики, говорили, что это случилось при царе Огиге». Писатель, подобный Варрону, не назвал бы, конечно, этого чудом, если бы оно не казалось ему противным природе, потому что все чудеса мы называем явлениями, противными природе. Но на самом деле они не против-
О граде Божием 1161
ны природе. Ибо как может быть противным природе то, что совершается по воле Божией, когда воля Творца есть природа всякой сотворенной вещи? Чудо противно не природе, а тому, как известна нам природа. Кто перечислит все множество чудес, о которых рассказывает история народов? В настоящем случае мы обратим внимание только на одно вышеприведенное, имеющее отношение к предмету, о котором ведется наша речь. Что, кажется, еще до такой степени подчинено Творцом небесной и земной природы порядку, как не строжайше рассчитанное движение светил? Что утверждено такими точными и непреложными законами? И однако, когда захотел Тот, Кто своей высочайшей властью управляет всем сотворенным, звезда, которая по сравнению с другими весьма известна своей величиною и светом, изменила цвет, величину, форму и, что всего удивительнее, порядок и закон своего движения. И это нарушение порядка произошло тогда, когда, без сомнения, существовали уже какие–нибудь таблицы астрологов, которые считались составленными путем безошибочных вычислений прошедших и будущих движений звезд и на основании которых смело говорили, что случай со звездою Венерой не имел места ни прежде, ни после! А в божественных Писаниях мы читаем, что даже само солнце один раз остановилось, когда этого просил у Господа Бога святой муж, Иисус | Навин, пока начатое им сражение не окончится по–I бедою (Нав. X, 13), а в другой — отодвинулось назад, I когда это, соединенное с обетованием Божиим чудо должно было служить знамением, что царю Езекии прибавляется пятнадцать лет жизни (Ис. XXXVIII, 8). Но и эти, совершенные по заслугам святых чудеса, признавая их действительность, приписывают магическим искусствам! Отсюда объясняются и вышеприведенные мною слова Вергилия: «Прудит в ручьях воду и звезды назад обращает», ибо в священных книгах читаем, что и река остановилась в верхней своей
Блаженный Августин 1162
части, а в нижней — утекла, когда переходил через нее под предводительством упомянутого Иисуса Нави–на народ Божий (Нав. IV, 18); то же совершилось, когда переходили реку пророк Илия, а потом и ученик его Елисей {IV Цар. II, 8,14); и великое светило отступило назад в царствование Езекии, как я уже об этом упомянул. Что же касается описанного у Варрона случая со звездою Венерой, то у него не сказано, чтобы это имело место по просьбе какого–нибудь человека. Итак, пусть неверующие не отуманивают себя знанием природ, как будто божественною силой в той или другой вещи не может совершиться что–либо иное по сравнению с тем, как люди знают ее природу опытным путем; хотя уже и само то, что в природе вещей всем известно, не меньше было бы удивительным и для всякого внимательного наблюдателя поразительным, если бы люди не имели обыкновения удивляться только явлениям редким. Кто, например, внимательно присмотревшись к бесконечному разнообразию и к такому сходству людей по природе, не заметил того весьма удивительного явления, что каждый из них имеет свой особенный вид, так что если бы все они между собою не были сходны, то вид их не отличался бы от остальных животных, а если бы, с другой стороны, не были друг от друга отличны, то каждый не разнился бы от остальных людей? Таким образом, тех же самых, которых мы признаем сходными, в то же время находим и отличными. Но более удивления возбуждает наблюдение различия, потому что общность природы, по–видимому, скорее требует сходства. И однако, ввиду того, что удивление возбуждают только редкие явления, мы гораздо более удивляемся, когда встречаем двух людей настолько друг на друга похожих, что постоянно или часто их путаем.
Но, может быть, тому, что я привел из Варрона, хотя он и считается у них ученейшим историком, они не верят как факту действительному, или же
О граде Божием 1163
пример этот представляется им малоубедительным ввиду того, что звезда та изменила свое движение ненадолго и потом снова приняла обычное свое течение. В таком случае есть нечто другое, что может быть наблюдаемо ими еще и теперь и из чего, по моему мнению, они должны убедиться, что хотя бы они и имели некоторое знакомство с таким или иным устройством природы, все же это еще не дает им права делать предписания Богу, будто бы Он не может превратить или изменить эту природу в нечто совершенно иное по сравнению с тем, как она им известна. Страна содомитов не была, конечно, такою, какова она теперь, а находилась в одинаковом с другими положении и отличалась одинаковым и даже большим плодородием, так как в божественном Писании сравнивается с садом Господним (Быт. XIII, 10). Но после того, как подвергалась небесной каре, — о чем свидетельствует их же история и что примечают в ней еще и теперь бывающие в тех местах, — она поражает страшным смрадом, а ее яблоки под обманчивым видом зрелости внутри заключают пепел. Вот: не была она такою, а теперь — такова! Творец природ чудесным изменением привел ее природу в это ужаснейшее состояние и такою она продолжает оставаться в течение столь долгого времени.
Таким образом, как не было невозможным для Бога создать природы, какие Он хотел, так не невозможно для Него и в созданных производить какие Ему угодно перемены. Отсюда происходит и множество чудес, которые у них называются топ51га, озгета, ропета, рюШ§1а, — такое множество, что если бы я захотел их перечислять и припоминать, не было бы и конца настоящему сочинению. Мопзига (знамения) называют так от тошггапйо (означать), так как они уясняют что–нибудь знаком; озгепга (предуказания) — от О51епс1епс1о (указывать); ропета (предзнаменования) — от ропепйепйо
Блаженный Августин 1164
(предзнаменовать); наконец, ргосН§1а (предвещания) называют так потому, что они наперед говорят, предрекают будущее. Но пусть уж сами их гадатели решат, каким образом при посредстве этих явлений они или ошибались, или же по внушению духов, которые стараются сетями вредного любопытства уловить души людей, заслуживающие такого наказания, предсказывали действительные события, или, наконец, среди болтовни наталкивались случайно на частичку истины. Что же касается нас, то все явления, совершающиеся на первый взгляд вопреки природе или называемые таковыми (этому человеческому способу выражения следует и апостол, говоря, что дикая маслина, привитая вопреки природе к хорошей маслине, становится общником корня и сока маслины (Рим. XI, 17, 24)), — все эти их знамения, предуказания, предзнаменования, предвещания у нас должны служить знамениями, предуказаниями, предзнаменованиями того, что сотворит Бог, — что Свои предсказания относительно человеческих тел Он исполнит, не встретив никакого затруднения, никакого воспрещения со стороны закона природы. А какие это были предсказания, это, полагаю, я достаточно показал в предыдущей книге, почерпнув их из священных Писаний, новых и ветхих; если не все, относящиеся к предмету, то столько, сколько казалось мне достаточным в пределах настоящего сочинения.
ГЛАВА IX
Итак, что Бог сказал через Своего пророка о вечном наказании осужденных, так оно и будет, непременно будет-. «Червь их не умрет, и огонь их не угаснет» (Ис. ЬХУ1, 24). Для сильнейшего запечатления этих слов и Господь Бог, разумея под членами, соблазняющими человека, таких людей, которых кто-
О граде Божием 1165
либо любит как свои члены, и повелевая их отсекать, говорит: «Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает». Так же говорит и о ноге: «Лучше войти тебе в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает». Не иначе говорит и о глазе: «Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает» (Марк. IX, 43—48). Три раза сряду повторил Он одно и то же; кого не устрашит это повторение, эта столь сильная угроза вечным мучением, изреченная божественными устами?
Между тем, по мнению некоторых, то и другое, т. е. огонь и червь, относится к мучения^ духа, а не тела. Тех, говорят они, которые отделены будут от царства Божия, будет сжигать скорбь поздно и бесплодно кающегося духа; поэтому не было ничего несообразного назвать эту сжигающую скорбь огнем; отсюда и апостол говорит: «Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» (И Кор. XI, 29). То же, полагают, нужно разуметь и относительно червя. Ибо, говорят, написано (Соломоном): «Как моль одежду и червь дерево, так и печаль точит сердце мужу». Те же, которые не сомневаются, что в будущих муках наказаниям будут подлежать и дух, и тело, утверждают, что тело будет жечься огнем, а дух подтачиваться своего рода червем печали. Хотя последнее мнение вероятнее, так как нелепо думать, чтобы тогда или дух, или тело были свободны от страдания; однако, по моему мнению, вернее сказать, что то и другое относится к телу, чем одно к телу, а другое к духу. В вышеприведенных словах божественного Писания о страдании духа умалчивается; потому что само собою понятно, хотя и не высказывается, что когда будет страдать таким об-
Блаженный Августин 1166
разом тело, дух будет мучиться бесплодным раскаянием. Ибо и в ветхозаветном Писании читаем: «Наказание плоти нечестивого — огонь и червь» (Сир. VII, 19). Могло бы быть сказано и короче: «Наказание нечестивого». Почему же сказано «плоти нечестивого», если не потому, что то и другое, т. е. огонь и червь, будет наказанием плоти? А если о наказании плоти сказано потому, что в человеке будет подлежать наказанию то, что жило по плоти (ибо по этой причине человек вступит во вторую смерть, как указывает апостол в словах: «Если живете по плоти, то умрете» (Рим. VIII, 13)), то пусть каждый выбирает, что ему угодно: или приписывает телу огонь, а духу червя, — первое в буквальном смысле, а последнее в переносном; или же то и другое — телу в буквальном смысле. Выше я уже достаточно показал, что животные могут жить в огне, гореть не уничтожаясь и страдать не умирая, чудесным действием всемогущего Творца; кто отрицает возможность этого для Него, тот не знает, от Кого происходит все, что только есть удивительного во всех природах. Ибо Он есть Бог, сотворивший в мире все те великие и малые чудеса, о которых мы упомянули, и еще несравненно большие, о которых не упомянули, и заключивший их в этом мире, представляющем собою величайшее из всех чудо.
Итак, пусть каждый выбирает одно из двух, что ему угодно, — пусть думает, что червь относится или к телу в буквальном смысле, или к духу в смысле переносном. А что из этих двух истинно, это яснее покажет само дело, когда наступит такое знание святых, что для них не будет нужды в опыте для исследования тогдашних мучений, а для познания и этого предмета будет достаточно одной только мудрости, которая тогда будет полной и совершенной. Ибо ныне мы знаем только отчасти (I Кор. XIII, 9). А до тех пор будем верить, что будущие тела будут подвергнуты мукам посредством огня.
О граде Божием 1167
ГЛАВАХ
Теперь возникает вопрос: если огонь будет не фигуральным, вроде страданий духа, а материальным, вредным для непосредственного прикосновения, так что в нем будут мучиться тела, то каким образом он будет служить наказанием и для злых духов? Ибо один и тот же огонь будет определен для наказания и людей, и демонов, по слову Христа: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф. XXV, 41). Разве что предположить, что и демоны, как полагают ученые люди, имеют своего рода тела из этого сгущенного и текучего воздуха, ощущение которого получается, когда дует ветер. Если бы этот род элемента не мог испытывать никакого действия от огня, то он и не жег бы, разгоряченный в банях. Чтобы жечь, он прежде разжигается сам, т. е. делает то, чему сам подвергается. Если же кто–либо станет утверждать, что демоны вовсе не имеют тел, то относительно этого предмета не стоит входить ни в тщательное исследование, ни в препирательство. Разве мы не можем сказать, что материальный огонь удивительным для нас, но тем не менее действительным образом может служить наказанием и для бестелесных духов, когда души людей, будучи тоже бестелесными, как в настоящее время заключены в телесные члены, так и тогда будут связаны неразрывно узами своего тела? И не имея никаких тел, духи демонов (или лучше — духи–демоны), хотя и бестелесны, привлекутся к мучениям посредством материальных огней; не так, разумеется, чтобы эти огни, к которым демоны будут привлечены, сами одушевлялись через соприкосновение с ними и становились животными, состоящими из тела и духа, а, как я сказал, удивительным и необъяснимым образом получая от огней наказание и не давая им пищи. Ибо ведь и тот способ, каким души соединяются с телами и становятся животными, в полном смысле
Блаженный Августин 1168
слова удивителен и решительно непонятен для человека; а между тем, это и есть сам человек.
Я бы сказал, что духи, не имеющие тела, будут гореть так, как горел в аду известный богач, когда говорил: «Я мучусь в пламени сем» (Лук. XVI, 24), если бы не предвидел соответствующего возражения, что то пламя было таким же, какими были и глаза, которые богач поднял и которыми увидел Лазаря, каким был язык, прохладить который он желал, каким, наконец, был палец Лазаря, с помощью которого он просил это сделать; там души были без тел. Отсюда, как пламя, в котором горел богач, так и капля, которой он просил, были такими же, каковы бывают видения спящих или в состоянии экстаза видящих бестелесные вещи, хотя и имеющие подобия тел. Да и сам человек, хотя в этих видениях участвует духом, а не телом, видит себя, однако, до такой степени подобным своему телу, что решительно не может провести между ними различия. Но та геенна, называемая также огненным и серным озером (Апок. XX, 10), будет огнем материальным и будет терзать муками тела осужденных, — людей ли и демонов вместе, грубые у первых и воздушные у последних, или только тела людей вместе с духом, а демоны будут мучиться духом без тел, привлеченные только для наказания к материальному огню, но не сообщая ему жизни. Ибо для тех и других будет один огонь, как изрекла сама Истина (Мф. XXV, 41).
ГЛАВА XI
Равным образом, некоторые из тех, против которых мы защищаем град Божий, находят несправедливым, чтобы за грехи, как бы велики они ни были, но совершенные в короткое время, кто–либо был бы осужден на вечные мучения; как будто когда–нибудь справедливость какого–нибудь закона стремилась к
О граде Божием 1169
тому, чтобы каждый нес наказание в продолжение именно того времени, в течение которого он совершил то, за что наказывается. Туллий пишет, что в законах указываются восемь родов наказаний, именно: штраф, тюрьма, телесное наказание, возмездие, лишение чести, ссылка, смерть, рабство Какое же из этих наказаний, соответственно скорости преступления, определяется на такое короткое время, чтобы отбывалось в течение такого же срока, в какой совершено преступление? Исключение может составлять разве что возмездие. Отсюда и изречение закона: «Глаз за глаз, зуб за зуб» (Исх. XXI, 24).
Дело, конечно, возможное, что каждый по суровому закону мести лишается глаза в такое же короткое время, в какое сам учинил это другому Но если за поцелуй чужой жены подвергнуть телесному наказанию, то употребивший на поцелуй одно мгновение разве не чувствует боли от ударов в течение нескольких часов, и приятность мимолетного удовольствия разве не наказывается продолжительным страданием? А в тюрьме разве каждый осуждается отсидеть столько времени, сколько им было употреблено на совершение того, за что он заслужил заключение, когда считается, например, делом вполне справедливым, если подвергается многолетнему заключению в кандалы раб, нанесший господину оскорбление словом или действием? А штраф, бесчестие, ссылка, рабство, не смягчаемые никакою милостью, разве в пределах настоящей жизни не представляются подобными вечным наказаниям? Ибо вечными они не могут быть потому, что сама жизнь, которая ими наказывается, не простирается в вечность; тем не менее преступления, подвергнутые продолжительным наказаниям, совершаются в самое короткое время; и нет такого человека, который бы думал, что наказания преступников должны оканчиваться так же скоро, как скоро совершается человекоубийство, или прелюбодеяние, или святотатство, или иное ка-
Блаженный Августин 1170
кое–нибудь злодейство, но всякий полагает, что каждое из них должно быть измеряемо не продолжительностью времени, а величиной непотребства и нечестия. А когда кто–либо наказывается за какое–нибудь великое преступление смертью, разве законы считают наказанием время умерщвления, которое весьма коротко, а не то, что наказуемый навеки исключается из общества живых?
Между тем, удаление людей из настоящего смертного града через наказание путем первой смерти равносильно удалению людей из бессмертного града через наказание путем второй смерти Ибо как законы настоящего града не призывают умерщвленного снова к жизни, так же точно и законы того града не призывают осужденного на вторую смерть к вечной жизни. Каким же образом, говорят, истинны слова вашего Христа — «Какою мерою мерите, такою же от–мерится и вам» (Лук. VI, 38), если временный проступок наказывается вечным наказанием? В этом случае они не обращают внимания на то, что об одной и той же мере сказано не в смысле равного протяжения времени, а в смысле взаимности зла, т. е. в том смысле, что совершающий зло его же и терпит. Впрочем, слова Господа можно понимать в применении к тому предмету, о котором Он говорил, произнося эти слова, а именно: о судах и осуждениях Так, кто судит и присуждает неправильно, когда судится и осуждается правильно сам, получает хотя и не то, что дал другим, но тою же самою мерой. Он дал путем суда, от суда и терпит, хотя через осуждение оказал несправедливость, а сам терпит уже по справедливости.
ГЛАВА XII
Но вечные мучения, на человеческий взгляд, потому кажутся жестокими и несправедливыми, что при настоящем расслаблении смысла смертных нет
О граде Божием 1171
V нас того чувства высочайшей и чистейшей мудрости которое позволило бы нам осознать, какое безмерное преступление совершено было нашими прародителями. Ибо чем большим прародитель пользовался от Бога, с тем большим нечестием оставил Бога и сделался достойным вечного зла, сам погубив то благо, которое могло быть вечным За это осуждена вся масса человеческого рода, потому что учинивший это впервые наказан со всем потомством, которое в нем коренилось, так что от этого справедливого и заслуженного наказания никто не освобождается иначе, как милосердной и незаслуженной благодатью, и род человеческий распределяется таким образом, что на некоторых открывается вся сила благодати, на остальных же — вся сила правосудного отмщения. А то и другое на всех не открывается, потому что, если бы все оставались в состоянии наказания вечным осуждением, ни на ком не проявилась бы милосердная благодать Искупителя; с другой стороны, если бы все возводились от тьмы к свету, ни на ком не осуществилась бы строгость отмщения Но в последнем состоянии находится гораздо большее число, чем в первом, чтобы видно было, чему должны были бы быть повинны все. Если бы это состояние было уделом всех, то и в таком случае никто не имел бы права упрекать правосудие Бога–Отмстителя; а если от него столь многие освобождаются, то пусть они воздают великую благодарность за этот незаслуженный дар Бога–Освободител
ГЛАВА XIII
Между тем платоники, хотя и полагают, что никакие проступки не должны оставаться безнаказанными, но думают, что все мучения, определяемые как человеческими, так и божественными законами,
Блаженный Августин 1172
своею целью имеют исправление или в настоящей жизни, или же после смерти, если в настоящей жизни кто–либо или совсем не наказывается, или наказывается так, что не исправляется. Отсюда известная сентенция Марона, который, сказав о земных делах и смертных членах, прибавляет о душах:
Отсюда и страхи у них, и желанья, страданья и радость;
И звук не доходит до них, заключенных в их мрачной темнице;
а вслед за этим говорит:
Чтоб жизнь за границей заката остапася с ними; т. е. чтобы их не покинула жизнь и в последний день.
Но зло и тогда не прейдет, и не все до конца
Телесные язвы минуют несчастных: глубоко
Врастает в нас многое, с чем мы сживались так
долго;
Мучения терпят они, за грехи свои прежние
Несут наказанья: иные, простертые в воздухе,
Висят в нем; злодейства других в пучинах глубоких
Смываются черные; кто–то в огне очищается'.
Придерживающиеся этого мнения не признают после смерти никаких мучений, кроме очистительных; и так как высшими на земле стихиями служат вода, воздух и огонь, то, полагают, все, зараженное земным осквернением, очищается одной из этих стихий. Так, у Вергилия указывается на воздух в словах. — «Простертые в воздухе висят», на воду в словах: «В пучинах глубоких», на огонь в словах: «Кто–то в огне очищается». Признаем и мы, что существуют в
О граде Божием 1173
настоящей смертной жизни некоторые очистительные мучения, не такие, каким подвергаются люди, жизнь которых оттого не делается лучше, а напротив, даже хуже, но мучения действительно очистительные, от которых подвергнутые им исправляются. Все же другие мучения, как временные, так и вечные, божественным промыслом — как и должен каждый смотреть на них — ниспосылаются или за грехи как прошлые, так и те, в которых еще живет наказуемый, или же для упражнения и обнаружения добродетелей, — ниспосылаются при посредстве людей и ангелов, как добрых, так и злых. Ибо если кто–нибудь терпит нечто злое по непотребству или ошибке другого, грешит в этом случае человек, который по невежеству или по несправедливости учиняет кому–нибудь что–нибудь злое, а не Бог, который по справедливому, хотя и сокровенному определению это попускает. Но временные мучения претерпевают одни только в настоящей жизни, другие после смерти, а некоторые теперь и тогда, но во всяком случае раньше оного строжайшего и последнего суда. И те, которые претерпевают временные муки после смерти, не все идут в вечные мучения, имеющие быть после этого суда. Ибо, как я сказал выше, некоторым прощается в будущем веке то, что не прощается в настоящем (Мф. XII, 32), т. е. они не будут подвергнуты нескончаемым мучениям будущего века.
ГЛАВА XIV
Между тем, в высшей степени редки люди, которые не несли бы наказаний в настоящей жизни, а только лишь после нее. Однако мы и сами знали, и от других слышали, что были такие, которые до самой глубокой старости не болели даже самой легкой лихорадкой и провели всю жизнь спокойно;
Блаженный Августин 1174
хотя обыкновенно жизнь смертных есть уже сама по себе непрерывное наказание, потому что она — непрерывное искушение, как называют ее священные книги, в коих написано: «Не искушение ли жизнь человеку на земле?» (Иов, VII, 1). И действительно, немалое наказание составляет одно только неразумие или невежество, которое считается до такой степени заслуживающим презрения, что учиться какому–либо ремеслу или грамоте заставляют детей посредством мучительных наказаний, и само это обучение, к которому дети побуждаются наказаниями, для них так мучительно, что они предпочитают иногда переносить наказания, какими побуждаются к науке, чем учиться. Да и кто не пришел бы в ужас и не предпочел бы умереть, если бы ему предложили на выбор или претерпеть смерть, или снова пережить детство? Начиная свое появление на свет не смехом, а плачем, дитя тем самым бессознательно дает наперед знать, в какие бедствия оно впало. Один только Зороастр, говорят, при своем рождении засмеялся; но и ему этот чудовищный смех не предрек ничего доброго. Говорят, что он был изобретателем магических искусств; однако же эти искусства не в силах были для мнимого счастья настоящей жизни помочь ему «против врагов; будучи царем бактрийцев, он был побежден ассирийским царем Нином. Поистине, написанное: «Тяжкое иго на сынах Адамовых, от дней исхода из чрева матерей их, до дней погребения их в матери всех» (Сир. XI, 1) исполняется с такой необходимостью, что даже дети, освободившиеся банею возрождения от уз первородного греха, в котором одном были повинны, испытывая много зла, страдают иногда от нападений злых духов. Это страдание, впрочем, не вредит детям, если они оканчивают жизнь в этом возрасте даже под тяжестью самого этого страдания, служащего причиной отделения души от тела.
О граде Божием 1175
ГЛАВА XV
Однако же в тяжком иге, лежащем на сынах Адама от дня исхода из чрева матери и до дня погребения в общую матерь, заключается и это удивительное зло затем, чтобы мы были благоразумны и понимали, что настоящая жизнь сделалась для нас мучительной вследствие того в высшей степени непотребного греха, который был создан в раю, и что все, совершаемое в нас Новым заветом, имеет отношение ни к чему иному, как к новому наследию нового века, дабы, получив теперь залог, мы наследовали в свое время и то, залогом чего он служит, а пока ходили в надежде и, со дня на день совершенствуясь, умерщвляли духом дела плотские (Рим. VIII, 13). Ибо «познал Господь Своих» (II Тим. II, 19); и «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий» (Рим. VIII, 14). Но (сыны Божий) по благодати, а не по природе. По природе есть только один Сын Божий, ради нас по милосердию сделавшийся Сыном Человеческим, чтобы мы, будучи по природе сынами человеческими, стали по благодати сынами Божиими. Ибо, оставаясь неизменным, Он принял от нас нашу природу, чтобы в ней воспринять нас, и непреложно сохраняя Свое божество, сделался причастным нашей слабости, чтобы мы, изменившись на лучшее, совлекали свое смертное и греховное состояние через общее с Ним, бессмертным и праведным, дополняя это добро в благости Его природы высшим добром. Ибо как через одного согрешившего (Рим. V, 12) мы дошли до столь великого зла; так через одного и того же оправдывающего, человека и вместе — Бога, достигаем столь великого блага.
Никто не должен считать себя перешедшим от первого к последнему до тех пор, пока не будет там, где не будет уже никакого искушения, пока не достигнет мира, приобретаемого ценою многих и разнообразных подвигов этой брани, в которой плоть желает противного духу, а дух — противного плоти (Гал
Блаженный Августин 1176
V, 17). Подобной брани никогда не было бы, если бы человеческая природа силою свободной воли устояла в той правоте, в которой была сотворена. Но не захотев оставаться в мире с Богом, когда была блаженною, ныне, потеряв блаженство, она враждует сама с собою. И однако, хотя существует в настоящее время эта плачевная вражда, она все же лучше, чем предыдущая история человечества. Гораздо лучше, конечно, когда борются с пороками, чем когда без всякой борьбы остаются в подчинении у них. Лучше, говорю, война с надеждой на вечный мир, нежели плен без всякой мысли об освобождении. И мы желаем избавиться от этой войны, горим огнем божественной любви к приобретению того строжайшим порядком исполненного мира, где низшее непреложно подчинено высшему. Но если (не дай Боже!) нет уже никакой надежды на такое благо, то мы должны лучше оставаться в тягостном состоянии этой борьбы, чем без борьбы допустить порокам возобладать над собою.
ГЛАВА XVI
Впрочем, милосердие Божие к сосудам милосердия, предуготованным к славе, так велико, что даже первый возраст человека, т. е. младенчество, подчиняющееся плоти без всякого сопротивления, и второй, называемый детством, в который разум еще не начал борьбы с плотью и находится под влиянием почти всех порочных удовольствий, так как^дитя по слабости ума еще не способно к наставлению, хотя уже владеет даром слова и вышло из младенчества, — даже эти два первых возраста, если они приняли таинства Ходатая, т. е. переведены от власти тьмы в царство Христово, хотя бы и умерли в этих летах, не только не предназначаются к вечным мукам, но даже не претерпевают после смерти никаких очистительных
О граде Божием 1177
наказаний. Для них достаточно одного духовного возрождения, чтобы после смерти не вредило им то обстоятельство, что плотское рождение сопряжено |со смертью. Но коль скоро дитя вступает в возраст, в |котором начинаются обучение и возможность под–Вчинения закону, оно должно начинать борьбу с по–вроками и вести ее настойчиво, чтобы не склониться : грехам, уже заслуживающим осуждения. И если эти пороки привычкой к победам еще не усилились, они легко побеждаются и уступают, а если привыкли побеждать и властвовать, то победа над ними становится весьма трудной. Истинно эта победа достигается только при условии услаждения истинной праведностью, которая существует лишь в Христовой вере. Ибо эаз повелевающий закон существует, а в духе нет соответствующего ему расположения, то запрещение юдстрекает греховное желание, и когда оно побеждает, — виновность и в нарушении закона.
С другой стороны, бывают случаи, когда самые явные пороки побеждаются другими скрытыми пороками, считаемыми добродетелями людьми, в которых царствует гордость и гибельная надменность самоуслаждения. Отсюда, пороки должны считаться побежденными тогда, когда они побеждаются любовью к Богу, сообщаемой только самим Богом и только через Ходатая Бога, человека Иисуса Христа, Который сделался причастным нашей смертности, чтобы мы были причастны Его божеству. Весьма немногие так счастливы, что с самой юности своей не совершают никаких достойных осуждения грехов, заключающихся в позорных поступках или преступлениях, или же в каком–либо непотребном и нечестивом заблуждении, а все, к чему только могло склонить их плотское удовольствие, подавляют изобильно сообщенными силами духа. Наибольшая же часть людей с принятием обязательств закона сначала побеждаются преобладающими пороками и делаются нарушителями закона, и только тогда уже прибега-
Блаженный Августин 1178
ют к помощи благодати и при ее посредстве, путем более искреннего раскаяния и более настойчивой борьбы становятся победителями, подчинив сперва свой ум Богу, а потом уму — плоть. Итак, всякий, кто хочет избежать вечных мучений, должен не только креститься, но и оправдаться во Христе, и, таким образом, перейти от дьявола к Христу. Относительно же очистительных наказаний должно думать, что если они и будут, то во всяком случае будут ранее того последнего и страшного суда. Не следует, впрочем, отрицать, что и сам тот вечный огонь, смотря по заслугам, для одних из грешников будет легче, а для других — тяжелее, вследствие ли того, что его сила и жар будут различны, смотря по заслуженному каждым наказанию, или же жечь он будет одинаково, но не с одинаковой мучительностью будет ощущаться.
ГЛАВА XVII
Теперь считаю необходимым обратиться со своей речью и с мирным рассмотрением уже к нашим милостивцам, по мнению которых или все люди, коих правосуднейший Судья найдет заслуживающими гееннского наказания, или же некоторые из них мучиться будут не вечно, а после известного пространства времени, более или менее продолжительного, смотря по свойствам грехов каждого, будут освобождены от этих мучений. В этом случае милостивее других был Ориген, который полагал, что даже сам диявол и его ангелы, после более продолжительных и тяжких наказаний сообразно заслуженному, будут освобождены от этих мук и присоединены к святым ангелам. Но отчасти за это, отчасти за кое–что другое, в особенности же за мнение о беспрестанно чередующихся блаженствах и злополучиях и бесконечно повторяющихся через определенные промежутки веков переходах и возвратах от блаженства к
О граде Божием 1179
злополучиям и наоборот, Ориген был отвергнут церковью, и вполне заслуженно, так как на самом деле не оказался и милосердным, потому что усвоял святым состояния истинно–злополучные, когда они претерпевают муки, и ложно–блаженные, когда они не имеют истинного и безмятежного, т. е. чуждого всякого страха, наслаждения вечным благом.
Совершенно иначе под влиянием человеческого сострадания погрешает милосердие тех, которые считают злополучия людей, осужденных на последнем суде, временными, и даже для всех них, рано или поздно имеющих получить помилование, допускают вечное блаженство. Если это второе мнение потому хорошо и верно, что милосердно, то его нужно было бы считать тем лучше и вернее, чем оно милосерднее. Пусть же источник этого милосердия распространится и прольется и на осужденных ангелов, которые, хотя и после длинного ряда веков, но должны же быть помилованы. Почему же он, распространяясь на всю человеческую природу, должен отчасти иссякнуть, когда доходит до ангельской? Но они не осмеливаются простирать своего милосердия далее сказанного и не доводят его до помилования самого дьявола. Правда, некто был более смелым и превзошел их; за то, как оказалось, он впал в тем более грубое и превратное заблуждение против прямого слова Божия, чем более считал себя милостивым.
ГЛАВА XVIII
Есть и такие (я сам в своих беседах имел дело с подобными людьми), которые, по–видимому, питая уважение к священным Писаниям, по своему поведению не заслуживают одобрения, и, защищая себя, приписывают Богу гораздо большее милосердие к человеческому роду, чем вышеупомянутые. Они говорят, что хотя о людях порочных и неверующих в
Блаженный Августин 1180
Писании и сказано, что они достойны мучения, но когда дело дойдет до суда, победит милосердие. Милосердный Бог, говорят они, помилует их по молитвам и ходатайству Своих святых. Ибо, если святые молились за них тогда, когда видели в них врагов, то не тем ли более будут молиться за них, когда увидят их униженными и покорными? Ведь нельзя же допустить, чтобы святые были чужды чувству милосердия тогда, когда будут преисполнены совершеннейшей святости, чтобы они, молившиеся за своих врагов, когда и сами не чужды были греха, не стали молиться за своих просителей, когда не будут уже иметь никакого греха. Разве Бог не послушает тогда молений стольких и таких сынов Своих, когда в этой святости их не будет встречать ничего, что затрудняло бы их моления? И как те, которые допускают, что неверующие и недостойные люди претерпевают муки в продолжении долгого времени, и после того освобождаются от всех зол, так особенно часто эти в свою защиту ссылаются на свидетельство псалма, в котором говорится: «Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои?» (Пс. ЬХХУТ, 10) Гнев Его, говорят они, выражается тем, что все недостойные вечного блаженства будут самим Судьею осуждены на вечное наказание. Но если Бог допустит это наказание на долгое или на какое бы то ни было время, Он во всяком случае должен будет для этого в Своем гневе затворить Свои щедроты; чего, как говорит псалом, Он не сделает.
Угрозу суда Божия, хотя и никто не будет осужден, они считают угрозою не ложной точно так, как мы не можем назвать ложной изреченную Богом угрозу, что он истребит город Ниневию (Ион. III, 4); хотя то, что Он предрек безо всякого условия, не исполнилось. Он не сказал: «Ниневия истребится, если (жители ее) не покаются и не исправятся», но предвозвестил истребление этого города, не сделав такого добавления. Эту угрозу они считают истинною потому, что Бог пред-
О граде Божием 1181
рек то, чего (ниневитяне) заслуживали действительно хотя и не допустил исполниться Своей угрозе. Ибо, говорят, хотя Он пощадил уже покаявшихся, но Он, несомненно, знал, что они покаются, и тем не менее безусловно и решительно предрек, что истребление это было предсказано на основании строгости, потому что они того заслуживали; но оно не последовало в силу милосердия, которого Бог не затворил в Своем гневе, пощадив повинившихся от наказания, каким угрожал строптивым. Если же, говорят, Бог оказал пощаду тогда, когда этой пощадой опечалил Своего святого пророка, то не тем ли более щедрую пощаду окажет Он тогда, когда о пощаде будут Его молить все святые? Но об этом, предположение о чем строят они в своем уме, священное Писание, по их мнению, умолчало потому, чтобы многие под страхом временных или даже вечных наказаний исправились и чтобы, таким образом, было кому молиться за тех, которые не исправились.
Впрочем, они не думают, чтобы божественные Писания молчали об этом совершенно. Ибо как, говорят они, понимать слова: «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя» (Пс. XXX, 20), если не так, что эти многие блага божественного милосердия были сокрыты ради страха? Поэтому, прибаатают, и апостол сказал: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. XI, 32), давая понять, что Им никто не будет осужден. Впрочем, и придерживающиеся этого мнения не простирают его до помилования или освобождения от всякого наказания дьявола и его ангелов. Свое человеческое милосердие они простирают только на одних людей, а главным образом имеют в виду себя самих, суля под видом всеобщего милосердия к человеческому роду обманчивую безнаказанность своим погибельным нравам; поэтому в проповеди о милосердии Божием они превзойдут тех, которые эту безнаказанность сулят даже князю демонов и его свите.
Блаженный Августин 1182
ГЛАВА XIX
Есть и другого рода обещающие освобождение от вечного наказания, но не всем людям, а только омытым крещением Христа, которые делаются причастниками тела Его, как бы они ни жили, в какой бы ереси и нечестии ни находились, ради того, что говорил Иисус «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я — хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Иоан. VI, 50, 51). Таким образом, говорят, они необходимо избавляются от вечной смерти и непременно приводятся к вечной жизни.
ГЛАВА XX
Есть и такие, которые обещают это не всем, имеющим крещение Христа и таинство Его тела, а одним лишь католикам, хотя бы они жили и дурно, потому–де, что не в таинстве только, а самим делом они вкусили тело Христово, будучи причастными тому телу Его, о котором говорит апостол: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (I Кор. X, 17); так что хотя бы впоследствии они и впали в какую–либо ересь или даже в языческое идолопоклонство, но поскольку получили крещение Христа и вкушали Его тело в теле Христовом, т. е. в католической церкви, они не умрут навечно и непременно наследуют вечную жизнь; и как бы велико ни было их нечестие, оно будет иметь значение не по отношению к вечности мучений, а по отношению к их продолжительности и силе.
ГЛАВА XXI
А есть такие, которые ввиду написанного. — «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. XXIV, 13) обещают это спасение только оставшимся в католической церкви, хотя и живущим в ней порочно, а именно — спасение через огонь по заслуге спасительного основания, о коем говорит апостол: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (I Кор. III, 11 — 15). Таким образом, говорят, христианин–католик имеет в основании Христа, какового основания не имеет ни одна ересь, отделившаяся от единства Его тела. Ради этого–то основания, хотя бы христианин–католик жил и порочно, как бы надстраивая дерево, сено, солому, он, полагают, будет спасен посредством огня, т. е. помилован будет после мучений в том огне, на какой осуждены будут на последнем суде порочные.
ГЛАВА XXII
Встречал я и таких, по мнению которых мучиться в вечном огне будут только лишь те люди, которые не заботятся во искупление своих грехов творить дела милосердия по слову апостола Иакова: «Суд без милости не оказавшему милости» (Иак. II, 13). Следовательно, говорят они, кто творит милость, к тому, хотя бы он в своем поведении и не делался лучшим, а при делах милосердия жил непотребно и нечестиво, суд будет милостивым, так что он или совсем не подвергнется осуждению, или же будет освобожден от этого осуждения после долгого или короткого времени. Поэтому–то они полагают, что сам Судья живых и мертвых упомянул, что как стоящим направо,
О граде Божием 1183
церкви, хотя и живущим в ней порочно, а именно — спасение через огонь по заслуге спасительного основания, о коем говорит апостол: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (I Кор. III, 11 — 15). Таким образом, говорят, христианин–католик имеет в основании Христа, какового основания не имеет ни одна ересь, отделившаяся от единства Его тела. Ради этого–то основания, хотя бы христианин–католик жил и порочно, как бы надстраивая дерево, сено, солому, он, полагают, будет спасен посредством огня, т. е. помилован будет после мучений в том огне, на какой осуждены будут на последнем суде порочные.
ГЛАВА XXII
Встречал я и таких, по мнению которых мучиться в вечном огне будут только лишь те люди, которые не заботятся во искупление своих грехов творить дела милосердия по слову апостола Иакова: «Суд без милости не оказавшему милости» (Иак. II, 13). Следовательно, говорят они, кто творит милость, к тому, хотя бы он в своем поведении и не делался лучшим, а при делах милосердия жил непотребно и нечестиво, суд будет милостивым, так что он или совсем не подвергнется осуждению, или же будет освобожден от этого осуждения после долгого или короткого времени. Поэтому–то они полагают, что сам Судья живых и мертвых упомянул, что как стоящим направо,
Блаженный Августин 1184
которым Он дарует вечную жизнь, так и стоящим налево, которых осудит на вечное наказание, Он будет говорить только о делах милосердия, совершенных или не совершенных (Мф. XXV, 34). К этому же, говорят они, относится и ежедневное прошение молитвы Господней: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. VI, 12). Ибо тот творит, конечно, милость, кто прощает грех согрешившему пред ним. Сам Господь объяснил это, говоря: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. VI, 14, 15). Таким образом, слова апостола Иакова, что суд будет без милости для того, кто не творит милости, относятся и к этому роду милости. Между тем, говорят, Господь сказал: «Если и вы простите людям, простит и вам Отец ваш грехи ваши», не указывая, большие ли это грехи, или малые. Отсюда, полагают, даже и тем, которые до самого последнего дня своей жизни живут погибельно, ежедневно в силу этой молитвы прощаются все грехи их, каковы бы они ни были, как и сама эта молитва произносится ежедневно, лишь бы только они взяли за правило прощать от сердца всякий раз, когда просят у них милости те, которые повредили им каким–нибудь грехом. Когда я, с помощью Божией, отвечу на все (эти возражения), тогда и конец настоящей книге.
ГЛАВА XXIII
Прежде всего надо решить, почему Церковь отвергла разглагольствования людей, обещающих очищение или помилование дияволу, хотя бы и после великих и самых продолжительных мучений. Столь многие святые и сведущие в ветхих и новых священных книгах мужи нимало не завидовали тому, что те
О граде Божием 1185
или иные, сколько бы их ни было, ангелы после таких или иных, как бы они ни были велики или малы, наказаний получат очищение и блаженство в небесном царстве. Но они видели, что не может быть пустым и бессильным божественный приговор, который Господь, как сам Он предсказал, произнесет на суде: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его» (Мф. XXV, 41), — приговор, показывающий, что дьявол и ангелы его будут гореть в вечном огне. Видели также, что не может быть бессильным и написанное в Апокалипсисе: «А диявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Апок. XX, 10). Там сказано — «вечный», здесь — «веки веков»; выражения эти на языке священного Писания означают обыкновенно только время, не имеющее конца. Поэтому в объяснении, почему истиннейшее благочестие считает твердым и непреложным, что диявол и его ангелы не будут участниками праведности и жизни святых, не может быть указано иной более правильной и очевидной причины, кроме слов Писания, никого не обманывающего, что Бог не пощадил (II Пет. II, 4) и присудил их держать пока связанными в темницах подземного мрака и наказать на последнем суде, когда их примет вечный огонь, в котором они будут мучиться во веки веков. А если так, то каким образом можно думать, что от вечности этого мучения, после того или иного времени, освободятся люди, все ли то, или же некоторые, не ослабляя тем верования, что наказание демонов будет вечным? Если те, которым будет сказано: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его», все ли то, или же только некоторые будут в этом огне не вечно, то почему же нам следует думать, что вечно будут в нем дьявол и его ангелы? Разве приговор Божий, который произнесен будет одинаково для злых ангелов и людей, по отношению к ангелам будет ис-
38' О граде Божием
Блаженный Августин 1186
тинным, а по отношению к людям — ложным?
Так, конечно, было бы, если бы силу имело не то, что сказал Бог, а то, что измышляют люди. Но так как этого быть не может, то пока есть время, желающие избежать вечного наказания должны не аргументировать против Бога, а повиноваться божественному учению. Затем, какое основание вечное мучение понимать как огонь продолжительного времени, а вечную жизнь — как жизнь без конца, когда Христос в одном и том же месте, в одном и том же приговоре о том и другом сказал: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. XXV, 46)? Если то и другое вечно, то очевидно, что то и другое нужно понимать или как продолжительное, но конечное, или же как постоянное и бесконечное. То и другое соотносятся друг с другом как равные, поэтому как мучение, так и жизнь — вечны. Но говорить, — «Вечная жизнь будет без конца, а наказание вечное будет иметь конец», — совершенная нелепость. Отсюда, так как вечная жизнь святых будет без конца, то для тех, для кого назначено будет вечное наказание, наказание это, без всякого сомнения, также не будет иметь конца.
ГЛАВА XXIV
Этот довод имеет силу и против тех, которые, защищая самих себя, осмеливаются идти против слов Божиих, как бы движимые большим милосердием, т. е. представляют дело так, что если Бог говорит, что люди будут страдать, то слова эти истинны в том смысле, что люди заслуживают страдания, а не в том, что они будут страдать (действительно). Ибо, говорят, Бог помилует их по молитвам святых Своих, которые тогда тем более будут молиться за врагов своих, чем более будут святыми, и молитва их, когда они не будут уже иметь никакого греха, будет тем дей-
О граде Божием 1187
ствительнее и достойнее внимания Божия. Почему же при этой совершеннейшей святости и будучи в состоянии своими чистейшими и милосерднейшими молитвами все вымолить, святые не будут молиться и за ангелов, для которых приготовлен вечный огонь, дабы Бог смягчил и для них приговор Свой, сделал их лучше и освободил от этого огня? Или, может быть, отыщется кто–нибудь такой, кто и это сочтет возможным, утверждая, что и святые ангелы вместе со святыми людьми, которые тогда будут равны ангелам Божиим, будут молиться за заслуживших наказание ангелов и людей, чтобы и они были освобождены по милосердию от того, чего они действительно заслужили? Но так никто из истинно верующих не говорил и не скажет. Иначе нет причины, почему Церковь, которой Учитель Бог заповедал молиться за своих врагов, не молится за диявола и его ангелов.
По той же самой причине, по какой Церковь ныне не молится за злых ангелов, которых она знает как своих врагов, она и на страшном суде, хотя будет тогда совершенной по святости, не будет молиться за людей, осужденных на муки в вечном огне. В настоящее время она молится за тех, которых в человеческом роде считает своими врагами, собственно потому, что настоящее время — время плодотворного покаяния. Ибо о чем, по преимуществу, молит она для них, если не о том, чтобы Бог дал им, как говорит апостол, «покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю» (II Тим. II, 25, 26)? Ведь если бы о некоторых она с точностью знала, что они хотя и находятся еще в настоящей жизни, но уже предопределены идти в вечный огонь с дьяволом, то так же он стала бы молиться за них, как и за самого дьявола. Но так как она с этой стороны ни в ком не уверена, то молится за всех находящихся в теле и враждебных ей людях; только не за всех бывают услышаны ее молитвы. Молитвы ее принимаются только за тех, которые,
Блаженный Августин 1188
хотя и противятся Церкви, однако предопределены к тому, чтобы молитвы Церкви о них были услышаны и чтобы они сделались сынами Церкви. Если же некоторые до самой смерти своей сохраняют нераскаянное сердце и из врагов не делаются сынами, разве Церковь за них, т. е. за души таких умерших, молится? Почему это, как не потому, что тот считается уже на стороне диявола, кто, пока находился в теле, не перешел на сторону Христа?
Итак, причина, почему тогда Церковь не будет молиться за людей, заслуживших наказание вечным огнем, та же самая, почему она теперь не молится и тогда не будет молиться за злых ангелов; по той же причине, молясь за людей, она уже и в настоящее время не молится за умерших неверных и нечестивых. Молитва самой Церкви или же благочестивых людей за некоторых умерших бывает услышана; но лишь за тех возрожденных во Христе, жизнь которых в теле была проведена не настолько дурно, чтобы считать их не заслуживающими подобного милосердия, и не настолько хорошо, чтобы это милосердие было для них уже не нужно. Точно так же и тогда, когда наступит воскресение мертвых, будет немало таких, которым после мучений, испытанных душами умерших, будет оказано милосердие, так что они не будут посланы в вечный огонь. Ибо не было бы и сказано о некоторых, что им не отпустится ни в сем, ни в будущем веке (Мф. XII, 32), если бы не было таких, которым хотя в настоящем веке и не отпущено, однако отпущено будет в будущем. Но так как Судья живых и мертвых одним скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира», а другим, напротив: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его», и «пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. XXV, 34, 41, 4б), то было бы крайне дерзко отрицать вечное наказание для кого–либо из тех, о которых Бог сказал, что они пой-
О граде Божием 1189
дут в вечную муку, чтобы путем подобного убеждения привести к отчаянию или сомнению и в самой вечной жизни.
Таким образом, на основании слов псалма: «Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои?» никто не должен думать, будто приговор Божий о добродетельных людях — приговор истинный, а о злых — ложный, или же о добродетельных людях и злых ангелах — истинный, а о людях злых — ложный. Ибо эти слова псалма относятся к сосудам милосердия и к сынам обетования, одним из числа коих был и сам пророк, который, сказав: «Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои?», вслед за тем продолжает: «И сказал я: «вот мое горе — изменение десницы Всевышнего» (Пс. 1ХХУ1,10,11). Эти слова служат объяснением сказанного им: «Неужели во гневе затворил щедроты Свои?» Гнев Божий — это сама смертная жизнь, где человек уподобился суете и дни его проходят как тень (Пс. СХЫИ, 4). Однако в этом гневе Бог не забывает быть и милостивым, повелевая Своему солнцу светить на добрых и злых и посылая дождь на праведных и неправедных (Мф. V, 45), и, таким образом, в гневе 'Своем не затворяет щедрот Своих. В особенности же (милость Божия видна) в том, что выражает псалом в словах: «Вот… изменение десницы Всевышнего»; так как Бог уже в самой этой злополучной жизни, которая есть гнев Его, переменяет судьбу сосудов милосердия на лучшее, хотя гнев Его на их настоящем поврежденном состоянии остается, потому что щедроты Свои Он не затворяет во гневе Своем. Отсюда, так как истина этой божественной песни имеет полное приложение к настоящей жизни, то нет необходимости понимать ее в приложении к тому времени, когда не принадлежащие к граду Божию будут подвергнуты вечному наказанию. Но те, которым хотелось бы это изречение относить к будущим мукам нечестивых, пусть понимают его так,
Блаженный Августин 1190
по крайней мере, что Бог в Своем гневе, который откроется в вечном наказании, не лишит (нечестивых) Своих щедрот, а сделает их мучения не такими суровыми, каких они достойны, — пусть понимают не так, что мучения эти или совсем не наступят, или же некогда прекратятся, а так, что они будут мягче или легче по сравнению с заслуженными. В таком случае Бог и в гневе Своем останется, и в этом гневе Своем не затворит щедрот Своих. Это мнение, впрочем, я хотя и не отвергаю, но на нем отнюдь и не настаиваю.
Впрочем, те, по мнению которых слова: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный» (Мф. XXV, 41), и еще: «И пойдут сии в муку вечную» (Мф. XXV, 4б), и еще. — «И будут мучиться день и ночь во веки веков» (Апок. XX, 10), и далее: «Червь их не умрет, и огонь их не угаснет» (Ис. ЬХУ!, 24), и другие подобного рода сказаны скорее в смысле угрозы, чем действительного приговора, — те стоят в полном и решительном противоречии не столько со мною, сколько с самим божественным Писанием. В самом деле, ниневитяне принесли покаяние в настоящей жизни (Ион. III, 7) и потому — покаяние плодотворное, подобно тем сеятелям на поле, которые по воле Божией сеют со слезами пожинаемое после с радостью (Пс. СХХУ, 6); тем не менее, кто будет отрицать исполнение на них того, что предсказал Господь, кроме разве человека, мало понимающего, как истребляет Бог грешников не только в гневе Своем, но и в милости? Грешники истребляются двояким образом, — или как содомляне, когда наказываются за свои грехи сами люди, или же как ниневитяне, когда через покаяние разрушаются только грехи людей. Следовательно, предсказание Божие исполнилось: Ниневия, которая была злою, истреблена, и явилась Ниневия добрая, которой не было. Ибо, хотя стены и дома остались целы, но город был истреблен в своих порочных нравах. Таким образом, хотя пророк и был опечален, что устрашив-
О граде Божием 1191
шее ниневитян пророчество не исполнилось (Ион. IV, 1—3), однако то, что предсказано было предвидящим Богом, исполнилось, так как Предсказавший знал, как лучше должно было оно исполниться.
А чтобы ложные милостивцы знали, к чему относится написанное: «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя», пусть прочитают, что следует далее: «Которые приготовил уповающим на Тебя» (Пс. XXX, 20). Что значит хранишь боящимся и приготовил уповающим, как не то, что тем, которые из страха мучений желают создать праведность от закона, не мила праведность Божия (Рим. X, 3), так как они ее не знают? Ее они и не вкусили (Иоан. IV, 18). Они надеются на себя, а не на Бога, и множество благости Божией для них закрыто потому, что они хотя и боятся Бога, но тем рабским страхом, которого нет в любви, ибо «совершенная любовь изгоняет страх» (I Иоан. IV, 18). Блага Свои Бог уготовляет уповающим на Него через внушение им любви к Себе, чтобы хвалясь из чувства чистого страха, — не того страха, который изгоняется любовью, а который пребывает во веки веков (Пс. XVIII, 10), — они хвалились о Господе. Праведность Божия есть Христос, Который, как говорит апостол, «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «хвалящийся хвались Господом» (I Кор. I, 30, 31). Этой праведности, даруемой благодатью без всяких заслуг, те, которые хотят создать свою собственную праведность, не знают, и потому праведности Божией, т. е. Христу, не повинуются (Рим. X, 3). В ней–то, в этой праведности, и заключается то многое множество благости Божией, ради которой в псалме говорится: «Вкусите, и увидете, как благ Господь!» (Пс. XXXIII, 9). И вкушая ее в своем настоящем странствовании, но не насыщаясь вполне, мы тем более алчем и жаждем ее, чтобы насытиться тогда, когда узрим Его, как Он есть (I Иоан. III, 2), и когда исполнится написанное: «В прав-
Блаженный Августин 1192
де буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. XVI, 15). Именно в таком смысле Христос соделывает многое множество Своей благости уповающим на Него. Если же Бог скрывает (хранит) Свою благость от боящихся Его в том смысле, как они понимают, т. е. в смысле благости, по которой Он не будет судить нечестивых, чтобы правильно жили не знающие этой благости и только боящиеся осуждения, и чтобы, таким образом, было кому молиться за живущих неправедно, то в каком же смысле Он соделывает Свою благость уповающим на Него, когда, по их мнению, по этой благости Он не будет судить тех, которые на Него не уповают?
Итак, пусть ищут той благости, которую Бог уготовляет уповающим на Него, а не той, которую Он будто бы приготовляет презирающим и хулящим Его. За пределами настоящей жизни человек напрасно ищет того, чего не хотел приготовлять, находясь в своем теле. Точно так же и слова апостола: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать», сказаны не в том смысле, будто Он никого не осудит, а в том, какой вытекает из предыдущей речи апостола. Ибо, сказав об иудеях, имеющих впоследствии уверовать, апостол обращается со своими словами к уверовавшим уже язычникам, которым писал свои послания: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы» (Рим. XI, 30,31). Вслед за этим прибавляет он слова, которые они ложно толкуют в свою пользу, и говорит: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. XI, 32). Кого это всех, если не тех, о которых апостол вел свою речь раньше, как бы говоря теперь так: «И вас, и их»? Таким образом, и язычников, и иудеев, «кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (Рим. VIII, 29), всех заключил в непослушание,
О граде Божием 1193
чтобы они, почувствовав через покаяние горечь своего непослушания и обратившись через веру к святости милосердия Божия, восклицали словами псалма: «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя!» Итак, Бог милостив ко всем сосудам милосердия. Но к кому именно «ко всем»? Да к тем, кого Он как из язычников, так и из иудеев предопределил, призвал, оправдал и прославил; только из этих всех Он не осудит никого, а не вообще из всех людей.
ГЛАВА XXV
Ответим и тем, которые не обещают освобождения от вечного огня не только дияволу и его ангелам, но даже и всем людям, а обещают только тем, которые омыты крещением Христа и делаются причастниками Его тела и крови, как бы при этом они ни жили, в какой бы ереси или нечестии ни находились. Но против таких говорит апостол в словах: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. V, 19—21). Эти слова, очевидно, ложны, если подобного рода грешники после известного времени наследуют царствие Божие. Но так как слова апостола не ложны, то ясно, что царства Божия такие не наследуют. А если царства Божия они никогда не наследуют, то будут находиться в вечном мучении, потому что среднего места, где бы был свободен от вечного наказания тот, кто не вселен будет в царство Божие, не существует.
Поэтому естественно спросить, как же следует понимать сказанное Господом Иисусом: «Хлеб же,
Блаженный Августин 1194
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я — хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Иоан. VI, 50, 51). Но толкование этих, кому мы отвечаем сейчас, устраняется теми, кому мы должны отвечать после; последние будущее помилование обещают не всем, принимающим таинство крещения и тела Христова, а только лишь католикам, хотя живущим и худо, потому что, говорят они, католики тело Христово вкушали не только в таинстве, но и самим делом, входя в состав того тела Христова, о котором говорит апостол: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (I Кор. X, 17). Таким образом, кто принадлежит к единству тел а Его, т. е. к обществу членов–христиан, — тела, таинство которого верующие в причащении обыкновенно получают от алтаря, — тот справедливо должен быть назван ядущим тело Христа и пьющим кровь Его. Отсюда, отделившиеся от единства этого тела еретики и раскольники могут также принимать это таинство, но не в пользу себе, а во вред, и не только не получат за это помилование в будущем, а напротив, будут еще строже судимы; так как они не принадлежат к тому союзу мира, выражением которого служит это таинство.
Но и те, в свою очередь, которые правильно понимают, что тот не должен называться ядущим тело Христово, кто не принадлежит к телу Христову, неправильно обещают освобождение от наказания в вечном огне таким, которые от единства этого тела отступают или в ересь, или даже в языческое суеверие. Во–первых, они должны иметь в виду, насколько недоступно и решительно несогласно со здравым смыслом, чтобы многие, даже почти все, которые, отпав от католической церкви, создали нечестивые ереси и сделались ересиархами, имели лучшую участь, нежели те, которые католиками никогда не были, будучи уловлены в сети еретиков, — лучшую, если таких ересиархов освобождает от вечного на-
О граде Божием 1195
казания то обстоятельство, что они крестились в католической церкви и на первых порах принимали в истинном теле Христовом таинство тела Христа; так как отступник от веры и из отступника ставший ее гонителем гораздо, конечно, хуже, нежели тот, кто от нее никогда не отступал, потому что никогда к ней не принадлежал. Во–вторых, апостол имеет в виду и их, когда произносит вышеприведенные слова и по перечислении подобных плотских дел предрекает с одинаковой достоверностью: «Поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. V, 21).
Затем, не должны быть беспечными в своих пагубных и осуждения заслуживающих нравах и те, которые остаются, по–видимому, до конца в общении с католической церковью, имея при этом в виду слова: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. X, 22); но вследствие нечестивой жизни теряют саму праведность, т. е. Христа, или прелюбодействуя, или совершая в своем теле другие постыдные деяния, о которых апостол не захотел и говорить, или утопая в постыдной роскоши, или делая что–нибудь из того, о чем говорит апостол: «Поступающие так Царствия Божия не наследуют». Все, делающие подобные дела, будут непременно подвергнуты вечному наказанию, потому что быть в царствии Божием не могут. Ибо, оставаясь в подобных делах до конца настоящей жизни, они, конечно, не должны быть названы до конца пребывшими во Христе, потому что пребыть во Христе значит пребыть в вере Его. Вера же эта, как определяет ее тот же апостол, действует любовью (Гал. V, 6). А любовь, как говорит он в другом месте, «не делает ближнему зла» (Рим. XIII, 10). Не могут быть названы такие и вкушающими тело Христа, потому что не должны причисляться к числу членов Христа. Не говорю о другом, но они в одно и то же время не могут быть членами Христа и членами блудницы (I Кор.У!, 15). Наконец, и Сам, сказавший: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»
Блаженный Августин 1196
(Иоан. VI, 56), показывает, что есть тело Христа и пить кровь Его — это не только таинство, но и само дело; это и значит — пребывать во Христе, чтобы и Христос пребывал в нем. Христос сказал как бы так: «Кто не пребывает во Мне и в ком Я не пребываю, тот пусть не говорит и не думает о себе, что он ест тело Мое и пьет кровь Мою». Таким образом, те во Христе не пребывают, которые не суть члены Его, а те не члены Христа, которые сделались членами блудницы, если только они не совлекут с себя этого зла покаянием и путем примирения не возвратятся к благу.
ГЛАВА XXVI
Но, говорят, христиане–католики в основании имеют Христа, от единства с Которым они не отступают, и хотя бы на этом основании они строили самую худую жизнь, вроде дерева, сена и соломы (I Кор. III, 11,12), правая вера, по которой Христос есть для них основание, хотя и с ущербом, — так как то, что созидается на этом основании, будет сожжено, — но может рано или поздно спасти их от вечности этого огня. Таким пусть кратко ответит апостол Иаков: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» (Иак. II, 14). Но, возразят, кто же это тот, о ком говорит апостол Павел: «Сам спасется, но так, как бы из огня» (I Кор. III, 15)? Спросим вместе и мы, кто это такой; хотя вне всякого сомнения, это не тот (кого разумеют они), чтобы не оказались противоречащими друг другу изречения двух апостолов, когда один из них как бы говорит: «Хотя бы кто имел за собою и дурные дела, его спасет вера посредством огня», а другой: «Если кто добрых дел не имеет, разве вера может его спасти?»
Мы определим, кто может спастись посредством огня, если прежде определим, что значит иметь в ос-
О граде Божием 1197
новании Христа. На этот раз лучше всего обратиться к самому этому сравнению; в здании ничто не кладется прежде основания, поэтому Христос служит основанием только для того, кто носит Его в своем сердце так, что выше Христа для него не существует ничего земного и временного, даже и дозволенного. Если же подобные предметы он ставит выше Христа, то хотя, по–видимому, и имеет Христову веру, но основанием для него служит не Христос; а если при этом, преступая спасительные заповеди, он совершает недозволенное, то не тем ли более очевидно, что он Христа повелевающего или дозволяющего ставит не впереди, а позади, предпочитая постыдно следовать собственной похоти вопреки Его повелениям или дозволениям? Таким образом, если кто–либо из христиан любит блудницу и, прилепляясь к ней, становится одним с нею телом (I Кор.VI, 16), такой уже в основании имеет не Христа. Если же кто любит свою жену, если любит ее по Христу (Еф. V, 25), то кто будет сомневаться, что основанием для него служит Христос? Но если даже он любит ее и по веку сему, плотски, в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога (I Фес. IV, 5), то и это по снисхождению дозволяет апостол, или лучше — сам Христос через апостола. Отсюда, и такой может в основании иметь Христа. Ибо, если ни одну из этих привязанностей или пожеланий он не ставит выше Христа, то хотя и строит из дерева, сена и соломы, Христос все же остается для него основанием; почему он и спасется посредством огня. Удовольствия этого рода и земные привязанности, извинительные ради супружеского союза, будут сожжены огнем бедствия, к которому относятся вдовство и все те несчастья, которые их разрушают. Для того, кто строил, постройка эта будет убыточна — он не будет обладать тем, что строил; и тяжкие страдания причинит ему потеря того, пользование чем его услаждало. Но посредством этого огня он спасется ради основания, потому что если бы го-
Блаженный Августин 1198
нитель предложил ему вопрос: это ли, или Христа предпочитает он иметь, — он предпочел бы Христа.
Вот, по словам апостола, человек, строящий на основании из золота, серебра, драгоценных камней: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу» (I Кор.VII, 32). А вот другой, строящий из дерева, сена, соломы: «А женатый заботится о мирском, как угодить жене» (I Кор.VII, 33). «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается» (I Кор. III, 13). Это самое бедствие апостол и называет огнем, как читается то в другом месте: «Сосуды скудельные искушает печь, а мужей праведных — испытание бедствия» (Сир. XXVII, 6). «Огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит (ибо то, чем каждый озабочен о Господнем, как угодить Господу, остается), тот получит награду (т. е. получит то, о чем заботился); а у кого дело сгорит, тот потерпит урон (так как не будет уже обладать тем, что любил); впрочем сам спасется (ибо никакое бедствие не могло сдвинуть его с основания), но так, как бы из огня» (I Кор. III, 11 — 15). Ибо чем обладал он не без обольстительной любви, с тем расстается не без жгучей скорби. Так, по моему мнению, объясняется тот огонь, который никому из них не будет в осуждение, но одного обогатит, другому причинит ущерб, а испытает — обоих.
А если бы в указанном месте мы захотели разуметь тот огонь, о котором Господь скажет стоящим по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный», так что к числу их принадлежали бы и те, которые строили на основании из дерева, сена и соломы, но которые по истечении времени, определенного сообразно с их грехами, освободятся от этого огня в силу доброго основания, то кого мы должны будем разуметь под стоящими направо, коим будет сказано: «Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство», если не тех, которые строили на основании из золота, серебра и драгоценных кам-
О граде Божием 1199
ней? Но в этот огонь, о котором сказано: «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть», если его разуметь здесь, должны быть посланы те и другие, т. е. стоящие и направо, и налево. Ибо в указанном огне должны быть испытаны те и другие. А если он испытает тех и других, так что чье дело пребудет, т. е. то, что он строил, огнем не будет сожжено, тот получит награду; а чье дело сгорит, тот потерпит осуждение; то, очевидно, огонь этот не есть огонь вечный. В вечный огонь будут посланы одни только стоящие по левую сторону на последнее и вечное осуждение, между тем как этот огонь служит испытанием и для стоящих направо. Но он испытанием служит для одних так, что постройка их, которая окажется опирающеюся на основание–Христа, не будет сожжена и истреблена, у других же то, что они построили, сгорит, и потому они потерпят ущерб; впрочем, сами спасутся, потому что в силу преимущественной любви ко Христу непоколебимо держались Его, как основания. А если спасутся, очевидно, станут по правую сторону и вместе с прочими услышат: «Приидите благословенные Отца Моего», а не по левую, где станут те, которые спасены не будут и потому услышат: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». Ибо от огня того никто из них не спасется, так как все они пойдут в муку вечную (Мф. XXV, 46), где червь их не умирает и огонь не угасает (Ис. ЬХ\П[, 24), в котором они будут мучиться день и ночь во веки веков (Апок. XX, 10).
Но если скажут, что этого рода огонь претерпевают души умерших в промежуток времени после смерти сего тела до тех пор, пока не наступит день, который по воскресении тел будет последним днем осуждения и воздаяния; что его не испытывают те, которые не имеют нравов и привязанностей такого рода, чтобы нужно было сжечь их дрова, сено и солому, а испытывают те, которые приносят с собою
Блаженный Августин 1200
такого рода постройки; что, наконец, испытывают они его или только там, или здесь и там, или же здесь, потому что там нет огня преходящих бедствий, сжигающего все временное и заслуживающее извинения; такого мнения я отрицать не стану, потому что оно, может быть, и верно. Действительно, сама уже смерть тела, получившая начало от совершения первого греха, может относиться к такому бедствию; так что следующее за нею время каждый чувствует себя сообразно со своею постройкой. И точно так же венчающие мучеников и испытываемые некоторыми христианами гонения, подобно огню, испытывают постройки того и другого рода, и одни из этих построек сжигают вместе с самими строителями, если основанием в них оказывается не Христос, другие — без строителей, если основанием им служит Христос, потому что сами строители спасутся, хотя и с ущербом; наконец, третьих совсем не касаются, потому что находят их такими, что они остаются навеки.
Затем, и в конце века, во время антихриста, наступит такое бедствие, какого раньше никогда не было. К тому времени на наилучшем основании, которым служит Христос Иисус, возведено будет и из золота, и из сена весьма много построек, чтобы огонь испытал те и другие и из–за одних был причиною радости, из–за других — причиною осуждения; хотя тех самих, у кого окажутся эти постройки, он не коснется ради незыблемого основания. А кто по человеческому обычаю, по плотской любви предпочитает Христу, не говорю жену, плотским соитием с которой пользуются для плотского удовольствия, но и другие родственные связи, чуждые этого рода удовольствий, такой в основании имеет не Христа, и потому огнем не будет спасен, а будет осужден, потому что не может быть со Спасителем, Который весьма ясно говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.
О граде Божием 1201
1X, 37). Но кто к этого рода узам привязан плотски так, | что не ставит их выше Господа Христа, а скорее го — "' тов бывает лишиться их, чем Христа, если к этому принуждает его какое–либо испытание, тот посредством огня будет спасен, потому что насколько снедает его скорбь, необходимо проистекающая от утраты этих предметов, настолько сохраняет любовь. И действительно, кто любит отца, мать, сыновей, дочерей во Христе, заботясь о том, чтобы они наследова–I ли царство Христа и соединились с Ним; иначе — если рлюбит в них то, что они суть члены Христовы; в таком случае невозможно, чтобы любовь его подлежала ис-|треблению вместе с дровами, сеном и соломой; напротив, она должна считаться золотой, серебряной и драгоценной постройкой. Да и как он может любить больше Христа тех, кого любит именно ради Христа?
ГЛАВА XXVII
Остается еще ответить тем, по чьим словам в веч–юм огне будут гореть только те, которые не заботятся во грехах своих творить достойной милостыни, по словам апостола Иакова: «Суд без милости не оказавшему милости» (Иак. II, 13). А кто, говорят, творил милостыню, хотя бы в своей нравственности не улучшился, а среди дел своего милосердия жил нечестиво и непотребно, для того суд будет милостивым, так что он или совсем не будет осужден, или же освобожден будет от последнего осуждения через некоторое время. Отсюда, полагают они, Христос сде–тает разделение между стоящими направо и налево, из коих одних пошлет в царство, а других в вечное мучение, имея в виду лишь их любовь или небрежение к милостыни. А что ежедневные грехи, творить которые мы не перестаем окончательно, какого бы рода и сколько бы их ни было, благодаря милостыне могут быть отпущены, в качестве подтверждения это-
Блаженный Августин 1202
го воззрения они ссылаются на молитву, которой научил сам Господь. Ибо, говорят, как не бывает дня, чтобы христиане не произносили этой молитвы, так точно не может быть и такого, хотя бы и ежедневно совершаемого греха, чтобы он не мог быть отпущен, когда мы произносим: «И прости нам долги наши», если только стараемся поступать сообразно с дальнейшими словами: «Как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. VI, 12). Ведь Господь, продолжают они, не говорит: «Если простите грехи другим, простит и вам ваши ежедневные малые грехи Отец ваш», а говорит: «Простит вам Отец ваш Небесный» (Мф. VI, 14). Итак, сколько бы и какого бы рода грехи ни были, хотя бы они совершались ежедневно, хотя бы от них и не уклонялись, изменяя жизнь к лучшему, — все эти грехи, по их мнению, могут быть отпущены им в силу обещанного прощения за милостыню.
Хорошо и то, что они убеждают творить за грехи достойные дела милосердия; если бы они говорили, что всякая милостыня, какова бы она ни была, хотя бы и за ежедневные и великие грехи и при всяческом преступном образе жизни, может снискать божественное милосердие, так что за нею следует ежедневное прощение, — они сами бы увидели, что говорят глупость и нелепость. Тогда они вынуждены были бы признать возможным, что человек весьма богатый ценою десяти мелких монет, ежедневно подаваемых в качестве милостыни, может покрывать и убийства, и прелюбодеяния, и всякие другие непотребства. Если же утверждать это крайне нелепо и бессмысленно, то когда речь идет о том, что должно разуметь под достойными делами милосердия за грехи, о коих говорил предтеча Христов: «Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. III, 8), без всякого сомнения не окажется, что такие дела творят те, жизнь которых исполнена ежедневных преступлений. И это потому, прежде всего, что, расхищая чужое имущество, они захватывают себе слишком много и, уделяя от этого
О граде Божием 1203
многого крупицу бедным, представляют Христа в этом отношении им покровительствующим; так что, полагая, что купили или, вернее, ежедневно покупают у Него право на злодеяния, они спокойно совершают все самое предосудительное. А между тем, если бы и за одно злодеяние они раздали нуждающимся членам Христовым все свое имущество, но от такого рода дел не отстали, не имея той любви, которая превратно не поступает, и тогда для них не было бы никакой пользы. Таким образом, кто творит достойные за свои грехи дела милосердия, тот начинает их творить прежде всего с самого себя. Ибо кто делает для ближнего то, чего не делает для самого себя, поступает вопреки словам Господа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. XXII, 39), равно и словам: «Люби душу свою, угождая Богу» (Сир. XXX, 24). А кто не делает для своей души этой милостыни, т. е. угождения Богу, каким образом может быть назван делающим достойную за свои грехи милостыню?
Милостыня, несомненно, помогает молитве. Поэтому милостыню творить мы должны для того, чтобы быть услышанными, когда молимся о своих прежних грехах, а не для того, чтобы, упорствуя в них, мы посредством милостыни снискали себе дозволение на атодейство. Для того Господь и предсказал, что вменит милостыни стоящим и направо, и налево; первым — сотворенные, а последним — не сотворенные, чтобы показать, какое значение милостыни имеют для искупления прежних грехов, а не для постоянного безнаказанного их совершения. Те же, которые не хотят изменить преступного образа жизни на лучшее, не должны быть названы творящими (такого рода милостыни. Ибо словами: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. XXV, 45) Он показывает, что они не творят милостыни даже и тогда, когда думают, что творят. И в самом деле, если бы они подавали алчущему Христианину хлеб именно как христианину, то, ко-
Блаженный Августин 1204
нечно, не отказывали бы себе в хлебе праведности, который есть сам Христос, ибо Бог обращает внимание не на то, кому подают, а на то, с каким расположением подают. Поэтому, кто любит в христианине Христа, тот подает милостыню с таким расположением, с каким приступает ко Христу, а не с каким желает безнаказанно отступить от Христа. Ибо каждый из нас тем более любит Христа, чем более любит то, что одобряет Христос. Какая была бы польза, если бы каждый из нас только крестился, а не оправдался? Тот, Кто сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. III, 5), разве не сказал также: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. V, 20). Почему же многие, боясь первого изречения, спешат креститься, а приобрести оправдание многие не стараются, не боясь последнего? Отсюда, как не брату своему говорит «безумный» тот, кто, говоря это, выражает нерасположение не к самому братству, а к его греху; потому что в противном случае повинен будет геенне огненной (Мф. V. 22), так и наоборот, кто подает христианину милостыню, подает ее не христианину, если не любит в нем Христа; а тот Христа не любит, кто не хочет быть оправданным во Христе. Равным образом, если кто одержим таким пороком, что скажет своему брату «безумный», т. е. будет поносить его несправедливо, без желания устранить его от греха, тому мало в искупление этого творить дела милосердия, а нужно еще присоединить к ним и то средство примирения, о котором говорится дальше. Ибо дальше говорится следующее: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что–нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. V. 23, 24). Таким образом, мало подать какую бы то ни было милостыню за то или иное пре-
О граде Божием 1205
ступление и в то же время оставаться при прежнем порочном образе жизни.
Что же касается молитвы, которой научил сам Господь и которая потому и называется Господней, то, хотя эта молитва и заглаживает ежедневные грехи, когда мы ежедневно произносим: «И прости нам долги наши», а дальнейшие слова ее, — «Как и мы прощаем должникам нашим» не только произносим, но и исполняем на деле, — она произносится потому, что грехи есть, но не для того, чтобы они были. Через эту молитву Спаситель хотел нам показать, что как бы мы праведно ни жили, во мраке и греховности настоящей жизни мы бываем не чужды грехов, об отпущении которых должны молиться, а тем, которые грешат против нас, прощать, чтобы и самим получить прощение. Слова: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. VI, 14) сказаны Спасителем не для того, чтобы, надеясь на эту молитву, мы совершали ежедневные злодейства, благодаря ли то власти, по которой бы не боялись человеческих законов, или хитрости, с которой бы обманывали самих людей; но для того, чтобы научились не считать себя безгрешными, хотя бы и были чисты от преступлений, Так же точно Бог требовал и от ветхозаветных священников относительно жертвоприношений, заповедуя им приносить последние сперва за грехи свои, потом за грехи народа (Лев. XVI, 6; Евр. VII, 27). Нужно вникнуть внимательно в сами слова Учителя и Господа. Господь не говорит: «Если вы отпустите людям, и Отец ваш отпустит вам грехи ваши, каковы бы они ни были», но говорит просто: «Простит и вам». Учил Он молитве ежедневной и вел речь с учениками всячески оправданными. Что же значат эти «согрешения», если не такие грехи, которых (как бы так говорил Господь) не будете чужды даже и вы, оправданные и священные? Таким образом, в словах, в которых, по мнению ищущих благодаря этой молитве случая для ежеднев-
Блаженный Августин 1206
ного совершения злодейств, Господь разумел и великие грехи, ибо Он–де не сказал: «Отпустит вам грехи малые», мы, обращая внимание на то, какими людьми эта молитва произносилась и слыша «согрешения», должны разуметь не что иное, как грехи малые, так как грехи таких людей явно не были великими.
Впрочем, даже и великие грехи, от которых мы должны совершенно освобождаться исправлением к лучшему, отпускаются нам в том только случае, если мы исполняем дальнейшие слова: «Как и мы прощаем должникам нашим». Ибо если и малые грехи, от которых не свободна жизнь даже и праведников, иначе не отпускаются, то обремененные многими и великими преступлениями, хотя бы уже и перестали их совершать, тем более не могут получить снисхождения, если остаются неумолимы к прощению другим того, чем те против них провинились, несмотря на слова Господа: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. VI, 15). В этом отношении имеет силу и изречение апостола Иакова, что суд будет тому без милости, кто не оказал милости. При этом надобно припомнить и того раба, которому господин его простил было десять тысяч талантов долга, но затем приказал возвратить этот долг за то, что тот оказался беспощадным к своему товарищу, бывшему ему должным сто динариев (Мф. XVIII, 23). Отсюда, по отношению к тем, которые суть сыны обетования и сосуды милосердия, значение имеет то, что тот же апостол говорит непосредственно вслед за приведенными словами: «Милость превозносится над судом» (Иак. II, 13). Ибо и те праведники, которые провели жизнь так свято, что принимают других в вечные обители, сделавшись их друзьями от мамоны неправды (Лук. XVI, 9), и они, чтобы быть праведниками, получают сами свободу по милосердию Того, Кто оправдывает нечестивого, награждая по благодати, а не по долгу. К числу таких принадлежит, ко-
О граде Божием 1207
нечно, и апостол, который говорит: «Получил от Господа милость быть Ему верным» (I Кор.'УН, 25).
Само собою понятно, что те, которых праведники принимают в вечные обители, не бывают настолько добродетельны, что сама их жизнь могла заслуживать помилования без ходатайства святых, и потому на них тем очевиднее милость превозносится над судом. Однако на этом основании не следует думать, чтобы в вечные обители принимался человек самый преступный, нисколько и никогда не изменивший своего образа жизни на лучший или более терпимый, благодаря тому, что снискал благоволение святых мамоною неправды, т. е. деньгами или богатством, приобретенным дурно, а если даже и хорошо, то во всяком случае богатством не истинным, а таким, какое считает богатством греховность, не зная, что такое истинное богатство, которым обладают принимающие других в вечные обители.
Существует некоторый образ жизни, с одной стороны, не настолько дурной, чтобы для тех, которые живут так, в деле получения небесного царства не было никакой пользы от подаяния милостыни, которая служит поддержкой для праведников в их скудости и снискивает в лице их друзей, принимающих в вечные обители, но с другой — и не настолько добрый, чтобы для получения ими блаженства достаточно было одной милостыни, если только милостыня эта не споспешествуется заслугами тех, которых она делает друзьями. (Я часто удивляюсь, что и у Вергилия встречается мысль, выражаемая словами Господа: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук.XVI, 9), — мысль, которую весьма напоминает и следующее изречение: «Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника» (Мф. X, 41). Так поэт, описывая Елисейские поля, в которых, как тог-
Блаженный Августин 1208
да думали, живут души блаженных, помещает в них не только тех, которые могли достигнуть тамошних обителей собственными заслугами, но и тех,
кто услугой другим их заставил себя вспоминать';
т. е. тех, которые делали услуги другим и этими услугами оставили у них о себе воспоминание. И тогда как будто то же самое говорили, что часто слышится из уст христианина, когда он с покорностью вверяется каждому святому и говорит: «Вспоминай обо мне», и чтобы это могло быть так, старается оказывать услуги.) Но какой именно этот образ жизни и какие это грехи, которые служат препятствием к достижению царства Божия, но по заслугам святых друзей встречают снисхождение, указать весьма трудно и крайне опасно. По крайней мере, как я ни старался, до настоящего времени определить их не смог. Возможно, что предмет этот для того и сокрыт, чтобы нас не оставляла забота остерегаться всяческих грехов. Ибо если бы было известно, за какие именно грехи остающиеся в них и не оказывающие преуспеяния в лучшей жизни должны искать и ожидать заступничества праведников, то человеческая лень беспечно оставалась бы в них и, погруженная в такое множество забот, нисколько бы не помышляла о преуспеянии в добродетели, а только старалась бы получить помилование ради заслуг других, коих она делала бы себе друзьями благодаря богатству неправедному путем раздачи милостыни. Между тем, в настоящее время, не зная рода простительной греховности, она и с большею тщательностью заботится о преуспеянии в добре путем неослабной молитвы, и не пренебрегает старанием сделать себе святых друзьями от мамоны неправды.
Тем не менее, однако же, помилование, которое достигается собственными ли то молитвами каждо-
О граде Божием 1209
го, или же ходатайством святых, состоит в том, что не всякий будет отослан в вечный огонь, а не в том, что отосланный уже в этот огонь будет освобожден от него по истечении того или иного времени. Ведь и те, по мнению которых слова Писания, что добрая земля приносит обильный плод — одна в тридцать, другая в шестьдесят, а иная во сто крат (Мф. XIII, 8), должны пониматься в том смысле, что святые, смотря по различию своих заслуг, одни милуют тридцать, другие шестьдесят, а иные и сто человек, — обыкновенно предполагают, что это будет в день суда, а не после. Говорят, некто, встретив людей, обещающих себе безнаказанность на том основании, что в таком смысле помилованию могут, по–видимому, подлежать все, ответил им следующим превосходным образом, что–де надобно, напротив, жить добродетельно, дабы каждый оказался в числе тех, которые будут ходатайствовать за других, иначе таковых может оказаться так мало, что после того, как каждый из них дойдет до своего числа тридцать, шестьдесят или сто, останется много таких, которые уже не могут быть освобождены от мучений по их ходатайству, и в числе их окажутся люди, по тщетному неразумию рассчитывающие на чужие плоды. Ограничусь этим ответом тем, которые авторитета священных Писаний, общих всем нам, не отвергают, но, неправильно понимая эти Писания, полагают, что будет не то, о чем говорят Писания, а то, чего желают они сами. Дав этот ответ, закончим, как и обещали, настоящую книгу.
Блаженный Августин 1210
КНИГА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА I
Эта последняя книга, как мы обещали в книге предыдущей, будет содержать в себе рассуждение о вечном блаженстве града Божия. Вечным это блаженство называется не по продолжительности времени, идущего через ряд многих веков и, однако, рано или поздно долженствующего иметь конец, но в том смысле, как написано в Евангелии: «И Царству Его не будет конца» (Лук. I, 33). С другой стороны, эта вечность (должна пониматься) не так, что град сей представляет собою такой вид непрерывного бытия, что одни выходят из него, умирая, а другие являются им на смену, рождаясь, подобно тому, как в дереве, постоянно покрытом листвою, по–видимому, остается одна и та же производительная сила, доколе появляющиеся на место увядших и опавших листьев новые листья сохраняют тенистый вид; а так, что все граждане его будут бессмертны, ибо там и люди получат то, чего никогда не теряли святые ангелы. Так устроит всемогущий Бог, Создатель этого града. Таково Его обетование, и обманывать Он не может; а чтобы этому обетованию мы веровали, Он многое, и обещанное, и нет, уже исполнил.
Он сотворил вначале этот, наполненный всеми видимыми и подлежащими чувствам прекрасными предметами, мир, в котором нет ничего лучше духов, коих Он одарил разумом и способностью созерцать Себя и соединил в одном сообществе, называемом нами святым и горним градом, в котором Сам же и служил предметом, поддерживающим их бытие и делающим их блаженными, как бы общею их жизнью и
О граде Божием 1211
питанием. Он даровал этой разумной природе такое свободное произволение, чтобы она могла, если бы захотела, отступить от Бога, т. е. от своего блаженства; ибо тотчас вслед за тем должно было наступить для нее злополучие. Хотя Он и предвидел, что некоторые ангелы из гордости, думая сами по себе обладать блаженной жизнью, окажутся отступниками от такого великого блага, однако не лишил их этой способности, решив, что больше могущества и благости — извлечь из зла добро, чем не допустить зла. Да и зла не было бы совсем, если бы изменчивая, хотя и добрая природа, сотворенная всевышним и неизменно благим Богом, Который все сотворил добрым, не создала его сама себе путем греха.
Сам этот грех служит очевидным доказательством, что природа была сотворена доброй Ибо если бы она не была великим, хотя и не равным Творцу добром, то отступничество от Бога, этого, так сказать, ее Света, не было бы для нее, конечно, злом. Как слепота глаза представляет собою порок, и порок этот указывает, что глаз сотворен для того, чтобы видеть свет, а потому и в самом своем пороке глаз является для прочих органов органом, способным к (восприятию) света (именно по этой причине лишение света и составляет для глаза порок); так и природа, наслаждавшаяся Богом, свидетельствует, что была сотворена наилучшей, самим своим повреждением, когда злополучна собственно потому, что не наслаждается Богом, Который свободное падение ангелов подверг правосуднейшему наказанию вечным лишением блаженства, а ангелам, устоявшим в высшем благе, саму эту твердость обратил как бы в награду, дабы они были уверены, что эта их твердость пребудет без конца. Он и самого человека сотворил правым и с тем же самым свободным произволением, как существо хотя и земное, но достойное неба, если он останется в единении со своим Творцом; если же от Него отступит, постигнет и его злополучие, свойственное
Блаженный Августин 1212
такого рода природе. Предвидя, что он также отступит от Бога, преступив закон Божий, Бог не лишил его, однако же, способности свободного произволения, ибо наперед знал, что сделает Он доброго из его зла, собирая Своей благодатью из смертного, заслуженно и правосудно осужденного рода многочисленный народ, в восстановление и восполнение падшей части ангелов, дабы, таким образом, возлюбленный и горний град тот не умалялся в числе своих граждан, а даже, быть может, еще и радовался их возрастанию.
ГЛАВА II
Ибо хотя злыми и творится многое вопреки воле Божией, но Бог обладает такой премудростью и могуществом, что все, кажущееся противным Его воле, обращает к таким последствиям или целям, которые Его предвидение нашло добрыми. А потому, хотя мы и говорим, что Бог изменяет Свою волю, делаясь, например, гневным по отношению к тем, к кому был (прежде) кротким, но в сущности изменяемся мы, а не Он, и в состояниях, которые испытываем сами, видим как бы изменяющимся Его; подобно тому, как для больных глаз изменяется солнце и из нежного делается как бы резким, из приятного — тягостным, хотя само по себе оно остается таким же, каким и было. Да и волею Божией мы называем ту волю, которую Бог творит в сердце повинующихся Его заповедям, о коей говорит апостол: «Бог производит в вас и хотение и действие» (Филип. II, 13).
Подобно этому и праведностью Божией мы называем не только ту праведность, которой праведен сам Бог, но и ту, которую Он творит в человеке оправданном; точно так же и законом Его мы называем закон, который существует собственно для людей, но дан Богом. Ибо то были, конечно, люди, кому говорил Иисус, — «В законе вашем написано» (Иоан. VIII,
О граде Божием 1213
17), так как в другом месте читаем: «Закон Бога его в сердце у него» (Пс. XXXVI, 31). Подобно этому называем мы Бога и желающим сообразно с тою Его волей, которую Он производит в людях; потому что желает не сам Он, а делает желающими Своих присных; подобно тому, как называем Его и познавшим потому, что Он дал познать Себя тем, кем не был познан. Ибо слова апостола: «Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога» (Гал. IV, 9) нельзя понимать так, что их, предназначенных прежде создания мира (I Пет. I, 20), Бог познал только теперь; но сказано, что Он познал их теперь, в том смысле, что теперь только дал им познать Себя. О таком способе словоупотребления я упоминал уже и в предыдущих книгах. Таким образом, по той воле, по которой мы называем Бога желающим, Он желает многого, но не делает, потому что желающими делает других, которым неизвестно будущее.
Так, святые Его в силу Им же внушаемой святой воли желают многого, но этого не бывает, подобно тому, как о некоторых воссылают свои благочестивые и святые молитвы, и, однако, того, о чем они молятся, Он не исполняет, хотя эту волю молиться Сам же творит в них Своим Святым Духом. Отсюда, когда святые по внушению Божию желают и молятся, чтобы каждый получил спасение, то, употребляя вышеуказанный способ слововыражения, мы можем сказать: «Бог хочет так, но не делает», называя в этом случае желающим Того, Кто производит в них желание. Напротив, по той Своей воле, которая вечна, как и Его предвидение, Он сотворил уже все, что только хотел сотворить на небе и на земле, не только прошедшее и настоящее, но даже и будущее (Пс. СХ1 П, 3). Но прежде чем наступит время, в которое по Его воле должно быть то, что раньше времени Он предусмотрел и предустроил, мы говорим: «Оно будет, когда захочет Бог». Если же мы не знаем ни времени, когда оно будет, ни даже того, будет ли оно, то говорим так:
Блаженный Августин 1214
«Оно будет, если захочет Бог», — говорим не потому, что у Бога тогда будет новая воля, какой Он не имел, а потому, что тогда будет то, что от вечности предуготовлено Его непреложной волей.
ГЛАВА III
По этой причине (я опускаю многое другое), как видим мы уже исполнившимся на Христе то, что Бог обещал Аврааму, говоря: «И благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. XXII, 18); так исполнится и то, что обещал Он его семени, говоря через пророка: «Восстанут мертвые тела»; и еще: «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его ра–достию. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и голос вопля» (Ис. XXVI, 19; ЬХУ, 17— 19). А также и то, что предвозвестил Он через другого пророка, говоря ему: «Спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. XII, 1,2). И в другом месте через того же пророка: «Примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во веки веков» (Дан. VII, 18). А несколько ниже (пророк) говорит: «Царство (Всевышнего) — царство вечное» (Дан. VII, 27). Равно и все другое, относящееся к этому предмету, как приведенное мною в двадцатой книге (гл. XXI и след.), так и не приведенное, что содержится в тех же самых книгах, — все это сбудется подобно тому, как сбылось то, что неверующие считали несбыточным. Ибо как то, так и другое обещал, исполнение как того, так и другого предсказал один и тот же Бог, пред Ко-
О граде Божием 1215
торым трепещут языческие божества, как свидетельствует об этом даже известнейший языческий философ Порфирий.
ГЛАВА IV
Но люди, а именно — люди ученые и мудрствующие против силы такого авторитета, который весь человеческий род обратил к вере и надежде относительно этого предмета, как это было предсказано за столько времени раньше, — выдвигают с кажущимся им остроумием аргументы против воскресения тел и говорят то, что приводится Цицероном в третьей книге «О республике». Заверив, что Геркулес и Ромул были из людей, хотя и считались богами, Цицерон говорит: «Тела их не были взяты на небо, ибо было бы нарушением природы, если бы сущее от земли не оставалось в земле». Таков главный аргумент мудрецов, мысли которых Господь знает, что они суетны (Пс. ХС1 И, 11). И в самом деле, если бы мы состояли из одной только души, были бы духом безо всякого тела и, обитая на небе, не знали бы земных животных, а между тем нам бы сказали, что настанет время, когда мы будем соединены некоторыми удивительными узами с одушевленными земными телами, то, отказываясь этому поверить, не привели бы мы более сильный аргумент, если бы сказали, что противно природе, чтобы нечто бестелесное было связано телесными узами? И, однако, земля полна душами, оживляющими земные тела, удивительным образом с ними соединенными.
Почему же волею того же Бога, Который создал подобные существа, земное тело не может быть возвышено в тело небесное, если душа, превосходящая собою всякое небесное тело, могла быть соединена с земным телом? Или разве небольшая частичка земли могла вместить в себе нечто лучше по сравнению
Блаженный Августин 1216
с небесным телом, чтобы быть чувствующею и живою, а небо откажется принять ее, уже чувствующую и живую, или принятую не будет в состоянии поддерживать, хотя чувствует и живет она благодаря упомянутому, лучшему по сравнению со всяким небесным телом, началу? Но теперь этого не бывает, потому что еще не наступило время, когда быть тому определено волею Того, Кто вещи, приглядевшиеся нам и потерявшие поэтому ценность, сотворил более удивительным образом, чем то, чему те не верят. Ведь если факт, что бестелесные души, превосходящие собою небесные тела, соединены с земными телами, удивляет нас не так сильно, как то, что земные тела восхищаются, правда, в небесные, однако все же телесные обители; то не потому ли единственно, что первое мы привыкли видеть, да и сами мы таковы, между тем как вторым еще не сделались, да никогда того и не видели? На непредубежденный взгляд соединение бестелесного с телесным, без сомнения, представляется более удивительным божественным делом, чем соединение хотя и различных, небесных и земных, однако же все–таки тел.
ГЛАВА V
Некогда казалось невероятным вознесение земного тела Христа на небо, но этому верует теперь весь мир; теперь и ученые и неученые верят факту воскресения плоти и вознесения ее в горние обители, хотя весьма немного остается и таких ученых или неученых, которые этому удивляются. Если этому факту уверовали, как факту вероятному, то пусть видят, как глупы они, не верящие в это; если же веруют факту невероятному, то самое невероятное, что веруют невероятному. Итак, один и тот же Бог предрек два невероятные (события), а именно — воскресение нашего тела для вечной жизни и то, что мир уверует
О граде Божием 1217
в такую невероятную истину, — предрек, что оба эти события сбудутся (Мф. XXVI, 13), когда ни одно из них еще не исполнилось. Одно из этих невероятных (событий) мы видим уже исполнившимся: мир верует тому, что казалось невероятным. Почему же не иметь упования и на другое, т. е. что исполнится и другое, во что невероятным образом уверовал мир, как уже исполнилось то, что также казалось невероятным, т. е. что мир уверовал в такую невероятную истину; ибо оба эти невероятные события, из которых одно мы уже видим, а в другое веруем, предсказаны в тех же самых книгах, при посредстве коих мир уверовал. А если вдуматься в сам способ, каким мир уверовал, то окажется еще больше невероятного.
С сетями веры Христос послал в море века сего весьма немногих, не просвещенных в свободных науках, не получивших никакого школьного образования, не искусных в грамматике, не вооруженных диалектикой и не напыщенных риторикой, рыбарей, и через них из всего человеческого рода уловил столь великое множество настолько же необыкновенных, насколько и редких рыб, и даже самих философов. Прибавим же, если угодно, или лучше потому, что оно должно быть угодно, к двум вышеуказанным событиям и это третье. Итак, мы имеем уже три невероятных (события), которые, однако, исполнились. Невероятно, что Христос воскрес во плоти и вознесся с нею на небо; невероятно, что мир уверовал такому невероятному факту; невероятно, что убедить мир и в нем даже самых ученых людей в таком невероятном факте и с таким успехом смогли люди незнатные, самые простые по положению, весьма немногие числом и несведущие. Первому из этих трех невероятных (событий) те, с которыми мы ведем речь, не хотят верить; второе вынуждены признать, а если не поверят третьему, то не объяснят, откуда явилось второе. В самом деле, воскресение Христа и вознесение Его на небо с плотью, в которой Он воскрес,
39 О граде Божием
Блаженный Августин 1218
составляет уже предмет проповеди и веры в целом мире; если оно — факт невероятный, откуда же явилась вера в него на всем земном шаре? Если бы люди многочисленные, благородные, высокопоставленные и ученые сказали, что они были очевидцами этого события и что видели, постарались бы обнародовать, в таком случае не только не было бы удивительно, что им поверил мир, но было бы непонятно, что не все еще хотят им верить; если же, как было в действительности, мир поверил словам и писаниям весьма немногих, темных, незнатных и неученых очевидцев, почему же некоторые доселе еще не верят целому верующему миру? Мир потому и поверил малому числу незнатных, низкорожденных, несведущих людей, что в лице таких смиренных свидетелей тем удивительнее говорило о себе само божество. Ибо красноречием убеждавших служили чудеса, которые они творили, а не слова, которые они говорили. И те, которые сами не видели, что Христос воскрес во плоти и с нею вознесся на небо, веровали благовествовав–шим об этом очевидцам не только потому, что они говорили, но и потому, что творили чудеса.
Так, тех самых людей, о которых было известно, что они говорят на одном или в лучшем случае — на двух языках, услышали говорящими вдруг на языках всех народов (Деян. II). Хромой от чрева матери именем Христа по слову их в сорок лет сделался здоровым; платки с тел их помогали выздоравливать недужным; на улицу, по которой они должны были проходить, выносили по порядку многих одержимых различными болезнями, чтобы их осенила тень проходящих, и (больные) тотчас получали исцеление; и многие другие чудеса совершались ими именем Христа, и даже воскресали мертвые (Деян. III, IV). Если допустят, что все это было так, как мы о том читаем, то прибавим и эти невероятные факты к трем вышеупомянутым невероятным событиям; соберем все эти свидетельства о многих невероятных фактах, что-
О граде Божием 1219
бы поверили тому одному невероятному, что говорится о воскресении плоти и вознесении на небо, и обратим к вере тех, которые еще не ожесточились в неверии. Если же тому, что апостолами Христа совершены были вышеуказанные чудеса, дабы веровали их проповеди о воскресении и вознесении Христа, не поверят, то для нас достаточно и того одного великого чуда, что этому факту уверовал без всяких чудес целый мир.
ГЛАВА VI
Припомним и здесь, что Туллий удивляется верованию в божество Ромула. Приведу его слова так, как они у него написаны: «В Ромуле, — говорит он, — наиболее достойно удивления то, что другие, которые, как говорят, сделались богами из людей, жили в века менее просвещенные, когда ум был более склонен к вымыслу, ибо необразованные люди легко отдавались вере. Между тем, век Ромула был ближе к нам, к теперешним шестисотым годам*, когда науки и искусства уже окрепли и грубая человеческая жизнь очищена от всякого старого заблуждения».
«Отсюда, — продолжает он несколько ниже, — можно понять, что Гомер жил за много лет до Ромула, так что при людях уже ученых и во времена просвещенные не оставалось почти ни малейшего места для вымысла. Древность принимала сказки, придуманные порою весьма нелепо; этот же просвещенный век отверг их, осмеивая прежде всего то, чего не может быть»**.
Туллий Цицерон, один из числа людей ученейших и самый красноречивый из всех, называет верование в божество Ромула удивительным потому, что време-
* Цицерон имеет в виду не свое время, а время Сципиона и Лелия, героев цитируемого сочинения. «ас.,ВеКериЫ.НЬ.И.
Блаженный Августин 1220
на те были уже цивилизованные, не принимавшие сказочной лжи. Но кто же возвел Ромула в число богов, если не Рим, хотя бы и малый и только что начинающийся? Впоследствии потомки должны были сохранять то, что они приняли от предков, так что с этим вместе с молоком матери всасываемым предрассудком Рим возрос и достиг такой великой власти, что с вершины ее, как бы с некоего возвышенного места, затоплял этим своим воззрением и те народы, над которыми господствовал; и хотя эти последние в божество Ромула не верили, однако богом его называли из опасения оскорбить город, у которого находились в рабстве, называя его несколько иначе, чем как называл его Рим; сам же Рим верил этому если не под влиянием любви к заблуждению, то под влиянием заблуждения от любви.
Между тем, хотя Христос и основатель небесного и вечного града, однако град этот не потому верует в Его божество, что Им создан, а скорее потому и должен был быть создан, что уверовал в Него, как Бога. Рим воздал своему основателю божескую почесть в храме уже после того, как был построен и посвящен ему; горний же Иерусалим своего Основателя, Бога Христа, положил в основание своей веры, чтобы мог быть создан и посвящен Ему. Тот признал Ромула богом из любви к нему, а этот возлюбил Христа по вере в Него, как Бога. Таким образом, как для Рима предшествующим началом была любовь, и относительно того, кого любил, он поверил охотно даже и ложному благу; так для небесного града предшествующим началом была вера, так что правою верой он возлюбил то, что было не ложно, а истинно. Ибо кроме стольких и таких вышеупомянутых чудес, убеждающих в божестве Христа, Ему предшествовали заслуживающие полной веры божественные пророчества, которые мы видим не ожидающими еще своего исполнения, как веровали отцы, а уже исполнившимися на Нем. Между тем, относительно того, что Ромул
О граде Божием 1221
основал Рим и царствовал в нем, мы слышим и читаем как о факте уже совершившемся, но не предсказанном раньше; а что он принят в число богов, то письменные источники сообщают, что этому верят, но не удостоверяют, что оно совершилось. Да и никакими знаками необыкновенных событий не подтверждается, что это случилось с ним в действительности. Ибо каким образом или в какой степени может служить доказательством его божества то обстоятельство, которое, по–видимому, считается великим чудом, а именно — волчица–кормилица? Если и допустить, что эта волчица была не публичною женщиной, а зверем, то ведь брат Ромула не считается богом, хотя она была кормилицей их обоих. С другой стороны, кому запрещали называть Ромула, Геркулеса или других подобных людей богами, и кто предпочел скорее умереть, чем не называть их так? Или наоборот, разве принял бы какой–нибудь народ Ромула в число своих богов, если бы не понуждал его к этому страх перед римским именем? Между тем, кто может сосчитать, сколь многие предпочли претерпеть самую лютую смерть, чем отречься от Бога Христа! Таким образом, считать Ромула богом побуждал некоторые находившиеся под римским ярмом города страх даже легкого раздражения, какое, как полагали, могло быть со стороны римлян, если бы так не делали; напротив, от почитания и даже исповедания Христа Богом не мог отклонить многое множество по всей земле мучеников страх не легкого уже раздражения, но безмерных мучений и даже самой смерти, которою чаще всего угрожали. И однако град Христа, хотя он был еще странствующим на земле и имел войска многих народов, не вступал ради временного спасения в борьбу со своими нечестивыми гонителями, напротив, не противодействовал им именно ради того, чтобы получить вечное спасение. Граждане его подвергались узам, заключениям, истязаниям, пыткам, умерщвлению — и все–таки умножа-
Блаженный Августин 1222
лись. Им нечего было бороться ради спасения жизни, коль скоро они пренебрегали жизнью ради Спасителя.
Знаю, что в третьей книге Цицерона, если не ошибаюсь, «О республике», приводится такое рассуждение, что наилучшим городом война принимается только или ради верности в исполнении обязательств, или ради спасения. А что называет он спасением или какого рода спасение хочет разуметь, разъясняется им в другом месте: «Но, — говорит он, — этих наказаний, которые испытывают и самые глупые люди, — лишение необходимого, ссылка, заключение, удары кнутом — частные люди нередко избегают, когда быстро наступает смерть. Для городов же смерть, освобождающая отдельных лиц от наказаний, сама служит наказанием. Город должен быть устроен так, чтобы быть вечным. Итак, гибель республики не естественна, как гибель человека, для которого смерть не только необходима, а очень часто даже желательна. Если же гибнет, разрушается и истребляется город, это (сравнивая малое с великим) в некотором роде похоже на то, как если бы погиб весь этот мир». Что мир не погибнет, это Цицерон говорит вслед за платониками. Итак, ясно, что, по мнению Цицерона, война предпринимается городом ради того спасения, которое состоит в том, чтобы город оставался здесь, как говорит он, вечным, хотя бы отдельные улицы умирали и рождались, подобно тому, как сохраняется постоянная тенистость маслины или лавра и других того же рода деревьев, между тем как отдельные листья опадают и (вновь) появляются. Поэтому смерть, как говорит он, служит наказанием не для отдельных лиц, а для целого города, освобождая очень часто отдельные лица от наказания.
Отсюда сам собой возникает вопрос, правильно ли поступили сагунтяне, когда предпочли гибель своего города нарушению верности, которою они связывались с самой Римской республикой; за что вос-
О граде Божием 1223
хваляют их люди, граждане земного государства? Но я не знаю, каким образом могли бы они остаться верными такому рассуждению, которое говорит, что война должна предприниматься только или ради верности, или ради спасения, но не говорит, чему следует отдать предпочтение, если то и другое одновременно сохранить невозможно. В самом деле, если бы сагунтяне предпочли спасение, то должны бы были нарушить верность; если же сохраняли верность, должны были пожертвовать спасением, как это и случилось. Между тем, спасение града Божия таково, что оно может сохраняться или, лучше сказать, приобретаться верою и через веру; с утратой же веры никто не может его достигнуть. Принятые об этом к высокомужественному и крепкому сердцу соображения и создали столько и таких мучеников, каких не было и не могло быть и одного, когда Ромул считался богом.
ГЛАВА VII
Впрочем, упоминать о ложном божестве Ромула весьма странно, когда мы говорим о Христе. Тем не менее, если Ромул жил почти на шестьсот лет раньше Цицерона и его время, как говорят, было временем настолько уже научно просвещенным, что отвергало все, чего не может быть, то через шестьсот лет, во времена самого Цицерона, а в особенности еще позже, при Августе и Тиберии, т. е. во времена еще более просвещенные, человеческий разум тем более мог бы считать невозможным и с насмешкой устранять от слуха и сердца воскресение плоти Христа и вознесение на небо, если бы сама божественность этой истины или истинность самого божества и свидетельствовавшие о ней чудесные знамения не доказывали, что это могло быть и было; так что, несмотря на устрашение и противодействие столь многих и великих гонений, начавшееся во Христе и имеющее
Блаженный Августин 1224
в новом веке наступить для прочих воскресение и бессмертие плоти стало предметом твердой веры и неустрашимой проповеди и посеялось по всей земле, чтобы плодоноснее взрасти от крови мучеников. Ибо пока этой истине уверовал весь мир, преследовавший ее страхом, о ней читались предшествовавшие ей предсказания пророков, ей сопутствовали чудеса мужества и в ней убеждались как в новой истине, противоречащей привычке, но не разуму.
ГЛАВА VIII
Почему же, говорят, в настоящее время не бывает чудес, которые, как вы проповедуете, совершались? Я мог бы сказать на это, что прежде, чем мир уверовал, чудеса были необходимы для того, чтобы он уверовал. Кто ищет чудес еще и теперь, чтобы веровать, сам представляет собою великое чудо, не веруя, когда верует уже целый мир. Но так говорят потому, что не верят факту совершившихся тогда чудес. Откуда же с такою верою повсюду воспевается Христос, вознесшийся с плотью на небо? Откуда во времена просвещенные и все, чего не может быть, осмеивающие, мир крайне чудесным образом верует невероятному помимо всяких чудес? Или скажут, что оно вероятно, а потому ему и поверили? Почему же в таком случае не веруют сами? Итак, мы ставим следующую короткую дилемму: или вера в невероятное событие, которого не видели, произведена была другими невероятными явлениями, которые совершались и были видимы; или же крайнее неверие было побеждено событием настолько вероятным, что не было надобности ни в каких убеждающих чудесах. На этом пункте я и должен остановиться в опровержение суетнейших людей.
Фактов многих чудес, которые удостоверяли в том одном великом и спасительном чуде, что Христос вознесся на небо с плотью, в которой воскрес, отри-
О граде Божием 1225
цать мы не можем. Все это как чудеса, которые были совершены, описано в одних и тех же достоверней–ших книгах. Книги эти сделались известными для того, чтобы произвести веру; еще более известными делаются они благодаря той вере, которую произвели. Они читаются народами, чтобы возбуждать к себе веру; но, с другой стороны, не читались бы они народами, если бы им не верили. Именем Христа или через Его таинства, или же молитвами и призыванием святых Его чудеса совершаются и в настоящее время; но они не получают до такой степени известности, чтобы говорилось о них с такою же славой, как о тех. О тех чудесах канон священных Писаний, которому надлежало быть законченным, повествует повсюду и они на памяти у всех народов; между тем об этих, где бы они ни совершались, едва знает весь город или какая бы там ни было оседлая местность. Большею частью и здесь знают о них весьма немногие, между тем как другие не знают, в особенности, если город велик; и когда о них рассказывают в другом месте, они не имеют такого авторитета, чтобы им верили безо всякого затруднения или сомнения, хотя бы и рассказывали верные христиане верным же.
Чудо, совершившееся в Медиолане в нашу там бытность, когда прозрел слепой, могло сделаться известным для многих потому, что и город большой — Медиолан, и там тогда находился император, и факт этот совершился на глазах огромного числа народа, стекшегося к мощам мучеников Протасия и Гервасия, которые, (дотоле) скрытые и совершенно неизвестные, открыты были во сне епископу Амвросию; там–то слепой и прозрел, исцелившись от давней слепоты. Но кому, кроме весьма немногих, известно в Карфагене об исцелении, которое совершилось над Иннокентием, адвокатом наместнической префектуры, причем находились между другими и мы и все видели своими глазами. Как человек со всем своим домом благочестивейший, он принял меня и брата моего Алипия,
Блаженный Августин 1226
явившихся из–за моря, когда мы еще не были клириками, но уже служили Богу, и у него–то мы тогда и жили. Он лечился у врачей; ему вырезали фистулы, которые во множестве и в самом перепутанном виде имелись у него на задней нижней части тела, и врачи (теперь) наблюдали за результатами своего медицинского искусства. Операция эта стоила ему долгих и тяжких страданий. Между тем, одна из язв ускользнула от врачей и была так скрыта, что они не могли достать ее, чтобы вскрыть ножом. Наконец, когда все выходившие наружу язвы были излечены, осталась эта одна, относительно которой усилия врачей оставались напрасны. Считая медлительность выздоровления подозрительной и опасаясь, что снова придется прибегнуть к операции, как предсказывал его домашний врач, которому те врачи не дозволили во время операции даже смотреть, как они ее будут производить, и которого сам пациент в раздражении прогнал из дома и с трудом снова принял, — больной поднялся и сказал: «Вы намерены меня опять резать? Со мною случится так, как говорил тот, присутствия кого вы сами не захотели?» Те начали подшучивать над неискусным врачом, а страх больного успокаивать ласковыми словами и обещаниями.
Прошло еще весьма немало дней, а пользы от того, что делалось, не получалось никакой. Врачи, однако, продолжали настаивать на обещании, что покончат с язвой с помощью лекарств, не прибегая к ножу. Они пригласили еще врача, уже престарелого и довольно известного в искусстве этого рода, Аммония (он был еще жив), который, осмотрев (больное) место, обещал то же, что, руководимые осторожностью и опытностью, обещали и те. Обнадеженный таким авторитетом, больной с шутливой веселостью начал посмеиваться над своим домашним врачом, как будто уже выздоровел. Что же дальше? Прошло без всякой пользы столько дней, что утомившиеся и смущенные врачи признали, что больной не выздоровеет без новой операции. Больной испугался и от крайнего испуга побледнел, а
О граде Божием 1227
когда пришел в себя и смог говорить, приказал врачам уходить и больше не возвращаться; обливаясь слезами и подавляемый мыслью о неизбежности (операции), он только сказал, чтобы пригласили некоего александрийца, который тогда считался знаменитым хирургом, выполнить то, чего в раздражении не хотел он дозволить тем. Но когда тот пришел и как художник по рубцам ран оценил труд врачей, то как честный человек стал убеждать больного, чтобы те врачи, положившие столько труда, что осмотр его вызывает в нем удивление, воспользовались и результатом своего лечения, присовокупив, что больной действительно не может выздороветь, если не будет произведено операции, но что не в его нравственных правилах из–за остающейся безделицы похищать награду за такой труд у людей, высококлассную работу, искусство и старательность которых он с удивлением усмотрел на рубцах ран. Благодаря этому прежние врачи были снова приглашены и было решено, что они в присутствии александрийца вскроют ножом язву, которая, по общему мнению, была признана другим образом неизлечимой. Операция была отложена на следующий день. Но когда врачи ушли, крайняя печаль хозяина возбудила в его доме такую скорбь, что мы едва–едва удержали себя от рыданий, как на похоронах.
Больного ежедневно посещали святые мужи, тогдашний узаленский епископ, блаженной памяти Са–турнин, и пресвитер Гелоз, а также дьяконы карфагенской церкви; в числе последних был и единственный оставшийся из них в живых, в сане уже епископа, достопочтенный нами Аврелий, с которым, вспоминая дивные дела Божий, мы часто беседуем об этом обстоятельстве и находим, что он твердо помнит то, о чем мы рассказываем. Когда по обыкновению они вечером посетили больного, тот с вызывающими сострадание слезами просил их, чтобы они почтили наутро своим присутствием скорее его похороны, чем скорбь. И действительно, под влиянием прежних страданий
Блаженный Августин 1228
на него напал такой страх, что многие из врачей были уверены, что он умрет. Те утешали его и убеждали надеяться на Бога и мужественно перенести Его волю. Потом мы начали молиться, и когда по обычаю преклонили колени и опустились на землю, больной бросился на землю с таким видом, будто был повержен какой–то неудержимо увлекавшей его силой, и начал молиться; и кто передаст словами, как начал он молиться, с каким возбуждением и порывом духа, с какими слезами, с какими потрясавшими все члены его и совершенно подавлявшими дух воплями и рыданиями? Молились ли другие, или же их внимание было поглощено этим, не знаю, Я совершенно не мог молиться и только произнес внутренне следующие немногие слова: «Господи, каким еще молитвам своих (рабов) Ты внемлешь, если не внемлешь этим?» Мне казалось, что к словам этим уже ничего нельзя было прибавить, кроме разве того, чтобы он умер молясь. Мы встали и, приняв благословение от епископа, начали расходиться, причем больной просил, чтобы они пришли наутро, а те убеждали, чтобы он не падал духом.
И вот настал день, которого так боялись: явились служители Божий, как и обещали явиться; пришли врачи, приготовили все, чего требовал момент, выложили к ужасу всех роковые инструменты. И в то время, как те, которые облечены высшим авторитетом, стараются утешением поднять упавший дух больного, на постели приводятся в порядок члены его, развязываются узлы повязок, обнажается (больное) место, врач осматривает его и с инструментами в руках внимательно ищет язву, подлежащую операции. Всматривается, затем щупает, потом исследует всевозможным образом и… находит совершенно заросший рубец. Радость, хвала и благодарение милосердному и всемогущему Богу, которые излились из уст всех вместе со счастливыми слезами, не поддаются описанию; все это скорее можно понять, чем выразить словами.
О граде Божием 1229
В том же Карфагене благочестивейшая женщина знатной фамилии Иннокентия имела рак груди, болезнь, как говорят врачи, не поддающуюся никаким лекарствам. Обыкновенно или отсекают и отделяют от тела тот член, в котором он зарождается, или же, чтобы человек прожил несколько дольше, считают необходимым оставить всякое лечение, так как благодаря этому, по мнению, как говорят, Гиппократа, смерть наступает позже. Так сообщил ей опытный и весьма дружественный ее дому врач, и она обратилась с молитвою к Богу. Незадолго до пасхи она получила во сне наставление, чтобы она караулила за женским отделением при крещальне и чтобы та, которая после крещения выйдет навстречу раньше других, осенила ей (больное) место знамением Христа; она сделала так и тотчас получила исцеление. Когда потом увидел ее тот врач, который сказал ей, чтобы она не прибегала ни к какому лечению, если желает прожить несколько дольше, и нашел вполне здоровой, между тем как произведенный ранее осмотр открыл у нее упомянутую болезнь, то с живостью спросил, чем она пользовалась, желая, насколько можно понять, узнать о лекарстве, которым опровергнуто было определение Гиппократа. И когда услышал, как было дело, то пренебрежительным тоном и с такою миной, что та испугалась, как бы он не произнес какого–нибудь оскорбительного для Христа слова, отвечал ей с иронией: «Я думал, ты скажешь мне что–нибудь великое». На это тотчас и уже с содроганием она возразила: «Что великого сделал Христос, исцелив рак, когда Он воскресил четверодневного?» Услышав об этом и сильно досадуя, что столь великое чудо, совершившееся в таком городе и над такою знатною особой, остается неизвестным, я счел нужным сделать ей за это внушение и даже выговор. И когда она мне ответила, что она об этом не молчала, я спросил у случайно находившихся у нее в то время весьма близких к ней женщин, знали ли они об этом прежде? Те отвечали, что решитель-
Блаженный Августин 1230
но не знали. «Так–то, — сказал я, — ты не молчишь, что не слыхали даже они, которые связаны с тобою дружбой!» И так как я узнал от нее об этом в общих чертах, то попросил, чтобы она в присутствии этих женщин, к великому их удивлению и прославлению Бога, рассказала подробно и по порядку, как было дело.
В том же самом городе один врач–подагрик, вознамерившись креститься, накануне крещения получил во сне от черных кудрявых мальчуганов, в которых он угадал демонов, запрещение креститься в этом году, но, не послушав их, хотя они наслали на его ноги страшнейшую боль, какой он никогда не испытывал прежде, пришел и, согласно обету, крестился без отсрочки, нанося демонам еще большее поражение банею возрождения; в крещении он освободился не только от той болезни, которую испытывал сверх обыкновения, но и от самой подагры и, хотя потом жил долго, не страдал уже больше ногами. Кто знает об этом? Знаем только мы и весьма немногие братья, до которых мог дойти об этом слух.
Один курубитанец–мимист, крестившись, получил исцеление не только от паралича, но и от безобразной тяжести в детородных частях, и вышел из источника возрождения облегченным от той и другой болезни, как будто не имел на теле никакого повреждения. Кто знает об этом, кроме Курубы и тех весьма немногих, которые могли где–либо об этом слышать? Мы же, узнав об этом, по распоряжению святого епископа Аврелия попросили (того человека) явиться в Карфаген; хотя о том и раньше слышали от людей, в правдивости которых не могли сомневаться.
Есть у нас один человек, бывший народный трибун Гесперий; он на фуссаленской территории имеет мызу, называемую Зубеди. Узнав, что его дом находится там во власти зловредной силы злых духов, причиняющей мучения животным и рабам, он попросил (в мое отсутствие) наших пресвитеров, чтобы туда пришел кто–нибудь из них, молитвами которого (духи)
О граде Божием 1231
были бы изгнаны. Явился один (из пресвитеров), принес там жертву тела Христова, молясь сколько мог о том, чтобы исчезло упомянутое наваждение, и тотчас, по милосердию Божию, оно исчезло. Между тем, от друга своего он получил святую землю, принесенную из Иерусалима, где на третий день воскрес погребенный Христос, и привесил ее в своей спальне, чтобы и самому не подвергнуться какому–нибудь злу. Но когда его дом очистился от скверны, что, как он думал, произошло от той земли, он из благоговения не захотел держать ее в своей спальне. Случилось мне и моему собрату, епископу синитенской церкви Максими–ну, находиться поблизости; Гесперий попросил нас прибыть, и мы прибыли. И после того, как он сообщил нам обо всем этом, он попросил о том, чтобы эта земля была где–нибудь зарыта и чтобы там было устроено молитвенное место, где христиане могли бы собираться для прославления дел Божиих. Мы против этого ничего не имели — так и было сделано. Был там один молодой параличный крестьянин; услыхав об этом, он обратился с просьбой к своим родителям, чтобы те немедленно принесли его на это священное место. Принесенный туда, он помолился и тотчас же пошел обратно на своих собственных ногах.
На расстоянии менее тридцати миль от Гиппона есть дача, называемая Викторианской. Там находится храм в честь медиоланских мучеников Протасия и Гервасия. Туда приведен был один юноша, который летом среди дня, купая лошадь в реке, подвергся нападению демона. И когда он лежал или при смерти, или весьма похожий на умершего, пришла сюда по обычаю для вечерних молитв и гимнов госпожа дачи со своими служанками и с некоторыми набожными женщинами; и начали они петь гимны. Как бы пораженный этим пением, (бес) затрясся, с ужасным воем схватился за алтарь, не смея или не будучи в силах двинуться, точно бы был привязан или пригвожден к нему, и с великим плачем прося себе пощады, при-
Блаженный Августин 1232
знался, где, когда и как напал на юношу. Наконец, объявив, что выйдет, пересчитал члены (юноши), которые грозил отнять, уходя, и с этими словами вышел из юноши. Но глаз последнего, выскочив на щеку, висел на тонкой жилке, как бы на внутреннем корне, и вся середина его, бывшая прежде черной, побелела. Увидев это, присутствовавшие (сюда на крики больного сбежались и другие, и все погрузились в молитву за него) хотя и обрадовались, что (юноша) пришел в сознание, но, опечаленные по поводу его глаза, говорили, что надобно найти врача. Тогда муж его сестры, который привез его сюда, сказал: «Бог, молитвами святых изгнавший демона, силен возвратить ему и зрение». После того вставил, как мог, выпавший и висевший глаз на место и привязал его полотенцем; он полагал, что глаз должен выздороветь не раньше, чем по истечении семи дней. Когда он сделал это, то (через семь дней) нашел (юношу) совершенно здоровым. Здесь получали исцеление и другие, о которых долго рассказывать.
Я знаю, что одна гиппонская девица, помазавшись елеем, который пресвитер, молясь за нее, растворил своими слезами, тотчас выздоровела от беснования. Знаю также, что епископ помолился однажды за юношу, которого не видел, и тот сейчас же освободился от демона.
Был один старик, гиппонец по имени Флорентий, человек благочестивый и бедный, добывавший себе средства на пропитание портняжим ремеслом. Он потерял одежду, и не имея средств купить, обратился к Двадцати мученикам, память о которых у нас весьма чествуется, с громкой молитвой об одежде. Его услыхали случайно бывшие тут юноши–шалуны и, когда он пошел, двинулись следом за ним, поддразнивая его, как будто бы он просил у мучеников пятьдесят фолл* на покупку платья.
* Фолл — мелкая монета.
О граде Божием 1233
Продолжая молча путь, он увидел выпрыгнувшую на берег большую трепещущую рыбу, и при их содействии взял ее и продал за тридцать фолл на кухню одному повару, доброму христианину по имени Катоз, рассказав при этом, как было дело, и надеясь на эти деньги приобрести шерсть, чтобы жена сшила ему одежду. Но, разрезав рыбу, повар нашел в ее внутренностях золотое кольцо и, движимый милосердием и под влиянием религиозного страха, тотчас же возвратил его старику, говоря: «Вот как одели тебя Двадцать мучеников!»
Когда епископ Прейект переносил на Тибилитан–ские воды реликвии достославнейшего мученика Стефана, то к возведенному в честь его храму стеклось, теснясь окрест, великое множество народа. В это время слепая женщина попросила, чтобы подвели ее к переносившему (останки) епископу, и тот дал ей цветы, которые держал; она приняла их, приложила к глазам и тотчас прозрела. К изумлению присутствовавших, она с восторгом пошла впереди, выбирая дорогу и не нуждаясь более в проводнике.
Епископ Луцилл при большом стечении сопровождавшего его народа нес раку упомянутого мученика, которая была поставлена в Синитенском замке, находящемся по соседству с Гиппонской колонией. От ношения этого священного бремени фистула, которая уже давно мучила его и ожидала руки весьма дружественного к нему врача, собиравшегося ее вырезать, вдруг зажила, так как потом он не нашел ее на своем теле.
Евхарий, пресвитер из Испании, проживающий в Каламе, страдал застаревшею каменною болезнью и получил исцеление от раки вышеупомянутого мученика, которую привез ему епископ Поссидий. Тот же самый Евхарий, заболев потом другою болезнью, лежа/ как мертвый, так что ему уже перевязывали пальцы; заступничеством упомянутого мученика, когда была при несена от его раки и возложена на тело лежащего туника самого пресвитера, он поднялся на ноги.
40 О граде Божием
Блаженный Августин 1234
Там же жил некто Мартиал, человек по своему положению знатный, достигший уже преклонного возраста и питавший отвращение к христианской религии. У него была дочь христианка и зять, в том году принявший крещение. Хотя они с великими слезами просили больного стать христианином, он решительно отказался и прогнал их от себя с крайним негодованием. Зять в видении получил наставление сходить к раке святого Стефана и там, насколько можно, помолиться за больного, чтобы Бог дал ему благое расположение не отклонять от себя намерения уверовать во Христа. Тот так и сделал с великим плачем и с самым пламенным и благочестивым настроением; затем, уходя, взял с собою с алтаря, к которому подходил, несколько цветков и положил больному под голову, потому что наступила уже ночь и тот спал. И вот, еще до рассвета больной закричал, чтобы шли к епископу, который тогда случайно был у меня в Гиппоне. Узнав об его отсутствии, больной попросил прийти пресвитеров. Те явились, он сказал, что верует, и к всеобщему удивлению и всеобщей радости крестился. Пока он был жив, у него не сходили с уст слова: «Христе, прими дух мой с миром», хотя он и не знал, что это были последние слова блаженнейшего Стефана, когда иудеи побивали его камнями (Деян. VII, 58); эти слова были и его последними словами, так как и он вскоре после того скончался.
Там же благодаря тому же мученику получили исцеление и двое подагриков, один местный житель, а другой чужестранец, но местный житель — непосредственно, а чужестранец узнал из откровения, что он должен предпринять, когда заболит: он сделал так и сейчас же боль утихла.
Есть мыза по имени Авдур; там есть церковь и в ней — рака мученика Стефана. Одного маленького мальчика, когда тот играл на поляне, сбившиеся с дороги быки, запряженные в телегу, смяли колесом, и он тотчас же забился, испуская дух. Мать, схватив
О граде Божием 1235
его, приложила к раке, и он не только ожил, но и оказался целым и невредимым.
В соседнем имении, которое называется Каспали–анским, заболела и отчаялась в выздоровлении одна набожная женщина; была принесена к той же раке ее туника, но больная, прежде чем принесли оттуда тунику, умерла. Родители накрыли туникой ее труп и она, ожив, стала здоровой.
В Гиппоне некто, по имени Басе, сириец, молился перед ракой того же мученика за больную и находившуюся в опасности дочь и принес туда же с собою ее одежду; между тем из дома прибегают рабы с известием, что (больная) умерла; но так как тот молился, они были встречены его друзьями, которые приказали им не говорить ему об этом, чтобы он не стал публично плакать. Возвратившись в дом, в котором уже слышались рыдания родных, он набросил на умершую дочь одежду, которую брал с собой, и та возвратилась к жизни.
У нас же умер от болезни сын некоего сборщика податей Иринея. Когда его тело лежало бездыханным и с плачем и рыданиями приготовлялось к погребению, некто из его друзей предложил помазать тело елеем от того же мученика. Сделали так, и умерший ожил.
Опять у нас же бывший трибун Елевзин положил своего умершего маленького сына на раку мученика, которая находится в его загородном доме, и после молитвы, которую он излил с великими слезами, снял его с раки ожившим.
Как быть? Стесняет меня обещание закончить настоящее сочинение, так что я не могу здесь привести всего, что знаю; несомненно, большинство наших, когда прочитают это, посетуют, что столь многое, о чем знают вместе со мною и они, я обошел молчанием. Прошу их заблаговременно извинить меня и подумать, какого огромного труда стоило бы сделать то, не делать чего в настоящем сочинении принуждает меня необходимость. В самом деле, если бы я,
Блаженный Августин 1236
умолчав о другом, захотел описать только те чудеса исцелений, которые через этого мученика, т. е. дос–точтимейшего Стефана, были совершены в Калам–ской и в нашей колонии, то потребовалось бы составить весьма много книг; да и не все такого рода чудеса могут быть собраны, но только лишь те, о коих составлены записки, предназначенные для публичного прочтения. Завести составление подобных записей мы решили именно потому, что и в наше время бывают знамения божественной силы, подобные древним, и они не должны оставаться для многих неизвестными. Еще нет и двух лет, как начала существовать в Гиппоне упомянутая рака, и хотя о многих чудесах, как нам доподлинно известно, записей не имеется, в то время, как я пишу об этом, их число достигает семидесяти. В Каламе же, где и сама рака появилась раньше, и записи публикуются чаще, число их несравненно больше.
Нам также известно, что через того же мученика совершено много замечательных чудес и в соседней с Утикой колонии, Узале, где его рака была устроена епископом Еводием гораздо раньше, чем у нас. Но там нет обычая вести записи, или, лучше сказать, не было; потому что теперь, может быть, уже и завелся. Когда недавно мы там побывали, то посоветовали тамошнему епископу составить для публичного прочтения записку о том, как весьма известная женщина, Петрония, получила там чудесное исцеление от сильной и продолжительной болезни, в излечении которой врачи не могли оказать ей никакой помощи; и епископ весьма охотно нас послушался. В этой записи он изложил и то, о чем я не могу умолчать, хотя и должен спешить к тому, что в этом сочинении остается еще неоконченным. Она рассказала, что какой–то иудей посоветовал ей на волосяной пояс, опоясанный под одеждой по голому телу, надеть кольцо, в котором под драгоценным камнем находился бы камень, найденный в бычьих почках. Опоя-
О граде Божием 1237
санная этим поясом, как врачебным средством, она ходила к храму священномученика. Но отправившись из Карфагена, вблизи которого она останавливалась в своем имении около реки Баграды, она, поднявшись, чтобы продолжать путь, увидела перед своими ногами то кольцо, и в изумлении начала ощупывать волосяной пояс, на который оно было нанизано. Уверившись, что пояс завязан накрепко узлами, она подумала, что кольцо лопнуло и соскочило; но когда кольцо оказалось совершенно целым, она приняла это как залог будущего здоровья и пояс вместе с кольцом бросила в реку. Но в это чудо не верят те, которые не верят и в то, что Господь Иисус родился, оставив невредимым девство матери, и что Он явился ученикам через запертые двери; пусть же, по крайней мере, полюбопытствуют о нем, и если оно окажется верным, пусть поверят и остальному. Упомянутая женщина — особа весьма известная, благородная по рождению и замужеству и живет в Карфагене; и такой обширный город, и такая знаменитая особа не скроют этого обстоятельства от интересующихся.
Сам мученик, молитвами которого она получила исцеление, конечно, веровал в Сына Приснодевы, веровал и в то, что Он являлся ученикам сквозь затворенные двери, веровал, наконец, и в то, что Он вознесся на небо с плотью, в коей воскрес, ради чего, собственно, нами все это и говорится, и упомянутые чудеса совершаются им именно потому, что за эту веру он положил свою душу. Таким образом, силою того же Бога, Который совершил и те чудеса, о коих мы читаем, чудеса совершаются и в настоящее время через угодных Ему и как Ему угодно; но чудеса эти не так известны и не так запоминаются от частого чтения, чтобы не выпадать из памяти, подобно песчинкам прошлого. Ведь и там, где стараются публиковать записи получающих чудотворную помощь, как это заведено теперь у нас, слышат о том лишь находящиеся налицо, и то один только раз; большая же часть и вов-
Блаженный Августин 1238
се при этом не присутствует; так что и сами присутствующие несколько дней спустя забывают, что слышали, и едва ли из них найдется кто–нибудь такой, кто сообщил бы об услышанном отсутствовавшему.
У нас совершилось одно, правда не такое большое, как вышеупомянутые мною, но настолько известное и замечательное чудо, что, думаю, нет такого гиппон–ца, который бы этого не видел или не знал или который мог бы каким–нибудь образом об этом забыть. Итак, десятеро детей (семеро братьев и три сестры) из Кесарийской Каппадокии, люди не безызвестные среди своих сограждан, вследствие проклятия своей матери, оставшейся после смерти отца вдовою и жестоко ими оскорбленной, были подвергнуты сейчас же такому наказанию свыше, что начали страшно трястись всеми своими членами. В этом ужасном виде, не вынося взоров своих сограждан, они разбрелись почти по всей Римской империи, куда каждому вздумалось уйти. Двое из них, Павел и Палладия, известные уже во многих местностях своим позорным несчастьем, пришли к нам. Пришли они дней за пятнадцать до пасхи и ежедневно начали посещать церковь, а в ней ракудосточтимейшего Стефана, молясь, чтобы Бог смилостивился над ними и сделал их по–прежнему здоровыми. И здесь, куда бы они ни шли, всюду обращали на себя внимание города. Некоторые, видевшие их в других местах и знавшие причину их трясения, сообщали об этом кому могли.
И вот наступила пасха. Утром дня Господня, когда уже собрался (в церковь) многочисленный народ и юноша (Павел) держался за решетку священного места, где находится рака мученика, он вдруг распростерся на землю и затих, как спящий, однако, не испытывая трясения, как это бывало с ним обыкновенно даже во сне. Когда при наступившем изумлении присутствующих, из коих одни были поражены страхом, а другие — скорбью, некоторые хотели поднять его на ноги, другие запретили им это, говоря, что надоб-
О граде Божием 1239
но, пожалуй, ожидать смерти. И вот он поднялся на ноги и уже не трясся, ибо получил исцеление, и стоял здоровый, глядя на обступивших его. Кто мог при этом удержаться от славословий Богу? Восторженные и благодарные крики наполнили всю церковь. Потом бегут ко мне в дом, где я сидел, уже готовый к выходу, врываются один за другим, и каждый вновь прибывший сообщает мне как новость то, что уже раньше рассказал другой; и когда я радовался и благодарил Бога, является вместе со многими и он сам, наклоняется к моим коленам, поднимается и целует меня. Идем к народу; церковь была полна и дрожала от радостных, здесь и там (потому что молчавших не было) раздававшихся криков: «Благодарение Богу! Слава Богу!» Когда наконец установилось молчание, прочитаны были праздничные чтения божественных Писаний. А когда настало время для проповеди, я сказал несколько слов соответственно времени и радостному настроению. Я хотел, чтобы не столько слушали меня, сколько обратили внимание на своего рода красноречие Божие, выразившееся в этом божественном действии. Человек тот обедал с нами и обстоятельно поведал историю своего, своей матери и братьев бедствия.
На следующий день, сказав проповедь, я обещал прочитать народу запись его рассказа. Когда на третий день пасхи это было мною исполнено, я приказал, чтобы во время чтения этой записи оба они, брат и сестра, стояли на ступеньках портика, с высоты которого я читал. Весь народ обоего пола видел их: одного, стоящего спокойно, а другую — трясущуюся всеми своими членами. И те, которые не видели брата (прежде), по его сестре судили, сколько божественного милосердия явлено на нем. Они видели, за что надобно благодарить Бога за него и о чем молиться за нее. Между тем, когда была прочитана запись о них, я распорядился, чтобы они удалились с глаз народа, и начал беседовать об этом обстоятельстве несколько
Блаженный Августин 1240
подробнее; и вот, во время этой моей беседы, от раки мученика снова послышались радостные крики. Слушавшие меня повернулись и двинулись туда. Оказалось, что, спустившись со ступенек, на которых стояла, (сестра) отправилась молиться святому мученику. Лишь только она дотронулась до решетки, упала, как бы погрузившись в сон, и встала здоровой. Пока мы расспрашивали, что случилось и отчего происходит такой радостный крик, в базилику, где мы находились, является она и с нею те, которые привели ее здоровой от раки мученика. Тогда в собрании поднялся такой крик изумления, что, казалось, этим соединенным со слезами восклицаниям не будет конца. Ее возвели на то место, на котором немного раньше она стояла, подверженная трясению. Радоваться начали, что такою же, как брат, стала и она, о которой (раньше) скорбели, что она оставалась на него непохожей; видели, что еще не было вознесено ими молитв за нее, а предварившее молитвы благожелание их о ней так скоро было услышано. Воссылали радостную хвалу Богу без слов, но так шумно, что едва могли выносить уши. Что было в сердцах этих радующихся, кроме веры во Христа, за которую была пролита кровь Стефана?
ГЛАВА IX
О чем ином свидетельствуют эти чудеса, как не о вере, проповедующей, что Христос воскрес во плоти и с плотью вознесся на небо? Ибо и сами мученики были мучениками, т. е. свидетелями этой веры; свидетельствуя о ней, они претерпели в миру крайнюю к себе враждебность и жестокость, и победили мир не сопротивлением, а смертью. За эту веру положили они свою жизнь, могущие испрашивать это у Господа, во имя Которого вкусили смерть. Ради этой веры предварительно обнаружено было ими необыкновенное терпение, чтобы потом проявлялась такая сила их в этих чу-
О граде Божием 1241
десах. Ведь если вечное воскресение плоти еще не совершилось в лице Христа или не совершится, как о том предсказывает Христос и было предсказано пророками, которыми Христос предвозвещен, то откуда такая сила у мертвых, которые были убиты за веру, проповедующую воскресение? Совершает ли эти чудеса сам Бог непосредственно тем сверхъестественным образом, каким Вечный производит временные явления, или же через Своих служителей; и те чудеса, которые совершает через служителей, совершает ли некоторые через дух мучеников, как людей, еще состоящих и из тела, или же все — через ангелов, которыми Он повелевает невидимо, неизменно и бестелесно; так что чудеса, совершаемые через мучеников, совершаются только по их молитве и ходатайству, а не их (непосредственным) действием; или же одни этим, а другие — другим, для смертных совершенно непостижимым образом; во всяком случае, чудеса эти служат подтверждением той веры, в которой проповедуется вечное воскресение плоти.
ГЛАВАХ
На это, быть может, нам скажут, что и их–де боги совершают нечто чудесное. Хорошо уже то, что своих богов они начинают сравнивать с нашими умершими людьми. Не скажут ли они еще, что у них–де есть боги из умерших людей, например Геркулес, Ромул и многие другие, которые считаются принятыми в число богов? Но у нас мученики — не боги, потому что как для себя самих, так и для мучеников мы знаем одного и того же Бога. Тем не менее, однако, с чудесами, которые совершаются у гробниц наших мучеников, ни в коем случае нельзя сравнивать чудеса, которые, как они утверждают, совершаются в храмах их богов; а если некоторые из их чудес и кажутся подобными нашим, — во всяком случае их боги, как маги фараона Моисеем (Исх. VIII), побеждены нашими мучениками.
Блаженный Августин 1242
Их чудеса совершали демоны по тщеславию нечистой гордости, по которому они хотели быть их богами; а наши чудеса совершают мученики, или лучше — сам Бог по молитве или при содействии мучеников, дабы мы укреплялись в вере, что они не наши боги, но имеют одного с нами Бога. Наконец, они тем богам своим строили храмы, воздвигали алтари, учреждали жрецов, приносили жертвы; мы же своим мученикам, как богам, храмов не воздвигаем, а строим надгробные памятники как умершим людям, чьи души живут у Бога; и воздвигаем там алтари, на которых приносим жертвы не мученикам, а единому, их и нашему, Богу. При этой жертве в своем месте и по чину воспоминаются и они, как люди Божий, победившие мир в исповедании Бога, — воспоминаются, но священником, совершающим жертву, не призываются. Жертву священник приносит Богу, а не им, хотя приносит ее при их гробнице, потому что он — священник Бога, а не их. Жертва эта есть тело Христово, которое предлагается не им, потому что и сами они суть это тело.
Итак, каким же чудотворцам скорее нужно верить? Тем ли, которые хотят сами прослыть богами у людей, для коих они совершают чудеса, или же тем, которые все, что делают чудесного, делают для того, чтобы мы веровали в Бога, каков и есть Христос? Тем ли, которые хотели, чтобы даже и преступления их считались святыней, или же тем, которые не хотят, чтобы святыней считались самые их похвальные качества, но чтобы все, что поистине заслуживает у них хвалы, служило к славе Того, Кем они хвалятся? Ибо о Господе хвалятся души их (Ис. XXXIII, 3). Будем же верить тем, которые и говорят истинное, и творят чудесное. Ведь и пострадали они за то, что говорили истину, дабы потом могли творить чудесное. Главной же их истиной была та, что Христос воскрес из мертвых и первый показал на Своей плоти бессмертие воскресения, наступление которого Он обетовал нам или в начале нового века, или в конце настоящего.
О граде Божием 1243
ГЛАВА XI
Против этого великого дара Божия означенные ум–ствователи, помышления которых известны Господу как суетные (Ис. ХСШ, 11), заимствуют возражения от тяжести элементов. От своего учителя Платона они узнали, что два величайшие и крайние мировые тела связаны и соединены между собою двумя промежуточными стихиями, воздухом и водой, Исходя из этого положения, они говорят, что так как, считая снизу вверх, первой является земля, второй над нею — вода, третьим над водою — воздух, четвертым над воздухом — небо (огонь), то земное тело не может быть на небе. Каждая из этих стихий сохраняет свое место, уравновешиваясь собственными своими частицами. Вот какую аргументацию человеческая слепота, которую обуяла суетность, противопоставляет всеведению Божию! Как же, спрашивается, живет столько земных тел в воздухе, хотя воздух считается третьей над землей стихией? Неужели же Тот, Кто дал земным телам птиц возможность носиться в воздухе, не будет в состоянии человеческим телам, ставшим бессмертными, дать способность, в силу которой они могли бы обитать в высшем небе? Да и земные животные, которые летать не могут, к которым принадлежат и люди, должны были бы жить в земле подобно тому, как рыбы, которые суть животные водные, живут в воде. Почему же земное животное живет даже не во второй стихии, т. е. в воде, а уже в третьей? Почему, принадлежа земле, оно, если принуждается жить во второй, расположенной над землею стихии, тотчас же задыхается, и чтобы сохранить жизнь должно жить в третьей? Но не перепутывается ли этот порядок стихий? Или, вернее, в природе он есть, но его недостает в их аргументации? Не буду повторять сказанного мною в тринадцатой книге (гл. XVIII), как много есть тяжелых земных тел, вроде свинца, которые, однако, получают от мастера такую форму, что могут плавать по воде; а между тем, если человеческое тело получит свой-
Блаженный Августин 1244
ство, благодаря которому оно вознесется на небо и получит возможность жить на небе, — это считается противоречием замыслу всемогущего Художника.
Уже и против сказанного мною выше сами рассуждающие и трактующие о порядке стихий, на который они ссылаются, решительно не могут найти возражений. Ведь в этом счете снизу вверх, в котором земля представляется первой, вода — второй, воздух — третьим, небо — четвертым, — над всем возвышается природа души. Аристотель называет ее пятым телом*, а Платон — бестелесной. Если она — пятое тело, то, очевидно, выше остальных; она тем более превосходит все другие, если бестелесна. Что же делает она в земном теле? Как уживается тончайшая из всех стихий в этой массе? Легчайшая — в этом грузе? Быстрейшая — в этой косности? Неужели невозможно, что в силу заслуг этой столь превосходной природы тело ее вознесется на небо, и если в настоящее время природа земных тел тянет души вниз, то некогда и души в состоянии будут восхищать земные тела вверх?
Если теперь мы обратим внимание на чудеса, которые, как совершенные их богами, они противопоставляют (чудесам) наших мучеников, то не окажется ли, что даже и эти чудеса говорят в нашу пользу и решительно нас подтверждают? К числу великих чудес их богов принадлежит, без сомнения, то великое чудо, о котором упоминает Варрон, состоящее в том, что дева–весталка, если ей грозило несправедливое обвинение в блуде, наполняла решето водой из Тибра и доносила его до своих судей так, что из него не проходило ни одной капли. Кто же удерживал тяжесть воды в решете? Кто, несмотря на такое множество дырочек в решете, не дозволял выпадать из него ни одной капле на землю? Скажут, некий бог или некий демон. Но если бог, неужели он больше Бога, сотворившего этот мир? Если демон, неужели
О граде Божием 1245
он сильнее ангела, который служит Богу, сотворившему мир? Если же меньший бог, или ангел, или демон мог так уравновесить тяжесть жидкой стихии, что изменялась, по–видимому, сама природа воды, то разве всемогущий Бог, сотворивший и сами стихии, не в состоянии будет освободить земное тело от грубой тяжести, чтобы оно, оживотворенное, могло обитать в той самой стихии, в какой захочет животворящий дух?
Далее, если воздух помещают между огнем сверху и водой снизу, то почему мы часто находим его между водой и водой и между водой и землей? Почему воздух оказывается между облаками, насыщенными, как думают, водой, и морями? Каким образом, спрашиваю, из тяжести и порядка стихий следует, что самые стремительные и бурные потоки, прежде чем начинают течь ниже воздуха по земле, висят выше воздуха в облаках? Почему, наконец, воздух оказывается занимающим середину между высшими слоями неба и низшими земли на всем пространстве вселенной, когда место его между небом и водами, подобно тому, как место вод — между ним и землею?
В заключение, если таков порядок стихий, что, согласно Платону, двумя средними, воздухом и водою, соединяются две крайние, огонь и земля; если огонь помещается в высшем небе, а земля занимает самое низкое место, как основание мира, и потому земля не может быть на небе, то почему же огонь находится на земле? Ведь по смыслу этого положения обе стихии, огонь и земля, должны были бы находиться каждая на своем месте, низшем и высшем, так что как низшая, по их мнению, не может быть вверху, так не должна бы быть и высшая внизу. Если они полагают, что на небе нет или не будет ни единой частички земли, то и на земле мы не должны видеть ни единой частички огня. А между тем, в настоящее время огонь есть не только на земле, но и под землей, так что его извергают верхушки гор; кроме того, мы видим, что он существует и на земле в употреблении людей, и из земли рождается, потому что рождается из дров и камней, которые, несомненно, суть предметы земные.
Но, говорят, тот огонь — огонь спокойный, чистый, безвредный и вечный, а этот — беспокойный, дымный, тленный и разрушительный. Однако ведь не разрушает же он ни гор, в которых пылает постоянно, ни пропастей земных. Но пусть будет так, пусть наш огонь не похож на тот огонь, а отвечает условиям земного существования; почему же они не хотят допустить нашего верования, что природа земных тел, некогда став нетленной, будет соответствовать небу, подобно тому, как теперь наш тленный огонь соответствует земле? Итак, тяжесть и порядок стихий не дает им никаких оснований утверждать, что всемогущий Бог не создал наши тела такими, чтобы они могли обитать и на небе.
ГЛАВА XII
Но они обыкновенно поднимают самые мелочные вопросы и этими вопросами осмеивают наше верование в воскресение плоти: например спрашивают, воскреснут ли недоноски? И так как Господь сказал: «И волос с головы вашей не пропадет» (Лук. XXI, 18), то спрашивают, у всех ли будет одинаковый рдст и сила или величина будет различной? Если тела будут одинаковы, откуда возьмут недоноски то, чего не имели они здесь в своем телесном составе, если воскреснут и они? Или, если не воскреснут недоноски, так как они не родились, а выброшены, то, прилагая тот же самый вопрос к младенцам, спрашивают, откуда прибавится у них рост, которого, как мы видим, не имеют они теперь, умирая в младенческом возрасте? Не скажем же мы, что не воскреснут младенцы, которые способны не только к рождению, но и к возрождению.
Затем спрашивают, какой вид будет иметь сама одинаковость тел? Если там все будут так же велики
О граде Божием 1247
и высоки ростом, какими бывают самые высокие люди теперь, то спрашивают не только о младенцах, но и о большинстве: откуда тогда прибавится у них недостающее им теперь, если там каждый получит то, что имел здесь? Если же, как говорит апостол, все мы достигнем «меру полного возраста Христова» (Еф. IV, 13); и в другом месте: «Кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (Рим. VIII, 29), то надобно думать, что вид и рост тела Христа будет (нормой) для всех человеческих тел, которые вступят в Его царство. В таком случае, говорят, у многих надобно будет тогда убавить величину и высоту тела; каким же образом исполнятся слова: «И волос с головы вашей не пропадет», если пропадет очень многое из самой величины тела?
Да и относительно самих волос можно спросить, возвращено ли тогда будет им все то, что теперь срезается при стрижке? Если будет возвращено, то не вызовет ли в каждом отвращение такое безобразие? То же самое, очевидно, нужно сказать и о ногтях; и им должно быть возвращено все то весьма многое, что срезается теперь при уходе за телом. Где же в таком случае будет красота, которой должно быть, конечно, больше в состоянии будущего бессмертия, чем сколько может быть ее в состоянии настоящей тленности? А если не будет возвращено, значит — пропадет, как же, говорят, и волос с головы не пропадет? Подобные же рассуждения ведутся и относительно сухощавости и тучности. Если все тогда будут равны, то, конечно, не будут одни сухощавы, а другие тучны. Значит, одним будет нечто прибавлено, а у других нечто убавлено. А отсюда все мы должны будем получить тогда то, чего у нас не было, но одним придется приобрести то, чего они не имели, а другим потерять то, что имели.
Толкуют всячески и о разного рода повреждениях и о разрушении мертвых тел, о случаях, когда иное из тел превращается в прах, а другое испаряется в воздухе газами; одни тела пожираются зверьми, другие —
Блаженный Августин 1248
огнем; некоторые же люди погибают в воде при кораблекрушении или иным каким–нибудь образом, так что гниение разрешает тела их во влагу; все такие тела, полагают они, не могут быть соединены и восстановлены в плоть. Перебирают, какие бывают или рождаются уродства и увечья, причем с отвращением и насмешкой упоминают и о чудовищных порождениях, и допытываются, в каком виде воскреснет безобразие каждого? Если бы мы сказали, что в человеческом теле ничего подобного тогда не будет, у них готово опровержение на наш ответ в указании на язвы, с которыми, как мы проповедуем, воскрес Господь Христос. Но из всех этих вопросов самый трудный предлагается ими о том, в чью плоть возвратится то мясо, которым питается человек, пожирающий под влиянием голода человеческое же тело. Ведь мясо это превратилось в плоть того, кто, благодаря подобной пище, остался жив и ею восполнил те потери (в организме), о которых свидетельствовала его исхудалость. Итак, возвратится ли то тело тому человеку, плотью которого оно было раньше, или же, наоборот, останется в том, плотью которого оно стало позже; вот вопрос, разрешения которого допытываются они, осмеивая нашу веру в воскресение; причем, или, подобно Платону, обещают человеческой душе попеременно чередующиеся состояния истинного злополучия и ложного блаженства, или же, вслед за Порфирием, останавливаются на мысли, что человеческая душа после долгих странствий через различные тела некогда закончит свои злополучия навсегда; не так, впрочем, что будет иметь бессмертное тело, а так, что освободится от всякого тела.
ГЛАВА XIII
С помощью милосердия Божьего, подкрепляющего мои усилия, отвечу на те из возражений с их стороны, которые представляются мне имеющими непос-
О граде Божием 1249
редственное отношение к предмету моей речи. Что воскреснут недоноски, которые, находясь еще во чреве матери, были уже мертвы, этого я не осмеливаюсь ни утверждать, ни отрицать, хотя и не вижу основания, почему бы миновало их воскресение, коль скоро они входят в число умерших. Действительно, одно из двух: или воскреснут не все мертвые, и некоторые человеческие души в вечности останутся без тел, которые они, хотя и во чреве матери, все–таки имели; или, если все человеческие души получают свои воскресшие тела, которые они, где бы то ни было, имели живыми и оставили мертвыми, — я не нахожу основания утверждать, что не будут участвовать в воскресении мертвых какие–либо из умерших даже во чреве матери. Но пусть о недоносках каждый держится того или другого из этих мнений; во всяком случае то, что дальше мы скажем об уже родившихся младенцах, должно разуметь и относительно недоносков, если они воскреснут.
ГЛАВА XIV
Что же скажем мы о младенцах, кроме того, что они воскреснут не в том малом теле, в котором умерли, а дивным и мгновеннейшим действием Божиим получат то тело, которое имело развиться у них с течением времени? Ибо изречение Господа: «И волос с головы вашей не пропадет» говорит, что не будет отсутствовать то, что было, не отрицая в то же время, что будет наличествовать и то, чего не было. У умерших же младенцев не было полной величины их тела, так как каждому младенцу недостает именно той меры высоты тела, которой бы он не перерос, если бы достиг полного возраста. Мера эта существует для всех, с нею каждый зачинается и рождается, но существует идеально, а не материально, подобно тому, как в семени скрыто существуют уже все члены, хотя некоторые, например зубы, отсутствуют и после рож-
Блаженный Августин 1250
дения. В этой вложенной в телесную материю каждого идее некоторым образом, как бы я выразился, зачаточествует то, чего еще нет или что скрыто, но что с течением времени будет, или лучше сказать — раскроется. И младенец в ней мал или высок, соответственно тому, как будет он мал или высок. На этом основании мы нисколько не боимся убыли тела при воскресении, потому что, если тогда и все мы будем равны, причем даже так, что все достигнем гигантской величины, то и самые рослые в земной жизни люди не будут в своем росте иметь ничего, что погибло бы вопреки изречению Христа: «И волос с головы вашей не пропадет»; ибо у Создателя, сотворившего все из ничего, разве может оказаться недостаток могущества восполнить (откуда — ведает этот дивный Художник) то, что должно быть восполнено?
ГЛАВА XV
Но коль скоро Христос воскрес с тем именно ростом, с которым умер, то и непристойно говорить, что тело Его, когда наступит время всеобщего воскресения, получит больший рост, чем какой оно имело, когда Он по воскресении являлся ученикам в том виде, в каком они Его знали, — получит больший, чтобы, таким образом, и Он мог сравниться с самыми высокими по росту людьми. Если же мы скажем, что все более высокие тела должны приравняться к мере тела Господня, в таком случае тела весьма многих людей понесут ущерб, хотя Сам же Господь обещал, что не погибнет даже и волос с головы нашей. Остается заключить, что каждый получит свою меру роста, которую он или имел в юности, хотя бы он и умер стариком, или имел бы, если умер раньше. А слова апостола о мере полного возраста Христова надобно понимать или так, что они сказаны с совершенно иною целью, т. е. чтобы под главою–Христом в христианских народах, с нрав-
О граде Божием 1251
ственным преуспеянием всех членов, исполнялась мера Его возраста; или, если они сказаны о воскресении тел, — так, что тела умерших воскреснут в возрасте не раньше и не позже юношеского, и именно в том своем возрасте и крепости, до какого возраста, как известно, дожил Христос на земле. Ведь и самые ученые люди этого века юношеский возраст полагают порядка тридцати годов; достигнув этой поры, человек склоняется к более мужественному, а затем — и к старческому возрасту. Поэтому–то у апостола и не сказано «в меру тела» или «в меру роста», но — «в меру полного возраста Христова».
ГЛАВА XVI
Точно так же и слова: «Кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (Рим. VIII, 29) можно разуметь о внутреннем человеке. Поэтому в другом месте апостол говорит нам: |«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. XII, 2). Таким образом, сообразными Сыну Божию становимся мы тогда, когда преобразуемся, но не сообразуемся с веком сим. Можно понимать эти слова и так, что как Сын Божий сообразен нам смертностью, так и мы должны быть сообразными Ему бессмертием, что, впрочем, имеет отношение и к воскресению тел. Если же и в этих словах делается нам указание, в каком виде воскреснут наши тела, то сообразность эта, как и вышеупомянутая мера, должна пониматься не в смысле величины, а в смысле возраста тела. Итак, все воскреснут такими по росту, какими были или имели быть в юношеском возрасте; хотя в будущей жизни, где не останется ни малейшей, ни умственной, ни даже телесной слабости, не будет представлять никакой важности, будет ли тело иметь юношеский или старческий вид. Поэтому, если кто–нибудь станет
Блаженный Августин 1252
настаивать, что каждый воскреснет в том телесном виде, в каком умер, заводить с ним из–за этого предмета длинные споры не следует.
ГЛАВА XVII
Некоторые ввиду слов, что все мы достигнем «меру полного возраста Христова» (Еф. IV, 13) и что Бог «предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (Рим. VIII, 29) полагают, что женщины воскреснут не в женском, а в мужском поле, так как Бог сотворил из земли одного лишь мужчину, а уж из мужчины — женщину. Но, по моему мнению, вернее смотрят на дело те, которые не сомневаются, что воскреснет тот и другой пол. В самом деле, там не будет уже похоти, которая служит причиной стыда. Ведь и до грехопадения муж и жена были наги и не стыдились. Поэтому тогда тела человеческие очистятся только от недостатков, но природа останется. Женский же пол есть не недостаток, а природа; и хотя природа будет тогда свободна от соития и рождения, однако женские члены останутся, служа не к прежнему употреблению, а к новой красоте, которой бы не похоть взирающего на нее возбуждалась, так как похоти тогда не будет, а восхвалялась премудрость и милость Бога, и несущее сотворившего, и не–су–щее избавившего от повреждения. А что в начале человеческого рода жена была сотворена из кости, взятой из ребер спящего мужа, то это событие должно было служить пророчеством о Христе и Церкви. Ибо оный сон мужа (Быт. II, 21) означал смерть Христа, ребра которого, когда Он висел бездыханным на кресте, были пронзены копьем и из них излились кровь и вода (Иоан. XIX, 34); что мы считаем таинствами, которыми созидается Церковь. Писание именно это выражение и употребляет; в нем мы читаем не «образовал» или «сотворил», а «создал» (Быт. II, 22); поэтому и апостол говорит о созидании тела Христова, которое и есть Церковь.
О граде Божием 1253
Таким образом, женщина представляет собою такое же творение Божие, как и мужчина; что она произошла от мужа, это служило указанием их единства, а что от мужа произошла именно таким образом, это, как сказано, изображало Христа и Церковь. А Кто установил оба эти пола, Тот и восстановит их. Наконец, и сам Иисус Христос на вопрос отрицавших воскресение саддукеев, какого из семи братьев будет женою женщина, которую каждый из них имел, чтобы восстановить, как предписывал закон, семя умершего брата, отвечал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. XXII, 29). И хотя Он мог бы сказать: «Та, о которой вы Меня спрашиваете, сама будет мужчиной, а не женщиной», однако сказал Он не это, а вот что: «В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божий в небесах» (Мф. XXII, 30). Равными ангелам мы будем, конечно, бессмертием и блаженством, а не по плоти и не по воскресению, в котором ангелы не имеют нужды, потому что они и не могли умирать. Таким образом, Господь отрицал в воскресении браки, а не женщин, и отрицал тогда, когда поднят был такой вопрос, который всего скорее разрешился бы путем отрицания женского пола, если бы Господу было ведомо, что его тогда не будет; напротив, Он утверждал, что пол этот будет, говоря: «Ни женятся (что имеет отношение к мужчинам), ни выходят замуж (что имеет отношение к женщинам)». Итак, будут тогда и те, которые обыкновенно здесь женятся, и те, которые здесь выходят замуж, только там они этого делать не будут.
ГЛАВА XVIII
Поэтому, так как апостол говорит, что все мы придем в совершенного мужа, необходимо рассмотреть эти слова его в полном их составе, в котором они читаются так «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил
Блаженный Августин 1254
одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. IV, 10—16). Вот кто муж совершенный, т. е. глава, и вот кто тело, обнимающее всех членов, которые в свое время войдут в него!
Но пока Церковь созидается, к телу этому присоединяются ежедневно новые члены, — к тому телу, о котором говорится: «Вы — тело Христово, а порознь — члены» (I Кор. XII, 27); и в другом месте: «За тело Его, которое есть Церковь» (Кол. I, 24); и еще: «Один хлеб, и мы многие одно тело» (I Кор. X, 17). О созидании этого тела говорится и в рассматриваемом месте: «К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова», и затем прибавляется то, о чем, собственно, идет речь у нас: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»; а как далеко в теле должна простираться эта мера, указывается словами: «Дабы мы… истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена». Отсюда мерою как каждой отдельной части, так и целого тела, обнимающего все части, служит именно мера полноты, о которой сказано: «В меру полного возраста Христова». Об этой полноте апостол упоминает и в другом месте, где говорит о Христе: «И по-
О граде Божием 1255
ставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1,22, 23). Если же рассматриваемые слова апостола следует относить к тому виду, в каком каждый воскреснет, то что препятствует нам под упоминаемым у него мужем разуметь и женщину, понимая мужа в значении человека вообще, подобно тому, как в словах: «Блажен муж, боящийся Господа» (Пс. СХ1,1) разумеются, конечно, и женщины, боящиеся Господа.
ГЛАВА XIX
Что ответить теперь насчет волос и ногтей? — если мы признаем, что из нашего тела ничто тогда не пропадет, чтобы вследствие такой потери не явилось никакого безобразия, — вместе с тем само собою разумеется, что все излишества, которые в теле были бы безобразием, останутся в (общей) массе тела, а не будут возвращены на свои (прежние) места, где они обезображивали бы форму членов. Если бы, например, из глины был сделан сосуд, который, будучи обращен в ту же самую глину, опять бы был произведен заново, то не было бы никакой при этом необходимости, чтобы та часть глины, которая (прежде) находилась в ручке или в дне, опять возвратилась именно в ручку или в дно, лишь бы только целое снова обращено было в целое, т. е. лишь бы только вся глина, не теряя ни малейшей части, была превращена в целый сосуд. Поэтому волосы и ногти, столько раз остриженные и срезанные, не будут возвращены на свои места, если там они будут служить к безобразию; однако они и не пропадут ни у кого из воскресших, так как по изменяемости материи превратятся в ту же самую плоть, чтобы занять какое–нибудь место в теле, не нарушая стройности его частей. Впрочем, слова Господа: «И волос с головы вашей не пропадет» можно понимать скорее так, что они сказаны не о длине, а о числе волос; Он
Блаженный Августин 1256
ведь также говорит в другом месте: «У вас и волосы на голове все сочтены» (Лук XII, 7). Говорю так не потому, чтобы думал, будто в каком–нибудь теле погибнет что–либо, принадлежавшее ему по природе; говорю только, что те безобразия, с которыми тело рождалось (а рождалось оно с ними потому, конечно, чтобы и они служили указанием на состояние настоящей нашей смертности, как состояние, наложенное в наказание), в тело возвратятся, но так, что хотя субстанция тела будет оставаться целой, безобразия, однако, не будет.
В самом деле, если человек–художник может расплавить статую, которую почему–либо сделал некрасиво, и воспроизвести ее в красивой форме так, чтобы из ее субстанции ничего не пропало, а устранена была только ее некрасивость, причем, если в прежней фигуре статуи что–нибудь было дурно или не гармонировало с целым, он этого не отнимает и не отделяет от массы, которая служила ему материалом, а размешивает по всей массе, чтобы только устранить изъян статуи, не умаляя ее величины, то что же должны мы думать о всемогущем Художнике? Неужели Он не будет в состоянии устранить всевозможные безобразия человеческих тел, не только обыкновенные, но и редко встречающиеся и чудовищные, которые свойственны настоящей бедственной жизни, но будут оскорблением будущему блаженству святых, —устранить так, чтобы они, хотя они и составляют естественные, но все же безобразные порождения телесной субстанции, устранением своим не причиняли этой субстанции никакого ущерба?
Отсюда, далее, не следует опасаться и за сухощавых и тучных, чтобы и там они не были такими, какими, если бы только могли, они не хотели бы быть и здесь. В самом деле, всякая красота тела состоит в соразмерности частей вместе с некоторым изяществом цвета. Где нет такой соразмерности в частях, глаз наш оскорбляется чем–либо или потому, что оно криво, или потому, что мало, или потому, что слишком велико. Поэтому не будет ничего безобразного, происходящего от не-
О граде Божием 1257
соразмерности частей, там, где что криво, исправится, что меньше, чем следовало бы, восполнится (откуда — ведает Создатель), а что больше, чем нужно, устранится, не нарушая целости материи. А сколько будет изящества в цвете там, где «праведники воссияют, как солнце» (Мф. XIII, 43)! Надобно думать, что светоносность тела Христа, когда Он воскрес, скорее была сокрыта от глаз учеников, чем отсутствовала. Их слабый человеческий взор не вынес бы ее, коль скоро они должны были видеть Христа так, чтобы Он мог быть ими узнан. Так же объясняются и те обстоятельства, что Он показывал для осязания их следы Своих ран и даже принимал пищу и питье; не потому, чтобы нуждался в том и другом, а потому, что по Своему могуществу мог делать и это. Случай, когда мы чего–либо не видим, хотя оно и есть, находясь налицо подобно тому, как упомянутая светоносность тела Христа, хотя она, как было замечено выше, не была видима апостолам, которые, однако, все остальное видели, по–гречески называется оороспа — словом, которое наши переводчики, не будучи в состоянии перевести его по–латыни, перевели в книге Бытия как «слепота». Ею поражены были содомляне, когда искали дверей праведного мужа и не могли их найти (Быт. XIX, 11). Если бы это была та слепота, при которой нельзя видеть ничего, то содомляне спрашивали бы не о дверях, к которым подошли, а искали бы проводников, которые бы подвели их туда.
Не знаю как, но мы исполнены такой любовью к блаженным мученикам, что желали бы и в будущем царстве видеть на их теле следы тех ран, которые они приняли за имя Христа, — и, может быть, увидим. Раны эти будут у них не безобразием, а достоинством, — некою, хотя и в теле сияющею, красотою, но красотою не тела, а добродетели. Тем не менее, однако же, если мученики лишены были здесь каких–нибудь членов, они не останутся без этих членов в воскресении мертвых, которым сказано: «И волос с головы вашей не пропадет». Но если в новом веке будет признано нужным, чтобы
Блаженный Августин 1258
следы их славных ран были видны на бессмертной плоти, то там, где были, как сказано, отняты или отсечены члены, появятся следы ран и появятся на тех самых, снова возвращенных, но не потерянных частях. Итак, хотя всех бывших в теле недостатков тогда не будет, однако такого рода недостатками не следует считать упомянутые следы добродетелей.
ГЛАВА XX
С другой стороны, будем далеки от мысли, что для воскресения тел и возвращения их к жизни всемогущество Творца не может собрать всего, что было пожрано зверьми или огнем, или превратилось в прах и пепел, или разрешилось во влагу, или испарилось в воздух. Не будем думать, чтобы какие–нибудь недра или потаенные места природы скрыли что–нибудь, исчезнувшее от наших чувств, до такой степени, что оно осталось бы или неизвестным для ведения, или выступившим из–под власти Творца всего. Цицерон, этот их великий писатель, желая определить Бога, говорит-. «Он есть некоторый свободный и независимый ум, чуждый всякой смертной примеси, всезнающий и вседвижущий и сам одаренный вечным движением»*. То же (суждение) встречается в доктринах великих философов. Итак, говоря их же языком, каким образом может что–либо скрыться от «всезнающего» или бесследно исчезнуть от «вседвижущего»?
Отсюда уже разрешается и тот вопрос, который представляется более трудным, а именно: если плоть умершего человека становится плотью другого человека, то кому из них будет принадлежать она в воскресении? Ведь если бы изнуренный и побежденный голодом человек начал питаться трупами людей, — а такое зло, как свидетельствует древняя история и как
О граде Божием 1259
говорит несчастный опыт новейших времен, иногда встречалось, — то кто же будет утверждать, что вся–де эта пища выбрасывается через нижний проход и ничего из нее не превращается в плоть того человека, когда сама его исхудалость, которая была и прошла, достаточно показывает, что этим питанием восполнена убыль в его теле? Но предпосланные мною несколько выше замечания должны служить к разрешению и этой трудности. Ибо все, что ни истощает в телах голод, все это испаряется, конечно, в воздухе; потому–то мы и сказали, что всемогущий Бог может возвратить то, что ушло. Поэтому и плоть та будет возвращена тому же человеку, чью человеческую плоть она составляла первоначально. От того другого она должна быть отобрана, ибо она как бы взята им взаем как чужой капитал, и должна быть возвращена тому, у кого занята. В свою очередь, и тому человеку, которого истощил голод, возвращена будет его собственная плоть Тем, Кто силен собрать и испарившееся в воздух. Хотя бы она и всячески погибла, и ни одной частички ее не сбереглось ни в каких тайниках природы, Всемогущий восстановит ее, откуда восхочет. Но ввиду изречения самой Истины: «И волос с головы вашей не пропадет» нелепо было бы думать, что в то время, как волос с головы человека погибнуть не может, могут погибнуть столькие тела человеческие, от голода истощившиеся и съеденные…
Рассмотрев и обсудив, насколько было нужно, все эти возражения, соединим все сказанное в следующих общих чертах. В вечном воскресении плоти рост наших тел будет иметь ту меру, которая принадлежала ему по вложенной в тело каждого норме юношеского возраста, не достигнутого еще или уже достигнутого, с сохранением соответствующей красоты в размерах всех членов. Если что–нибудь от тела было отнято, как излишнее удлинение в какой–нибудь составной его части, то для сохранения красоты это отнятое разместится тогда по всему телу, так что и само оно не пропадет, и сохранится соразмерность частей
Блаженный Августин 1260
тела; ничего нет невероятного, что вследствие этого может даже прибавиться и сам рост тела, когда для сохранения красоты разместится по всем членам то, что в какой–либо части тела оказывалось излишним и неприличным Если же будут настаивать, что каждый воскреснет с тем телесным ростом, с каким умер, спорить против такого мнения излишне горячо не следует, нужно только думать, что ничего безобразного, ничего слабого, ничего косного, ничего тленного, словом, ничего неприличного не будет в том царстве, в котором сыны воскресения и обетования будут равны ангелам Божиим, не по телу, конечно, а по блаженству.
ГЛАВА XXI
Соответственно этому и все, что не погибнет от живых ли то тел, или, после смерти, от трупов, будет восстановлено и вместе с остатками, сохранившимися в гробах, воскреснет, изменившись из ветхого состояния тела душевного в новое состояние тела духовного и облекшись нетлением и бессмертием И если даже или по какой–либо тяжкой случайности, или по жестокости врагов все тело будет совершенно стерто в порошок и, развеянное, насколько можно, по ветру или по воде, будет лишено всякой возможности находиться где–либо, то и в таком случае оно не укроется от всемогущества Творца, напротив, в нем не погибнет ни один волос на голове. Тогда подчиненная духу плоть станет духовной, но все–таки плотью, а не духом, подобно тому, как дух, подчиненный плоти, и сам будет плотским, однако все же духом, а не плотью. Примером этому служит искаженное состояние нашего наказания. Не по плоти, а именно по духу были плотскими мы, которым апостол говорит: «Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими» (I Кор. III, 1) И если в настоящей жизни человек называется и духовным, то по телу он все же
О граде Божием 1261
плотский и видит закон в членах своих, противоборствующий закону ума своего (Рим. VII, 23); но он будет духовным и по телу, когда воскреснет плоть его, чтобы быть тем, о чем написано: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (I Кор XV, 44).
Но какова и сколь велика будет слава духовного тела, опасаюсь, как бы все, что говорится о ней, не было дерзким витийством, потому что мы еще не видим ее на опыте. Впрочем, так как о радости нашего упования молчать не следует ради хвалы Богу, и слова: «Господи! возлюбил я обитель дома Твоего» (Пс. XXV, 8) сказаны из внутренних глубин святой пламенной любви, то от даров Божиих, которые в настоящей бедственной жизни изливаются на добрых и злых, мы, с помощью Бо–жией, сделаем, насколько можем, заключение о том, какова будет и та слава, о которой, не испытав ее, мы, конечно, говорить достойным образом не можем. Не упоминаю уже о том времени, когда Бог сотворил человека правым, не касаюсь блаженной жизни двух супругов в раю, так как жизнь эта была столь коротка, что ее не видели и их дети; но кто может перечислить знаки благости Божией к человеческому роду и в настоящей жизни, которую мы знаем, в которой еще находимся, испытания которой, даже всю ее как непрерывное испытание мы, как бы ни преуспевали, не перестаем выносить, пока в ней находимся.
ГЛАВА XXII
В самом деле, если рассмотреть все с самого начала, то настоящая жизнь наша, исполненная стольких и таких зол, что ее вообще трудно назвать жизнью, показывает, что весь род смертных был осужден. Ибо что другое означает эта ужасная глубина неведения, из которой проистекает всяческое заблуждение, погружающее всех сынов Адама в некое темное лоно, так что освободиться из него человек не может без труда,
Блаженный Августин 1262
скорби и страха? Что означает сама эта любовь к столь многим тщетным и вредным предметам, и отсюда — жгучие заботы, волнения, печали, страхи, безумные радости, раздоры, споры, войны, коварства, раздражительность, враждебность, лживость, лесть, обман, воровство, хищничество, вероломство, гордость, честолюбие, ненависть, человекоубийство, жестокость, зверство, распутство, роскошь, наглость, бесстыдство, нахальство, любодеяния, прелюбодеяния, кровосмешение и столькие противоестественные деяния и мерзости того и другого пола, о которых и говорить–то стыдно, святотатства, ереси, богохульства, клятвопреступления, притеснения невинных, клевета, мошенничества и измены, лжесвидетельства, неправосудие, насилия, разбойничества и все, что из числа подобных пороков теперь на память мне не приходит, хотя из настоящей жизни и не уходит? Правда, все это — дела людей порочных; однако все они происходят от того корня заблуждения и извращенной любви, с которым рождается всякий потомок Адама. Кто, в самом деле, не знает, с каким незнанием истины, обнаруживающимся уже в детях, с каким запасом суетных желаний, начинающим открываться уже в ребенке, является человек в эту жизнь, так что если бы оставить его жить, как он бы хотел, и делать все, что желал бы, то он или всю жизнь, или большую часть ее провел бы в преступлениях и злодеяниях, которые я припомнил и которых не смог припомнить.
Но так как промышление Божие не совсем оставляет осужденных и Бог не затворяет во гневе щедроты Свои (Пс, КХХУ1, 10), то в самих чувствованиях человеческого рода против той тьмы, с которою мы рождаемся, бодрствуют и (злым) наклонностям противостоят запрещение и обучение, сами, впрочем, исполненные трудов и скорбей. Ибо что значат эти многоразличные устрашения, к которым прибегают для обуздания суетности детей? Что такое эти педагоги, учителя, эти хлысты, ремни, лозы, эта дисциплина,
О граде Божием 1263
которою, по словам священного Писания, нужно сокрушать ребра любимого сына, чтобы он не вырос непокорным? Ожесточившись, он едва уже может быть обуздан, а пожалуй, и вовсе не может (Сир. XXX, 13). Что достигается этими наказаниями, как не искоренение невежества и обуздание злых желаний, с каковыми пороками мы являемся на этот свет? Что значит, что запоминаем мы с трудом, а забываем без труда, — приобретаем знания с трудом, а невежеству–ем без труда, — деятельны с трудом, а ленивы без труда? Не видно ли отсюда, к чему, как бы собственной своею тяжестью, бывает склонна порочная природа и в какой помощи она нуждается, чтобы освободиться от этого? Праздность, недеятельность, леность небрежность суть именно такие пороки, благодаря которым мы бежим от труда; потому что и сам труд, даже труд и полезный, представляет собою наказание.
Но кроме детских наказаний, без которых нельзя выучиться тому, чего хотят старшие, — а они с трудом хотят чего–либо полезного, — кто перескажет словами или представит мыслью, сколько и каких тяготеет над человеческим родом наказаний, которые имеют отношение не только к злости и непотребству людей нечестивых, а к общему для всех состоянию? Сколько страхов и сколько бед от дорогих утрат и печалей по ним, от убытков и взысканий, от обманов и кривды людей, от ложных подозрений, от всевозможных насильственных злодейств и чужих преступлений, потому что они часто бывают причиной и ограбления, и заключений, и кандалов, и тюрем, и ссылок, и распятий на кресте, и отнятия членов, и лишения органов, и телесного насилия для удовлетворения гнусной похоти насилующего и многих других ужасных (злодейств)? Сколько бед и опасностей от бесчисленных случайностей, угрожающих телу извне: от зноя, холода, бурь, дождей, наводнений, молнии, грома, града, грозы, землетрясений, разрушений, от раздражения, пугливости или даже от злости вьючных животных, от стольких ядов, скры-
Блаженный Августин 1264
вающихся в деревьях, водах, ветрах, животных, от тяжких или даже смертельных укусов диких зверей, от бешенства, причиняемого бешеною собакой, так что это ласковое и дружественное животное угрожает иногда больше, чем львы и драконы, и делает человека, которого случайно заразит, до такой степени ужасным, что родители, жена и дети боятся его пуще всякого зверя? Какие беды претерпевают плавающие на кораблях и путешествующие на суше? Кто где бы то ни было гуляет, не будучи подвержен неожиданным случайностям? Иной, возвращаясь с форума совершенно здоровым, падает, ломает ногу и от этой раны умирает. Кто, по–видимому, безопаснее сидящего? И, однако, Илий упал со стула и умер (I Цар. IV, 18). Скольких и каких несчастий для полевых плодов земледельцы, да и вообще все люди, страшатся с неба, от земли или опасных животных? Обыкновенно бывают спокойны насчет жатв уже собранных и убранных. Но нам известен случай, когда внезапно ворвавшаяся вода, заставив разбежаться людей, выбросила и унесла из житниц прекрасный урожай хлеба. Кто считает себя обеспеченным своею невинностью от тысячи разнообразных нападений демонов? Чтобы на это никто не полагался, демоны даже крещеных младенцев, невиннее которых никого, конечно, не бывает, иногда мучат так, что по попущению Божию на них особенно показывается плачевная бедственность настоящей жизни и желанное блаженство будущей.
Само наше тело подвержено стольким болезням, что всех их не обнимают собою книги врачей. Во многих или почти во всех из них и сами пособия, и медикаменты служат орудиями мучения, так что от этого следствия наказаний люди избавляются с помощью наказаний же. Не доводил ли жаждущих людей нестерпимый (внутренний) жар до того, что они пили человеческую, даже свою собственную мочу? Не доводил ли голод до того, что люди не могли удержаться от человеческого мяса, — мяса не людей, найденных мертвы-
О граде Божием 1265
ми, а специально для этого убитых, да и не чужих каких–нибудь? Даже матери с невероятной жестокостью, которую производит лютый голод, съедали собственных детей. Наконец, кто передаст словами, как часто сам сон, который получил имя в собственном смысле покоя, бывает беспокоен от сновидений, и как часто возмущает бедную душу и чувства великими ужасами, хотя производимыми и призрачными предметами, но представляемыми и так сказать показываемыми им так, что мы не в состоянии бываем отличить их от действительности? Какою ложью видений терзаются даже и бодрствующие в некоторых болезнях и гораздо еще бедственнее при отравах, хотя, впрочем, иногда и здоровых людей злые демоны обманывают такими видениями, что если и не могут их этим путем переманить на свою сторону, то, во всяком случае, оскверняют их чувства желанием исполнения этой призрачности
От этого, так сказать, ада настоящей бедственной жизни освобождает только благодать Христа Спасителя, Бога и Господа нашего. Ибо таково значение самого имени Иисус, которое переводится Спаситель, — Спаситель, главным образом, от того, чтобы после настоящей жизни не приняла нас еще более бедственная и вечная, не жизнь, а смерть. Ибо, хотя в настоящей жизни и бывают великие облегчения и врачевания через священные предметы и святых людей, однако и такие милости этим путем не всегда сообщаются просящим, чтобы люди не ради этого стремились к религии, а ради другой жизни, где не будет уже никаких зол; и если лучшим людям благодать помогает в несчастьях и настоящей жизни, то с той только целью, чтобы они переносили их тем мужественнее, чем крепче их вера. В этом отношении, говорят ученые века сего, полезна и философия, которую, как замечает Туллий, некоторым немногим людям сообщили в истинном ее виде боги. Людям, говорит он, или богами не дано большего дара, или не могло быть дано никакого; отсюда видно, что и сами те, против которых мы ведем речь, как
41 О граде Божием
Блаженный Августин 1266
бы там ни было, а вынуждены факт обладания философией, не всякой, а именно истинной, признать делом божественной благодати. Если же, далее, против злополучий настоящей жизни дана свыше немногим единственная помощь в лице истинной философии, то и отсюда достаточно видно, что род человеческий осужден на состояние бедственного наказания. А так как нет, как признают они, никакого в сравнении с этим большего дара, то надобно думать, что дар этот дан не другим каким–либо богом, а Тем, Которого они, чтущие многих богов, называют наибольшим.
ГЛАВА XXIII
Но кроме зол настоящей жизни, общих добрым и злым, праведники имеют здесь и некоторые свои собственные подвиги, которые они совершают, воюя с пороками и подвергаясь испытаниям и опасностям этой войны. В самом деле, временами сильнее, временами слабее, но плоть не перестает противоборствовать духу, а дух — плоти, дабы мы не то делали, чего хотим, исполняя всякую злую похоть, а насколько это для нас возможно при помощи свыше, подчиняли ее себе, не сочувствуя ей и постоянно бодрствуя, чтобы нас не обманывало мнение, похожее на правду, не обольщала хитрая речь, не обуяла тьма какого–нибудь заблуждения; чтобы не принималось нами что–нибудь доброе за дурное или дурное за доброе; чтобы страх не отклонял нас от того, что нужно делать, а похоть не устремляла к тому, чего не нужно делать; чтобы солнце не заходило во гневе нашем (Еф. IV, 26); чтобы вражда не устремляла нас к отмщению злом за зло и не пожирала самолюбивой или неумеренной печалью; чтобы неблагодарный ум не внушал нам холодности к испытанным благодеяниям, а чистая совесть не омрачалась злоречивой молвою; чтобы нас не вводило в заблуждение наше собственное необоснованное подозрение касательно других и не сокру-
О граде Божием 1267
шало чужое ложное подозрение касательно нас самих; чтобы не царствовал грех в смертном нашем теле и не предавались члены наши греху в орудия неправды (Рим. V, 12,13); чтобы глаз наш не следовал похоти и не одолевало нас желание отмщения; чтобы ни зрение, ни мысль не направлялись к тому, что доставляет дурное удовольствие; чтобы мы не склоняли своего слуха к недоброму или непотребному слову; чтобы не делали того, чего не должны делать, хотя и хотели бы; чтобы мы в этой переполненной трудами и опасностями борьбе не надеялись на достижение победы собственными силами и приобретенную победу приписывали не себе самим, а благодати Того, о Ком говорит апостол: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (I Кор. XV, 57). И в другом месте он же говорит: «Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. VIII, 37). Впрочем, какою бы силою в этой борьбе мы ни сражались с пороками, даже если бы над пороками и восторжествовали, мы должны знать, что пока находимся в этом теле, нас не должно оставлять чувство, под влиянием которого мы должны говорить Богу: «Прости нам долги наши» (Мф. VI, 12). Но в том царстве, в котором мы вечно будем с бессмертными телами, у нас не будет уже никакой борьбы и никаких долгов; да их и не было бы, если бы природа наша оставалась такою же правою, какой она была сотворена. Поэтому и сама эта борьба, освободиться от которой мы надеемся ожидающей нас победой, принадлежит к числу зол настоящей жизни, которая стоит под осуждением, как в этом убеждает нас факт существования в ней стольких и таких зол.
ГЛАВА XXIV
Обратим теперь внимание на то, какими и сколь многими благами благость Бога, о всякой твари промышляющего, наполнила даже и это бедственное со-
Блаженный Августин 1268
стояние человеческого рода, в котором восхваляется правда Бога наказующего. Во–первых, того, произнесенного еще до греха благословения: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. I, 28), Бог не захотел взять назад и после грехопадения, оставив и в осужденном роде дарованную ему силу плодородия; этой вложенной в человеческие тела удивительной силы семени, еще более удивительной, чем сила, которою образуется само семя, не смог исторгнуть даже грех, вследствие которого обрушилась на нас необходимость смерти; напротив, рядом и вместе с этой, так сказать, рекою, с этим потоком человеческого рода идет то и другое: и зло, которое получается от прародителя, и благо, которое сообщается Творцом. В первоначальном зле заключаются два (частных зла): грех и наказание; в первоначальном благе — свои два (частных блага): размножение и образование. Но, насколько это было в наших намерениях, о зле, один из частных видов которого, грех, произошел от нашей дерзости; а другой, наказание, от суда Божия, сказано мною уже достаточно. Теперь я намерен сказать о тех благах, которые сообщил и доселе сообщает Бог самой порочной и осужденной природе. Ибо и осуждая, Он не лишил ее всего, что даровал ей, — в противном случае ее совсем бы не было; с другой стороны, не оставил ее и вне Своей власти, хотя в наказание и подчинил дьяволу, так как не освободил от Своей власти и самого дьявола; Его, Всевышнего, дело, что существует природа и дьявол, как Ему же обязано Своим бытием все, что существует.
Итак, из двух тех благ, которые, как мы сказали, от благости Божией, как бы из некоего источника, изливаются и на поврежденную грехом и осужденную на наказание природу, размножение происходит от благословения, изреченного среди первых дел миротво–рения, от которых Бог почил в седьмой день. Образование же имеет причину в том действии, которое Бог делает доселе (Иоан. V, 17). Ибо если бы Бог отнял от
О граде Божием 1269
тварей руку Своего вседействующего могущества, они не могли бы распространяться и продолжать своего существования в предназначенной для них преемственности; даже не устояли бы и на некоторое время в том состоянии, в каком сотворены. Таким образом, Бог сотворил человека так, что даровал ему некую плодоносную силу, вследствие которой одни люди производят других, сообщая им и саму возможность этой производительности, но только возможность, а не необходимость; кого захотел Он лишить ее, те и остаются бесплодными, хотя, впрочем, и не отнял у человеческого рода однажды данного первым супругам благословения чадорождения. Поэтому хотя размножение и не отнято грехом, но оно теперь не таково, каким было бы, если бы никто не согрешил. Отсюда, человек, венчанный в начале честью, после грехопадения уподобился скотам (Пс. ХЬУШ, 13) и рождает подобным же образом; хотя, впрочем, в нем не до конца погасла некая, так сказать, искра разума, с которым он сотворен по образу Божию. Но если бы с размножением не соединялось образование, то одно оно (без образования) не обнаруживалось бы в своеобразных формах и видах. Ведь если бы люди не имели соития, то Бог и без этого мог бы наполнять землю людьми; как первого человека сотворил Он без соития мужчины и женщины, так мог бы Он (производить) и всех; совокупляющиеся же люди не могут быть рождающимися без воли Творца.
Таким образом, как апостол о том духовном установлении, благодаря которому человек образуется для благочестия и правды, говорит: «Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (I Кор.Ш, 7), так же точно и в настоящем случае можно сказать: «Отец совокупляющийся и осеменяющий есть ничто, а все Бог образующий; и мать, носящая зачатое и питающая рожденное, не значит ничего, а все Бог возращающий». Он именно тем действием, которое доселе делает, творит так, что развиваются семе-
Блаженный Августин 1270
на и из скрытых и невидимых своего рода оболочек раскрываются в видимые формы красоты. Соединяя и слагая непонятным образом бестелесную и телесную, т. е. господственную и подчиненную, природы, Он делает их одушевленными. Это действие Его так велико и удивительно, что в наблюдающем это действие не только в человеке, существе разумном и превосходящем всех земных животных, но и в самой малейшей букашке, вызывает изумление и хвалу Создателю.
Итак, Он даровал человеческой душе ум; в душе дитяти разум и понимание находятся, так сказать, в дремлющем состоянии, как бы нет их, и должны они возбуждаться и раскрываться с наступлением возраста, чтобы дитя стало способным к знанию и учению и готовым к восприятию истины и любви к добру; благодаря этой–то способности человек приобретает познание и является существом, одаренным силами, которыми благоразумно, настойчиво и правильно борется против заблуждений и всех врожденных» пороков и побеждает их нечем иным, как желанием высшего и неизменного блага. И если человек этого даже и не делает, то кто надлежащим образом может высказать словами или понять, как прекрасна сама по себе эта вложенная свыше в разумную природу способность к таким благам и какое она удивительное дело Всемогущего? Ибо кроме искусств жить нравственно и достигать безмерного блаженства, которые называются добродетелями и сынам обетования и царствования сообщаются единственно благодатью Божией во Христе, не изобретено ли разумом человеческим и не изучается ли столько и таких искусств, отчасти необходимых, а отчасти и касающихся удовольствий, что эта превосходящая все другие сила ума и разума даже и в такого рода излишних, даже опасных и гибельных знаниях, которых она жаждет, показывает, какое великое благо имеет человек в своей природе, благодаря чему он смог или изобрести эти искусства, или научиться им, или научить им других?
О граде Божием 1271
Кто в состоянии пересказать, до какого удивительного и изумительного производства одежд и построек дошла человеческая изобретательность, каких успехов достигла она в земледелии и мореплавании; что придумала и произвела в изготовлении сосудов, в разнообразии статуй и картин; что удивительного для зрителей и невероятного для слушателей постаралась понаделать в театрах; что и сколько придумала для ловли, умерщвления и укрощения неразумных животных, сколько изобрела ядов, орудий и хитростей против самих людей и сколько лекарств и медикаментов — для предохранения и восстановления смертного здоровья, сколько выдумала приправ к кушаньям для удовольствия и раздражения горла, какое множество и разнообразие знаков изобрела для выражения мыслей, причем главное место принадлежит словам и буквам, какие словесные прикрасы и какое множество стихотворных форм выдумала для увеселения духа, сколько изобрела музыкальных инструментов и способов пения для услаждения слуха, какого достигла знания расстояний и чисел и с каким искусством определила движение и порядок небесных светил, какого достигла знания мировых предметов; кто сможет пересказать все это, особенно если бы мы не захотели ограничиться общими словами, а пожелали войти в подробности? Кто, наконец, сможет определить, сколько употреблено остроумия философами и еретиками для защиты даже лжи и заблуждений? Ибо в настоящем случае мы говорим о природе человеческого ума, которой украшена настоящая смертная жизнь, а не о вере и о пути истины, которыми приобретается жизнь бессмертная. Так как Творец этой природы есть истинный и высочайший Бог, то по причине, что Он всем сотворенным управляет и обладает высочайшим могуществом и высочайшим правосудием, природа эта никогда не впала бы в эти злополучия и не подверглась бы злополучиям вечным (кроме только тех, которые от них будут освобожде-
Блаженный Августин 1272
ны), если бы раньше не было великого греха первого человека, от которого произошли все прочие грехи. Даже в самом нашем теле, хотя по смертности оно обще нам с дикими зверьми и притом гораздо слабее (тел) многих из них, какая открывается благость и промыслительность Творца! Не расположены ли на нем органы чувств и прочие члены и не соразмерены ли вид, форма и рост его таким образом, чтобы указывать, что оно сотворено для служения разумной душе? Человек сотворен не так, как существа, лишенные разумной души, которые мы видим наклоненными к земле; устремленная к небу фигура его тела напоминает ему мудрствовать о горнем. Далее, та подвижность, которая сообщена языку и рукам, удобная и приспособленная для письма и речи и для выполнения весьма многих искусств и занятий, не ясно ли показывает, для служения какой душе придано подобное тело? Но если даже и не принимать в расчет потребностей практических, соразмерность всех частей тела так велика и так эти части соответствуют одна другой прекрасной пропорцией, что не знаешь, больше ли при сотворении тела имела место идея пользы, чем идея красоты. По крайней мере, мы не видим в теле ничего, сотворенного ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты. Это для нас было бы еще яснее, если бы мы знали те точные размеры, в каких все между собою связано и соединено; но исследованию человеческому, при старательном изучении, это может подлежать лишь в наружных частях, а то, что скрыто и для нашего глаза недоступно, как, например, сплетения жил, нервов и внутренностей, а также тайны главных жизненных частей, — то не поддается исследованию. Хотя жестокая пытливость медиков, называемых анатомами, и вскрывает трупы умерших; хотя руками рассекающего и исследующего умерших довольно бесчеловечно извлекается на свет все самое сокровенное в телах человеческих, чтобы знать, что, как и где надобно лечить; тем не менее, те точные раз-
О граде Божием 1273
меры, о которых я говорю, которые как каждому органу, так и всему телу извне и внутри дают то сочетание, которое по–гречески называется арцста, не только никто не в силах открыть, но никто не берет на себя смелости и исследовать. Если бы могли они стать известными, то и в самих внутренних частях, которые не заключают в себе никакой красоты, открылось бы такое изящество идеи, что ум предпочел бы ее всякой видимой, доставляющей удовольствие только глазу форме. Но кое–что в теле расположено и таким образом, что имеет одну лишь красоту, а не пользу; так, например, грудь мужчины имеет сосцы, а лицо — бороду; что борода служит не защитой, а украшением мужчины, это доказывают чистые лица женщин, которые, как слабейшие, скорее бы, конечно, нуждались в (такой) защите.
Итак, если нет ни одного члена (по крайней мере из числа видимых, относительно которых никто и не спорит), который бы был приспособлен к какому–нибудь отправлению так, чтобы (в то же время) не был и красивым; но есть некоторые члены, которые имеют только лишь красоту, но не пользу, то отсюда, думаю, легко понять, что при сотворении тела его достоинство ставилось выше практической потребности. Ибо практическая потребность минует, и наступит время, когда мы будем взаимно наслаждаться одной только красотой помимо всякой похоти; что в особенности должно быть отнесено к хвале Создателя, Которому говорится в псалме: «Ты дивно велик. Ты облечен славою и величием» (Пс. СП1,1).
А какими словами может быть определена красота и польза других тварей, любоваться и пользоваться которыми божественная щедрость дозволила человеку, хотя и обреченному и осужденному на труды и злополучия? — красота, заключающаяся в разнообразной и многоразличной красоте неба, земли и моря, в таком обилии и в такой удивительной роскоши света, в солнце, луне и звездах, в тенистости лесов, в красках
и благоухании цветов, в множестве щебечущих пест–роперых птиц, в разнообразии стольких и таких животных, из коих более всего вызывают удивление те, которые имеют меньше объема (ибо мы удивляемся более работе муравьев и пчел, чем громадному телу китов), в количественном виде моря, когда оно, как одеждой, облекается различными цветами и бывает то зеленым, и притом с различными оттенками, то пурпурным, то лазурным. Как приятно смотреть на него даже тогда, когда оно волнуется, и эта приятность становится еще большею потому, что наблюдателя оно ласкает (надеждой), что не выбросит и не разобьет мореплавателя! Как много пищи против голода и какое разнообразие вкусов против отвращения разлито в богатствах природы помимо всякого искусства и труда поваров, сколько (заключено) во многих предметах пособий для предохранения и восстановления здоровья! Как благодатна чередующаяся преемственность дня и ночи1 Как приятна благорастворенность воздуха1 Сколько материала для постройки одежды в стеблях растений и в животных? Да кто в состоянии все припомнить'!
Уже и то, что мною снесено как бы в одну массу, если бы я захотел разобрать и рассмотреть по частям, сколько времени принудило бы меня останавливаться на каждой частности, содержащей в себе весьма многое? И все это служит утехой для злополучных и осужденных, а не наградой для блаженных. Какие же будут награды, если существует столько и таких утешений' Что даст Бог тем, которых предопределил к жизни, если такими дарами осыпал предопределенных к смерти? Какими благами преисполнит в будущей жизни тех, за которых в настоящей, по Его изволению, единородный Сын претерпел столькие и такие злополучия? Отсюда, ведя речь о предопределенных к будущему царству, апостол говорит: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. VIII, 32). Когда
О граде Божием 1275
обещание это исполнится, что тогда мы будем? Какими будем' Какие получим в том царстве блага, так как в смерти Христа за нас получили уже такой залог? Каким будет дух человека, когда не будет уже иметь никакого порока, которому бы подчинялся или которому бы уступал, или даже против которого бы с честью боролся, но будет преисполнен уже полной мира добродетели Какое и насколько ясное и верное, чуждое всякого заблуждения и не требующее труда знание всех вещей будет там, где мы будем напояться премуд–фостью Божией из самого ее источника с высочайшим юлаженством и безо всякого затруднения' Каким бу–Кдет тело, которое, совершенно подчиненное духу и им изобильно оживляемое, не будет нуждаться ни в каком питании? Ибо оно будет не животное, а духовное тело, хотя и имеющее плотскую субстанцию, но чуждую всякого плотского повреждени
ГЛАВА XXV
Впрочем, о благах духа, которыми в состоянии полного блаженства он будет наслаждаться, знаменитые философы с нами не разногласят; они спорят о воскресении плоти и, насколько могут, отрицают , эту истину. Но многочисленные верующие оставили малочисленных отрицателей, ученых и неученых, мудрецов мира сего и невежд, и с верующим сердцем обратились ко Христу, Который Своим воскресением доказал то, что представлялось для тех нелепостью. Мир уже уверовал истине, предсказанной Богом, Который предсказал и то, что этой истине мир уверует. Не чародейства же Петра принудили Его предсказать эту истину вместе с похвалою верующим в нее за столько времени вперед. Ибо Он тот Бог, пред Которым (как я говорил об этом уже несколько раз и не стесняюсь напомнить), по признанию Порфирия, желающего доказать это оракулами своих богов, тре-
Блаженный Августин 1276
пещут и сами божества, и Которого он так превозносит, что называет то Богом–отцом, то Богом–царем. Да не будет того, чтобы предсказанное Им мы понимали так, как хотят понимать это не верующие вслед за миром тому, чему, как Он предсказал, мир уверует. Но почему бы не понимать этого скорее так, как, по Его предсказанию, мир должен был уверовать, а не так, как пустословят весьма немногие, не желающие веровать вслед за миром тому, чему, по Его предсказанию, мир должен был уверовать? Ведь если этому, как они говорят, нужно верить иначе затем, чтобы не нанести Богу, за Которого они являются такими усердными свидетелями, обиды, назвав написанное о том пустяками; то не тем ли большую обиду наносят Ему они, говоря, что оно должно пониматься иначе, а не так, как уверовал мир, веру которого Он сам же похвалил. Сам обещал и Сам привел в исполнение? Одно ведь из двух: или Он не силен, чтобы плоть воскресла и была жива во веки; или веровать, что Он это сделает, не следует потому, что (воскресение плоти) есть зло и Его не достойно. Но о Его всемогуществе, которым сотворено столько невероятного, мы сказали достаточно. Если они хотят узнать, чего Всемогущий не может, то вот чего: я скажу, что Он не может обманывать. Будем же верить, что Он может, не веря, что не может. Итак, по той причине, что Он не может обманывать, они должны верить, что Он исполнит то, что обещал исполнить, и притом верить так, как верует мир, веру которого Он Сам предсказал, Сам похвалил, Сам обещал и Сам привел в исполнение. А чем доказывают они, что (воскресение плоти) есть зло? Там не будет повреждения, которое представляет собою зло телесное. О порядке стихий мы уже рассуждали; о других человеческих догадках сказали достаточно; какова будет в нетленном теле легкость движения, это, полагаю, мы в тринадцатой книге достаточно показали из настоящего состояния вполне здорового тела, которое, конечно, не идет ни в какое сравнение с будущим бессмертным состоянием. Пусть прочитают
О граде Божием 1277
предыдущие книги настоящего сочинения те, которые или их не читали, или же хотят восстановить в памяти прочитанное.
ГЛАВА XXVI
Но по словам Порфирия, чтобы душа была блаженна, она должна быть освобождена от всякого тела. Таким образом, совершенно бесполезно быть телу, как мы сказали, нетленным, если душа будет блаженна не иначе, как освободившись от всякого тела. Но в упомянутой книге и об этом сказано мною столько, сколько было нужно; приведем в настоящем случае одно только обстоятельство. Именно, учитель всех их, Платон, должен был бы сделать в своих книгах поправку и сказать, что боги их, заключенные, по его словам, в небесные тела, чтобы быть блаженными, будут разрешены от тел, т. е. умрут; однако же (он говорит так, что) Бог, Которым эти боги были сотворены, обещал им, чтобы они могли наслаждаться безмятежным состоянием, бессмертие, т, е. вечное пребывание в тех же самых телах, — обещал не потому, что природа их бессмертна, но потому, что его решение сильнее природы. В этом случае Платон опровергает их и со стороны того их заявления, что воскресению плоти не следует–де верить потому, что оно невозможно. Ибо в указанном месте этот философ весьма ясно высказывает такую мысль, что Бог, обещав сотворенным Им богам бессмертие, тем самым показал, что, хотя Он и не сотворил их бессмертными, что невозможно, однако же сделает их бессмертными. Само это место из Платона гласит следующее: «Хотя вы, как получившие начало, не можете быть бессмертными и неразрушимыми, однако же никоим образом не разрушитесь и никакие судьбы не погубят вас посредством смерти и не будут сильнее Моего решения, которое составляет более крепкую связь для вашего
Блаженный Августин 1278
вечного существования, чем те связи, которыми вы были соединены при рождении». Если те, которые слышат эти слова, не только не глухи, но и не глупы, у них, конечно, не появится сомнения, что сотворенным богам Богом, их сотворившим, обещается, по Платону, то, что для них невозможно. В самом деле, Тот, Кто говорит: «Хотя вы, как получившие начало, не можете быть бессмертными и неразрушимыми, однако же никоим образом не разрушитесь и никакие судьбы не погубят вас посредством смерти и не будут сильнее Моего решения», что другое говорит, как не вот что: «Это невозможно, однако, при Моем содействии, вы будете такими». Следовательно, Тот в состоянии воскресить плоть нетленной, бессмертной и духовной, Кто, по Платону, обещал сделать то, что невозможно. К чему же они доселе объявляют невозможным то, что обещал Бог, чему, по обещанию Божию, уверовал мир, которому обещано было даже и то, что он уверует? Ведь мы говорим, что сотворил это Бог, Который и по Платону творит невозможное. Таким образом, чтобы души были блаженными, они должны не освободиться от всякого тела, а получить тело нетленное. И в каком ставшем нетленным теле приличнее им наслаждаться веселием, как не в том, в котором они стенали, когда оно было тленным? В них не будет того лютого желания, которое, вторя Платону, влагает в них Вергилий, говоря:
И снова желать начинают в тела возвратиться'.
Такого, говорю, желания возвратиться в тела они не будут иметь, потому что тела, в которые они желали бы возвратиться, они будут иметь с собою и будут иметь их так, чтобы навсегда находиться с ними и никогда, даже на самое короткое время, с ними не разлучаться вследствие смерти.
О граде Божием 1279
ГЛАВА XXVII
Платон и Порфирий высказали каждый по одной такой мысли, сообщив которые вместе, они сделались бы, пожалуй, христианами. Платон сказал, что души не могут быть в вечности без тел; поэтому, по его словам, даже души мудрецов после более или менее продолжительного времени возвратятся к телам. Порфирий, напротив, говорит, что чистейшая душа, возвратившись к Отцу, никогда уже не вернется к настоящим бедствиям мира. Отсюда, если бы Платон внушил Порфирию то, что представлял себе правильно, т. е. что души даже праведников и мудрецов возвратятся к человеческим телам, а Порфирий, со своей стороны, передал бы Платону то свое верное представление, что святые души никогда не возвратятся к бедствиям тленного тела, и притом так, чтобы каждый из них высказывал не одну только какую–нибудь из этих мыслей, а оба вместе и каждый в отдельности — ту и другую, то из их воззрений, по моему мнению, выходило бы, что души и возвратятся в тела, и получат тела такие, в которых будут жить блаженно и бессмертно. Ибо, по Платону, даже и святые души войдут в человеческие тела, а по Порфирию святые души никогда не вернутся к несчастьям настоящего мира. Скажи только Порфирий вместе с Платоном, что души возвратятся в тела, а Платон с Порфирием, что души не вернутся к несчастьям, — они будут согласны, что души возвратятся в такие тела, в которых они не будут уже терпеть никаких несчастий.
Итак, тела эти будут не какие–нибудь иные, а именно такие, которые обещает Бог, имеющий сделать души вечно блаженными с их плотью. Подобную уступку, мне кажется, оба они легко могли бы нам сделать; раз ими признано, что души святых возвратятся в бессмертные тела, можно уж было и дозволить душам возвратиться в те именно тела, в которых они терпели бедствия настоящего века, в которых с благоговением и верою чтили Бога, чтобы избавиться от этих бедствий.
Блаженный Августин 1280
ГЛАВА XXVIII
Некоторые из наших, почитающие Платона за его прекраснейший способ изложения и за некоторые высказанные им правильные суждения, говорят, что он имел кое–какие подобные нашим мнения и о воскресении мертвых. Этого предмета касается, действительно, Туллий в книгах «О республике», желая, как сам утверждает, в этом случае скорее пошутить, чем сказать то, что было на самом деле. Он заставляет человека ожить и рассказать нечто совпадающее с платоновскими рассуждениями. Лабеон даже говорит, что два человека умерли в один и тот же день и встретились на некотором перекрестке, что затем они получили приказание возвратиться в свои тела и согласились жить между собою друзьями, и что в таких отношениях они оставались до тех пор, пока не умерли. Но эти авторы рассказывают нам о таком воскресении тела, какое бывало с теми, которые, как мы знаем, воскресли и возвратились к прежней жизни, но возвратились не так, чтобы уже после не подвергнуться смерти.
Нечто гораздо более удивительное рассказывает Марк Варрон в своих книгах о происхождении римского народа, считаю необходимым привести его слова. «Некие, — говорит он, — генетлиаки* писали, что у людей бывает возрождение, которое греки называют тоЛ1ууеуесшх; само это возрождение, пишут они, совершается в течение четырехсот сорока лет, так что то же самое тело и та же самая душа, которые некогда были соединены в человеке, воссоединяются снова». Варрон, или какие–то, не знаю, генетлиаки (он не передает имен тех, мнение коих приводит) говорят нам нечто такое, что хотя и ложно (ибо раз души возвратились в тела, которые они носили, они потом
* Генетлиаки (§епеШаа) — предсказатели судьбы новорожденного по звездам.
О граде Божием 1281
уже не оставят их никогда), однако устраняет и разбивает многие аргументы в пользу той невозможности, о которой пустословят наши противники. В самом деле, они думают или думали, что невозможно, чтобы тела людей, превратившиеся в воздух, в пыль, в пепел, во влагу, в тела пожравших их животных или даже людей, снова возвратились в то, чем были. Поэтому Платон и Порфирий или лучше те, которые считают себя их последователями и еще живы, если согласны с нами, что и души святых возвратятся в тела, как говорил Платон, но не возвратятся к несчастьям, как учил Порфирий, так что из их мнений вытекает как следствие мысль, которую проповедует христианская вера, именно — что души возвратятся в такие тела, в которых они могли бы вечно жить блаженно безо всякого несчастья, — пусть из Варрона возьмут еще и то, что души возвратятся в те самые тела, в которых они были прежде, и весь вопрос о вечном воскресении плоти у них получит разрешение.
ГЛАВА XXIX
Рассмотрим теперь, насколько Господь удостоит нас Своею помощью, чем будут заняты святые в своих бессмертных и духовных телах, так как плоть их будет жить не плотским, а уже духовным образом. Но, сказать по правде, я не знаю, каково будет это занятие, или лучше — покой и досуг. Я этого никогда не видел телесными чувствами. А если скажу, что видел умом, т. е. разумением, то сколько или что значит наше разумение перед лицом такого превосходства? Там царствует, как говорит апостол, «мир Божий, который превыше всякого ума» (Филип. IV, 7). Чьего же ума? Конечно, нашего, или, пожалуй, и ангельского, но только не Божьего. Итак, если святые будут жить в мире Божием, то, конечно, в таком, который превосходит всякий ум. И в самом деле, наш ум он, несом-
Блаженный Августин 1282
ненно, превосходит; а если превосходит и ум ангельский, ибо кто говорит «всякий ум», тот, очевидно, не исключает и ангелов, — в таком случае мы должны думать, что слова апостола сказаны потому, что ни мы, ни ангелы не в состоянии знать мир Божий так, как знает его Бог.
Итак, (мир этот) превосходит всякий ум, кроме, без сомнения, ума Божия. Но так как и мы, свойственным нам образом причастные этого мира, получим высший мир в себе, между собою и с Богом настолько, насколько нам свойственно высшее; то святые ангелы знают, таким образом, этот мир по самой своей природе, люди же в настоящем своем состоянии знают его гораздо меньше, каким бы размером своего ума они ни отличались. Ибо надобно иметь в виду величие того, кто говорил: «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится»; и еще: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, га–дательно, тогда же лицем к лицу» (I Кор. XIII, 9,10,12). Так видят уже святые ангелы, которые называются и нашими ангелами, потому что, избавившись от власти тьмы и с залогом Духа переселившись в царство Христово, мы начинаем уже принадлежать к тем ангелам, с которыми у нас будет общий святой и сладо–стнейший град Божий, о коем мною написано уже столько книг. Будучи Божиими, ангелы и наши так же, как Христос, будучи Божиим, в то же время и наш. Они Божий потому, что не оставили Бога, — наши потому, что начали иметь нас своими согражданами. Господь Иисус сказал: «Не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. XVIII, 10). Отсюда, как видят они, так будем видеть и мы, но мы пока еще так не видим. Поэтому–то апостол и говорит: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу». Итак, наградой за веру будет служить то видение, о котором говорит
О граде Божием 1283
апостол Иоанн: «Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (I Иоан. III, 2). А под лицом Божиим нужно разуметь обнаружение Бога, а не какой–либо член, подобный тому, какой мы имеем в своем теле и называем лицом.
Поэтому, когда спросят у меня, чем будут заняты святые в оном духовном теле, я скажу не то, что вижу, а то, чему верую, согласно со словами псалма: «Я веровал, и потому говорил» (Пс. СХУ, 1). Именно, я скажу, что святые будут видеть Бога в самом теле своем; но посредством ли тела они будут видеть Бога, подобно тому, как посредством тела мы видим теперь солнце, луну, звезды, море и землю со всем в них находящимся? Вот вопрос, на который ответить нелегко. В самом деле, дико было бы сказать, что святые тогда будут иметь такие тела, что не в состоянии будут, хотя бы и хотели, закрывать и открывать глаза. Еще более было бы дико утверждать, что там всякий, кто закроет глаза, не будет уже видеть Бога. Ведь если пророк Елисей, отсутствуя телом, видел, как слуга его Гиезий от Неемана сириянина, которого упомянутый пророк исцелил от проказы, принял дары, что по мнению непотребного раба должно было остаться тайной, так как господина его при этом не было (IV Цар. V, 8—27), то не тем ли более святые в оном духовном теле все будут видеть не только с закрытыми глазами, но даже и отсутствуя телом? Тогда наступит то совершенное, о чем говорит апостол: «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Затем, желая пояснить некоторым подобием, как может это быть, он говорит, насколько от будущей жизни отличается настоящая жизнь, притом жизнь не каких–нибудь людей, а даже одаренных особенной святостью: «Когда я был младенцем, то по–младенчески говорил, по–младенчески мыслил, по–младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь туск-
Блаженный Августин 1284
лое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (I Кор. XIII, 11–12).
Итак, если уже в настоящей жизни, где даже пророчество людей удивительных так сравнимо с тою жизнью, как младенец — с мужем, Елисей, однако, видел своего раба принимающим дары, когда сам при этом не был; то когда душу не будет отягощать тленное тело, а тело нетленное никоим образом не будет ей помехой, будут ли святые нуждаться в том, чтобы видеть телесными глазами, в которых не испытывал надобности отсутствующий Елисей, чтобы видеть своего раба? Ибо в переводе Семидесяти слова пророка к Гиезию были такие: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился на встречу тебе человек тот с колесницы своей?» (IV Цар. V, 26). А пресвитер Иероним с еврейского перевел так: «Не присутствовало ли сердце мое, когда вышел человек с колесницы навстречу тебе?» Пророк сказал, что видел сердцем своим при чудесной, конечно, помощи, и помощи, без сомнения, свыше. Но во сколько же раз полнее все будут обладать этим даром тогда, когда Бог будет все и во всем (I Кор. XV, 28)! Однако и телесные глаза будут иметь свое назначение, останутся на своих местах, и дух будет ими пользоваться через духовное тело. Ведь и пророк тот, хотя и не имел в них нужды, чтобы видеть отсутствующего, пользовался и ими, чтобы видеть находящееся налицо; впрочем, и это он мог бы видеть с закрытыми глазами духом, точно так же, как видел отсутствующее, не будучи там лично. Итак, не станем говорить, что святые в той жизни не будут, если закроют глаза, видеть Бога, Которого они будут постоянно видеть духом.
Но вот еще вопрос: будут ли они видеть Его и телесными глазами, когда те будут открыты? Если в духовном теле глаза даже и духовные будут способны видеть столько же, сколько способны видеть и такие, какими мы имеем их теперь, то, без сомнения, ими
О граде Божием 1285
нельзя будет видеть Бога. Ясно, что они будут иметь совершенно иную способность, коль скоро посредством их будет созерцаться та бесконечная природа, которая не ограничена пространством, а находится везде и вся. Ведь если мы говорим, что Бог находится на небе и на земле (ибо Он Сам говорит через пророка, что наполняет небо и землю (Иерем. XXII, 24)), то не скажем же на этом основании, что на небе Он находится одною частью, а на земле — другою, но что Он весь на небе и весь на земле, не попеременно, а разом там и здесь; что невозможно для природы телесной. Итак, сила тех глаз будет превосходнее не в том смысле, что зрение их станет острее, каково, как утверждают, зрение некоторых змей и орлов (ибо и с такою остротою зрения животные эти не могут ничего видеть, кроме тел), но в том, что они будут видеть и бестелесное. Может быть, эта–то великая сила зрения и дана была на время даже и в настоящем смертном теле глазам святого мужа Иова, когда он говорил: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. ХШ, 5, 6). Хотя, впрочем, ничто не мешает под глазами разуметь здесь глаза сердца, о–каковых глазах говорит апостол: «И просветил очи сердца вашего» (Еф. I, 18). А что именно этими глазами мы сможем видеть Бога, когда будем Его видеть, в этом не сомневается ни один христианин, с верою принимающий то, что говорит Учитель: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. V, 8). Но у нас вопрос о том, можно ли будет видеть Бога и телесными глазами.
Правда (в Евангелии) написано: «И узрит всякая плоть спасение Божие» (Лук. III, 6); но изречение это без всякого затруднения можно понимать так, как если бы было сказано: «И увидит всякий человек Христа Божия», Который был видим в теле и в теле же будет видим, когда станет судить живых и мертвых. А что Христос есть спасение Божие, об этом свидетельству-
Блаженный Августин 1286
ют многие места Писания, но с особенной ясностью слова досточтимого старца Симеона, который, взяв на руки младенца Христа, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое» (Лук. II, 29, 30). И в изречении вышеупомянутого Иова: «Во плоти моей увижу Бога» (Иов. XIX, 26; по Вульгате), — как передают эти слова списки, переведенные с еврейского, — хотя, понятно, высказано пророчество о воскресении плоти, однако не сказано: «(Увижу Бога) посредством плоти моей». Если бы было сказано таким образом, то можно было бы разуметь Христа Бога, Которого мы увидим во плоти посредством плоти; в настоящем же своем виде изречение это может быть понято и в таком смысле, как если бы вместо слов: «Во плоти моей увижу Бога», было сказано: «Буду во плоти, когда увижу Бога». И изречение апостола: «Лицем к лицу» (I Кор. XIII, 12) не вынуждает нас веровать, что Бога, Которого мы будем нескончаемо видеть духом, увидим мы телесным лицом, на котором находятся телесные глаза. Ведь если бы тут разумелось и внешнее лицо человека, тот же апостол не сказал бы: «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (II Кор. III, 18). Не иначе понимаем мы и то, что воспевается в псалме: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся» (Пс. XXXIII, 6). К Богу теперь мы приступаем верою, которая, как известно, есть дело сердца, а не тела. Но так как нам не известно, как (к Нему) приступать будет духовное тело (а об этом–то неизведанном предмете мы и говорим), то в настоящем случае, когда мы не имеем руководства и опоры в каком–либо авторитете священных Писаний, который понимать различно нельзя, по необходимости в удел нам достается то, о чем сказано в книге Премудрости, а именно: что помыслы смертных боязливы и ошибочны измышления их (Прем. IX, 14).
О граде Божием 1287
Конечно, если бы рассуждение философов, путем которого они приходят к мысли, что предмегы мысленные мы видим умственным взором, а чувственные, т. е. телесные, телесными чувствами, так что ум наш не может созерцать ни мысленных предметов посредством тела, ни телесных — без посредства тела, — если бы рассуждение это было несомненно верным, то было бы несомненно верно и то, что Бога нельзя видеть глазами даже и духовного тела, но это рассуждение опровергают и здравый смысл, и пророческий авторитет. В самом деле, кто же настолько отклонился от истины, чтобы осмелился сказать, будто Бог не знает телесного? А разве Он имеет тело, глазами которого мог бы это знать? С другой стороны, сказанное выше о пророке Елисее не достаточно ли показывает, что телесные предметы можно видеть и духом, а не только телом? Ведь когда раб тот принял дары, без сомнения, это было действием телесным, которое пророк видел, однако, духом; почему же не будет таковой и способность духовного тела, чтобы телом можно было видеть и дух? А Бог и есть Дух. Затем, каждый из нас свою собственную жизнь, которою он живет ныне в теле и которою делает бодрыми и живыми свои настоящие земные члены, знает посредством внутреннего чувства, а не посредством телесных глаз; напротив, жизнь других, хотя она и невидима, видит посредством тела. Ибо откуда бы иначе отличали мы живые тела от неживых, если бы не видели в одно и то же время и тела, и саму жизнь, которой не можем видеть иначе, как через тело? Без тела же мы не видим жизни телесными глазами.
Поэтому возможно и вполне допустимо, что мировые тела нового неба и новой земли мы будем видеть тогда так, что при посредстве этих тел, которые будем и сами носить, и встречать повсюду, куда только устремим свои взоры, будем с полнейшею ясностью видеть и Бога, всюду присутствующего и всем, даже и телесным, управляющего, а не так, как теперь мы видим невидимое Божие через рассматривание сотво-
Блаженный Августин 1288
ренного (Рим. 1,20), как бы через тусклое стекло, гада–тельно и отчасти (I Кор. XIII, 12); притом для нас имеет большее значение вера, которой мы верим, чем сам вид телесных предметов, видимых нами при посредстве телесных глаз. Но как теперь живых и обнаруживающих свою жизнь жизненными движениями людей мы по первому же на них взгляду не верою считаем живыми, а видим такими, хотя не можем видеть самой по себе их жизни, которую, без всякого сомнения, видим в них при помощи тел; так же точно при посредстве тел будем видеть и бестелесного, всем управляющего Бога повсюду, куда только обратим духовные взоры своих тел. Таким образом, если мы будем видеть Бс га телесными глазами так, что они в состоянии такого превосходства будут иметь нечто подобное уму, чем могла бы быть видима и бестелесная природа (что, впрочем, трудно и даже невозможно доказать какими бы то ни было примерами и свидетельствами божественных Писаний), или же (что понять легче) Бог 6} дет нами познаваем и созерцаем так, что видеть Его будет духом каждый из нас и в каждом из нас, один в другом, и в самом себе, и в новом небе и новой земле, и во всем, чем будет тогда тварь, во всяком теле, на которое только будут направлены изощренные глаза духовного тела. Тогда даже и помыслы наши будут открыты взаимно у одних для других. Ибо тогда исполнится то, что апостол непосредственно за словами: «Не судите никак прежде времени» прибавляет: «Пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (I Кор. IV, 5).
ГЛАВА XXX
А каково будет то блаженство, когда не будет уже никакого зла, не будет сокрыто никакое добро и занятие будет состоять в хвале Богу, Который будет все
О граде Божием 1289
во всем! Ибо не знаю, чем другим могут заниматься там, где будет нескончаемый досуг, где не будет труда, вызываемого какою–либо нуждой. Кроме того, в этом убеждает меня и святая песнь, в которой я читаю или слышу: «Блаженны живущие в доме Твоем; они непрестанно будут восхвалять Тебя» (Пс. ОСХХ1 П, 5). В этой хвале Богу будут преуспевать все члены и внутренности нетленного тела, которые теперь, как видим, заняты различными необходимыми отправлениями; потому что тогда не будет самой этой необходимости, а настанет полное, невозмутимое и безмятежное блаженство. В самом деле, тогда не будут уже скрыты все те, расположенные внутри и вне по всему составу тела, части телесной гармонии, о которых я уже говорил и которые в настоящее время скрыты, и вместе с прочими великими и удивительными предметами, какие мы там увидим, будут воспламенять к хвале такому Художнику наш разумный ум, исполняя его чувством разумной красоты. Какие будут там движения тех тел, это я не берусь определить, да и не могу этого представить. Впрочем, и движение, и спокойное состояние, а также и само лицо, какие бы там они тогда ни были, будут приличествовать тому месту, где не будет ничего, что было бы неприличным. Без сомнения, тело постоянно будет там, где захочет дух, но дух не захочет ничего такого, что могло бы быть неприличным как для духа, так и для тела.
Там будет истинная слава, где каждый будет восхваляться не по ошибке и не по заискиванию восхваляющего. Там будет истинная честь, которая не бу–д^т ни отрицаться у кого–либо достойного, ни предоставляться кому–либо недостойному; к ней не будет допущен ни один недостойный, так как там не будет дозволено быть никому, кроме достойных. Там будет истинный мир, где никто не будет терпеть никакой неприятности ни от себя самого, ни от других. Наградою добродетели будет служить там Тот, Кто
Блаженный Августин 1290
даровал добродетель и обетовал ей Самого Себя, лучше и выше Кого не может быть ничего. Ибо сказанное Им через пророка: «Буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» (Лев. XXVI, 12), что иное значит, как не следующее: Я буду Тем, откуда будет проистекать все, чего только люди будут желать честно: и жизнь, и здоровье, и питание, и богатство, и слава, и честь, и мир, и всякое вообще благо? Такой же истинный смысл имеют и слова апостола: «Будет Бог все во всем» (I Кор. XV, 28). Он будет целью наших желаний. Кого мы будем лицезреть без конца, любить без отвращения и восхвалять без утомления. Эта обязанность, это расположение сердца и это занятие будут, конечно, общими для всех, как общей будет и сама вечная жизнь.
Впрочем, кто может представить мыслью, а тем более высказать словами, какие сообразно с заслуженными наградами будут степени чести и славы? Несомненно только, что они будут. Но блаженный град тот будет видеть в себе столь великое благо, что низший не будет так завидовать высшему, как не завидуют теперь архангелам прочие ангелы; каждый тогда не захочет быть тем, чего не получил, хотя и соединен будет с получившим самыми тесными узами согласия, подобно тому, как в теле глаз не желает быть пальцем, хотя тот и другой заключаются в одном неразрывном составе тела. Таким образом, один будет иметь дар меньше, чем другой, но иметь его будет, не желая большего.
Будут тогда обладать и свободною волей потому, что грехи уже не будут в состоянии доставлять удовольствие. И свобода эта будет выше, потому что очищена будет от удовольствия грешить ради непреложного удовольствия не грешить. Первая данная человеку, когда он был сотворен правым, свободная воля могла не грешить, но могла и грешить; эта же будущая свобода будет могущественнее той, потому что будет уже в состоянии невозможности грешить.
О граде Божием 1291
И такой она будет по дару Божию, а не по возможности, заключающейся в самой ее природе. Ибо одно дело — быть Богом, и совсем другое — быть причастным Богу. Бог не может грешить по самой природе; причастный же Богу невозможность грешить получает от Бога. В этом божественном даре должны были существовать степени, так что сначала дана была такая свободная воля, при которой бы человек мог не грешить, а в будущем такая — при которой бы он уже не мог грешить; первая имела отношение к состоянию награды, а последняя — к состоянию получения награды. Но так как природа наша согрешила, потому что могла и согрешить, то, очищаясь при посредстве обильнейшей благодати, она приводится в состояние той свободы, при которой не могла бы грешить. Как первое бессмертие, которое Адам потерял вследствие греха, состояло в том, что (человек) мог не умереть, а будущее будет состоять в том, что мы тогда уже не сможем умереть; так же точно первая свобода состояла в том, что мы могли не грешить, а будущая будет состоять в том, что мы тогда поставлены будем в состояние невозможности грешить. Ибо воля к благочестию и правде не будет потеряна, как не потеряна теперь воля к блаженству. Правда, из–за греха мы не сохранили ни благочестия, ни блаженства, но потеряв блаженство, не потеряли самой воли к блаженству. По крайней мере, в самом Боге, хотя Он и не может грешить, разве по этой причине следует отрицать свободную волю? Итак, в том граде будет у всех одна и каждому присущая свободная воля, очищенная от всякого зла и исполненная всякого добра, нескончаемо наслаждающаяся утехами вечных радостей, забывшая о своей вине и своих наказаниях, но не забывшая о своем освобождении настолько, чтобы не быть благодарной своему Освободителю.
Таким образом, по отношению к теоретическому знанию будет и там существовать воспоминание про-
Блаженный Августин 1292
шлых зол; по отношению же к ощущению будет полное их забвение. Ведь и самый опытный врач, насколько говорит ему наука, знает почти все болезни тела, а как телом они ощущаются, не знает весьма многих, каких не испытал сам. Отсюда, как знание зол бывает двоякого рода: одно, по которому зло бывает известно теоретически, а другое, которое получается через перенесение зла на опыте (иначе, конечно, знаем мы пороки из наставлений мудрости, и иначе — из порочнейшей жизни человека глупого); так и забвение зол бывает двух родов. Иначе забывает о них человек образованный и ученый, и иначе — человек, перенесший и испытавший их сам; первый, когда не обращает внимания на опыт, а последний, когда освобождается от (самих) злополучий. Сообразно с этим последним видом забвения святые не будут помнить своих прошлых зол, потому что будут свободны от них настолько, что все их злополучия совершенно изгладятся из их чувств. Однако сила знания, которая в них будет велика, будет напоминать им не только об их собственном прошлом злополучии осужденных, но и о вечном злополучии осужденных. В противном случае, т е. если они не будут знать, что были злополучны, каким образом воспоют они, как говорится в псалме, милости Господа вечно (Пс. ЬХХХУШ, 2)? Утешительнее этой песни во славу благодати Христа, кровью Которого мы избавлены, для града того не будет решительно ничего. Тогда исполнятся слова «Остановитесь и познайте, что Я Бог» (Пс. ХЬУ, 11). Это будет поистине великою, не имеющей вечера субботою, которая восхваляется Господом при первых делах мира, там, где читаем «И почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. II, 2, 3). Седьмым днем будем даже и мы сами, когда будем исполнены и обновлены Его благословением и освящением. Там,
О граде Божием 1293
остановившись, увидим, что Он есть Бог, чем хотели быть мы сами, когда отпали от Него, услышав слова обольстителя: «Вы будете как боги» (Быт. III, 5), и отделились от истинного Бога, по творческой воле Которого мы должны были быть богами не через оставление Бога, а через причастие. Ибо, что сделали мы без Него, как не изнемогли во гневе Его (Пс. 1ХХХ1Х, 9)? Освободившись от этого гнева и достигнув совершенства превозмогшею гнев благодатью, мы будем свободны во веки, видя, что Он есть Бог, Которым и мы будем полны, когда Он будет все во всем. Ведь и сами наши добрые дела вменяются нам для получения нами этой субботы в том случае, когда мы смотрим на них, как на Его дела, а не как на наши. Если мы будем приписывать их себе, в таком случае они будут делами рабскими, ибо о субботе говорится: «Не делай в оный никакого дела» рабского* (Втор. V, 14). Поэтому и пророком Иезекиилем говорится — «Дал им также субботы Мои, чтоб они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящающий их» (Иезек. XX, 12). Это мы вполне узнаем тогда, когда будем вполне свободны и вполне увидим, что Он есть Бог.
Само число веков, как бы дней, если мы будем считать их по тем периодам времени, указание на которые находим в Писании, окажется субботствовани–ем, потому что число это есть семь; так, первый век, как бы первый день, простирается от Адама до потопа, второй — от потопа до Авраама; равны они, впрочем, не продолжительностью времени, а числом поколений, так как в том и в другом их по десять. Затем, от Авраама до пришествия Христова, по исчислению евангелиста Матфея, следуют три века, из которых каждый заключает в себе по четырнадцать поколений, а именно; от Авраама до Давида, от Давида до
* Прибавка «рабского» в каноническом издании отсутствует.
Блаженный Августин 1294
переселения в Вавилон и от переселения в Вавилон до рождества Христова. Всех, стало быть, пять Теперь идет шестой, которого не следует измерять никаким числом поколений ввиду того, что сказано: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. I, 7). После этого века Бог как бы почиет в седьмой день, устроив так, что в нем почиет и сам этот седьмой день, чем будем уже мы сами. О каждом из этих веков подробно рассуждать теперь было бы долго. По крайней мере, этот седьмой век будет нашей субботой, конец которой будет не вечером, а Господним, как бы вечным восьмым днем, который Христос освятил Своим воскресением, предызображая этим вечный покой не только духа, но и тела. Тогда мы освободимся и увидим, увидим и возлюбим, возлюбим и восхвалим. Вот то, чем будем мы без конца! Ибо какая иная цель наша, как не та, чтобы достигнуть царства, которое не имеет конца?
Считаем долг настоящего великого труда с помощью Божией исполненным Для кого он мал или для кого слишком велик, пусть извинят меня, а для кого достаточен, пусть не мне, а вместе со мною воссылают благодарение Богу. Аминь.