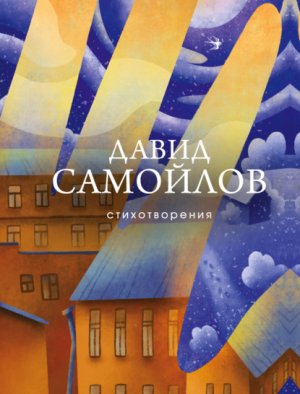
© Самойлов Д. С., наследники, 2021
© Немзер А., предисловие, состав, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
«Поэзии ничто не может помешать…»
Дабы почувствовать мир Давида Самойлова «своим», понять строящую этот мир мысль поэта, расслышать его неповторимый голос, весьма полезно вчитаться в два коротких и далеко не самых известных стихотворения. Оба были написаны в пору зрелости (в середине 1970-х), оба посвящены тому духовному феномену, который Блок назвал «назначением поэта».
Вот первое:
Здесь, как было принято в модернистском XX веке, все резко индивидуально: отчетливо «неклассический» стих, агрессивная смысловая аллитерация («ж» и «ч» – звуки редкие), аскетичность слога, оттеняющая мощную энергию двух повторяющихся «ключевых» слов, подчиненность всех элементов текста одной глубоко личной мысли-страсти. И в то же время… Превращение в речь (не свою, а всеобщую) напоминает незыблемо подтвержденное временем суждение Пушкина о стихах «Горя от ума» («…половина должна войти в пословицу»), жгущая речь ассоциируется с финалом пушкинского «Пророка», а в заглавье «огненного» четверостишья просится формула из пушкинского же «Поэта» – «священная жертва». Не случайно в этом очень личном высказывании (то ли предсмертный выкрик, то ли предсмертный шепот) личное местоимение вытеснено возвратным. «Я» может истинно реализоваться, лишь пребывая в традиции и переходя в общее будущее.
Другая (печальная, а точнее – трагическая) вариация этой темы представлена в стихотворении с ироничным (как бы литературоведческим) заголовком «Рецензия»:
По достоверному свидетельству, в 1988 году на вопрос, что могло не нравиться Ахматовой в чьих-либо стихах, Самойлов ответил: «Только одно, пожалуй, – похожесть на стихи. Похожесть на стихи – это самое ужасное в поэзии». Имелось в виду то самое отсутствие судьбы, что не выкупается какими угодно стихотворческими ухищрениями. «Похожими на стихи» зачастую бывают не только наивные эпигонские тексты, но и опусы, кричащие о своей «невиданности», эффектно демонстрирующие виртуозность сочинителя. «Традиционность» стоит «новаторства», если за словами нет судьбы поэта.
«На пороге пятидесятилетия» Самойлов писал без расчета на публикацию: «… литература – это не стихотворство, даже не поэзия (это лишь ее части и формы выражения), даже не самовитое, пусть хоть точнейшее и тончайшее, раскрытие личности, а служение, жертва и постоянное обновление соборного духа, обновление его в форме личного опыта мысли и чувствования.
Я понял, что усилия этого обновления радостны; что ничтожна застойная идея о сложившемся мире и о бесплодности единичного усилия к его обновлению. Литература и есть единичное усилие обновления. И коллективное усилие, то есть социальное действие, часто гораздо бесплодней единичного усилия литературы <…>
Я понял также – и не менее радостна эта мысль – что никогда не поздно подвергнуть свое духовное существо этому усилию, ибо бессознательно все мы, снабженные дарованием к писанию, к поэзии или к прозе, все мы всю жизнь дозреваем до литературы. Иные рано вызревают, другие поздно, а кто и совсем не дозревает; но это вызревание – внутренняя цель литературы. Счастливы дозревшие – и рано, и поздно.
Дарование – даровано. Но нельзя всю жизнь тешиться дарованным. Дарованное, но не обновленное, ветшает».
Не прошу прощения ни за обширность цитаты, ни за внесенную моими курсивами расстановку акцентов. Радость единичного усилия обновления общей духовной жизни – главное свойство поэзии Самойлова, неотделимой от его судьбы, то есть деятельного пребывания личности в истории – как доставшейся поэту эпохе, так и «большому времени».
Давид Кауфман (будущий поэт Давид Самойлов) родился в 1920 году. По слову самого поэта, «год рождения не выбирают», однако в судьбе всякого творческого (мыслящего) человека время его прихода в мир играет огромную роль. В нашем случае – двойную.
Во-первых, мальчик из жительствующей в Москве семьи ассимилированных евреев-интеллигентов принадлежал первому постреволюционному поколению. Духовный строй этой генерации (точнее – ее «городской» части) удивительно точно запечатлен и с горькой иронией отрефлектирован в ранней (писавшейся в шарашке) пропитанной автобиографизмом неоконченной повести Александра Солженицына «Люби революцию». (Солженицын старше Самойлова на полтора года. Этот минимальный возрастной разрыв, как и различия в социальном и национальном происхождении писателей, здесь значения не имеет).
«Итак, жизнь была прекрасна. Прежде всего потому, что она была подвластна Нержину (автобиографическому герою Солженицына. – А.Н.), и он мог делать из нее все, что хотел. Еще – потому, что необъятным и упивчиво интересным раскрывался мир в развитии и многокрасочности его истории и человеческой мысли. Очень удачно было еще то, что жил Нержин в лучшей из стран – стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости. Это разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетенных, ибо таковых не было. Очень удачная была страна для рождения в ней пытливого человека!
У этой страны последнее время появилось второе подставное название – “Россия”, – даже чем-то и приятное слово, оттого что раньше всегда было запрещено и проклято, а теперь все чаще стало появляться на страницах газет. Слово это чем-то льстило, что-то напоминало, но не рождало своего законченного строя чувств и даже раздражало, когда им, кипарисно-ладанным, соломенно-березовым, пытались заставить молодое свежее слово “Революция”, дымившееся горячей кровью.
Все поколение их родилось для того, чтобы пронести Революцию с шестой части Земли на всю Землю».
Все сказанное Солженицыным о Нержине (то есть о себе предвоенных лет) безоговорочно применимо к Давиду Кауфману, к друзьям его отрочества и юности, к союзу молодых ярких поэтов, в который вместе с нашим героем входили погибшие на Великой войне Михаил Кульчицкий и Павел Коган, вернувшиеся в мир после победы Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий и Михаил Львовский (последний от серьезной поэзии отошел). С этими мыслями, чувствами, надеждами они «в сорок первом шли в солдаты,/ И в гуманисты в сорок пятом» («Перебирая наши даты…»). Их судьбы, взгляды, творческие свершения и реализуемые в жизни поведенческие принципы позднее сильно рознились (как это происходит в любом поколении), но, по слову Самойлова, «… сияет вдалеке/ Свежий свет того июня». У Самойлова в этом июньском свете захваченность идеализированной революцией (мечтой о всемирном торжестве справедливости и о счастье каждого) слита с любовью к России, чувство личной ответственности – с осознанием себя неотменимой частью народа, а верность долгу – с истинной радостью.
Мало кто из русских писателей XX века сказал об «ужасах войны», о ее неизбежной сущностной бесчеловечности с той толстовской безоговорочностью, что явлена в ряде стихов Самойлова (особенно – в «Поэте и гражданине») и военных главах его мемуарной книги «Памятные записки». Одна из них вершится жестким выводом: «… наша военная литература стоит на точке зрения иронической солдатской формулы “война все спишет”. Нет, не спишет! Не списала». Самойлов здесь повторяет запись, которую он внес в дневник двадцатитрехлетним солдатом: «Война все спишет. Обманул – спишет, украл – спишет.
Врете! Как был ты сукин сын, так и останешься. Ничего она не спишет». И касается это не только личных солдатских прегрешений (в том числе куда более страшных, чем названные в дневнике), но и победоносной войны как грандиозного исторического события, якобы оправдывающего все, что случилось в России и с Россией в XX столетии – эта историческая концепция, последовательно проводившаяся, в частности, другом Самойлова Борисом Слуцким, твердо оспорена стихотворением «Если вычеркнуть войну…»:
Война не оправдание воевавших, в том числе самойловского поколения, «споловиненного» войной, но и забыть ее «нежданную свободу», вычеркнуть или проклясть те «четыре года», когда честно, не щадя себя, участвовал в действительно общем – всемирном – деле, Самойлов не может и не хочет. Потому на всех этапах его пути жестокая правда войны сопрягается с тогдашним ощущением радости и свободы. Так в «Семене Андреиче» (1946); так в «Сороковых» (1961; едва ли не самое известное стихотворение Самойлова); так в «Пью водку под хрустящую капустку…» (1966), где страшное удушье современности вызывает горько-ироничную несбыточную мечту о единственно возможном «спасении» – «А хорошо бы снова на войну»; так в «Полночь под Иван-Купала…» (1973); так в «Звезде» и «Часовом» (1978), составляющих скрытый диптих (с сильными «современными» обертонами); так в значимо датированной днем победы «Вале-Валентине» и написанном в том же 1986 году «К передовой», где у прикорнувшего счастливым сном на пути в часть солдата («любимца всех богов») «есть долг, но нет долгов»…
Больше того. Взгляды Самойлова на революцию, социализм, «конкретику» советской истории претерпели огромные (и не просто давшиеся) изменения (до поры отражавшиеся преимущественно в потаенных стихах). Это, однако, не побудило поэта на отказ от того, что он назвал «нашей юношеской идеологией»: «… дело не в том, что идеология была ложной и бессодержательной для идеологов, – она была реальной и содержательной для нас <…> Важны не те, для кого идеи были ложью, а те, для кого они были правдой». Что не страховало от подчиненности злу, приводящему и душевно чистых людей к преступлениям (здесь полезно вспомнить рассказ Солженицына «Случай на станции Кочетовка»), но могло споспешествовать их внутреннему освобождению и духовному росту. Причастность истории подразумевает ответственность за нее, различение добра и зла в себе позволяет увидеть «текущие события» не в одном лишь злободневном контексте, но в рамках большой истории. Потому в 1961-м Самойлов мог сказать: «Не по крови и по гною/ Я судил о нашей эпохе» (хотя о крови и гное знал немало), а в 1981-м (зная еще больше!) – «… долго будет слышен гром / И гул в котором мы живем».
Годом позже – в пору, позднее названную «застоем», когда многим казалось, что всякое будущее отменено в принципе, – он написал «Оду», равно полнящуюся любовью к отечеству, надеждой на выявление его истинной сути и требовательностью к тем, кто отвечает за страну не в меньшей мере, чем землепашцы, строители, врачи, педагоги, чиновники, экономисты и – тем паче – политики:
В том-то и дело, что «России нужны слова о России». И здесь нам необходимо вернуться в 1920 год, дабы уяснить второй смысл даты рождения поэта для его судьбы. Дело в том, что на рубеже 1910-х – 20-х годов в России существовала великая поэзия. Великая – как никогда прежде и позже. Еще не умер от отсутствия воздуха Блок, не был убит Гумилев, не отправились на чужбину Ходасевич и Цветаева. Из тех поэтов XX столетия, кого мы почитаем великими, не дебютировал к 1920-му лишь Заболоцкий. Не столь уж важно, что, по семейному преданию, младенца Дезика Кауфмана однажды держал на руках Брюсов, что в 1940 году юный поэт мельком видел Цветаеву, что в конце 1950-х Самойлов общался с Заболоцким (не много) и Пастернаком (по сцеплению разных причин – неудачно), что несколько лет, по его сдержанной формулировке, он «пользовался… доброжелательством и доверием» Ахматовой. Обстоятельства могли сложиться и иначе. Важно другое: с предвоенных лет и до самой смерти Самойлов ощущал себя младшим современником «коренных» поэтов – вне зависимости от того, покинули они дольний мир в пору его младенчества (Хлебников, Есенин), детства (Маяковский), юности (Мандельштам) или зрелости.
В 1967 году (по всей видимости, к первой годовщине ухода Ахматовой) Самойлов написал пронзительное восьмистишье о наступившей пустоте – «Вот и все. Смежили очи гении…», – где «стали слышны наши голоса». Продукты чествуемых и жалуемых авторов (безусловно «похожие на стихи») уподоблены здесь предсмертному творенью Ленского («говорим и вяло, и темно»). Но у этой, казалось бы, убийственной эпиграммы есть оборотная сторона: нелепый, наивный, пробивающийся чужими «готовыми» словами и заемными чувствованиями пушкинский персонаж, несмотря на все эти удручающие свойства, все равно был для своего создателя поэтом. Легко распознаваемая реминисценция снимает словно бы абсолютную безнадежность «новой» ситуации. Кто из истинных русских поэтов – от Тютчева и Лермонтова до «последних гениев» – не чувствовал себя в отсутствие Пушкина и сиротой, и самозванцем? С другой же стороны, само существование великой послепушкинской поэзии властно требует ее продолжения, даруя шанс если не всем «ленским», то кому-то из них. Если не прямо сейчас, то в будущем.
Об этом Самойлов сказал десятью годами ранее в стихотворении под названием, в котором равно слышны укор и апология, – «Поэты»:
Свою веру в будущую великую поэзию Самойлов ясно выразил не раз и не два (см., например: «Таланты», 1961; «Когда сумбур полународа…», 1981; «Когда сумеем угадать…», 1982). Понятно, что чаяние это неотрывно от чувства принадлежности той общности, которую поэт счастливо назвал «поздней пушкинской плеядой», скрыто противопоставив это большое единство всем прочим обособляющим себя «объединениям» (направлениям, кружкам, «обоймам», сконструированным критиками или историками литературы и т. п.), сообществам всегда мелким и, в конечном счете, мнимым. (Потому в стихотворении о Фете гений этот – «последний», как всякий гений – «свободен от всех плеяд» – «Кончался август…», 1970.) Но ни великое прошлое, ни чаемое грандиозное будущее вовсе не снимают вопроса о настоящем. О том настоящем, где плечи поэтов непрочны, а речи смутны, где правят бал «козни, розни и надсада», заставляя призадуматься: а длится ли еще в России Пушкин? или метели уже задули пастернаковскую свечу? «Пусть нас увидят без возни…» (1978) – стихотворение куда более «проблемное», чем может показаться на первый взгляд. Если поэзия становится производством чего-то, «похожего на стихи», то не только будущее ее попадает под удар, но и создания гениев (почитавшиеся вечными!) превращаются всего лишь в «прошлое». Более или менее любопытное. Пригодное лишь «…производить глубокое…» на равнодушных посетителей «домов-музеев» (см. одноименное стихотворение, 1961) да плодить самодовольных «румяных критиков», поощряющих новейшую и/или традиционную пошлость («Легкая сатира», 1968–1969).
И никакие «коллективные усилия», никакое суммирование «небольших индивидуальных достижений» серого (тепленького) тумана не развеют. Хорошо понимая, как и почему возникают такие грезы, пожалуй, и сочувствуя собратьям по цеху, надеющимся, что каждому зачтется пусть мизерный, но вклад в «общее дело», Самойлов опрокинул эти мечтания, предложив их «реализацию» в ироничной перелицовке оды Горация «К Мельпомене» (и ее великих русских версий – державинского и пушкинского «Памятников») – стихотворении «Exegi» (1986). Наделив «суммарного» гения всеми идеальными свойствами и статями, восхитившись небывалым поэтом, какого нет (и быть не может), заявив о его запредельном величии и всеобщем признании, Самойлов итожит:
Нелеп. Потому как даже этот сомнительный памятник сотворен не «бригадно» и не «соборне», но личным усилием: «Я воздвиг бы…». (Самойлов не выделил личного местоимения курсивом, надеясь на читательскую догадливость.) Без меня ничего бы не вышло. Как не удается довести простенькую сказку до нормального (известного и желанного) конца без Мышки, у которой бывают мыслишки и рифмишки. «Но стихи ее в свет выпускаются редко./ Оттого и не с места проклятая репка» («Об антологиях», 1986). Как не могут заменить садящегося писать стихи гения приступившие в тот же час к тому же увлекательному (счастливому, проклятому, полезному, бессмысленному…) занятию «сто талантов», «тыща профессионалов» и далее по списку вплоть до «десяти миллионов влюбленных юнцов»:
Конечно, стихотворение «В этот час гений садится писать стихи…» (1981) можно счесть шуточным. Как и «Exegi» и «Об антологиях». Как и «Дом-музей». Или «Свободный стих» (1973), где предсказующе пересказывается написанная в «третьем тысячелетье» (между прочим, ставшем нашей реальностью!) повесть «о позднем Предхиросимье». Там Пушкин в «серебристом автомобиле» прибывает на аудиенцию к Петру Первому, который намеревается дать «направление образу Пугачева». Смеется Самойлов над сочинителем, позволившим себе «небольшие сдвиги во времени»? А ведь нет, хотя сверкающий анахронизмами и дразнящий изящными реминисценциями (не только пушкинскими, но и поэзии XX века) «Свободный стих» не может читаться без улыбки. Тем более, что в предъявленном Самойловым фрагменте фантастической повести все заканчивается хорошо. Государь хоть и погрозит Пушкину, но явит ему благоволение (окажется лучше своих потомков, соответствуя фантазии Цветаевой, выраженной в «Петре и Пушкине»). Седой арап Ганнибал по-пушкински улыбнется вслед уходящему шаркуну-правнуку, «показывая крепкие зубы/ Цвета слоновой кости». Только вот придется Пушкину чуть кивнуть дежурному офицеру – Дантесу. А значит…
Что значат перепутанные декорации, если трагедия остается трагедией, красота мира – красотой, судьба – судьбой? Мы ведь знаем, что ждет не названного прямо Младенца. Знаем и о грядущей крестной муке, и о Его воскресении, победе над смертью. (Тем же 1973 годом, что и «Свободный стих», датируются «В августе, когда заголубели…», «бытовая» и обобщенная вариация вечной темы «мать и дитя», и сложно соотнесенный с многочисленными художественными прочтениями Евангелия «Отрывок».) Также мы знаем, что ждет Пушкина – в земном бытии и дальше. «Свободный стих» – русский эквивалент (калька) французского vers libre (верлибр), так именуется размер, в котором отменены какие-либо ритмические правила. Концовка игрового, экспериментального, нарочито современного текста Самойлова – чистая силлаботоника, слитые воедино две строки четырехстопного хорея. Все известно. Все глубоко печально. И божественно светло.
Как в «Болдинской осени» (1961):
Как в «Пестеле, поэте и Анне» (1965), где Пушкин обретает, казалось бы, абсолютно невозможный выход из железного политического треугольника (подчинение тирании – заговор умников – мужицкий бунт):
Так то Пушкин! При чем здесь один из поздних «послушников ясновидца», сам признававшийся в суетности и подслеповатости? Очень даже «при чем»!
Во-первых, Самойлов прекрасно знал о том, сколь трагически напряженной была жизнь Пушкина – и не только в последние годы, закончившиеся Черной речкой. Знал, что болдинское счастье случилось во время чумы. Что аффектированное забвение о горечи и тяжести пушкинской ссылки, упоенное любование Михайловским (действительно, прекрасным!) – ложь, способная утешить лишь тех, кто ею хочет утешиться («Святогорский монастырь», 1968). Что в конце концов и в Кишиневе Пушкину жилось не так уж весело, а никакой спасительной Анны не было вовсе. Разговор с «русским Брутом» (потенциальным Наполеоном) зафиксирован в пушкинском дневнике – поющую Анну «придумал» Самойлов. И не только придумал, но заставил нас поверить в ее существование и обретенное Пушкиным счастье, принять (на миг, но и навсегда) альтернативную версию судьбы гения.
Во-вторых, для того, чтобы увидеть и явить миру Пушкина таким, должно было обладать пушкинскими свойствами. Не всякий родившийся в 1920-м ощущает свою принадлежность истории (какие бы испытания ему ни выпали). Не всякий читатель Пушкина (включая самых тонких и ответственных) способен передать пушкинское отношение к истории, к поэзии, к жизни и смерти. Вовсе не случайно в заглавье стихотворения Самойлов выносит фамилию заговорщика и значащее имя прекрасной певуньи (Анна – благодать), а главного героя называет поэтом. Как безымянного – чуть смешного, коли не жалкого – былого хозяина дома, ставшего «музеем». Не об одном А. С. Пушкине (1799–1837) ведется речь в «апрельском» стихотворении, не ему одному «жизнь была желанна».
В-третьих – что связано с «во-первых» и «во-вторых», но особенно важно, Самойлов знает о недосягаемости Пушкина и невозможности свести его к той или иной «ипостаси». А следовательно, невозможности получить от Пушкина ответ на те вечные «последние» вопросы, что равно грозно звучат «независимо от времен».
Слова эти произносит не обретающийся в жестоком двадцатом веке поэт, вроде бы уверившийся, что «познал свободу» (разумеется, «тайную», пушкинскую), но его «ночной гость» – Пушкин. Впрочем, и в этом – одном из самых сложных и многоплановых – стихотворении Самойлова (1972) совсем прямо присутствующий лишь в эпиграфе.
«Не ведаю», исполнив свое назначение, совершив больше, чем кто-либо из русских поэтов, означает, что «не ведал» и в своем земном бытии. Не только потому, что даже «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Из Пиндемонти», «Когда за городом задумчив я брожу…» не смогли уберечь поэта, но и потому, что вся совокупность пушкинских свершений не может избавить нас – как обычных читателей, так и наследников (включая самых легитимных) – от необходимости принимать свои решения. Помочь (укрепить наш дух) Пушкин может, прожить за нас жизнь – нет.
«Снова» не означает «ровно так же». Сохраняется глубинная суть вечных коллизий, нередко нашедших воплощение в поэтическом мифе (в данном случае это пушкинская маленькая трагедия), но огласовки знакомого сюжета всякий раз меняются. Потому в стихотворении, начинающемся отсылкой к пушкинской игре со стиховой банальностью («Читатель ждет уж рифмы розы…»), утверждается: «Повторов нет! Неповторимы/ Ни мы, ни ты, ни я, ни он» («Мороз», 1978–1979).
Сколько поэтов сетовало на необходимость предъявлять сокровенные строки равнодушной публике? В России о том сокрушался еще князь Антиох Кантемир, первый наш светский стихотворец:
Знает поэт, что ждет его вирши совсем иная участь – насмешки, укоры, отторжение, позорная гибель: «… и наконец дойдет/ (Буде пророчества дух служит мне хоть мало) / Вам рок обвертеть собой иль икру, иль сало». Знает, печалится, но отпускает стихи во враждебный мир. Как, завершив свои споры с разумными собеседниками отказом от поэзии, Лермонтов публикует «Журналиста, читателя и писателя», а Некрасов – «Поэта и гражданина». Так (но и иначе!) у Самойлова:
Сколько поэтов приходило в отчаянье от осознания своей несостоятельности или подступающей немоты? Сколько пыталось навсегда оставить привычку цеплять строку к строке? Сколько корило себя за опрометчивый выбор, по слову Пастернака, «шуток с этой подоплекой»? Если вдуматься, этих страшных искушений не избежал никто. О чем Самойлов, разумеется, знал не хуже нас. И сокрушенно «вторил» великим предшественникам, являя миру свои симптомы «высокой болезни».
Вообще-то совсем не в «сюжетах» (к которым Ахматова была привержена не меньше Самойлова) тут дело.
Или:
Страшно? Но страшнее отсутствия слов их неудержимый наплыв, превращающий поэта в какой-то невесть кем заведенный механизм, продукция которого встречает вполне благожелательный прием толпы, на сей раз оказавшейся охочей до «мастерских» сочинений.
Написано в 1970-м. Как раз накануне несомненного творческого подъема и обретения читательского признания. Написано той же рукой, что «Дай выстрадать стихотворенье…» (1967) и «Мне выпало счастье быть русским поэтом…» (1981). Никакого парадокса здесь нет. Как нет и подчиненности ходу времени: дескать, смолоду был «оптимистом», а состарившись взглянул на свои дело и долю со скепсисом, иногда переходящим в отчаянье. Читая стихи Самойлова в хронологическом порядке, мы видим непрестанные и словно бы не мотивированные эмоциональные колебания, чересполосицу надежд и разочарований, утверждений незыблемых ценностей и горькой самоиронии, уверенности в себе и скорбного покаяния, счастливого приятия необъятного и многоцветного мира и ужаса от неизбежной конечности бытия. Эта пульсация противоборствующих смыслов организует весь космос поэзии Самойлова (его проживание любви и не-любви, его странничество и домоседство, его тяготение ко вселенскости при обостренном чувстве к отечеству, его искрометное веселье и глубокую грусть), а не только раздумья о поэзии и своем в поэзии бытии. Просто Самойлов по самой сути своей был поэтом, а потому самое личное существовало для него (проговаривалось им) при свете поэзии. Без которой, по Самойлову, мир обречен на обесцвечивание, обессмысливание, тягучее угасание, медленно, но верно ведущее к торжеству небытия.
Поэт приходит в мир, дабы снова и снова открывать его гармонию (увы, не отменяющую трагизма), его красоту и величие (увы, не спасающие от земного зла и конечности всего сущего). Открывать же божественную природу мира и человека способен лишь тот, кто их видит. Видит подробности, детали, конкретику обстоятельств. Видит неповторимое в калейдоскопе повторяемостей.
Отсюда тяготение Самойлова к повествованию, «эпосу», историческим и легендарным (да и вполне современным) сюжетам, которое кто-то снисходительно «прощал» поэту, а кто-то злорадно выставлял жирный минус: мол, не дается Самойлову «лирика». На самом деле лирика еще как «давалась», но не менее важно другое. Для того чтобы, отказавшись от «повествования» и «сюжетов», явить себя большим поэтом, надо быть Фетом. (Даже опыт Мандельштама к «чистой лирике» никак не сводится!) Фетом с его невероятной статью, а не тонким (изысканным, благородным и т. п.) «мастером», специализирующимся на изготовлении пейзажей и натюрмортов с в меру метафизической подсветкой!
Пленительных пейзажей у Самойлова великое множество (натюрмортов меньше), только существуют они не сами по себе, а в пространстве культуры и истории и в присутствии вечности. Как и стихи «сюжетные».
О чем «ивановский» цикл конца 1940-х – начала 1950-х? О тогдашней современности – бесчеловечном и колдовски заморачивающем сталинском деспотизме, загадка которого мучает поэта? О природе тирании как таковой, в итоге приводящей к бунту и крушащей устои смуте? («Смерть Ивана» написана при жизни его двадцативечного двойника.) Да. Но и об Иване Грозном (в диалоге с тем, что было сказано о деспоте Карамзиным, Пушкиным, А. К. Толстым). О чем «Конец Пугачева» (1965)? О низвержении Хрущева (которого Самойлов однажды назвал «Пугачевым из Центрального Комитета»)? О всегдашнем самозванстве власти, рожденной диким бунтом? О тщете всех идущих сверху «добрых начинаний», раз за разом заставляющей повторять сакраментальное «Снова наша не взяла»? Да. Но и о злосчастном царе Емельке (с оглядкой на Пушкина «Истории Пугачева», «Капитанской дочки» и… «Бесов»). О чем «Смерть императора Максимилиана» (1976)? Об ожидаемом всей страной уходе дряхлеющего генсека и подковерной борьбе кремлевских стариков? О тяжести этой самой власти, ее невыносимости для любого государя, счастье избавления от мучительного бремени? Да. Но и добром маленьком старике, которого народное предание одарило чистой душой, а потому и светлым освобождением из земной юдоли. (Немногим ранее этот смысловой комплекс был представлен в поэме «Струфиан», где Самойлов дал свою версию легенды об уходе Александра I.). Сегодняшнее, давно прошедшее (или давно «придуманное»), вечное непрестанно перемигиваются, подсвечивают друг друга (то ласково, то иронично, то гневно), рокируются, рождая новые и новые смыслы вроде бы давно и всем известного.
И так всегда. «Солдат и Марта» (1973) не столько рассказ о злосчастье будущей императрицы Екатерины I и драгуна Рааба, сколько вечная история о том, как война беспощадно и безвозвратно крушит юношескую любовь. (Эта тема отчетливо звучит в зримо «автобиографической» лирике; см., например: «Мальчики уходят на войну…», 1961; «Возвращение», 1974; «Средь шумного бала», 1978. Возникающая в последнем случае явная отсылка к хрестоматийно известному стихотворению А. К. Толстого позволяет понять, почему в финале «Солдата и Марты» звучит название поэмы Маяковского об обреченности любви, «имя» которой невозможно произнести – «Про это».) «Полночь под Иван-Купала…» не столько солдатская новелла о дорожном приключении (по свидетельству автора, выдуманном), сколько апология волшебной летней (по Шекспиру – «срединнолетней») ночи, претворяющей сон в явь, дурнушку – в красавицу, случайное и исключающее «продолжение» плотское соединение – в торжество любви, хоть на миг, но отменяющее войну.
Так в «Балканских песнях» (1970–1973), так в стилизованно-игровых балладах (1986), так в простой истории о женщине из Подмосковья («Маша», 1986), так во всех поэмах (увы, не вместившихся в эту книгу). «Повествования» Самойлова всегда насквозь лиричны.
А самая интимная лирика таит «сюжеты» и в то же время решительно их превышает, несет обобщающие смыслы. Как истинной лирике и положено. Так, читая подряд стихотворения конца 1964 – начала 1965 гг. (от «Я переполненный тобой…» до «Выздоровления»), мы угадываем конкретную «историю», кульминация которой случилась в Таллине. Но в «вершинном» стихотворении этого неоформленного цикла – «Названьях зим» – место действия введено прикровенно («… и падал снег,/ Как теплый пух зимы туманной» – не уверен, что без дополнительной информации всякий читатель распознает здесь балтийское новогодье), а избранница поэта, как нам кажется, одарившая своим именем прекраснейшую из зим, в «реальной жизни» не звалась Анной. Но и самойловская тайнопись, и смена декораций (от балтийских к подмосковным), и отголосок батюшковского «Выздоровления» («Я от любви теперь увяну») в концовке соименной элегии Самойлова («Непосилен груз выздоровленья,/ Непосильно счастье бытия»), и изощренная звукопись «Названий зим», и череда коротких предложений (фиксаций «простейших фактов») в «Не надо спать, не надо глаз смыкать…» «работают» на одно – апологию безграничной любви. Не только той, которой судьба одарила встретившихся в «тайном обиталище», – любви вообще. И потому человек, застигнутый непосильным счастьем, может повторять «А эту зиму звали Анна,/ Она была прекрасней всех» так же, как «И сердце вновь горит и любит оттого,/ Что не любить оно не может», или «И кто-то шепчет мне, что после этой встречи/ Мы вновь увидимся, как старые друзья», или «А жизни нет конца и цели нет иной,/ Как только веровать в рыдающие звуки,/ Тебя любить, обнять и плакать над тобой», или «Красавица моя, вся стать,/ Вся суть твоя мне по сердцу…»… Ибо любовь, что «движет солнце и светила» одна – в каком бы веке и при какой бы погоде ни являла она свою мощь. И ни внешние препоны, ни «быт», ни ревность, ни слабость, ни измены уничтожить ее не могут.
Эта вера в любовь для Самойлова значит не меньше, чем его неизменное чувство своей принадлежности истории, России, поэзии. Хроника клокотания этих больших и внутренне конфликтных чувств наглядно представлена цепью стихов – от «Плотников» (где стиховая виртуозность не менее зрима, чем мальчишество сочинителя) до мудрых, но внутренне раскаленных миниатюр конца 1980-х. «Внешняя биография» поэта после его возвращения с войны не изобилует эффектными сюжетами, но главные ее вехи вполне распознаваемы при чтении стихов в хронологической последовательности. Не менее явственно присутствует в этом своде история России подсоветского периода. В том числе – канунных поздних восьмидесятых, когда в душе поэта предчувствие катастрофы боролось с надеждой на светлое будущее.
Непримиримые размышления Самойлова в равной мере относились к судьбам России и поэзии. Итогом его историософских споров с самим собой, волей судеб, стало стихотворение «Фрегат летит на риф…», написанное в октябре 1989 года, то есть примерно за четыре месяца до смерти поэта. Этим стихотворением завершается книга, которую вы читаете. Делу, которому Самойлов отдал жизнь, посвящено одно из самых мрачных его стихотворений. Мрачных – во всех смыслах: отказ от ставшей «не интересной» поэзии сравнивается здесь с исчезновением луны. Незадолго до смерти Пушкин предрек свою участь в веках: «И славен буду я, доколь в подлунном мире/ Жив будет хоть один пиит». Мир стал безлунным – лишился Пушкина. Комментарии излишни. Стихотворение «Поэзия не интересна…» занимает в нашей книге предпоследнюю позицию. Пусть же рассказ о великом русском поэте завершится другим его стихотворением – написанном в том же предсмертном году.
Поэзии ничто не может помешать,
Да и помочь ничто не может –
Ни обозленная печать,
Ни преклоненье множеств.
Ни пуля в лоб, ни нож из-за угла,
Ни подношенья, ни букеты.
О чем же вы тревожитесь, поэты?
Андрей Немзер
Плотники…
Плотники о плаху притупили топоры.
Им не вешать, им не плакать – сколотили наскоро.
Сшибли кружки с горьким пивом горожане, школяры.
Толки шли в трактире «Перстень короля Гренадского».
Краснорожие солдаты обнимались с девками,
Хохотали над ужимками бродяги-горбуна,
Городские стражи строже потрясали древками,
Чаще чокались, желая мяса и вина.
Облака и башни были выпуклы и грубы.
Будет чем повеселиться палачу и виселице!
Геральдические львы над воротами дули в трубы.
«Три часа осталось жить – экая бессмыслица!»
Он был смел или беспечен: «И в аду не только черти!
На земле пожили – что же! – попадем на небеса!
Уходи, монах, пожалуйста, не говори о смерти,
Если – экая бессмыслица! – осталось три часа!»
Плотники о плаху притупили топоры.
На ярмарочной площади крикнули глашатаи.
Потянулися солдаты, горожане, школяры,
Женщины, подростки и торговцы бородатые.
Дернули колокола. Приказали расступиться.
Голова тяжелая висела, как свинчатка.
Шел палач, закрытый маской, – чтоб не устыдиться,
Чтобы не испачкаться – в кожаных перчатках.
Посмотрите, молодцы! Поглядите, голубицы!
(Коло-тили, коло-тили в телеса колоколов.)
Душегуб голубоглазый, безбородый – и убийца,
Убегавший из-под стражи, сторожей переколов.
Он был смел или беспечен. Поглядел лишь на небо.
И не слышал, что монах ему твердил об ерунде.
«До свиданья, други!
Может быть, и встретимся когда-нибудь:
Будем жариться у черта на одной сковороде!»
Май 1938
Я верю в нас. И это свято.
Мне этот стяг незаменим.
Мне все равно, какую дату
Подарят нам для именин.
Весной вздуваются овраги,
Бурлят и корчатся снега.
В исписанном листе бумаги
Ты видишь первого врага.
Ты шаришь ошалевшим взором,
Кладешь пространство на ладонь.
Пруды сливаются в озера,
Висят скворешни над водой,
Висят деревья вверх ногами,
Кричат в деревне петухи.
Родится истина нагая
И начинаются стихи.
Вот так же мы. И это свято.
Измучив рифмами мечты,
С войны пришедшие солдаты
Прорвем плотины немоты.
5 января 1946
Ты не торопи меня, не трогай.
Пусть перегорит, переболит.
Я пойду своей простой дорогой
Только так, как сердце повелит.
Только так. До той предельной грани,
Где безверьем не томит молва,