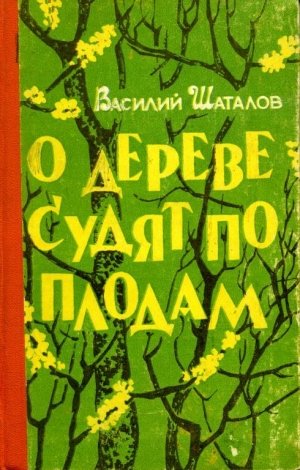
ПОВЕСТЬ О БАШЛЫКЕ
«О дереве судят по плодам».
Туркменская пословица.
Туркменское село Евшан-Сары я полюбил давно, еще до того, как познакомился с ним.
Вначале нравилось только название. Мне всегда казалось, что в нем, в этом легком названии, таится что-то приманчивое и загадочное. Но что именно? — я, как ни ломал голову, разгадать не мог.
«А не связано ли оно с легендой?» — подумал я однажды. Такое предположение мне особенно было по душе. Дело в том, что я очень люблю легенды, в которых почти всегда есть отзвук какой-нибудь старой драмы или далекого, подернутого дымкой времени, грозного исторического события. Может, поэтому и чудятся мне эти самые легенды чуть ли не в каждом названии города, села, старинной крепости, заброшенного в пустыне колодца.
Вышло так, что я долго раздумывал над тем, что же скрывается за названием села? Даже спрашивал у знакомых. Но никто так толком и не ответил. Разумеется, можно было бы поехать в село и все узнать на месте. Но поездка ради одного лишь названия казалась мне неоправданно легковесной.
Прошло еще немало времени.
И вот недавно, совершенно случайно, я познакомился с молодым поэтом, уроженцем Евшан-Сары. Первый вопрос, который я задал ему, касался названия села.
— Ну, как же мне не знать, что значит Евшан-Сары, — со сдержанной обидой сказал поэт. — У нас ребенка спроси, и тот знает.
Я рад был этому ответу и подумал о том, что вот, теперь-то наверняка услышу настоящую восточную легенду об удивительной истории села. Увы! Поэт не оправдал моих надежд.
— Старики утверждают, — начал он, — что наше село появилось много веков назад. Село делил арык. На одной стороне жил могучий и веселый богатырь. Евшан, на другой — вечно понурый и худой, как кочерга, дайханин Сары. Разница между ними была настолько велика, что даже жители соседних сел знали их в лицо. Вот эти-то двое и дали название нашему аулу!
Поэт рассказывал скучные вещи, но по голосу и блеску глаз я видел, что село свое он любит и гордится им.
— Ну, что бы еще рассказать? — раздумывал он вслух. Помолчал малость. Потом решительно и весело сказал: — Я не ошибусь, пожалуй, если скажу, что это — одно из самых древних и знаменитых сел в долине Копетдага! Сошлюсь на летопись средних веков: даже она о нем упоминает. Можно предположить, что существовало оно и в эпоху парфян, и задолго до них.
Кстати, о Нисе — столице парфян. Занимала она две расположенные рядом крепости на двух крутых останцах, у самой подошвы горного хребта. От нас до Нисы — рукой подать. Если в погожий день смотреть на юг, туда где горы, то можно увидеть и темные холмы, и крепостные стены парфянской столицы. На этих холмах давно уже ведутся раскопки. Надо сказать, что археологам крупно повезло. Они нашли, например, остатки античных зданий, ритуальные кубки из слоновых бивней — ритоны, мраморные статуи, фрагменты керамических изделий. Но самой неожиданной находкой был огромный архив, хранившийся в царских кладовых. Он представлял собою груды черепков битой посуды, в основном кувшинов. На каждом таком черепке был короткий, на непонятном языке текст![1] Но ученые прочли их, и письмена, молчавшие тысячи лет, заговорили!.. Это были деловые расписки о принятом вине из расположенных поблизости селений. Обмакнув тростниковую ручку в чернильницу с тушью, царский приемщик ставил на черепке свое имя и название виноградника. Таким образом стало известно несколько новых парфянских имен: Михредат, Вахуман, Роштан. Не кажется ли вам, что имя Евшан, уже знакомое нам, весьма напоминает имена парфянских «счетоводов». Были ли данниками парфянских царей и наши предки? Сказать трудно. Но есть основание предполагать, что — были. И так же, как соседи, везли вино ко двору Аршакидов[2]. Плохого вина, как известно, цари не пьют. Значит, уже и тогда славилось оно. Да и теперь его слава не меньше! Лучшее вино Туркмении, получившее мировое признание и множества золотых медалей на международных выставках, носит имя нашего села. А все дело в винограде. Какой виноград — такое и вино. Уверен, что винограда, который был бы равен нашему по сладости и обладал бы таким же изумительным вкусом, на свете нет. Никогда так высоко не взлетала и слава нашего колхоза, созданного полвека назад. О том, как из самого захудалого, нищего хозяйства он превратился в одно из самых передовых и знаменитых и о том, чьи заслуги в этом особенно велики, можно написать роман, повесть, поэму. Вы ведь тоже — писатель. Может, попробуете написать что-нибудь о нашем селе. Материала так много. И какого!..
Не скрою, последние слова поэта взволновали меня и я в тот же день отправился в Евшан-Сары. Собственно, к этому призывала и народная мудрость: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Места, более бойкого и оживленного, где расположено село, трудно себе вообразить. Мимо него, сотрясая землю, день и ночь проносятся поезда, катится вдоль сверкающих рельсов плотный поток автомашин.
А за железной дорогой — зеленая стена непроницаемых шелковиц; они наглухо заслонили Евшан-Сары от грохота поездов, от изнуряющего солнечного блеска и желтого заводского дыма.
…Многие машины — с грузом и без груза, — проскочив дорожный переезд, въезжают под арку колхозных ворот и мчатся по светлой бетонной полосе, обсаженной кленами и туей. В обе стороны от этого зеленого коридора, за сплошной шеренгой деревьев — каменные дома длинных и ровных улиц.
Такие же деревья обступили и белое здание колхозного правления. У самого входа — портретная галерея передовиков — так выглядит здесь доска Почета. Я долго вглядывался в каждую фотографию, выставленную на ней, прочитывал под ними каждую подпись и вскоре убедился, что и портреты могут рассказать о многом.
Застенчиво и лукаво смотрели на меня с доски Почета юные доярки, работницы птицефабрики и томатно-консервного завода. Там же я увидел продубленные всеми ветрами пустыни сухощавые, почти черные лица чабанов, веселые взгляды овощеводов, конюхов, трактористов, агрономов, мирабов, стригалей, виноградарей. Что ни лицо — то профессия, судьба, биография. Доска Почета говорила о том, что Евшан-Сары — это уже не то село, жители которого когда-то ковыряли землю деревянной сохой — омачом и вечно изнывали от жажды, жизнь их в корне изменилась и даже колхоз все чаще называют по-новому, более емко и справедливо: аграрно-промышленный комплекс. Короче говоря, доска Почета подстегнула мое любопытство.
Было еще довольно жарко. Отойдя от портретной галереи, я вошел в здание колхозного правления, где было прохладно, уютно и тихо. В коридоре справа я увидел дверь с золотой табличкой, которая вела в кабинет председателя.
Бегенч Ораков стоял за столом и с кем-то разговаривал по телефону. Я бегло окинул его кабинет. Он был просторен, но без «излишеств»: стулья вдоль стен да стол посредине. Позже выяснилось, что обширен он не ради того, чтобы польстить самолюбию башлыка[3] и не ради того, чтобы кому-то пыль в глаза пустить, а в силу необходимости: каждый вечер на планерки здесь собирается не меньше пятидесяти бригадиров, заведующих фермами, работников птицефабрики, томатного завода, механизаторов, транспортников, строителей, специалистов сельского хозяйства.
Бегенч Ораков был в небольшой аккуратной шапке из дорогого сура, цвет которого менялся каждую секунду и был неуловим.
Оракову было под пятьдесят. У него хороший рост, крепкие борцовские плечи и проницательный взгляд больших карих глаз. Одет он был в просторный костюм из светлой ткани, казавшийся слегка мешковатым. Этот костюм, давно уже ставший традиционным для всех колхозных руководителей, состоял из пиджака о накладными карманами и брюк, заправленных в брезентовые сапоги.
Мне показалось, что Ораков собрался куда-то идти и не ушел лишь потому, что его задержал телефонный звонок.
Поговорив по телефону, он снял шапку, опустился в кресло и сразу стал похожим на легендарного героя гражданской войны Григория Ивановича Котовского — такой же, как у комбрига, высокий лоб и такая же круглая, чисто выбритая голова.
Председатель молча смотрел на меня, ожидая, когда я начну разговор. Я выложил все начистоту, сказав, что приехал в колхоз, чтобы написать небольшой очерк для одного местного журнала. Меня интересуют люди и сдвиги в экономике колхоза.
— А за какой период? — тихо спросил Ораков.
— Мне хотелось бы взять время между двумя пленумами ЦК: мартовским и последним, состоявшимся в июле.
— Значит, вас интересует работа колхоза, примерно, за четырнадцать лет. Правильно я вас понял! — башлык внимательно посмотрел на меня и слегка улыбнулся.
— Совершенно верно.
— Хорошо. И сколько же вы собираетесь у нас пробыть?
— Тут многое будет зависеть от вас, Бегенч Оракович, как будете рассказывать. Конечно, хорошо бы управиться часа за два…
— К сожалению, этого маловато, — озабоченно произнес председатель. — Потом, вы знаете, я спешу: мне срочно надоев райком, а оттуда в Совет Министров. Так что на меня прошу не обижаться.
Он встал, надел шапку и добавил:
— А можно сделать так: пока я езжу, вы познакомитесь с колхозом. А к вечеру встретимся, поговорим.
В поездке по колхозу меня сопровождал заместитель председателя Аннанур Ураев — человек средних лет, коренастый. Одет он был очень скромно: в какие-то серенькие простые брюки и полосатую сорочку. Такого же серого цвета была на нем и летняя шляпа. Словом, ничего начальственного, руководящего в облике Ураева не было. Строгими были только острые, с приподнятыми уголками раскосые глаза, которые говорили о сильной воле и твердом характере зампреда.
— Итак, яшули[4], куда? — уже сидя в машине, обратился ко мне Аннанур.
— Куда хотите, — ответил я, — на ваше усмотрение.
— Давай к горам! — скомандовал он шоферу.
Выехав из колхоза, мы пересекли железную и асфальтированную дороги и взяли строго на юг. Когда автомашина покатилась вдоль глухого забора, ограждавшего завод, навстречу выплыл скромный белоснежный домик, обнесенный низким дувалом.
— Видите этот домик? — спросил Аннанур.
— Да. А что?
— Тут мельница была… Водяная.
— Водяная?! — удивился я, потому что для водяной мельницы место тут самое неподходящее: не было ни реки, ни малейшего намека на то, что она когда-то здесь протекала. — А что за речка была, на которой стояла мельница?
— Карасув. Это она крутила мельницу и давала литров пятьдесят воды. Столько же — соседнему хозяйству. А теперь ничего не дает.
Речка Карасув. Что я о ней знаю? Где-то я читал, что эта горная речка была довольно многоводной. Она поила поля и виноградники предгорного села Баир, давала жизнь столице парфян и окружающей местности. От Копетдага она уходила на север более чем на сто километров, и в древности на этом пути возникло несколько крупных поселений: Овадан, Гулзада и Джейтун.
Река переменила русло, и жизнь там заглохла.
— А теперь откуда берете воду? Ведь ее вам теперь нужно гораздо больше, — спросил я.
— Из канала берем, из скважин берем. Но больше — из канала, — ответил Ураев.
Разговор о воде воодушевил моего спутника.
— Я уже сказал, что мы имели пятнадцать скважин. Ну, что это для нашего хозяйства! На таком пайке все бы у нас засохло. Но у нас есть канал — он проходит по нашей земле. Канал, яшули, это все! Это великое счастье!.. Теперь никто не скажет, что воды не хватает. Есть у нас и перспективы для роста. Теперь мы берем из канала чуть ли не полтора кубометра в секунду!
В это время газик остановился и я онемел от изумления: ослепляя глаза, передо мной сверкало безграничное кружево синеватого, как февральский снег, металла. Это был тепличный комбинат, занимающий площадь в несколько гектаров. Сооружение было невысокое — не выше трех-четырех метров, — но потрясало своим изяществом, блеском, стройностью белоснежных конструкций. Оно чем-то напоминало молодой, в серебристом инее, березовый лесок, озаренный солнечными лучами. Эти лучи уже полыхали на наклонных стеклах прозрачной кровли комбината, разделенного надвое прямым коридором. Сужаясь, он уходил куда-то далеко-далеко… С каждой стороны коридора — просторные делянки для выращивания огурцов и томатов, где с успехом может работать небольшой трактор.
Где-то в глубине комбината, в трепетном синеватом свете, взлетали и рассыпались золотые искры электросварки — строительство предприятия еще продолжалось, хотя все его детали уже стояли на месте.
В одном из пролетов я встретил начальника комбината Ивана Ивановича Анищенко. Насквозь прокаленный солнцем, легкий, подвижный, с темным загаром на живом худощавом лице, он не уходит со стройки до позднего вечера. С этим загаром контрастировала и казалась ярче синева его глаз.
О том, как нелегко построить крупное предприятие, какие тут преграды приходится преодолевать, Анищенко готов рассказывать бесконечно.
— Взять хотя бы котлы, — говорил Иван Иванович. — Нам нужны четыре котла для тепличной котельной. Заказали их в Белгороде. И что же! Прошло несколько лет, а котлов так и не прислали. Куда мы только не писали!… Бумаги, наверно, извели не меньше пуда. И гонцов-толкачей посылали.. А завод до сих пор тянет резину: не отказывает и котлов не присылает.
Иван Иванович замолчал и слегка наклонил голову.
— Впрочем, зачем я об этом, — резко махнул он рукой и выпрямился. — Ведь все равно комбинат мы пустим, и о наших трудностях даже никто потом не вспомнит!
— Как это… без котлов хотите пускать? — спросил я Анищенко, несколько удивленный его оптимизмом.
— Нет, без котлов нельзя! — сказал Иван Иванович. — Зимой в теплицах должно быть тепло, как летом: не ниже 30 градусов. Поставим временные. Штук шесть. Найдем и поставим. Словом, приезжайте в январе, угощу вас свежими огурцами и томатами! И к столу ашхабадцев дадим тонн пятьсот-шестьсот. Но это лишь когда комбинат выйдет на полную мощность!..
И еще одну приятную новость узнал я от Ивана Ивановича. Рядом с тепличным комбинатом колхоз решил построить оранжерею. Значит, появится новая отрасль — цветоводство. Отрасль нужная. Ведь до сих пор торговля цветами находится в руках частников, заламывающих за них бешеные цены, особенно в зимнюю пору и ранней весной.
Услышав слово «оранжерея», я тут же представил себе удивительной яркости бесконечный ковер цветов и косо падающий на них сквозь прозрачную кровлю солнечный свет. Я даже ощутил воздух этой оранжереи — влажный и чистый, как после дождя. И в этом влажном воздухе мне чудились свежие запахи цветущих примул, фиалок, гвоздик, горьковатый аромат хризантем, неповторимое благоуханье чайных роз.
От тепличного комбината мы проехали до лимонария. Хотя до него можно было бы пройти пешком.
Лимонарий — это сад под стеклом. Сад нежный, капризный. Летом он боится жары, зимой — морозов. Поэтому на лето рамы над ним едва ли открыты наполовину. А зимой их даже утепляют и пускают по траншеям тепло парового отопления. Нелегко вырастить подобный сад. Но еще труднее получить высокий урожай. Все это испытал не раз старый агроном, создатель колхозного лимонария Анатолий Иванович Бородин.
Спустившись по ступенькам, мы путешествуем с ним по лабиринту траншей, занятых лимонными деревьями. Каждое из них обильно осыпано плодами зеленого цвета. Но придет декабрь, и каждый плод нальется солнечной желтизной и будет похож на маленькое светило. На некоторых деревьях будет до трехсот и более таких солнц!
Седой, грузный, белобровый Анатолий Иванович неспешно движется по лимонарию и с гордостью показывает свое детище. Иногда он останавливается перед каким-нибудь особо выдающимся питомцем, и я вижу, как агроном прищуривает в улыбке свои добрые голубые глаза.
— Вам бы, дружок, весной приехать, — хлопает меня по плечу Анатолий Иванович. — Какое здесь благоуханье!.. На целом свете нет растения, которое бы издавало такой же приятный, сильный и нежный аромат, как цветущий лимон. Иногда я думаю, что самые волшебные запахи не стоят этого аромата. А чай с лимоном!.. Вот и прощаешь этому саду все его капризы и сюрпризы, и ухаживаешь за ним, как за малым дитем.
Короткий проезд на машине — и мы на колхозном огороде. Ничем не огороженный, он раскинулся вдоль горного кряжа широкой и длинной полосой. Среди лопушистой светло-зеленой листвы много было свежих, изогнутых полумесяцем огурцов.
Рядом с огуречным полем — помидоры. Кругом — ни души. Видать, недавно урожай сняли и поля опустели. Даже сторожа под навесом, где обычно высятся штабеля желтых пустых ящиков, не было. А над широкой долиной, над живым и щедрым ее изумрудом спокойно сияло солнце, синели горы. Только самая близкая к долине гора была бурая, вся в глубоких и резких морщинах и казалась такой сухой, изнывающей от жажды, что при взгляде на нее становилось сухо во рту.
— А теперь куда? В урочище Овадан? — спросил Ураев перед тем, как сесть в газик.
Я не возражал, и мы помчались на север.
Интересного на нашем пути было много, и ничего не хотелось пропустить.
За селом дорога надвое разделила рыжую от песков и пожелтевших трав степь. На некоторых участках дороги дымился битум, лежавший кучами среди ровного песчаного простора. Кое-где его уже старательна утюжил дорожный каток. Потом по обеим сторонам проселка возникли хозяйственные постройки: слева — коровники и птицефабрика, справа — конюшни. Неподалеку от конюшен, на старом темно-синем люцернике, от которого исходил теплый, медовый запах, паслись стреноженные кони. Заслышав шум мотора, они вскинула головы и, навострив уши, долго провожали нас любопытными взглядами.
Через некоторое время вдали показался высокий, в белых султанах камыш, выросший вдоль длинного земляного вала. Порывистый ветер бросал его в разные стороны, клонил чуть ли не до земли, после чего он долго не мог успокоиться — раскачивался и шумел. Я увидел узкий, едва заметный просвет в стене камыша. Когда мы подъехали вплотную, машина, раздвинув этот просвет, круто наклонилась вниз, и в тот же миг коснулась зыбкого понтонного моста, из-под которого с шумом вырывалась широкая лавина воды, кинувшая нам в глаза ослепительный солнечный блеск. Только теперь я понял, что мы пересекаем Каракумский канал.
Противоположный берег был круче. Взбираясь на него, наш газик, точь-в-точь, как лошадь, вдруг поднялся на дыбы и, оттолкнувшись от понтонов задними колесами, резко выскочил на берег.
И снова — степь, и снова — песок, поросший жесткими желтыми травами.
И в этой просторной степи на самом горизонте постепенно начал всплывать, все увеличиваясь в размерах, какой-то странный оранжевый полукруг, напоминавший восходящую луну.
— Что это? — спросил я Ураева.
— Овадан-депе, — ответил он. — Красивый холм. Это как раз то место, куда мы едем.
Холм и в самом деле оказался красивым. Когда мы подъехали к нему совсем близко, он был оранжевым, почти красным, как осенний лист. «Это потому он такой, — пояснил Аннанур, — что весь — от верхушки до подножья — облеплен выгоревшими за лето кустами «птичьего глаза». Но посмотрели бы вы на него весной!.. — не скрывая гордости, добавил Аннанур. — Понимаете? Кругом — песок, а холм зеленый-зеленый, как кусок малахита. Красиво!
Мы поднялись на его вершину. Отсюда, как на ладони, я увидел озаренную мягким предзакатным солнцем необъятную ширь Копетдагской долины. Гор уже не было видно: они слились с туманно-серым небосклоном и на этом фоне едва различался игрушечный корпус цементного завода с его ленивым, пущенным по ветру, дымком.
Рядом с холмом, метрах в двухстах от него, строился поселок виноградарей. Двумя ровными рядами стояли уютные белые коттеджи. Поселок раскинулся на краю обширного виноградника, который в будущем займет тысячу гектаров. На новом винограднике, набирая силу, созревал целинный урожай. Словно солдаты в строю, стояли кряжистые кусты. Каждый напоминал охапку широких, с красивым вырезом, листьев, уже заметно тронутых красноватой ржавчиной осени. Между листьями — длиною чуть ли не в локоть — висели гроздья винограда. Прозрачные ягоды плотно прижаты друг к другу. И каждая ягода — в золотисто-нежном загаре, и каждая, как мёд, как маленькое чудо природы!
В окрестностях холма буйно разросся бурьян, волнисто лежал песок. Трава и песок… Это они хотели предать забвению память об урочище Овадан-депе — память о сказочном его плодородии, его истории и людях, когда-то населявших эти места.
Но песок и трава оказались бессильными перед памятью людской.
— Уже не раз, — сказал Аннанур, — я убеждался в том, как мудры и дальновидны старики. Ведь это они твердили все время, что лет двести назад вокруг Овадан-депе кипела жизнь. И знаете, оказались правы. Слыхали вы что-нибудь об открытии наших бульдозеристов? Нет? А ведь это они подтвердили правоту почтенных аксакалов!
— Однажды недалеко от холма, — продолжал свой рассказ Аннанур, — механизаторы делали планировку под виноградник и новый поселок. И вдруг… когда слой земли был срезан — открылся целый склад огромных кувшинов. Это были древние хумы для хранения вина, сушеного винограда, пшеницы и ячменя.
В другой раз механизаторы наткнулись на старое кладбище. Мы сообщили об этом ученым. Они осмотрели кладбище и сказали, что люди в Овадан-депе жила еще в бронзовом веке — пять или шесть тысячелетий назад, что воду давала им речка Карасув. Вот такие дела…
Весь холм был усеян черепками битой посуды. И каждый из них — красных, розовых, серых, желтоватых и даже синих — обладал какой-то странной гипнотической силой. Помимо воли их хотелось поднимать с земли, долго разглядывать, ощупывать и гладить, как бы ощущая прикосновение к себе минувших времен.
Вглядываясь в черепки, я легко представил себе и древнего мастера-гончара. Вот он, худой и черный от загара, склонился над гончарным кругом, и под живыми, смуглыми, как глина, тонкими пальцами, кружась, вырастает то пиала, то чаша, то кувшин. Вокруг стриженной головы — белая повязка, предохраняющая мастера от полуденного зноя. Темное лицо и тело в каплях пота.
Где-то рядом с мастерской — печи для обжига. Цвет кувшина после обжига становится ярче — розовым или красным, как закат. Его щелкали по крутому боку и он отзывался приятным мелодичным звоном.
Сложив изделия на арбу, мастер вез их на базар.
Но настало время, когда погасли гончарные печи и кануло в вечность имя мастера, а от звонких его изделий остались лишь черепки. И все же связь с тем далеким временем не оборвалась. Вот оно, связующее времена звено — осколок кувшина, который я держу в руке. С внутренней стороны он гладок, как стекло, а с внешней — шероховат, как ладонь безвестного мастера.
«Интересно, а как выглядел этот холм тогда, тысячи лет назад?» — подумал я, оглядываясь вокруг. И хотя жилья на нем уже не сохранилось, я был уверен, что когда-то на холме возвышался замок. Прочный, как скала, этот замок горделиво гляделся в глубокие воды широкого рва. В стенах замка — узкие окна и бойницы. И если взглянуть в одно из окон на юг, то наверняка можно было бы увидеть и синюю полоску гор, и палевую степь, и виноградники, а ближе к замку — кривые улицы города, плоские крыши домов, людей — пеших и конных, навьюченных ослов и пеструю базарную площадь.
Аннанур Ураев, походив немного по холму, подошел ко мне и сказал:
— А знаете о чем мечтает наш башлык?
— Нет.
Блеснув золотыми зубами, Ураев широко и добродушно улыбнулся:
— Контору поставить на этом холме, Какой обзор!.. А воздух?.. Чистый, пустыней пахнет!
— Неплохо задумано, — соглашаюсь я с ним, и еще раз бросаю взгляд на новые дома, что выстроились невдалеке. Похожие на белых птиц, они, казалось, вот-вот поднимутся и улетят. И невольно подумалось о будущем этой земли, когда она наполнится новой жизнью, неузнаваемо преобразится и будет верно служить человеку, принося ему щедрые дары.
…Бросив осколок, я сбежал с холма. Ураев спустился чуть раньше и стоял рядом с машиной. Когда я подошел к нему, он оглянулся по сторонам и негромко сказал:
— Все, что видели мы: новый комбинат, лимонарий, наши поля, виноградники — во всем заслуга башлыка, его инициатива. А сколько из-за этой своей инициативы он горя хлебнул, сколько врагов нажил!
— Кто же это?
— Ай, кто же еще! Свои, конечно!..
— Так расскажите об этом…
Ураев снова улыбнулся:
— Конечно, я мог бы рассказать, но лучше, если Бегенч расскажет сам.
В колхоз мы возвратились к вечеру. Густой туман, закрывавший горы, рассеялся, и теперь на фоне желтой зари они выступили в виде четкого лилового силуэта, над которым в тусклой зелени небосклона мерцала первая звезда.
Ораков был у себя, в своем просторном кабинете. Он сидел один, как бы слившись с тишиной, и читал газету. Рядом, на столе, лежала его шапка из сура. На ее темном, шоколадном фоне отражались блики какого-то переменчивого цвета. То они светились золотом, то незаметно наливались слабой синевой, то начинали искриться и сверкать, подобно мерцающим звездочкам жемчуга или каплям утренней росы. Читая эти строки, вы, возможно, скажете: «Надо ли писать с таким восторгом о шапке? Это же — мелочь!» Правильно: мелочь. Однако мелочи бывают разными. О многих действительно писать не следует, но иная бывает настолько красноречива, так глубоко раскрывает сущность какого-нибудь явления или человека, что одна стоит самых подробных и длинных описаний.
Вот так и в данном случае. Шапка — мелочь, конечно, но рассказать она может о многом. Например, о том, что любовь к красоте, ко всему гармоничному, прекрасному — главная черта в характере моего героя, его кипучей деятельной натуры. Я хорошо это понял, когда поездил по обширным владениям колхоза. Где бы я ни был: в шумном детском саду или в траншеях лимонария, на огромном овощном поле или в гулком цехе консервного завода, на чистых, обсаженных деревьями улицах села, или на полевом стане, высоком, добротном, устланном мягкими кошмами, — всюду я видел отпечаток этой любви к красоте, строгому порядку, отпечаток незаурядной личности колхозного вожака, его твердой направляющей воли. Даже в оформлении Доски показателей, щитов наглядной агитации, портретной галереи лучших людей — даже в этом были видны отличный вкус, изящество, красота.
— Нет, нет. Вначале не до этого было. Не до красоты, — признался Ораков, вспоминая прошлое своего колхоза. — Надо было срочно поднимать экономику, укреплять дисциплину и решать массу других вопросов.
Сказал и надолго замолчал, как будто и говорить больше не о чем.
Оракова я видел впервые, и мне показалось, что человек он замкнутый, немногословный, и при всем моем усердии его вряд ли удастся разговорить. Тогда я задал ему один из самых тривиальных, но едва ли не самых надежных журналистских вопросов о том, были ли в его работе трудности?
— Еще бы, — негромко ответил Ораков. Подперев лицо ладонью, он помедлил немного и начал свой рассказ. Меня поразила его откровенность. О чем бы он ни говорил, он не сглаживал «острых» углов, не скрывал правды, как бы она ни была сурова и горька. Несмотря на то, что все уже было в прошлом: бессонные ночи, усталость, первые успехи, борьба с тайными и явными противниками — это прошлое все еще продолжало его волновать. Рассказывая о нем, он старался говорить ровно, без «особых эмоций», но это не всегда удавалось. Нередко — помимо своей воли — он «срывался» и резко изменял тон повествования.
Самый первый, самый серьезный в своей жизни «университет» Бегенч Ораков прошел в родном колхозе, по соседству с Евшан-Сары. Поступая сюда, он не имел ни специальности, ни жизненного опыта. Это и послужило основанием, чтобы принять его на должность рядового овощевода. И даже в этой должности он поначалу чувствовал себя неуверенно, боялся, что не справится с нормой, что будет в числе отстающих, а о самом овощеводстве думал как о самом скучном занятии в мире.
А вышло иначе. С нормой он справлялся, а знакомые с детства поля, на которых росли такие же знакомые огурцы, капуста и помидоры, нравились ему теперь во много раз больше, чем когда-либо. Бегенч увидел, что только теперь открылась ему во всем великолепии их неповторимая, близкая сердцу красота. Ему нравился запах пашни, истлевшего навоза, запах пролетающего над полями упругого ветра, вид нежной, беззащитной рассады и работа под жарким солнцем. Нравилось ухаживать чуть ли не за каждым ростком, освобождая его от сорняков, вредных насекомых, вносить удобрения и поливать. Нравилось наблюдать, как эти ровные чистые поля со строгими рядами растений, политые потом бригады, с каждым днем становятся все выше, гуще, красочней, веселей.
И, наконец, уборка урожая. Автомашины, груженные овощами, уходят в город, к покупателю. И если кто-то, покупая овощи, говорил о них доброе слово, Бегенч знал: это доброе слово сказано и в его адрес.
Нет, Бегенч не только не отставал от других, но старался их опережать. Он работал с каким-то веселым воодушевлением и присматривался к опыту именитых, быстро накапливал знания и лет через пять-шесть, перед тем как уйти на срочную службу, мог бы, пожалуй, держать экзамен на агронома. Односельчане хорошо знали Бегенча, любили его за трудолюбие, прямой и открытый характер, за строгость к себе и другим. В то же время он был человеком исключительно скромным, даже застенчивым, а от этого замкнутым, немногословным.
И неизвестно, как дальше сложилась бы судьба Бегенча, если бы, вернувшись из армии, он остался в колхозе, тем более, что уходить отсюда не собирался. Но получилось так, что к этому времени в Берземине очень нужен был заведующий складом сельского потребительского общества.
Руководители Берземинского сельпо долго искали надежного человека. И, наконец, нашли. Их выбор пал на Бегенча Оракова.
Товарный склад, доставшийся Бегенчу от его предшественника, находился не в лучшем виде. Углы помещения заросли паутиной, пол — грязью и мусором. Товары сваливались куда попало и как попало. И немало надо было потратить сил, чтобы потом в этом хаосе отыскать товар и пробиться к нему.
Под стать складу выглядели и сами работники. Люди далеко не старые, они заросли щетиной и не носили спецодежды, а ходили во всем старом, рваном, грязном и мятом. Взгляды грузчиков и других работников были мрачнее осенних туч. Судя по этим взглядам, работа им не нравилась и никто ею не дорожил. Скажи: «Брось!» — и бросят, уйдут.
Примерно через месяц здесь все изменилось. Склад блистал чистотой. Товары были уложены аккуратно и со вкусом. Грузчики, одетые в новенькие синие спецовки, приветливо улыбались и работали с подъемом. Товар, доставленный с торговой базы, они сгружали и укладывали на отведенное место так бережно и осторожно, словно это был не товар, а тяжелобольной, которому грузчики боялись причинить смертельную боль.
Даже воздух изменился. Он складывался из запахов тех товаров, которые были сложены на обширной площади квадратного пола и на длинных стеллажах вдоль стен. Чего тут только не было! Тут тебе и мануфактура, и мотоциклы, и запасные части, и заморские пряности, и фрукты, и изделия кондитерских фабрик, и предметы домашнего обихода — всего не перечислишь. И все это богатство, созданное талантом и руками многих тысяч людей, все это абсолютно новое, чистое, свежее источало неповторимый запах новизны.
Что же предпринял Бегенч, чтобы добиться этой перемены?
Вроде бы ничего особенного. Если не считать двух-трех небольших бесед. Обычно эти беседы проходили во время обеденных перерывов. Работники склада и даже, бывало, некоторые сотрудники сельпо присаживались к столу, доставали съестные припасы и начинали закусывать, а после — привольное чаепитие и неторопливый разговор.
Так было и сегодня. Когда все пообедали и принялись за чай, Бегенч сказал, что не перестает удивляться искусству поэтов, которые казалось бы из самых простых, обыкновенных слов складывают поразительные стихи и песни, доставляющие такое наслаждение уму и сердцу. Но быть поэтом, — добавил Бегенч, — можно, оказывается, в любом деле, даже… в нашем, складском. Если товары, что здесь находятся, сложить как следует, то и они могут радовать человека не хуже стихов.
Все внимательно выслушали Бегенча, кое-кто даже согласился с ним, но к делу по-прежнему относились небрежно, кое-как.
В следующий раз разговор зашел о счастье. Тут равнодушных не было.
— Я уверен, — сказал Ораков, — что любовь вы считаете самым большим счастьем на свете.
— Само собой! — уверенно и дружно ответили грузчики. — А ты что?.. Не согласен?
— Нет, не согласен.
— Вот как! Почему?
— А вот почему. Возможно, любовь и в самом деле большое счастье — я спорить не хочу, — да слишком короткое. Пройдет молодость — и любви как не бывало: то ли в дружбу превращается, то ли в привычку. А то, говорят, и этого не остается. Жаль, конечно, но тут ничего не поделаешь. Что же происходит? — чуть громче сказал Бегенч. — Пока юноша и девушка не познакомились, они, естественно, друг другу чужие. Когда они встретятся и справят свадьбу, они — самые близкие на свете люди. Начинается их счастье. Но как бы сильно сердца не пылали любовью, каким бы прочным не казалось счастье, ветер времени все равно их остудит.
— Это ты из книжек взял или слыхал от кого? — ехидно усмехаясь, спросил самый молодой из грузчиков.
— И от людей слыхал, и в книжках читал, — спокойно ответил Бегенч. — Да ведь и сами не с закрытыми глазами живем. Есть и собственный опыт.
Наступило долгое молчание. Все о чем-то сосредоточенно и напряженно думали.
— Ну, хорошо. Ладно. Допустим, любовь проходит. Это понятно, — слегка волнуясь, сказал один из рабочих, человек уже пожилой и степенный. — Какое же счастье, по-твоему, самое надежное?
— Работа! — ответил Бегенч.
— Шутник же ты! — смеялись грузчики. — Ну какое же это счастье, работа?
— Какое? А такое, которого на всю жизнь хватает, до последнего взгляда на мир.
Грузчики попритихли и Бегенча больше не перебивали.
А он продолжал:
— Скажем так: отними у человека работу. Что получится из него? Жалкий бездельник, достойный самого глубокого презрения! Потому что — это пустой человек. К тому же безделье — источник всех пороков. Бывает, что иному работа не нравится. Так бывает. Но нет плохой или хорошей работы, все от человека зависит. Если он с душой к ней относится, она приносит ему самое высокое счастье. Работа — это творчество, наслаждение. А как вы относитесь к ней? Так себе… шаляй-валяй. День прошел — и слава аллаху! Такая работа счастья не принесет.
Дошла ли речь Бегенча до сознания грузчиков, сказать трудно. Но то, что она не прошла бесследно, — это бесспорно.
Была заслуга Оракова и в том, что он преградил в магазины сельпо дорогу товарам, не пользующимся спросом покупателя.
Произошло это таким образом.
Заключением договоров на товары и заказами их на оптово-универсальных базах — этих мощных артериях розничной торговли — в сельпо занимались два человека: товаровед и заведующий торговым отделом. По долгу службы они часто бывали на складе и каждый раз Бегенч напоминал им, чтоб они заказывали на базах только нужные, ходовые товары. Вначале работники сельпо снисходительно относились к этим напоминаниям, но прошло какое-то время и первым не выдержал товаровед.
— Ты что все учишь нас, как будто мы дети, — упрекнул он Бегенча с заметным раздражением.
— Я не учу, а прошу, — дружелюбно ответил Бегенч. — Я не хочу, чтобы плохие товары годами валялись на складе и зарастали пылью.
— Но откуда ты взял такие товары? — вскипел заведующий отделом, человек нервный, с больным самолюбием, никогда и ни в чем не признававший себя виновным. — Где они? Ты просто врешь!..
— Как это… вру? — возмутился Бегенч, — Идемте, покажу…
Чуть ли не час бродили они втроем по складу. Когда вышли оттуда, лица спутников Бегенча так раскраснелись, как будто только что они побывали в финской бане.
— Ну и что! Ну, есть они! — все еще кипел заведующий торговым отделом. — Сам же виноват! Товары, дорогой, надо рекламировать. Реклама — двигатель торговли.
— Но если товар никому не нужен… Зачем же его рекламировать? — стоял на своем Бегенч. — Это так же бесполезно, как порочную девку выдавать замуж — все равно никто не возьмет. И все же многие товары я рекламирую, особенно те, которые в этом действительно нуждаются.
— Например? — спросил заведующий торговым отделом. — Назови хоть один…
Завскладом не заставил себя долго просить и рассказал о недавнем случае, когда с базы понавезли ему уйму зубной пасты. Он не знал, куда ее девать. Тогда одного хорошо знакомого завмага, приехавшего за товаром, попросил, чтобы тот как можно больше взял этой пасты, Но завмаг, весело усмехнувшись, стал отказываться:
— Мне план надо делать, А на такой мелочишке разве сделаешь план?
— Нет, не сделаешь. Но для плана возьми что-нибудь дорогое, — предложил Бегенч. — Скажем, мебельный гарнитур, холодильники, телевизоры, стиральные машины. Заботясь о плане, мы не должны забывать и о росте культуры на селе. А она, как известно, начинается с зубной щетки и туалетного мыла. Если паста не пойдет, разрекламируй. Поручи это продавцам, и все будет в порядке.
— Интересно, что же им говорить? — прикинулся завмаг несведущим. — Если, мол, зубы будешь чистить пастой, то изо рта, как от цветка, будет исходить благоуханье. Так что ли?
— Можно и так, — согласился Бегенч. — Но это не все.
— Что же еще?
— Неплохо бы напомнить людям, что когда зубы чистишь пастой, у них появляется яркий жемчужный блеск, который так украшает улыбку человека, особенно женщин. Но дело тут не только в улыбке, — все более воодушевляясь, говорил Ораков. — Дело тут серьезнее, чем мы думаем. Тот, кто чистит зубы, у того они крепки до старости. Если зубы крепкие, здоровые, то и желудок в отличном состоянии. Это тысячу раз доказано медициной. А если это так, то человек будет долго и весело жить. Ну, кто же откажется от пасты, если это средство для долголетия!
— Все! Убедил! — закричал завмаг. — Забираю пасту целиком.
— Вот что значит реклама, — смеялся Бегенч. — Но на всю не рассчитывай. Надо и другим выделить. А то-получится: где густо, а где пусто.
Крупных споров с работниками сельпо у заведующего складом было немало. И оставляли они горький осадок, но делу помогали: больше стало нужных товаров, веселее пошла торговля. Пайщики были довольны. Они хвалили Бегенча. Его имя стало популярным.
…Проходит несколько лет, и судьба снова делает поворот, взваливая на Бегенча новую, более тяжелую ношу, как бы желая его испытать на прочность: по силам она или, сделав шаг-другой, он рухнет под ней?
Нет, Бегенч не падал. И даже не спотыкался. Принимая ношу за ношей, он шел как будто налегке. Может, порою и трудновато было, но виду не показывал.
Этот новый поворот в судьбе Оракова произошел в тот год, когда пайщикам Кызылкалинского сельпо надо было избрать нового председателя. Относительно кандидатуры особых разногласий не было. Оракова избрали единогласно. Однако кое-кого смущала его молодость. Дескать, не оперился еще. Как бы, мол, дров не наломал. Но скептикам дали решительный отпор, напомнив о заслугах Бегенча.
К тому же времени оказалась вакантной и должность председателя Берземинского сельпо. Женщина, занимавшая эту должность, с работой не справлялась, и во время выборов на новый срок ее кандидатура не прошла. Руководители областного потребительского союза попросили Бегенча временно возглавить и Берземинское сельпо. Таким образом, Ораков очутился на двух стульях. Но сидеть на двух стульях не только неудобно, но и тяжело. Бегенч почувствовал это сразу, как только сел на них. Дело в том, что в каждом сельпо на него возложили большую материальную ответственность. Кроме того, каждый день приходилось решать сложные и нудные вопросы, связанные с финансированием. И хотя Кызыл-кала и Берземин находились на близком расстоянии друг от друга, Бегенч буквально разрывался между ними, едва успевая выполнять свои обязанности.
Так продолжалось с полгода. Но работать дальше о такой нагрузкой он не хотел. Улучив свободную минуту, Ораков зашел к руководителям облпотребсоюза и потребовал, чтоб его разгрузили.
— Хорошо. Разгрузим, — сказали в облпотребсоюзе. — А что потом?
— Как что? Выбрать председателя…
— Ищем, брат. Ищем! Да ведь где найдешь такого, чтоб по всем статьям пайщиков удовлетворял? Такие, брат, на дороге не валяются.
— Тогда… знаете что, — осторожно начал Бегенч, совершенно не надеясь, что его предложение будет принято, — тогда я посоветовал бы из двух сельпо сделать одно.
— Гениально! — в один голос воскликнули руководители облпотребсоюза. — Гениально!..
Вскоре были назначены выборы председателя. Пайщики Берземинского сельпо единодушно выбрали Бегенча Оракова.
Бегенч энергично взялся за дело. Он старался, чтобы все торговые предприятия сельпо выполняли план товарооборота, следил за режимом экономии кооперативных средств, добивался рентабельной работы торговых предприятий, берег кооперативную собственность. Особое внимание уделял более полному удовлетворению населения в товарах массового спроса.
Полнее удовлетворять спрос…
На первый взгляд это дело нехитрое. Товаров сейчас много. И наших, и зарубежных. Завози — и торгуй: будет тебе и план, и покупатель будет доволен. Но нужды сельского покупателя не так-то легко удовлетворить, особенно на товары, пользующиеся широким спросом, например, такие, как азиатские чайники, пиалы, женские платки, ситец, бязь, заграничная мебель, серванты, машинные ковры. Попробуй достань их!
Возглавляя сельпо, Бегенч старался, чтобы и таких товаров хватало. Он предусматривал их при заключении торговых договоров с оптовыми базами. И строго следил, чтобы базы полностью выполняли свои договорные обязательства.
А просьбы пайщиков!..
Вдруг кому-то срочно понадобились чугунные печи, кому-то — фляги, кому-то — цистерны, кому-то — котлы. В магазинах их нет, а они нужны дозарезу. Куда податься. Идут к Бегенчу: «Выручи». И он выручал. Садился в машину — хотя мог бы послать своего заместителя — и ехал на поиски заказанных товаров. Если не было на базах, складах — заказывал в городе, на предприятиях, но пайщиков не подводил.
В сельском потребительском обществе работали сотни специалистов, рабочих и служащих. Бегенч сам подбирал кадры и редко ошибался в людях. Продавцы, повара, кладовщики, хлебопеки, принятые им, работали с душой, преданно любили свою профессию. Бегенч видел, как быстро молодеют села, как на месте старых, глинобитных домов и мазанок вырастают светлые особняки для колхозных семей. Отживали свой век и темные, ветхие клетушки для магазинов. Взамен надо было строить просторные торговые центры из стекла и бетона, полные света, удобные для работы.
Сельпо уже строило их. Для этого были у него и средства, и типовые проекты. Но дело подвигалось плохо: то рабочих не хватало, то материалов.
Тогда к участию в строительстве сельских магазинов, кафе и столовых Бегенч привлек колхозы. Он призывал башлыков не жалеть средства. Правда, не все откликнулись на его призывы. Кое-кто к ним отнесся недоверчиво, с оглядкой.
— Ишь, хитрый какой! — говорили скептики, — Ты построй ему магазин, а он потом в сельпо и заберет его!
— Что же тут страшного? — говорил на это Бегенч. — Деньги-то вы все равно за стройку получите и с магазином будете. Прямая выгода.
Однако большинство колхозов поддержало Бегенча. Благодаря этому намного расширилась торговая сеть на селе и еще выше поднялись показатели финансово-хозяйственной деятельности сельпо. Ясно, что это не могло пройти незамеченным, и Оракову присваивают почетное звание «Отличник советской торговли».
Итак, у Бегенча есть все: слава, почет, уважение. Только бы и работать теперь на ниве кооперативной торговли, приумножая ее успехи и еще выше поднимая свой авторитет.
Но судьба, как нарочно, делает новый крутой поворот…
Однажды Бегенчу позвонили из Ашхабада и попросили приехать в один из директивных органов республики. Назначили время приезда и назвали человека, к которому он должен попасть на прием. Этим человеком был Аполлон Иванович Громов. Бегенч ни разу с ним не встречался и знал его лишь понаслышке да по тому высокому посту, который он занимал. Однако звонок из Ашхабада озадачил Бегенча. Он понимал, конечно, что вызывать по пустякам его не станут. «Интересно, все же, зачем я ему? — терялся в догадках Ораков. — А может, анонимку кто настрочил?» — вдруг заключил Бегенч. Эта мысль терзала его всю дорогу, пока он ехал в столицу. Он морщился от этой мысли, как от резкой кислоты или зубной боли, но ничего поделать с нею не мог. При этом ни страха, ни волнения он не испытывал. Зачем волноваться! Вины за собой он не чувствовал. Его проверял уже и народный контроль, и разные ревизоры.. Но ничего компрометирующего никто не обнаружил. Так что… вроде бы все в порядке. Но как знать! Мало ли что может взбрести кому-нибудь в голову! Возьмет да и накатает анонимку. Из-за зависти или по злобе. Вот и доказывай потом, что ты не верблюд. И Бегенч никогда еще так страстно не презирал анонимщиков, как теперь. Он был убежден, что за каждым их письмом скрывается самая подлая, гнусная личность, вызывающая в его душе невыразимое чувство отвращения.
…Встреча произошла в точно назначенное время. Из-за большого письменного стола навстречу Оракову вышел высокий, хорошо одетый мужчина. Он был старше Бегенча, но все еще выглядел крепким, подтянутым, энергичным. В его густой русой шевелюре не было ни одного седого волоса, а на широком худощавом лице — ни одной крупной морщины. По смелому взгляду небольших серых глаз, твердо сжатым тонким губам и приветливо-повелительному жесту руки, с каким Громов пригласил Бегенча присесть к столу, Ораков понял, что хозяин кабинета человек с «характером», а предстоящий разговор будет серьезным и важным.
Беседа началась с вопросов Громова о состоянии торговли на селе и о работе Берземинского сельпо. Бегенч отвечал бойко, непринужденно. О! Тут врасплох его на застанешь! Хотя сразу же сообразил, конечно, что заданные Громовым вопросы — это лишь прелюдия к главной теме разговора, ради которого он и приглашен.
Когда Бегенч закончил свой рассказ, его собеседник снова спросил:.
— А в колхозах вашего сельпо часто бываете?
— Бываю, но не часто, — ответил Ораков. — Чаще башлыки приезжают сами. И каждый — с просьбами; что-нибудь достать, в чем-нибудь помочь, выручить.
— И выручаете?
— Приходится…
— Правильно делаете, — улыбнувшись, поддержал Громов. — Выручать надо. — И, неожиданно изменив тему разговора, спросил:
— Ну, а что вы знаете о колхозе «Октябрь» Анского района?
Ораков даже вздрогнул: «Вот, видать, откуда анонимка-то», — мелькнула у него догадка.
— Я хотел сказать, — пояснил свою мысль Аполлон Иванович, — знакомы ли вы с положением дел в этом хозяйстве?
После этого вопроса у Бегенча отлегло от сердца.
— Как же! Конечно, знаком — ведь мы же соседи, — сказал Ораков, повеселев. — Знаю, что колхоз ни планов, ни обязательств своих не выполняет. И так уже, по-моему, давно…
— А почему?
— Да как вам сказать… Особого интереса я к этому не проявлял. Но слышал, что с башлыками там… что-та не ладится. То один приходит, то другой…
— Да… К сожалению, это так, — тяжело вздохнув, признался Громов. — Башлыки там действительно меняются часто.
И надолго замолчал.
— Ну, а вы, вот вы, к примеру, — заговорил он снова, но теперь уже напористо и энергично, — вот вы не смогли бы перейти в этот отстающий колхоз и помочь ему подняться на ноги? Ведь только там, на месте, и можно будет разобраться в причинах его хронического отставания…
— Справлюсь ли? Не слишком ли высоко вы оцениваете мои скромные способности? — возразил Ораков. — Ведь за решение той задачи, которую вы ставите передо мной, брались многие и, как известно, никто из них так и не достиг намеченной цели. Не ожидает ли и меня такой же бесславный провал? Тем более, что я — работник торговли и с сельским хозяйством давно уже не связан.
— Но вы были связаны! И не один год, — сказал Громов и в его голосе явственно зазвучала упрямая нотка. — Я уверен, что вы еще не забыли, как выращивают овощи и неплохо разбираетесь в животноводстве.
Бегенч пожал плечами.
— Да! Вы должны знать сельское хозяйство. Без этого нельзя, — продолжал Громов. — Но кроме этого вы должны уметь руководить людьми, работать с ними, А для этого необходимо наиболее полно проявить те качества, которые заложены в вас природой и воспитанием: настойчивость, терпение и трудолюбие.
— И откуда у вас такие сведения? Достоверны ли они?
— Я мог бы ответить так: земля слухом полнится, — потеплевшим голосом ответил Громов.
— А разве у тех, кто раньше руководил колхозом, таких качеств не было? — спросил Бегенч. — Ведь их чуть ли не двадцать человек было!
— Представьте себе, — снова перешел на суховатый тон Аполлон Иванович, — никто из них такими качествами не обладал. Если бы было иначе, колхоз давно бы процветал и купался в славе!
Бегенч понимал, что предложение директивного органа относительно перехода в отстающий колхоз — это важное партийное поручение и, вместе с тем, высокое доверие, которое оказывают не каждому.
И Ораков согласился. Ему хотелось не только выполнить это поручение, выполнить успешно, может быть, с блеском, так, чтобы оправдать оказанное доверие, но и проверить себя, свои силы в деле, за которое он брался впервые. Насколько оно было сложное, большое это дело, тогда он вряд ли представлял. Знал лишь об одном — будет нелегко. Были и сомнения: справится ли? Но Громов мягко и быстро заглушил их обещанием оказывать всяческую помощь и поддержку. Однако к этому обещанию Бегенч отнесся с недоверием. И, может, даже не к нему, а к возможности воспользоваться им. Ему казалось, что подобные обещания даются в том случае и с той лишь единственной целью, чтобы кого-то воодушевить или успокоить. На самом деле человек всегда должен быть самостоятельным и рассчитывать только на себя.
Вскоре после той, памятной для Оракова, встречи с Громовым кандидатура Бегенча была рекомендована общему собранию колхоза «Октябрь», и колхозники избрали его своим башлыком. Произошло это незадолго до мартовского Пленума ЦК КПСС.
Ораков знал, что в колхозе он встретится с серьезными трудностями и что будет их немало. Его мучило и другое: почему за сравнительно небольшой срок в колхозе сменилось так много председателей? В чем дело? В башлыках ли только? Или кто-то им мешал, ставил палки в колеса? Ведь просто так, без особой на то причины, никто бы из колхоза не ушел. Это ясно. «Ах, если бы знать об этом хоть что-нибудь! — думал Ораков еще до того, как занял председательское кресло. — Скольких ошибок, промахов, неудач можно было бы избежать!»
Однако на вопросы, так волновавшие Бегенча, могла ответить только жизнь. Он убедился в этом сразу, как только приступил к исполнению своих нелегких обязанностей.
А начал он с того, что попросил в сельсовете справку о составе населения, проживающего на территория села. Хотелось узнать, сколько здесь колхозников, механизаторов, чабанов, служащих, учащихся, учителей, сколько во владении каждого семейного хозяйства скота, приусадебной земли, личного транспорта; сколько людей занято производством продуктов сельского хозяйства и сколько таких, которые только числятся членами колхоза, а сами давно уже утратили с ним всякую связь.
Справка была неутешительной. Она показала, что большинство жителей села в колхозных делах не участвуют. Очень многие из них живут исключительно за счет приусадебных участков — меллеков и домашнего скота, торгуя на рынке молоком, яйцами, виноградом, овощами. Многие жители Евшан-Сары были заняты на промышленных предприятиях Берземина. Хотя и в самом колхозе всегда не хватало рабочих рук. Были на селе и совершенно «безработные». В том смысле, что нигде работать не хотели. А жили эти «безработные» на широкую ногу: имели дома из обожженного кирпича, собственные автомашины, закатывали богатые свадьбы, ездили на курорты и веселились.
Потом несколько дней Бегенч знакомился с экономикой колхоза. Внимательное чтение многолетних отчетов он чередовал с поездками по земельным угодьям. И поездки, и чтение отчетов наводили на грустные размышления. Но на другое — при том отношении к общественно-полезному труду, какое сложилось у жителей Евшан-Сары за многие годы, — трудно было рассчитывать.
Колхозная касса была пуста. Надежных источников, из которых она могла бы пополняться, в колхозе не было. Все отрасли сельского хозяйства находились в запущенном состоянии. Урожаи овощей не росли. Объяснялось это многими причинами, но главная из них — в нехватке людей. Вдобавок ко всему набор выращиваемых культур был неоправданно велик — чуть ли не тридцать названий! Надо бы сократить это число раза в три, оставив самые нужные, скажем, такие, как лук, помидоры, капуста, огурцы и еще несколько видов и, таким образом, перейти на узкую специализацию. Но никто об этом не заботился.
Не лучше обстояло и со второй по значению отраслью — животноводством. Молочный скот был так истощен, что на него грустно было смотреть. Коровники развалились. На скотных дворах — непролазная грязь, зловонье! О каких надоях, о какой продуктивности скота можно вести речь?
Увидев столь удручающую картину, Ораков было приуныл. Он долго и мучительно думал о том, с чего же ему начинать? Иначе говоря, он думал о том главном звене, ухватившись за которое, он мог бы вытащить всю цепь. Задача была не из легких: за что ни возьмись, все казалось главным, неотложным.
Итак, за что же браться?
Подумав, Бегенч пришел к простому, но верному решению: собрать членов правления и послушать, что скажут они. Иначе говоря, опереться на коллективный разум, в силе которого он убедился давно. А потом, после обмена мнениями, уже сделать определенный вывод, наметить конкретные действия, а заодно и поближе узнать членов правления: ничто так полно не раскрывает человека, как тот совет, который он дает другому в трудную минуту.
Вместе с приглашенными собралось человек двадцать. Ни одного из них до этого Бегенч не видел.
Оглядев внимательно собравшихся, Ораков негромко сказал:
— Думаю, что вы уже догадались по какому поводу я вас пригласил. Да, не скрою: меня очень волнует бедственное положение, в котором колхоз находится уже немало лет. Но такое положение в одиночку не исправишь. Тут надо действовать сообща. Не зря ведь говорится, халат, скроенный по совету, коротким не бывает. Поэтому давайте решим несколько важных вопросов: что сделать, чтобы колхоз занял достойное место среди других хозяйств? С чего начать эту работу и как успешнее ее вести? Вы люди опытные, и я уверен, что каждый из вас может дать на этот счет немало мудрых советов, которые послужат на благо нашему колхозу. Итак, прошу не стесняться. Кто желает?..
Не успел Бегенч еще закончить фразу, как двое бригадиров, сидевших отдельно у стены слева, — небритые, в грязной, засаленной одежде — вдруг поднялись и, перебивая друг друга, начали что-то говорить. Вскоре один из «ораторов» сел, а говорить продолжал тот, который был толще и выше своего товарища.
— Обидно, товарищ башлык, ай, как обидно, что вы так непочтительно отзываетесь о нашем любимом колхозе, — изобразив на лице горькое душевное страдание, произнес толстяк. Сделал паузу, помолчал. — Я даже не могу понять, — вдруг наигранно повеселев и вздернув плечи, продолжал бригадир, — о каком это бедственном положении вы толкуете здесь? Кстати, о нашем бедственном положении мы давно уже слышим. Многие хотели его исправить. Да зря только порох тратили! Все до единого сбежали и носа не кажут. А нас это положение, между прочим, вполне устраивает. И если его изменить, то, по-моему, только навредишь… Да. Навредишь!
На бригадиров, решивших выступать первыми, Ораков обратил внимание сразу, как только они вошли. Их заметно пошатывало, а воспаленные глаза как-то неестественно ярко блестели.
«Пьяные? На таком собрании?» — подумал Ораков, все еще не веря своим глазам. Но вот они заговорили, и все сомнения отпали. Гром небесный средь ясного неба его поразил бы меньше, чем появление пьяных бригадиров. Вскоре по всему кабинету разнесся запах дешевой забегаловки: табачного дыма, сивухи и еще чего-то кислого. Ораков, ни разу за всю жизнь не державший рюмки в руках и не выкуривший ни одной сигареты, почувствовал приступ морской болезни. Он расстегнул на кителе верхнюю пуговицу, тряхнул головой. Но легче от этого не стало. Тогда он попросил открыть окна и распахнуть дверь. «Какое безобразие!» — негодовал Бегенч про себя, искоса поглядывая на пьяных. Вдруг ему захотелось встать, подойти к ним, схватить одного и другого за шиворот и вытолкать вон из кабинета! В этот же миг он почувствовал, как сердце, сделав несколько тяжелых толчков, вдруг заторопилось, зачастило и кровь отхлынула от лица. «Спокойно, башлык! Тебе не положено волноваться», — приказал он себе и быстро справился с волнением.
А «оратор» пьянел все больше. Озираясь по сторонам мутным взглядом, он нес всякий вздор, едва ворочая языком. Но никто из присутствующих его не остановил. Даже слова никто не сказал в осуждение! Все только криво усмехались да многозначительно перемигивались: посмотрим, мол, чем все это кончится?
Занятый своими мыслями, Ораков холодно смотрел на пьяного и не вникал в смысл ею крикливой, бессвязной речи. Из всей его болтовни ему запомнилось лишь несколько фраз: «Ничего изменять не надо. А если изменишь, то только навредишь». «Ну да. Зачем им перемены? Без них и проще, и легче. Лежи себе на кошме, пей зеленый чай да поплевывай в потолок. Интересно, чье мнение он выражает? Только ли свое? — пронеслось, в голове председателя. — «Впрочем, чего тут гадать? Сейчас все будет ясно».
Кончив речь, толстяк опустился рядом с осоловевшим товарищем. Наступившая тишина как бы пробудила Оракова от раздумий.
— Так… У вас всё? — обратился он к бригадиру. В знак согласия тот мотнул головой и что-то промычал. — Может, скажете еще что-нибудь? Пожалуйста! — ироническим тоном предложил Ораков и окинул взглядом собравшихся. В ответ — то же мотанье головой и невнятное мычанье. — Тогда послушайте меня. Нет, вы, — уточнил Бегенч, указывая на пьяных бригадиров. — Я вижу, что вы не совсем здоровы. Поэтому прошу встать и уйти. А завтра к девяти явиться сюда… Для объяснений.
Бригадиры, немного протрезвев, удивленно уставились друг на друга: «За что, дескать, такая немилость? Что мы плохого сделали?»
— Не заставляйте ждать, — строго предупредил председатель и взялся за трубку телефона. Это подействовало.
Первым поднялся сидевший ближе к выходу. Пошатываясь, он встал по стойке «смирно», резко повернулся налево, даже каблуками прищелкнул, и, выпятив грудь, прошел до самой двери по одной половице. Вот, мол, смотрите: трезв, как стеклышко… а этот самодур башлык гонит меня, невинного. Вслед за ним поднялся и его приятель — такой же тучный и одутловатый, только ростом ниже. Он был пьянее первого и едва держался на ногах. Его кидало из стороны в сторону, словно на корабле, застигнутой жестоким штормом. Продвигаясь к выходу под общий смех и хохот, он то валился на стену, то хватался за головы и плечи тех, кто сидел вдоль длинного стола, стоявшего посередине кабинета.
Когда бригадиры ушли, Ораков снова попросил членов правления высказать свое мнение.
Слово взял заведующий фермой молочного скота, известный на селе краснобай Таган Чорлиев, на редкость морщинистый, худой, безбородый старик. От фермы молочного скота, которой он заведовал, давно уже не было проку. Скот истощен, коровники развалились, удои… Иная коза больше давала молока, чем самая удойная из его коров. Но это Чорлиева не смущало. Когда его припирали к стене и упрекали за равнодушие и лень, он находил тысячи отговорок. И при новом башлыке решил блеснуть своим «красноречием».
— Когда пожара нет, зачем поднимать тревогу? — начал Чорлиев вкрадчиво. — Давайте разберемся, действительно ли наш колхоз в таком тяжелом положении, как заявил здесь уважаемый башлык. Это ложь, товарищи! Почтенный Мурадберды уже говорил, что, слава аллаху, никто у нас с голоду не умер. Живем зажиточно, в достатке. Спрашивается: надо ли что-либо изменять? Я думаю, не надо. Изменять — только время терять. Пусть остается все, как есть. Лучше все равно не будет. Да, да. Не будет!
«Да что они… сговорились, что ли? Одно и то же, слово — в слово!» — с горьким чувством думал председатель, когда и остальные высказывались в том же духе. И зря он так надеялся, выходит, на коллективный разум, на то, что ему подскажут с чего начать работу и как сделать колхоз процветающим, крепким.
Выслушав последнего оратора, Ораков поднялся и холодно произнес:
— Хорошо. Вы свободны.
На лицах собравшихся появилось недоумение, и с минуту никто не двинулся с места. «Как это? Ничего не сказать и: «Вы свободны»?
А что он должен был сказать? Может, кто-то рассчитывал на то, что председатель, возмущенный их пассивностью, нежеланием вести серьезный разговор, начнет горячиться и метать в их адрес громы и молнии? Может, этого они ожидали?
Нет, этого не произошло. После того, как все ушли, Бегенч склонился над столом и стал просматривать какой-то справочник. Подождал, пока проветрится кабинет. Потом, выйдя на его середину, начал прохаживаться вдоль стола. Бегенчу хотелось разобраться, что же произошло на собрании и что скрывается за теми фактами, с которыми он только что столкнулся и которые произвели на него столь грустное впечатление?
Конечно, не надо быть особенно прозорливым, чтобы понять, что члены правления пришли не для того, чтобы оказывать председателю помощь или подавать нужные советы. У них была другая цель: накалить атмосферу собрания, взвинтить башлыку нервы и вызвать его на скандал. При этом весь «огонь» председательского гнева должны были принять на себя пьяные бригадиры — для этого они и напились. Прием этот не нов, но в арсенале «заговорщиков» он, видимо, считался самым эффективным. В самом деле, кого не возмутит присутствие пьяных на собрании? Вскипел было и Ораков, но вовремя понял, что это — провокация и сохранил самообладание. А если бы не сохранил, а если бы ударил по столу кулаком или хуже того — схватил бы пьяниц за шиворот? Тогда все было бы просто: жалоба, куда следует, объяснительное письмо в адрес директивного органа — и уход из колхоза.
Но прием этот не сработал.
Ораков остановился, постоял в задумчивости, и на лице его мелькнула слабая улыбка. «Итак, кто же победил? — спросил он мысленно себя и сам же ответил: «Ты!»
Да. Это была победа. Совсем маленькая, доставшаяся ему ценою огромного напряжения душевных сил, выдержки и стойкости.
Ораков снова принялся шагать по кабинету и с каждым шагом чувствовал, как легче и светлее становится на душе. Он понимал, конечно, что это чувство облегчения наступило от сознания только что одержанной победы и от того, что появилась ясность в представлении своего будущего и отношений с людьми. Кажется впервые в жизни он понял, как хорошо, когда эта ясность есть! Своих противников он видел в лицо. И хотя они потерпели поражение, он был уверен, что с этим они не смирятся. Не сложит оружия и он.
Было уже поздно. Убрав со стола бумаги, Ораков вышел из кабинета. Перед входом в правление, под высокими туями сидел колхозный сторож в чекмене из темно-рыжей верблюжьей шерсти. Это был бородатый солидный старик. Он сидел на скамейке и в полном одиночестве пил зеленый чай. Справа, на той же скамейке, стоял фарфоровый чайник, а слева, приставленный к стене, чернел старинный дробовик. Как только Ораков поравнялся со сторожем, на него повеяло ароматом весны, каким-то особенным запахом земли, распустившихся деревьев, скошенной травы. Этот запах доносил сюда ночной горный ветер. Слышался дружный стрекот сверчков. Где-то вдали вдохновенно, со свистом протрубил осел, лениво лаяла собака. Откуда-то из болотца доносились звонкие лягушиные трели… Эти трели были самыми приятными и самыми успокаивающими из всех ночных звуков на селе. Они как бы утверждали, что в мире — покой и согласие. И так будет долго. Может, вечно. Поэтому забудь про свои тревоги и внимай лишь сладостной ночной тишине, загадочно мерцающим звездам и бесконечному мирозданию. Вдыхая легкую прохладу, Ораков с минуту постоял возле сторожа, потом попрощался с ним и быстро пошел домой. На юге, подпирая небо, чернел Копетдаг. Кривые ухабистые улицы были плохо освещены и казались голыми. И невольно приходили в голову мысли о будущем села, о том, чтобы сделать эти улицы такими же, как в городе — прямыми, чистыми, ровными. И чтобы у каждого дома — небольшой сад, виноградник, огород. Ораков был уверен, что со временем так и будет.
А пока на очереди стояли другие дела — важные и неотложные: весенний сев, борьба за урожай, налаживание всех отраслей хозяйства.
Утром часов в девять кто-то нерешительно постучал в дверь председательского кабинета. Получив разрешение, в него вошли двое солидных мужчин. Ораков не сразу признал в них вчерашних ораторов — такая произошла с ними разительная перемена. На каждом был хорошо отглаженный костюм, свежая сорочка, галстук, новые туфли. Тщательно выбритые лица блестели. Члены правления прошли вперед и сели на вчерашние места. В это время Ораков с кем-то разговаривал по телефону. Ожидая, когда он закончит разговор, провинившиеся бригадиры вздыхали, покашливали и искоса поглядывали на башлыка. Наконец он положил трубку и строго взглянул на ранних посетителей. Встретившись глазами с председателем, они виновато опустили головы.
— Ничего не скажешь!.. Пример вы подаете замечательный, — сказал Ораков, не повышая голоса. — Обычно за это строго наказывают, и вы уже заслужили наказание!
Башлык помолчал немного.
— А теперь я хочу узнать, — сказал он и стиснул пальцы рук, — с какой радости вы напились?
Сидевший ближе к двери бригадир заерзал на стуле и, глядя в пол, глухо пробурчал:
— Сами не знаем. Видимо, шайтан попутал…
— А я думаю, шайтан тут ни при чем, — строго произнес Ораков. — Вы напились с определенной целью, но у вас ничего не вышло. И никогда не выйдет! И если хоть раз еще попутает вас шайтан, знайте: это обойдется вам дороже, чем вы думаете.
Отношения между членами правления и председателем складывались трудно. Он по-прежнему не получал от них ни помощи, ни поддержки. Любую его инициативу или предложение, направленные на расширение хозяйства, укрепление его экономики, они встречали либо ледяным равнодушием, либо насмешками. Особую активность проявлял Чорлиев. Нового председателя безо всякой на то причины он возненавидел чуть ли не с первой встречи. Это и определило их дальнейшие отношения.
Однажды Ораков вынес на обсуждение членов правления предложение об освоении пятидесяти гектаров земли, расположенной к северо-западу от села. Это предложение находилось в полном соответствии с планом развития колхоза и с возросшим спросом городского населения на овощи.
Как всегда, первым взял слово завфермой молочного скота Таган Чорлиев. Он встал, солидно откашлялся и, резко мотнув головой, вдруг ни с того ни с сего разразился диким смехом. Он буквально закатывался от хриплого хохота и долго не мог вымолвить ни единого слова.
Наконец, вдоволь насмеявшись, он вытер выступившие на глаза слезы, пот со лба и устало произнес:
— О-о-ох! Прошу извинить меня за неожиданный смех. Право, не я виноват в этом, а наш уважаемый башлык… Хорошо ли вы представляете себе земли, о которых он толкует, как о целинных? Нет?
Все молчали, ожидая, что скажет Чорлиев дальше.
— Да ведь — это те самые земли, — вдруг окрепшим голосом громко заявил Чорлиев, — которые, как снегом, много лет покрыты солью. Место негодное, солончак. Я знаю: правду скажешь — отца обидишь. Но я скажу правду. Как она ни горька, а все же лучше, чем мед кривды. Так вот, слушай, башлык. Осваивать солончак под овощи ты предлагаешь либо по глупости, либо по молодости лет. Услыхал, что мода на целину и сразу смекнул: «Ага! Давай-ка и мы кое-что освоим. И мы не хуже других, а в своих отчетах, куда следует, напишем об этом. Может, заметят и премию дадут или орден. Но ты не подумал о том, во что обойдется колхозу твоя затея! Конечно, прямо на соль овощи ты сажать не станешь. Значит, те пятьдесят гектаров вначале надо спланировать, вспахать и несколько раз промыть. Подсчитал ли ты, каких денег это будет стоить? Поймите меня правильно. Денег не жалко, когда их расходуешь с умом. Но ведь ни пахота, ни промывка тех земель к жизни не вернут. И ничто на них никогда не вырастет. Даже чертополох! Значит, все средства будут брошены на ветер. Между прочим, это колхозные денежки… Разумно ли это? Хотя такое уже было. И до тебя пытались освоить тот солончак. Но кроме напрасных трат, ничего из этого не вышло. Не выйдет и у тебя. Даже не старайся.
Речь Чорлиева была дерзкой, откровенно оскорбительной. В ней что ни слово, то — издевка, насмешка, укол. Бегенч понял, что это тоже вызов на скандал, проверка его нервов, самообладания. Опять надо было держать себя в узде, не волноваться, не терять выдержки.
Выслушав завфермой, Бегенч сказал:
— Таган-ага, вы упрекнули меня в молодости. Но разве ум не в голове, а в годах? Народная мудрость гласит, что — в голове. Я не собираюсь говорить о себе, Я весь на виду. Скажу лишь о том, что умных талантливых людей у нас много и среди молодых. А на иного глядишь: жизнь прожил, а ума не нажил.
Чорлиев надменно молчал. Он даже демонстративно отвернулся от председателя: мели, мол, что хочешь — мне все равно!
— Но я отвлекся немного, — продолжал Ораков. — Теперь по существу. Ту землю, которую необходимо освоить под овощи, я обследовал сам, а затем со специалистами сельского хозяйства. Действительно, она засолена и производит грустное впечатление. Но земля тут ни при чем, люди виноваты. Это — результат их халатности, лени и, я бы сказал, преступного отношения к земле. И все же, если как следует взяться за тот участок и провести агромероприятия, то я не сомневаюсь…
Чорлиев не дал Оракову закончить фразу. Он вскочил с места, сорвал с головы старую обшарпанную ушанку и завопил таким голосом, как будто его только что ограбили:
— Люди! Вы видите эту шапку? — Чорлиев поднял ее над головой. — В знак того, что я смело выступаю против башлыка и уверен в своей правоте, я бросаю эту шапку под хвост собаке!.. — И выкатив налившиеся кровью глаза, Чорлиев сел на шапку. По местным представлениям, выходка заведующего фермой была равносильна грубому оскорблению, пощечине.
Но председатель отнесся к ней спокойно. Он подождал, когда утихнет смех, поднялся и сказал:
— Что ж, Таган-ага… Народ вы неплохо потешили. Но разве мы для этого собираемся и тратим время? Прошу в дальнейшем быть серьезнее, без фокусов. Здесь не цирк, а колхозное правление.
После Чорлиева выступили другие. Одни настаивали на том, чтобы осваивать участок, и как можно быстрее, другие не менее решительно возражали. Третьи, наиболее хитрые и осторожные, сохраняли нейтралитет.
— Очень жаль, что мнения у нас разделились, — обращаясь сразу ко всем, сказал Ораков. — Как же быть? Может, забыть о целине, плюнуть на это дело? Нет, целину мы будем подымать. Иначе ведь и не докажешь, кто же из нас прав, а кто просто-напросто болтун.
Бегенч болезненно переживал отсутствие единства среди членов правления и их поддержки. Но в проведении своей линии был непоколебим.
А нерешенных вопросов, проблем и просто повседневных дел становилось все больше. Они сыпались на него, как из рога изобилия. Ему все чаще стало казаться, что теперь он очень напоминает легкую былинку, подхваченную бешеным степным ветром, который с утра до вечера крутит ее и с каждым оборотом все быстрее. Бегенч пытается что-то сделать в этой жестокой и беспрерывной круговерти, но уверен, что ничего путного сделать не может, а только мечется и смертельно устает. Еще весна не пришла, а он с восхода и до заката в поле, в парниках: надо проследить за работой трактористов, овощеводов, поливальщиков. Сейчас главное — качество подготовительных работ. От того, как будут подготовлены земли, как будут вспаханы, удобрены и политы, какого качества посадочный материал, — зависит решение одной из самых важных задач полеводства — повышение урожайности овощей.
Думал Бегенч и о строительстве коровников, кошар, о кормах для скота, о подборе и расстановке кадров, о быте колхозников. Мысли об этом не покидали его ни днем, ни ночью, ни дома, ни в рабочем кабинете, ни а пути. А ездить в ту пору приходилось много.
Вскоре после того, как в Гяурскую степь пришел Каракумский канал, здесь в урочище Гаплан колхозу «Октябрь» отвели под виноградники, сады, овощные и зерновые культуры несколько тысяч гектаров прекрасной целины. Там же началось строительство большого поселка.
От села Евшан-Сары до урочища Гаплан километров семьдесят, а то и больше. А в оба конца полтораста будет. Чтобы съездить туда, надо день потерять. Бегенч терял этот день, но с пользой. Зорким хозяйским глазом присматривался к тому, как идет освоение целины и строится поселок. Внимательно приглядывался к людям, К лодырям, пьяницам и халтурщикам был беспощаден. Но с особенной теплотой, уважением относился к тем, кто работал честно, с увлечением, не жалея сил. Для них Бегенч не скупился ни на теплое душевное слово, ни на похвалу. Если кто-то мешал целинным делам, тормозил их и нужна была помощь «на самом высоком уровне», Ораков действовал быстро и смело. Он ехал в райком, в главк, в министерство и устранял помеху.
А разве мог он оставить без внимания чабанов — этих мужественных подвижников пустыни! Наболевших вопросов и там было немало. И он ехал к чабанам. Расстояние до них, примерно, такое же, как до урочища Гаплан. Но дело тут не в расстоянии, а в дорогах. Езда в песках — езда по бездорожью. Бесконечные разъезды выматывали и башлыка, и его шофера. Но жалоб от них никто не слыхал. Курбан — так звали шофера — так же, как и башлык, был на редкость стойким, терпеливым парнем. Сколько бы за рулем ни сидел, никогда и вида не подаст, что устал или клонит ко сну. Никогда не жаловался он и на машину, которую вполне серьезно считал живым существом. По твердому утверждению Курбана, машина так же, как и человек, может быть и ласковой, и сердитой, послушной и капризной в зависимости от того, как относишься к ней. А Курбан знал, как относиться к машине! По паспорту она давно уже была старушка, давным-давно пора бы ее на свалку, — уже и мотор, и радиатор, и многое другое заменяли не раз. А вы поглядите: разве она похожа на старушку? Чистая, сверкающая, никогда нигде ни царапинки, ни вмятины, она все еще кажется совершенно новой, словно только что сошедшей с заводского конвейера.
Между башлыком и шофером с первой их встречи, а потом на долгие годы установились отношения самой искренней дружбы. Их сближала общая цель — забота о процветании колхоза. Ради этого Курбан готов был трудиться сутки напролет и ехать хоть на край света в любую погоду — в дождь, слякоть, снег, буран. Много было общего и во внешности: оба высокие, сильные, широкие в плечах.
Но разница между ними была еще разительней, чем сходство. В отличие от своего шефа, кареглазого, покрытого густым темным загаром, шофер был русоволосым туркменом с голубыми глазами. Возможно, только нос — тонкий, с едва заметной горбинкой, и выдавал его азиатское происхождение.
Добрые отношения шофера и башлыка помогали им стойко переносить тяготы кочевой жизни. Нередко, обратив внимание на усталость шофера, Ораков говорил:
— Отдохни, Курбан. А я за руль сяду.
Но разве Курбан позволит, чтобы башлык крутил баранку! У него своих забот хватает.
— Ничего. Я не устал, — скромно отвечал Курбан, — лишь бы вы не молчали. А то всю дорогу думаете о чем-то, думаете… Рассказали бы что-нибудь…
Но эта просьба противоречила желанию самого Бегенча: он не любил в дороге разговоров. Во время поездок ему нравилось неторопливо размышлять, думать, мечтать. И все мысли так или иначе были связаны с его нелегким хозяйством, с деятельностью целой армии односельчан, с решением неотложных задач, мечтою о будущем…
И все же на просьбу шофера всегда откликался. Немного подумав, он находил тему, близкую и интересную обоим, и приступал к повествованию. Сонливость у шофера исчезала, а вместо нее появлялись оживленное внимание и бодрость. Курбан любил рассказы башлыка; они поражали его новизной мысли, смелостью замыслов и желанием заглянуть в завтрашний день. Эти рассказы он сравнивал с поездкой по широкой степи, когда мчишься на большой скорости, и за каждой далью тебе открывается новая, совсем незнакомая, но чрезвычайно интересная и не похожая на все предыдущие, даль. И не было ни одной поездки с башлыком, его рассказа, которые Курбан не запомнил бы от слова до слова, прочно, навсегда.
Особенно глубокий след оставила в памяти осенняя поездка на целинный участок, в урочище Гаплан.
…Приближаясь к восточной окраине Ашхабада, они проехали вдоль огромного фруктового сада, близко подступившего к шоссейной дороге справа. А слева была плантация молодых шелковиц. И сад, и шелковицы пылали осенним пожаром. В просветах между длинными рядами деревьев с поредевшими кронами лежало много багряной и желтой листвы.
Когда сад кончился, взгляду стало просторно: в глаза ударило бледной желтизной пустыни, каким-то заповедным ее уголком; полетели назад песчаные косогоры с кудлатыми кустами на откосах. Далеко к югу отхлынула гряда извилистых нежно-фиолетовых гор. Потом — короткий спуск перед станцией Аннау. За станцией — степь, которая потом слилась с предгорной Гяурской равниной.
Они ехали молча и глядели по сторонам, удивляясь, быть может, тому, как быстро меняется степь. Слишком много было столбов, пересекавших ее во всех направлениях, виднелись вспаханные поля, заросли камыша вдоль оросителей, какие-то постройки, новые виноградники, юные сады. Но обширные пространства земли еще пустовали. И шофер и башлык видели одно и то же, но чувства при этом испытывали разные. Курбан — легкое любопытство, председатель — чувство легкого огорчения, утраты. Нет, он все понимал, конечно. Понимал, что растет население, что его надо кормить, поить, одевать и обувать, что Гяурская целина должна служить человеку, что здесь должно быть создано столько-то различных хозяйств, что они должны давать столько-то тысяч тонн зерна, овощей, фруктов, мяса, винограда, рыбы, шерсти. Все это Бегенч Ораков понимал, но сердце не могло примириться с тем, какой ценой все это должно быть оплачено, какую жертву во имя этого надо принести.
— Скажи, Курбан, видал ли ты эту степь лет двадцать или тридцать назад? — спросил Ораков, глядя вдаль.
— Нет, не видал, — зорко следя за дорогой и движущимся навстречу транспортом, ответил шофер. — Слишком молод был — дальше детского сада не пускали. А что?
— А то, что много потерял. Тогда здесь как было? Куда ни глянешь — простор, неоглядная ширь… Только бурьян кое-где… И все равно: идешь ли пешком или на машине едешь, песня так и рвется из груди, и так тебе легко, словно крылья у тебя за спиной! В степи водилось много дичи. Когда я был моложе, я приезжал сюда охотиться. Что тут творилось!.. Из-за птичьих стай солнца не было видно!.. Птицы, вспугнутые охотниками, поднимались в небо и напоминали длинную серую тучу, растянувшуюся вдоль Копетдага на несколько километров. Эта туча состояла из миллиона рябков, дроф-дудаков, дроф-красоток, стрепетов, журавлей. Людей они почти не боялись. И охотиться на них можно было с закрытыми глазами. Такие же огромные стаи здесь появлялись весной, когда птицы из жарких стран летели на север, в Сибирь и Казахстан на свои гнездовья. К сожалению, теперь такого обилия птиц в Гяурской степи ты не увидишь. Теперь, брат, что ни птица, что ни зверь — то редкий или исчезающий вид, занесенный в Красную книгу.
— Почему же так случилось? Ведь столько было птицы… — спросил Курбан.
— Все тут довольно просто, — пояснил Бегенч. — Человек отнял у птиц земли, которые им принадлежали извечно. Отнял, распахал и застроил. Вот и все!
— Но ведь нельзя же допустить, чтобы дичь совсем исчезла! — с заметным волнением сказал Курбан. — Неужели ничего нельзя сделать, чтобы их сохранить?
— Как нельзя? Можно. И многое уже делается а этом отношении. Например, создаются заповедники и заказники. Но я считаю, что этого мало. Надо повсеместна запретить охоту. Надо сберечь хотя бы то, что уцелело.
Бегенч замолчал, помрачнел.
Машина свернула налево, на целинный участок Гаплан. Тут он ни хмуриться, ни печалиться не мог. Его радовал аккуратный поселок из белых домов, строгий порядок на полях, сады и виноградники в ярких красках осени, а за ними ровная, хорошо вспаханная к весне целина.
Дел на участке хватило Бегенчу на целый день. Он ездил по полям, фермам, встречался с целинниками — рядовыми и специалистами — расспрашивал о трудностях, нуждах, заботах и о том, какая требуется помощь.
К концу дня отправились обратно. Очень долго ехали молча, так долго, что шофер не вытерпел и заявил:
— Что-то… ко сну клонит.
— Это потому, что вчера к чабанам ездили. Усталость еще не прошла, — отозвался Ораков и опять о чем-то задумался.
— А вы все о птицах думаете? — снова спросил Курбан с явным намерением вызвать башлыка на разговор.
— Нет, не о птицах.
— О чем же?
— О колхозе.
— О нашем?
— Да.
— Что же вы о нем думаете? — не унимался водитель. — Не надоел он еще вам?
Ораков рассмеялся.
— Колхоз… Да разве он может надоесть? — продолжал Ораков сквозь смех. — О нем и во сне не перестаю думать!..
…Машина, свернув направо, проскочила переезд железной дороги и через две-три секунды нырнула под арку въездных ворот. Бегенч взглянул на часы: было около восьми.
Башлык и сегодня не изменил своему правилу: куда бы ни уезжал, а к началу планерки никогда не опаздывал. И не только потому, что был человеком очень пунктуальным. А потому, что планеркам придавал большое значение, давно убедившись в их огромной пользе. Если в соседних хозяйствах, к тому времени уже окрепших, планерки проводились раз или два в неделю, то в «Октябре» — ежедневно. Обсуждались на них сотни вопросов: зимой — ремонт техники, работа в парниках. Весной — пахота, планировка полей, внесение удобрений, сев ранних овощей. Летом и осенью — уход за посевами, сбор урожая. Обсуждались и вопросы животноводства. Их было не меньше, чем в любой другой отрасли. И всегда на планерках всплывали промахи и недочеты, допущенные членами бригад, — все то, что огорчало и мешало в работе, вызывало гнев, возмущение, грозило срывом графика планов.
И нигде так полно не раскрывался человек, как на планерке. Здесь он просматривался, как на рентгене: не скроешь — ни характера, ни способностей, ни знаний, ни своего отношения к делу. Провинившихся критиковали резко, но не злобно. Правда, иногда председатель принимал и крутые меры — такие, скажем, как административное взыскание, штраф. Но это только к тем, кто действительно допускал серьезные упущения, связанные с материальным ущербом.
Однако хорошего было больше. Как-то ярче, заметнее, чем обычно, становился на планерках и сам председатель. Многому учились у него. Все видели, как он смело и глубоко разбирается в делах, как требователен, строг. Строг, но справедлив. Все видели широту его мышления, задушевность, дерзкую устремленность в будущее, заражались его энергией. И еще одно доброе качество было у башлыка: он ничего не забывал. Наиболее важные вопросы и поручения, к которым надо вернуться завтра, через неделю, через месяц, он записывал в дневник. Так он контролировал людей, приучал их к точности, дисциплине, повышал ответственность, закалял волю.
Прошел всего год, как Ораков возглавил колхоз. Его итог был ошеломляющим. Никогда еще за всю историю хозяйство не получало такого обилия овощей, продуктов животноводства. Денежный доход превысил прошлогодний более чем вдвое и составил миллион шестьсот тысяч рублей. Естественно, и трудодень стал более весомым.
Этот успех круто изменил сознание многих жителей Евшан-Сары, их отношение к общественно-полезному труду. Бросив отхожий промысел, они вернулись в колхоз.
В те дни, когда колхоз праздновал свой успех, Ораков мог бы и себя поздравить с победой: целый год он был во главе огромного хозяйства. Такое удавалось немногим: самый первый башлык находился на своем посту всего два дня. Это было суровое время. Артель только начинала жить. По рассказам стариков все их «богатство» состояло из дюжины ослов, да, примерно, такого же количества овец и верблюдов. Даже плуга железного не было! Весь колхозный инвентарь состоял из допотопной сохи-омача и таких же древних серпов и лопат.
Вдобавок ко всему мешали басмачи, державшие в страхе жителей предгорной равнины. Так что… в ту пору быть башлыком было не только трудно, но и опасно.
Знакомясь с историей колхоза, Ораков обнаружил, что они ровесники: каждому из них по тридцать пять. Возраст зрелой молодости и силы. Но вместе они прожили только год.
Как сложится дальше? Сколько еще им суждено прожить вместе? И суждено ли?
Но так подумалось только однажды.
Дела захлестнули Бегенча с головой, и тут уж было не до грустных размышлений. Все силы он отдавал одной цели — закрепить достигнутый успех и развить его дальше.
К этому времени, как нельзя кстати, подоспели решения мартовского Пленума ЦК КПСС, сыгравшие в жизни молодого башлыка роль надежного компаса. В этом историческом документе партия призывала сельских тружеников решительно и смело браться за механизацию сельского хозяйства, мелиорацию земель и повышение ее плодородия. Ораков твердо следовал заданному курсу, определившему программу его действий на многие годы.
О бурной ссоре заведующего фермой с башлыком относительно освоения засоленного участка в тот же день узнало все село. Причем симпатии большинства его жителей — как это ни странно — были на стороне Тагана Чорлиева. А случилось это так потому, что жители села знали тот бросовый, покрытый, словно саваном, белый солончак, и все до единого были уверены, что никакая сила к жизни его не вернет.
Но башлык стоял на своем. Он верил, что тот участок можно оздоровить и ввести в севооборот. Однако его решение взяться за освоение солончака все оценили как безрассудство, которое может дорого обойтись колхозу.
Об этом и заявил Чорлиев башлыку. Он был хитер и, конечно, знал, что говорил. Если солончак промывать, а соленую воду не сбрасывать, то от такой «промывки» недалеко и до беды: еще выше поднимутся грунтовые воды, еще больше солей накопится в почве и весь участок превратится в болото, которое может погубить и здоровые земли.
Но заведующего фермой подвела самоуверенность. А, может, невежество. Во всяком случае его надежды на то, что Ораков будет действовать по старинке, когда не было техники, не оправдались.
Бегенч же начал с того, что пригласил в колхоз отряд механизаторов. Вдоль всего солончака они прорыли глубокий, похожий на ровный овраг, коллектор. Потом этот участок спланировали, вспахали и промыли. Соли в нем поубавилось. Но все еще он никуда не годился. Почва была тяжелая, бесструктурная. Из-за этого многие годы она не дышала. То есть не могла забирать из воздуха кислород и отдавать его корням. В ней исчезали даже бактерии. Соль и грунтовка уничтожили в почве все живое и лишили ее главного — плодородия.
…После того, как коллектор был проложен, а поле — промыто, Ораков распорядился, чтобы осенью на целинный участок завезли как можно больше навозу, а весной — засеяли ячменем. Все сделали, как велел председатель. Но урожай ячменя был невелик. Это и понятно: солончак еще только начал оживать и много дать не мог. Он требовал новых забот.
На следующий год целину снова засеяли ячменем. Когда всходы окрепли и поднялись выше колена, приехал Ораков. Шелковистая нежная зелень огромного поля волнами ходила под ветром, сверкала, переливалась. Над ними летели облака. Где-то высоко, в солнечных лучах, пел невидимый жаворонок.
Бегенч снял шапку, ударил ею по левой ладони и несколько минут простоял с непокрытой головой. Как он мечтал все эти годы увидеть здесь вот этот живой зеленый цвет — цвет самой жизни, вместо мертвого, белого цвета горькой соли!.. И дождался, увидел. С волнением он глядел на поле, чутко прислушивался к шелесту стеблей и чувствовал, как душу наполняют радость, покой, силы. «Один лишь вид такого поля, — думал Ораков, — Может вылечить человека от любой болезни, сделать его бодрым, крепким и счастливым».
Это же поле он увидел и в пору созревания ячменя. Оно уже сплошь было золотым и широкой полосой уходило к горизонту. Спелые колосья раскачивались тихо, и нежно шелестели, словно думая какую-то бесконечную думу. С поля набегал теплый хлебный дух и смешивался с запахом нагретой земли, росшего на обочине дороги бурьяна и сильным запахом розовых вьюнков, разметавшихся по колючке и сорным травам. «Итак, с солончаком покончено, — шепотом проговорил Ораков. — И как хорошо! Даже следа не осталось».
После ячменя на целинном участке была посажена капуста — все с той же целью, чтобы улучшить структуру почвы. Урожай был невиданным. К осени все поле было усеяно сочными тугими кочанами.
Так в течение нескольких лет шла реанимация земли — упорная борьба за то, чтобы вернуть ей жизнь, живительные соки, здоровье и плодородие.
Еще тогда, стоя на краю ячменного поля, Ораков думал о том, кому же он доверит целинный участок, когда придет пора выращивать овощи? Задача нелегкая. И вовсе не потому, что у председателя не было выбора. Все обстояло как раз наоборот. За последнее время он выпестовал целую плеяду молодых бригадиров. А тот, кто проявлял равнодушие и лень, от бригадирства был отстранен.
Это сразу сказалось на деле.
Дух соперничества между бригадами был настолько велик, с таким упорством они боролись за первенство, что показатели у них были почти ровные. Так что… не обидев остальных, трудно было отдать предпочтение какой-нибудь одной. В таких условиях Ораков мог бы спокойно послать на целину любую бригаду и ее судьба была бы в надежных руках.
Но этот путь ему казался слишком торным, простым и легким. Ему хотелось идти своим, пусть трудным, связанным с риском, но своим путем. И Бегенч решил послать на целину не лучшую бригаду, а ту, что слабее и хуже других, а бригадиром — никому неизвестного, неизбалованного славой овощевода. Но и этот, ничем не проявивший себя овощевод, по мнению Оракова, должен быть бойким и смекалистым, иметь призвание руководителя. Смысл подобного риска башлык видел в том, что в случае успеха будет открыт новый талант, а бригада — подтянута до уровня передовой. «Все это хорошо, — думал председатель, — но где взять такого парня?»
…Надо искать, твердо решил Бегенч, и продолжил поиски. Он приглядывался к людям, к их работе. И не только среди овощеводов, — на других участках. Изучал их способности и характеры. Он верил в свою удачу. Верил и знал, что алмаз не затеряется даже в золе, что рано или поздно он себя обнаружит.
…Потомственный чабан Аймед Аннаев всю жизнь провел в пустыне. Это был настоящий «кумли», «человек песков». Много лет он прошагал за своей отарой, и теперь вряд ли сосчитал бы сколько износил за это время тупоносых, из сыромятной кожи, широких и удобных в ходьбе чокаев.
Отара давала каракуль, шерсть, мясо. Чабан гордился своим трудом и ни разу за годы своего пастушества не пожаловался ни на скуку одиночества, ни на тяжесть труда, ни на суровость родной пустыни. В представлении Аймеда она не столько суровая, сколько добрая, щедрая и красивая. Красивая всегда, во все времена года! Взять хотя бы весну. Не узнать в эту пору ни лощин, ни песчаных увалов. В розовый туман оденется саксаул и в таком наряде, словно зачарованный, не шевелясь, будет долго стоять под солнцем. Но ярче, наряднее саксаула другой знаменитый житель песков — кандым. Его круглые, как шарики, цветы весна окрашивает в самые разные цвета. И серовато-зеленый, хвойный куст кандыма бывает сплошь осыпан то желтыми, как нарцисс, то розовыми, как пион, то красными, то вишневыми цветами. От таких кустов глаз не оторвешь. Потом, когда шарик высохнет, ветер сорвет его и покатит по песку. Там, где он прибьется, вырастет новый кандымовый куст.
Много в пустыне цветов и много трав. И все они, как родные, дороги сердцу Аймеда. В тех же лощинах, рядом с безлистым кустарником, пробьются к солнцу пырей-арпаган, алые маки, синие ирисы, колокольчики и золотисто-белые ромашки, которые за сходство с плоской, косматой по краям шапкой чабана называют «чопан тельпек» — «пастушья папаха». С приходом весны дружно взойдет песчаная осочка — илак, травка неказистая, но самый лакомый для овец корм. И даже барханы к весне повеселеют, покрыв свои бока свежей волнистой рябью. Оседлав их вершины, пустит по ветру золотисто-зеленые пряди песколюб-селин.
Немало будет и голых мест. На них-то, недалеко от зарослей кандыма, во всей лучезарной красе почти на метровую высоту поднимется гордая сунгула. С виду она похожа на огромный, отлитый из чистого золота, кукурузный початок. Только вместо янтарных зерен на толстом и круглом стебле сунгулы, плотно прижавшись друг к другу, вспыхнет множество желтых, широко открытых цветков. Иногда сунгула появляется целым семейством. У нее тонкий приятный аромат, на который, непонятно откуда, прилетают пчелы. Туркмены называют ее «ийлан додок» — «змеиные губы». Но почему и кто ее так назвал? — задумывался чабан. — Причем здесь «змеиные губы»?
И понял однажды. Он заметил, что «ийлан додок» всегда вырастает по соседству с кандымом. Поселившись рядом, сунгула скрытно, под песком пускает к соседу корни-присоски и начинает из него высасывать соки. Сами щупальцы, снабженные присосками, как бы похожи на губы змеи. Отсюда, очевидно, и название цветка. Но это нисколько не роняло в глазах чабана достоинств сунгулы. Разве можно винить ее за то, что природа определила ей такую судьбу?
Много в пустыне птиц и всякого зверья. Одних он любил, других ненавидел. Особенно нравились ему черные грифы. Эти великаны живут в горах, а потомство выводят в пустыне. В самых глухих зарослях саксаула грифы выберут куст, что покрепче да погуще, и построят на нем гнездо величиною с доброе колесо. Еще не успеют грифы его отделать, а в нижнем этаже уже хозяйничают воробей и его супруга. В апреле у грифов появятся белые, как снег, птенцы. К лету они встанут на крыло и вместе со взрослыми улетят в горы.
В общем, хорошо в пустыне. Один воздух чего стоит. Чистый, прозрачный, настоянный на тысяче разных трав.
Но Аймед знал: сколько пустыню ни хвали, сколько ни восторгайся, а словами о ней не расскажешь. Это под силу разве лишь музыке, тростниковой дудке-туйдуку. Аймед-ага любил слушать туйдук, когда на нем играл его заместитель Ораз. Играл он обычно под вечер, когда вдали за красным барханным морем садилось усталое солнце, а у колодца мирно дремала отара и горел, постреливая угольками, вечерний костер.
Пенье туйдука — низкое и заунывное — напоминало чабану протяжный шум ветра в голых кустах. Это голос самой пустыни. В нем слышались суровое раздолье песков, трепет трав, звонкая радость весны и щемящее чувство печали.
Так понимал пустыню старый Аймед-ага. Эту любовь и древнюю свою профессию он мечтал передать сыну Мяликмухаммеду. Как только Мялику исполнилось шестнадцать лет, отец привез его в пески, на свой чабанский кош. Кош — это мазанка из тамариска, в которой несколько кошм и подушек на пыльном земляном полу. Ни удобств, ни комфорта. Рядом с мазанкой — глубокий колодец и корыто для водопоя, да два свирепых волкодава.
А кругом, куда ни глянешь — пески, безлюдье, тишина.
Теперь Мяликмухаммед был членом чабанской бригады и имел должность чолука — помощника старшего пастуха. Должность, конечно, не ахти какая, но на первых порах и это было неплохо. «Пусть обживается, научится кое-чему, наберется опыта, — рассуждал Аймед-ага, — а там видно будет. Со временем, может, вместо себя оставить придется».
Как-то вечером, вручая Мялику чабанский посох, отец сказал:
— Мой сын, пустыня дает человеку мужество и здоровье, а труд чабана — почет и уважение. Трудись и будь счастлив! Когда же мой путь подойдет к последнему пределу, я надеюсь, что этот посох, отполированный моими и твоими руками, ты передашь одному из своих сыновей.
В ответном слове Мялик обещал выполнить завет отца, но не было при этом ни радости, ни блеска в его глазах.
Шло время. И с каждым днем Аймед убеждался все больше, что из сына, привыкшего к большому благоустроенному поселку, где каменные дома, чистый и гладкий асфальт, вдоль которого — сплошная зелень деревьев, чабана не получится. Все, что так глубоко и с такой нежностью любил отец, не нравилось сыну. Ему тошно было от дремучей тишины и унылого однообразия песчаных гряд, диких колючих кустов, резкого запаха овечьего стада, вязкого, затрудняющего движение, песка. Своих обязанностей — чай вскипятить, обед приготовить — Мялик не выполнял: все делал за него отец. И когда он убедился, что сына к пустыне не привяжешь, повез Мялика обратно, в село.
По приезде в Евшан-Сары вместе зашли в колхозное правление к башлыку.
— Не прижился мой сын в песках, — печально вздохнув, признался Аймед-ага. — А неволить нельзя. Работник из-под палки — это не работник. Вот и пришел узнать, нет ли ему места здесь, в колхозе?
Бегенч пристально посмотрел на паренька. В хитрых монгольских глазах юноши смущение и радость.
«Смекалистый, должно быть», — определил председатель, а вслух сказал:
— Место найти можно… Да ведь… опять сбежит!
— Нет, не сбегу, — с обидой, чуть слышно ответил Мяликмухаммед.
— Хорошо. Проверим. Поливальщиком пойдешь?
— Пойду, — уверенно сказал Мялик.
— Ну, а ты, Аймед, как? Не против? — на всякий случай, чтобы не обидеть отца, спросил председатель.
— Ай, мне-то что? Лишь бы ему хорошо было!.. — весело ответил Аймед-ага, довольный тем, что так быстро, без лишних хлопот пристроил сына к делу.
Работу мираба легкой не назовешь. А по значению она — на первом месте: как польешь, такой и урожай снимешь. Нельзя посевы затапливать, нельзя и сухими оставлять, почва должна увлажняться медленно, равномерно. С этой целью полив овощных культур в колхозе производился по трубкам, уложенным в борозды в начале поля. Длина каждой борозды, вдоль которой посажены помидоры, капуста или огурцы, чуть ли не километр. А таких борозд — сотни! Поливальщик должен следить за током воды, за увлажнением почвы и — не зевать!
Мялик Аймедов будто создан был для должности мираба. Худенький, быстрый и легкий, как ящерица, он ни минуты не знал покоя. Он день и ночь пропадал в поле, на бригадном участке. Никто не знал, когда он спит, когда ест, когда отдыхает. И вообще отдыхает ли он? Даже старые, видавшие виды, поливальщики только руками разводили: откуда у парня такая выносливость? И что за сердце у него? Может, вместо сердца мотор? Ведь никто ни разу не видел Мялика ни усталым, ни вялым, ни расслабленным. «О! Если наш Мялик не сбавит темпов, — говорили в колхозе, — то далеко пойдет».
Бригада, в которой работал Мялик, из года в год получала высокие урожаи овощей. Все считали, что главная заслуга в этом принадлежит молодому мирабу. И никто в колхозе не удивился, когда Мялику Аймедову, совсем еще юному человеку, почти мальчишке, вручили орден Трудового Красного Знамени — первую в его жизни высокую правительственную награду.
Вскоре за награждением последовало и повышение в должности: назначили учетчиком бригады. Это заметное повышение. Учетчик — это заместитель бригадира, под началом которого человек пятьдесят подчиненных. Теперь и обязанности у Мялика были сложнее: он учитывал работу каждого члена бригады, начислял зарплату и сдавал свои расчеты в колхозную бухгалтерию.
Но этого ему казалось мало. Ведя учет в бригаде, он присматривался к работе овощеводов; глаз у Мялика острый, цепкий — все запоминал и критически взвешивал: у кого лучше, у кого хуже. Почему? И все мотал на ус, хотя у парня в ту пору и усов-то настоящих не было, Из всех своих наблюдений Мялик особенно глубоко усвоил истину: без удобрений нет урожая. Истина старая, как мир. Да все ли ей верны? И тот, кто изменял ей, по лености или другой причине — лишался урожая. Совсем иное дело, когда почва в достатке получала удобрения и, в частности, навоза… Овощи, выращенные на такой земле, хороши во всех отношениях. Не получал, урожая и тот, кто не боролся с сорняками, упускал сроки сева, плохо поливал, не берег поля от вредителей.
Иногда на планерки, вместо бригадира, приходил Мялик Аймедов. О бригадных делах он говорил умно, сжато, веско. И каждый раз, слушая учетчика, его точный, короткий рассказ, Бегенч мысленно отмечал: «Какой молодец! Какая светлая голова!»
И вот, когда председателю понадобился бригадир для целинного участка, он вспомнил о Мялике Аймедове. Вспомнил и вызвал к себе. В ходе беседы Ораков сказал, что хочет поставить его во главе самой слабой бригады и послать на бывший солончак. Башлык действовал мягко, без нажима. Он даже дал Мялику время на размышление. Но тот раздумывать не стал и, не выходя из кабинета, согласился пойти на шоровый[5] участок.
…Когда началась вспашка целины под первый урожай помидоров, огурцов и капусты, председатель вместе с бригадиром приехали в поле. Они остановились на его краю и молча стали глядеть во след трактору, за которым ложились ряды гладких, красноватых волн. От пашни, от примятой сапогом нежной, только что выглянувшей на свет травы, пахло весной.
Мялик был взволнован. Его узкие хитроватые глаза лучились радостью. Поле, перед которым он стоял, теперь принадлежало ему и его бригаде. Давно он об этом мечтал, еще с той поры, как пришел в колхоз.
И вот мечта сбылась!
— Нравится? — глянув на Мялика, спросил председатель.
— Что нравится? — спросил бригадир, не поняв вопроса.
— Земля.
Прежде чем ответить башлыку, Мялик нагнулся и со свежего отвала поддел горсть влажной земли, пронизанной тонкими нитями живых корешков. Растерев ее на ладони, Мялик уверенно, как заправский земледелец, заявил:
— Хороша, яшули. Как масло! Хоть на хлеб намазывай…
— А какая была? — напомнил Ораков и задумчиво поглядел вдаль.
— Знаю…
— Откуда?
— Разве только я! Все знают…
— Тогда слушай, что я скажу, — доверительным тоном продолжал Бегенч. — Я хочу, чтобы этот участок был самым урожайным. Но тут без контроля не обойтись. Нужен строгий контроль. Без этого успеха ни жди. Что еще? Нужно бригаду сплотить. Зажечь, словом воодушевить. Пусть каждый, как следует, впряжется в дело. Тогда и бригадный вьюк везти не так уж будет трудно. Короче говоря, я хочу, чтобы это поле было полем твоей славы. Смотри, не подведи — экзамен и путь к славе уже начался. Но оценку этому экзамену буду давать не только я. Уже в начале лета, как обычно, приедут проверяльщики из соседнего Кизыл-кала, а потом, быть может, — из Марыйской или Чарджоуской области. Держись. Не ударь в грязь лицом.
Мялик внимательно слушал наказы своего наставника и тихо, послушно произносил: «Хорошо. Ладно. Будет сделано». Слова председателя оказались пророческими. Но до той поры, когда они превратились в явь, прошли годы. Не все в бригаде Мялика шло гладко. Были ссоры, были и споры. И неприятности были. Добрый и мягкий от природы, он долго не мог переломить свой характер и войти в роль требовательного начальника. Многим он прощал и промахи в работе, и грубость, и нерадивость, и лень. И все это длилось до тех пор, пока председатель, не выпускавший из виду действия бригадира, не преподал ему однажды наглядный урок бескомпромиссного отношения к бракоделу.
А было это так.
Шло обычное рыхление почвы в междурядиях, удаление сорняков. Трактор на прицепе с культиватором ходил взад-вперед вдоль грядок с помидорами. Тракторист, видимо, спешил «набрать гектары» и не заметил, как стрельчатые ножи культиватора прошлись по грядке и начисто выбрили целый ряд здоровых растений. Хотя и небольшой, но ущерб урожаю был нанесен.
Все это произошло на глазах башлыка, только что подъехавшего к полю. Тут же где-то недалеко находился и бригадир. Рассерженный промахом тракториста, башлык прошел на участок, поднял погубленные кусты томатов и, потрясая ими в воздухе, крикнул:
— Эй, куда же ты смотришь? Это же преступление!..
Услышав голос председателя, Мяликмухаммед со всех ног бросился к нему. Глянув на срезанные кусты, он удивился возмущению Оракова и со спокойно-веселым видом сказал:
— Бегенч-ага, но это же мелочь…
— Мелочь?! И это говоришь ты, бригадир? — грозно произнес председатель. — Но ведь без мелочи нет целого… Составьте акт на бракодела, и пусть эта «мелочь» лежит в колхозной кассе!
Урок председателя пошел на пользу. После этого Мялик строго и зорко следил за всем, что делалось в бригаде. Он был беспощаден ко всем, кто работал с ленцой, кто допускал брак, нарушал агротехнику, дисциплину.
Сказалось ли это на делах бригады, можно судить по такому эпизоду.
Однажды, в начале лета, в небольшой тесноватый двор колхозного правления въехала вереница автомашин из соседнего села Кизыл-кала, где расположен колхоз имени Ленина. Оба колхоза давно уже связывает крепкая дружба и такое же давнее соревнование. Каждый раз, перед началом сбора овощей представители обоих колхозов поочередно приезжают друг к другу для взаимной проверки выращенного урожая овощей и состояния других отраслей сельского хозяйства.
В свою делегацию, которую возглавил председатель колхоза Аман Корпяев, они включили секретаря парткома — молодую, симпатичную женщину, секретаря комитета комсомола, несколько бригадиров, животноводов, виноградарей, передовиков. В этой же проверке, как обычно, приняли участие представители райкома партии и районного управления сельского хозяйства — всего человек тридцать.
…О прибытии гостей Ораков был извещен заранее.
Он сошел с низкого крыльца колхозного правления и неторопливо сделал несколько шагов навстречу высыпавшим из автомашин соседям. За ним двинулись остальные руководители и члены колхоза «Октябрь».
Первым подошел к Бегенчу председатель колхоза имени Ленина Аман Корпяев. Это был молодой, высокий человек. Держа обеими руками правую руку Оракова и нарушая древний этикет, Корпяев первым начал приветствовать старшего по возрасту и негромко, с теплинкой в голосе, расспрашивал его о здоровье, о делах, о семье. Создавалось впечатление, будто Корпяев говорил не как равный с равным, а как ученик с учителем или подчиненный с начальником. Понять Корпяева было нетрудно. На пост председателя он избран недавно — два года назад. А до этого работал главным экономистом и главным бухгалтером в колхозе «Октябрь», под началом Бегенча Оракова. Многому он научился у этого руководителя и велико было за это чувство благодарности. Да и сейчас он все еще считал себя учеником. Более того, и нынешним своим положением тоже был обязан Оракову.
Когда в Кизыл-кале на смену завалившему работу председателю потребовался новый, более энергичный и деловой, обком партии остановил свой выбор на Амане Корпяеве. Но прежде чем рекомендовать его общему собранию, обком спросил мнение Оракова. Бегенч сказал о нем коротко:
— Не подведет!
Это мнение оказалось решающим.
Тепло и весело поздоровавшись с членами проверочной бригады, Ораков пригласил их к себе в кабинет. Подали чай, конфеты. За чаем гости перебрасывались незначительными фразами, шутили. Словом, делали вид, что никуда не спешат. Но Оракова не проведешь. Он знал настроение гостей, и понимал, с каким острым нетерпением им хочется приступить к проверке. Объяснялось это тем, что многие кизылкалинцы приехали в «Октябрь» впервые и были предубеждены против его успехов. Им, этим сельским скептикам, самим хотелось убедиться во всем — и, прежде всего, в том, чем же таким особенным знаменит колхоз? Не дутая ли слава у него? Была и другая причина их нетерпения. Ознакомившись с делами колхоза, им хотелось сравнить их со своими. А сравнив, тут же убедиться, как выглядят они на фоне успехов прославленного хозяйства: хуже или лучше? Если хуже, то намного ли?
Поэтому Ораков и не стал томить ожиданием своих соперников. После короткого чаепития он попросил их разделиться на несколько групп — по отраслям — и предложил приступить к делу.
…Десятка полтора легковых автомашин выехали из села в северном направлении. Густая белая пыль, поднятая ими, ложилась на непролазный придорожный бурьян, за которым с обеих сторон зеленели просторные квадраты полей, лиловым цветом отливали люцерники.
На головной машине ехали Бегенч и Аман Корпяев.
— К Мялику, — слегка дотронувшись до плеча шофера, чуть слышно попросил Ораков.
Спустя немного времени, свернув налево, остановились на краю огромного огуречного поля. На нем — тут и там — пестрели платья молодых сборщиц. Вдоль зеленых гряд темнели ровные бесконечные борозды.
Все сошли с машин. Не сговариваясь и не проронив ни слова, гости, словно зачарованные, долго любовались полем, видимо, стараясь понять: не сон ли это? А если не сон, то как же можно было сотворить из простых огуречных гряд, обычной земли и обрамляющих ее камыша и деревьев такую немыслимую красоту? Кто-то из гостей, первым выйдя из оцепенения, шагнул в борозду, склонился над грядкой и начал ворошить огуречные листья. Напрасно он пытался найти здесь хоть одну сорную травинку — ее не было. Зато много было сочных и аппетитных на вид плодов. Так много, что склонившийся над ними колхозник не выдержал и закричал восхищенно:
— Вот это, братцы, урожай!
После такого возгласа, естественно, и другим захотелось поворошить листья. Один из проверяльщиков, вдоволь удовлетворив свое любопытство, выпрямился и, шевеля губами, начал прикидывать, сколько же тут огурцов на каждом гектаре? Закончив подсчет, он пришел к выводу, что урожай выращен невиданный.
— А где же хозяин этого поля? Где бригадир? — оглядываясь по сторонам, громко спросил Аман Корпяев.
— Я здесь! — подал голосок Мяликмухаммед, почему-то очутившийся позади проверяющих. Он перепрыгнул грядку и угодил прямо в борозду. Выпрямился, глянул на народ и в тот же миг встретился с десятками любопытных глаз. По выражениям этих глаз Мялик понял, что гости разочарованы. Небольшого роста, щуплый, с лицом простым, не тронутым даже загаром, он и впрямь не производил впечатления. «Сюда бы, к такому полю, — размышляли, видимо, гости, — надо бы богатыря, исполина, а не мальчика из народной сказки, знаменитого Яртыгулака, ростом в половину верблюжьего уха».
Смущенный Мялик стоял под прицелом любопытных взглядов и скромно улыбался. Сквозь узкие щелки век весело и доверительно сверкали его карие хитроватые глаза.
— А вот и хозяин поля, — сказал Бегенч, представляя гостям бригадира. — Кавалер ордена Трудового Красного Знамени Аймедов Мяликмухаммед.
В ответ послышался сдержанный шепот удивления:
— Какой молодой, а уже — орденоносец!
— Мал да удал!
— Дело не в росте, в уме.
Когда все смолкли, вперед выдвинулся молодой плотный паренек, в желтой, как лимон, безрукавке и модных синих джинсах. Это был комсорг колхоза имени Ленина.
— Скажи, Мялик, — спросил он по-дружески просто, — как ты добился такого славного урожая?
— Работали! — ответил Мялик так же просто.
— И это все?
— А что еще? Ну, еще скажу, что совсем недавно на этом участке был шор…
— Вы слышали, что он говорит? — поворачиваясь к своим, произнес комсорг таким тоном, как будто услышал самую чудовищную ересь. А потом опять — к бригадиру: — Ну, и загибаешь ты? Кто же тебе поверит, что на шоре можно вырастить такой урожай?
— Нет. Он правду говорит, — подтвердил башлык. — Шор на этом месте действительно был. Но мы его, как видите, уничтожили.
— Говорят, и вы тут руку приложили? — обращаясь к Бегенчу, заметил Аман.
— Было такое. Но главное сделал вот он, Мяликмухаммед и его бригада.
Пока между башлыками шел разговор, Мяликмухаммед нарвал огурцов и раздал гостям.
— А теперь попробуйте их на вкус, — предложил он.
Все с удовольствием приняли этот дар и дружно захрумкали. При этом один кизылкалинец шутя спросил бригадира, не мед ли он добавляет в почву?
— Зачем же мед? Навоз добавляем! — на шутку гостя ответил Мялик. — А что?
— Да вкусно очень!..
— Так и должно быть.
Бегенч повернулся к членам проверочной бригады и попросил пройти к томатному полю. Все свернули на узкую тропинку, протоптанную среди лебеды и верблюжьей колючки. Опять они шагали рядом, впереди, два друга, два председателя, а за ними — остальные. Между прочим, Бегенч сообщил Корпяеву, что бригада Мялика до того, как перешла под его начало, была самая слабая в колхозе.
— А теперь творит чудеса? — с живостью спросил Аман.
— Да. Теперь — лучшая.
…После того, как гости побывали на огуречном поле, их казалось уж ничем нельзя было удивить. Но то, что им открылось на томатном, просто ошеломило. Они долго не могли оторвать взгляда от густых темно-зеленых рядов крепких ухоженных растений. Ни одного вершка, да что там вершка! — ни одного миллиметра пустующей земли! Все поле было усеяно плодами, цвело. И ясно было, что люди, вырастившие такой урожай, все отдали полю: вдохновение, всю нежность и любовь, все думы свои, заботы, надежды и терпенье. Такая работа была сродни искусству — самому высокому и благородному. И чуткая земля отозвалась на это изумительной щедростью и красотой.
Гости побывали потом во многих бригадах, видели много прекрасных полей, но такого, как у Мяликмухаммеда, не встретили нигде.
Мялик давно понял, что строгость и доброта — хорошие качества. Но руководителю и специалисту этого явно недостаточно. Обладая только ими, Аймедов вряд ли стал бы знатным овощеводом и завоевал такую широкую популярность. Он рано понял, что в любом деле, чтобы быть впереди, лучше других, надо учиться, перенимать передовой опыт.
И он учился. Все равно у кого: у своих, в колхозе, у соседей, в Москве на Выставке достижений. Расстояния его не смущали — ради новшества или нового, перспективного сорта он готов был отправиться куда угодно! В составе советской делегации Мялик побывал даже в Болгарии. И там, куда бы ни приезжал, он покорял всех своей веселостью, добрым общительным нравом, но больше всего — неутомимым интересом к делам и достижениям местных овощеводов, селекционеров, ученых. Он быстро сближался с людьми, слушал рассказы специалистов, задавал много вопросов, стараясь как можно глубже вникнуть в суть дела, вел дневник.
Но кроме записей и ярких впечатлений о Болгарии Мялик надеялся привезти домой семена самых урожайных сортов овощей, годных для выращивания в знойном климате Туркмении.
И тут не обошлось без курьеза.
В одном из болгарских хозяйств нашу делегацию познакомили с великолепным сортом поздней капусты. Хозяева так расхваливали ее, говорили о ней с таким восторгом, как будто это было не растение, а какое-то живое чудо. А хвалили ее за то, что она давала высокие урожаи и была устойчива против болезней. И все же главное ее достоинство заключалось в замечательном вкусе. По свидетельству болгарских овощеводов, эта капуста хороша была во всех видах: и в сыром, и вареном, и квашеном. Особенно ее хвалила молодой агроном — изящная, с черными блестящими глазами, смуглянка. Дождавшись, когда она закончит свой рассказ, Мялик через переводчика спросил:
— Кто же создал такой удивительный сорт?
Агроном почему-то смутилась и, понизив голос, ответила:
— Ваши соседи.
— Соседи? Какие же? У нас их много.
— А которые живут на западном берегу Каспия.
— Азербайджанцы?
— Они самые! — радостно воскликнула болгарка, видимо, надеясь на ответный восторг гостя из Туркмении. Но гость от такого сообщения почему-то посерьезнел и впал в задумчивость: именно этот сорт Мялик хотел выпросить у хозяев и привезти домой. Ну, а теперь, как попросишь. Это все равно что просить в подарок собственную вещь. «Какой позор! — с негодованием думал он. — Люди за тысячи километров живут и знают все об успехах наших соседей, А мы — рядом и ничего не знаем».
Вслух Аймедов признался:
— Вы знаете, я думал, что этот сорт создан вами и хотел обратиться с просьбой…
— С какой? — спросила болгарка, заметив смущение гостя.
— Хотел попросить семена этой капусты. А теперь и просить как-то неловко. Не только перед вами — перед своими стыдно. «До чего, скажут, дожили! Свои же сорта из-за границы возим. Ведь куда проще: поехал за море и привез…»
— Ну что вы! Какой тут стыд, какое неудобство! — горячо и весело запротестовала болгарка. — Семян дадим вам — ведь мы свои же люди!.. Сколько хотите дадим!..
Семена поздней капусты Мялик привез и развел ее на бригадном участке. Есть у него и другой высокоурожайный сорт — капуста средних сроков. Он получает завидные урожаи огурцов и помидоров. Если же взять среднюю урожайность овощей по годам, то сразу будет видно, с какой стремительностью она росла. Например, в 1971 году она составляла 384 центнера с гектара, а через несколько лет — пятьсот с лишним! И это на бывшем солончаке! На земле, испорченной, больной, брошенной на произвол судьбы!
Словом, достижения Мялика в развитии овощеводства были так значительны, так велики, что его удостоили второй правительственной награды — ордена Ленина. В то время бригадиру не было и тридцати лет.
За блестящими успехами Аймедова с мучительной ревностью и злобой следил Таган Чорлиев. На свою беду он давно понял, что в споре с председателем колхоза по поводу освоения земельного участка он потерпел самое сокрушительное и самое унизительное за всю свою жизнь поражение. Понял Чорлиев и другое, что в этом его поражении не последнюю роль сыграл и общепризнанный талант Аймедова. Теперь Чорлиев и сам, пожалуй, не рад был, что ввязался в спор с башлыком. И вся эта история с бросанием шапки «под хвост собаке» теперь казалась ему по-мальчишески глупой, неприглядной. И было бы лучше, если бы этой истории не было совсем. Но от прошлого не спрячешься, каким бы оно ни было: славным или позорным, горьким или счастливым. К сожалению, об этом человек почти никогда не думает. А если бы думал, то отказался бы от многих своих поступков.
Чорлиев не был исключением. И ему — по причине его невежества, тупого старческого упрямства и самоуверенности пришлось испить до дна горькую чашу стыда и позора.
Но беда не приходит одна. К тому времени, когда Аймедова наградили орденом Ленина, Чорлиева сняли с должности заведующего фермой и разжаловали в рядовые. Произошло это так. Однажды на собрании партийного комитета коммунисты заслушали доклад Чорлиева о состоянии дел на ферме. Вопреки очевидным фактам, в докладе все выглядело в розовом свете. А если что и было плохо, то виновен был кто-то другой, но никак не заведующий. Когда же его работу начали разбирать «по косточкам», резко критиковать, а его самого уличать во лжи, Чорлиев попытался выкрутиться, свалить вину на других, но из этого ничего не вышло.
Однако это была еще не самая горькая беда в жизни бывшего завфермой. Горше и обиднее оказались алые языки односельчан: житья от них не стало! Особенно с той поры, когда бригада Мялика начала получать с бывшего шора фантастические урожаи овощей.
Раньше, еще до того, как Чорлиева сняли с работы, он любил вечерком посидеть возле магазина в компании мужчин. Это была давняя традиция. Магазин, находившийся в центре села, словно магнитом притягивал к себе и старых, и молодых. В открытом дворике магазина стояла просторная, покрытая кошмой, тахта. Вот сюда и собирались каждый раз любители шахмат, шашек и вечерних посиделок. Садились кто куда: на середину тахты, по ее краям, на корточки и прямо на землю.
Сперва, как обычно, обсуждались местные новости: кто женился, кого замуж выдали, во что обошлась свадьба, кто «жигуленка» купил, кто справил новоселье и массу других больших и малых событий. Потом переходили к обсуждению событий за рубежом. Когда и этот вопрос получал полное и всестороннее освещение — начиналось главное в программе вечера: игра в шахматы.
Противникам, двум пожилым бородачам в косматых тельпеках, уступали место на середине тахты. Скрестив ноги, они молча усаживались за доску, снимали халаты, и игра начиналась. В ту же минуту их облепляла со всех сторон куча азартных болельщиков. Во время игры они поднимали шум и крик, желая подсказать своему любимцу самый верный и самый остроумный, но их мнению, ход. Лишь противники были невозмутимо спокойны, вдумчиво оценивая свои и чужие шансы на победу и чутко прислушиваясь к подсказкам болельщиков. Надо заметить, что в прошлом среди шахматистов Евшан-Сары было немало талантливых мастеров, о которых еще при жизни рассказывали легенды и смешные анекдоты. Жители села до сих пор помнят, например, никем не побежденных Чары Кирмека и Ата Бахши. Садясь за доску, они забывали обо всем на свете.
Однажды, когда Кирмек обдумывал очередной и, надо полагать, решающий ход, кто-то из болельщиков шепнул ему на ухо, что умер его брат Ашир. Другого такая весть сразила бы насмерть. Но не таков был Чары Кирмек. Пропустив печальную весть мимо ушей, он продолжал думать над своим ходом. Тогда весть о кончине брата ему повторили снова. Но и на этот раз она не дошла до его сознания. Мало этого, подхватив слова, сказанные ему на ухо, он начал машинально повторять:
— Умер Ашир, умер Ашир! — И только после того, как с победным возгласом: — Шах! — поставил фигуру на доску, — он понял, какое несчастье его постигло.
Не менее самобытными, яркими были и многие другие посетители «шахматного клуба», приходившие к магазину просто так, скоротать время, послушать новости, посмотреть на игру шахматистов. Чуть ли не каждый из этих завсегдатаев вечерних встреч имел уличное прозвище, которое довольно полно определяло сущность его владельца. Причем, оно так прочно прирастало к человеку, что почти навсегда вытесняло настоящее имя. Так одного из самых активных посетителей вечерних посиделок Реджепа Каррыева звали на селе «Машин-бахши», «Машина-певец». Когда-то в молодости Реджеп мечтал легко и быстро разбогатеть. Но для этого мало быть мечтателем. Надо быть ловким, предприимчивым. Таким и был Реджеп. Благодаря этой своей ловкости он едва ли не первым среди туркмен предгорной полосы приобрел «поющую машину», состоявшую в основном из небольшого деревянного ящика и широкой железной трубы. Положив ящик на ишака, а трубу засунув в переметную сумку-хурджун, Каррыев отправился на отгонные пастбища, к чабанам. Пастухи с любопытством встретили техническую новинку и с наслаждением слушали записи любимых певцов. Как выяснилось потом, Реджеп не отличался особенным бескорыстием и брал с чабанов за каждую прослушанную пластинку ягненка или овцу. Так что после своих «гастролей» в песках Реджеп Пригнал целую отару овец — «посильный» дар пустынных меломанов. С тех пор настоящее имя Реджепа почти забылось и до самой старости его звали «Машин-бахши».
То же самое произошло и с Сеитниязом-Пастухом. Он в меру бородат, молчалив, на грубом широком лице глубокие морщины и темный загар. Наряд его неизменен круглый год: черный мохнатый тельпек, чекмень из верблюжьей шерсти и пастушьи чокаи. В общем вылитый чабан. Односельчане так его и зовут: Сеитнияз-Пастух.
Вот другой пример: Аманмурад Токлы. Если к нему приглядеться, то можно легко понять, что он похож на шестимесячного барашка — токлы. Взгляд такой же, как у ягненка, задумчивый и почти всегда обращен вниз, к земле. И что-то кроткое, полусонное в этом взгляде. Волосы вьющиеся, блестящие, как на каракульском смушке. Нос толстый, с горбинкой, губы тонкие. Словом, все, как у шестимесячного барашка.
Нередко прозвища людям даются на основании какой-нибудь слабости, недостатка. Курбандурды Мурадов, например, очень любит поспорить. Медом не корми — лишь бы в словесную перебранку вступить. И когда ему говорят одно, он старается доказать противоположное. Вот и наградили его за это прозвищем Кетче, «наоборот».
Старика Ханкули Бердыева знают на селе как человека вспыльчивого нрава. Порою он ведет себя слишком бурно и даже буйно, вроде гоголевского Ноздрева. Теперь в глаза и за глаза его называют Шеррай, что означает баламут, смутьян.
В числе вечерних посетителей магазина были, как водится, и насмешники, готовые ухватиться за любой повод, лишь бы потешиться над человеком. С некоторых пор мишенью для них и стал старик Чорлиев. Едва он успевал подойти к магазину и выбрать место для сиденья, как тут же кто-нибудь из зубоскалов начинал над ним подтрунивать.
— Таган, салам! — кричал Ханкули Шеррай, — Ай, как нехорошо ты поступаешь… Как нехорошо!
— Что такое? — спрашивал Чорлиев, озадаченный непонятным вопросом.
— Да как «что такое»? — продолжал насмешник. — Шапку-то свою ты совсем не бережешь — вон как обветшала… А ведь это, можно сказать, историческая шапка! Как-никак в споре с башлыком участвовала!
В ответ раздавался дружный хохот, а Таган зеленел от злости.
— Баламутом-то тебя недаром прозвали, — сердито и глухо упрекал он Ханкули Шеррая. — Ты и впрямь смутьян. Тебе бы только язык почесать, бесстыдник!
— А ты, Таган, не обращай на него внимания, — прикидываясь заступником, говорил Амандурды Кетче. — Ты лучше послушай меня. Шапку свою ты спрячь и никому не показывай. А взамен купи что-нибудь другое. Ну, скажем, шляпу или кепку. И носи себе на здоровье. Никто даже рта раскрыть не посмеет. Это я тебе говорю: Амандурды Кетче.
Чорлиев действительно внял этому совету и однажды явился к магазину в новенькой летней шляпе. Когда он уселся на краешек тахты, к нему подошел Сапар-Хвастунишка. В глубокой тишине он оглядел со всех сторон шляпу — даже шахматисты бросили играть, — задумчиво помолчал, вздохнул и с явной печалью помотал головой:
— Нет. Шапка все-таки лучше.
Взрыв хохота!
Побледнев, Чорлиев вскочил с тахты и кинулся прочь от магазина. С тех пор никто его здесь не видел.
А Мялику Аймедову везло все больше. Росли его урожаи, все громче и шире гремела слава о нем. Еще не остыла радость по поводу награждения орденом Ленина, а в дом бригадира пришла новая весть: Мяликмухаммед первым из овощеводов республики получил высокое звание лауреата Государственной премии СССР.
Когда эта новость дошла до Чорлиева, она поразила его, как самое тяжкое несчастье. Хотя старик понимал, что такое звание даром не дается, что его надо заслужить настойчивым трудом, равным подвигу. И всем на селе известно было: такой подвиг Мялик совершил, добиваясь рекордных урожаев овощей на бывшем солончаке, против освоения которого так горячо выступал Чорлиев. Присвоение Мялику звания лауреата как бы подтвердило дальновидность председателя и еще больше унизило в глазах людей бывшего заведующего фермой. Он с ужасом думал о своем будущем и боялся его: не только на улицу, теперь за ворота не выйдешь! Всяк, кому не лень, будет смеяться, напоминая о позорном проигрыше в споре с башлыком. Чорлиев уверил себя в том, что сельские насмешники теперь придумают что-нибудь еще более ядовитое, чем те издевки, которым он подвергался до сих пор. Думы об этом не давали покоя старику ни днем, ни ночью — с ними ложился, с ними вставал. За неделю так исхудал, что непонятно было, в чем душа держится. Думали помрет. Но он не умер. Поболел еще немного и пошел на поправку. Но последние годы жил как затворник — ни на шаг дальше дома не уходил.
Достойных, сильных соперников у Мялика было немало. Многие были его ровесниками, вместе начинали путь к бригадирству и славе. И все у них — на первый взгляд — было почти такое же, как у Мялика: такая же нежная и несокрушимая любовь к земле, такой же опыт, глубокие знания, такая же жажда творчества, такая же энергия.
И хотя ни одна из полеводческих бригад пока не достигла такого же уровня в своих делах, как бригада Мялика, все они были крепкими, надежными, и председатель мог бы жить и не тужить. Но сам Бегенч считал, что до тихой, спокойной жизни ему еще далековато. Ему, как воздух, нужен был специалист, который был бы ближе к бригадам, чем он сам, председатель. Таким ему виделся главный агроном колхоза, во власть которого Ораков хотел отдать поля овощных и бахчевых, посадки шелковиц, посевы зерновых, сады и виноградники. Нельзя сказать, что такого специалиста в колхозе не было. Он был. И даже зарплату получал, но толку от него не было ни на грош. Совершенно охладевший к своей работе, пожилой и вялый по натуре, он понимал, что занимает чужое место и уже не раз заявлял председателю, что если подвернется хороший знающий парень, с удовольствием уступит ему свою должность, а себе просил что-нибудь полегче, поспокойнее.
Такой парень действительно подвернулся. Он пришел в колхоз прямо со студенческой скамьи и принят был на должность энтомолога — специалиста по борьбе о вредителями сельского хозяйства. Надо ли говорить, как важна эта должность. Вредные насекомые наступают на овощные культуры со скоростью степного пожара, и если во время их не уничтожить, даже при самом отличном уходе за посевами можно остаться без овощей.
Молодого энтомолога звали Худайберды Джумаев. Его фанатическое трудолюбие изумляло. С утра до ночи колесил он по полям, садам и виноградникам, зорко следя за тем, не появился ли какой-нибудь вредитель. Чтобы не допустить его размножения, он проводил опрыскивание и опыление посевов. Если же, несмотря на принятые меры, вредители все-таки появлялись, Худайберды узнавал об этом первым и поднимал такую тревогу, как будто погибал его лучший друг. Насекомых быстро уничтожали. А это — тонны сбереженного урожая.
И хорошее и дурное в человеке люди подмечают быстро. Нередко от этих же качеств зависит его жизнь, его будущее.
Так вышло и с Джумаевым.
Оракову особенно нравились в нем деловитость, постоянная готовность броситься на спасение урожая. Убедившись, что кипучая энергия не вспышка молнии, а надежный, не остывающий с годами пыл, башлык перевел Джумаева на должность главного агронома. Председатель надеялся, что, имея больше полномочий, Джумаев еще полнее и шире раскроет свои природные таланты и знания, полученные в институте.
И башлык не ошибся.
Худайберды, еще будучи энтомологом, каждый год с досадой и грустью наблюдал, как некоторые бригады не по-хозяйски используют свои поля, допуская изреженность посевов. Происходило это по многим причинам: плохого сева, плохой рассады, некачественной обработки полей, неустойчивой погоды. Но главная причина все-таки, по мнению Худайберды, крылась в лени и равнодушии к делу. Он решил исправить это положение. Не окриком, конечно, не грубым приказом, а терпеливым, основанным на конкретных фактах, убеждением. Однажды, выступая на планерке, он предложил всем бригадам — это касалось в основном полеводов — развернуть борьбу за высокую густоту растений на гектаре, за ликвидацию так называемых «плешивых мест».
Бригадиры и раньше, еще до Худайберды Джумаева, слышали немало подобных призывов и для них это не было каким-то неожиданным открытием. Знали они, что высокая густота растений — залог высоких урожаев. И не только бригадиры — все об этом знали, в том числе и рядовые овощеводы. Но почему-то никто не придавал этому значения. Может, потому, что тот, кто раньше ратовал за высокую густоту, не проявил настойчивости, не довел дело до конца.
Джумаев поступил иначе. Весной, когда на полях появились всходы и была высажена рассада ранних овощей, главный агроном часто наведывался в бригады, проверял состояние посевов. Если обнаруживал гибель рассады или участки, на которых не взошли семена, тут же прямо в борозде вынимал из кармана блокнот и вместе с бригадиром начинал подсчитывать, какой ущерб изреженность посевов нанесет бригаде, потребителю овощей и лично колхознику.
— Допустим, на этом клочке, длиною всего в один метр, — говорил Худайберды и указывал на пустое место, — допустим, здесь ты не доберешь томатов килограмма три. Пустяк ведь? Не правда ли? Но беда в том, что таких пустых мест у тебя на участке не меньше семисот будет. Вот теперь и прикинь, сколько ты потеряешь. Выходит, две с лишним тонны. Мы взяли для подсчета только помидоры. Но ведь у тебя не лучше обстоит с капустой и огурцами. Это одна сторона медали, — продолжал Джумаев. — Теперь давай-ка взглянем на «лысые» места с другой стороны. Сколько раз за сезон ты поливаешь помидоры?
— Да раз… шестьдесят, — слегка подумав, отвечал бригадир.
— Правильно. Примерно столько, — соглашался главный агроном. — Теперь смотри что получается. Эти семьсот метров земли — хочешь или не хочешь — а будут политы: вода-то не сможет в сторону свернуть, а пройдет по борозде, мимо того места, где нечего поить. Самое малое литра четыре надо. Как ты думаешь? Надо? Хорошо. Теперь прибавь к этому бесплодные поливы изреженных участков, где посеяны огурцы и высажена капуста. Это же — тысячи литров воды! Вот и верь после этого, — весело шутил Худайберды, — что цифра — это сухая вещь! Ничего подобного! Какие же они сухие, если целые озера вмещают! А водичка-то у нас на вес золота, брат.
— Далее. Возьмем культивацию — рыхление междурядий и удаление сорняков, — неторопливо рассуждал Джумаев. — За сезон культивации семь-восемь надо? Правильно? Да столько же раз надо внести удобрений. И тут мимо изреженных участков не пройдешь. Вот и посчитай теперь, сколько будет затрачено на них горючего, труда, удобрений, затрачено впустую, безо всякой пользы!
От такой арифметики бригадиру становилось не по себе: он то краснел, то бледнел, покрываясь холодной испариной, и не знал, куда глаза деть. Едва дождавшись утра, он мчался на грузовике к парникам, а оттуда вместе с бригадой на свои поля, чтобы как следует засеять и засадить рассадой пустующие на грядках места.
Призыв главного агронома первым «взял на вооружение» Мялик Аймедов. За ним — остальные бригады. Это дало колхозу огромную прибавку в урожае.
Были у Худайберды и другие таланты. Зная об этом, башлык нередко поручал главному агроному такие дела, которые далеко выходили за рамки служебных обязанностей. Например, починку парниковых печей. Парниководы бедствовали — печи у них так дымили, что дышать было нечем. Настойчивые поиски печных дел мастера, специалиста, успеха не принесли.
Вот тогда-то башлык и попросил Худайберды починить парниковые печи. Худайберды не только исправил их, но и усовершенствовал. После чего печи и дымить перестали, и меньше стали расходовать топлива.
А сколько было других поручений!
Как-то после планерки башлык попросил Джумаева остаться для беседы. Ораков был не в духе. Глядя куда-то мимо собеседника, председатель спросил:
— Наши коллекторы ты каждый день видишь?
— Да. Почти, — насторожился Худайберды.
— Ну и как? Нравятся они?
— По правде говоря, не очень.
— Почему?
— Да потому, что заросли.
— Не нравятся, значит, — Ораков сделал долгую паузу, думая о чем-то своем. — А что ты сделал, чтобы уничтожить камыш?
— Я?.. Я… ничего, — растерялся Джумаев.
— И я вижу, что ничего, — в голосе башлыка слышался скрытый упрек, недовольство.
— Но с какой стати я должен коллектором заниматься, Бегенч-ага? — заволновался главный агроном. — Какое я имею к нему отношение?
— Прямое, — резко ответил Ораков. Если коллекторы плохи, подымется грунтовка, выступит соль, а это — гибель растений. Промыть поля мы не сможем — помешает камыш. Замкнутый круг. Этот круг надо разорвать, надо уничтожить полчища камыша. Если не уничтожим, быть беде!
— Но у меня нет никакого опыта, — пытался оправдаться Худайберды.
— Опыта нет, пока не берешься за дело, — наступал председатель.
— Хорошо, я попробую, — неохотно согласился Джумаев, — но за успех не ручаюсь. Сами знаете: с камышом сладить нелегко.
Наступила осень. Дел у главного агронома поубавилось, и он взялся за выполнение председательского поручения.
Ранним утром Джумаев приехал на берег коллектора, который начинался сразу за селом. Отсюда, рассекая землю вдоль дорог и высоких ажурных мачт линий электропередачи, он стрелой уходил далеко на север, до желтевших на горизонте барханов. Поднявшийся со дна тростник захлестнул все русло, волновался под ветром, бросая в разные стороны пушистые султаны. Худайберды прошелся взад-вперед по берегу коллектора, подминая сапогами жесткие кусты верблюжьей колючки. Закурил и задумался, мысленно перебирая меры, которые можно было бы применить в борьбе с могучими зарослями. «А не испробовать ли гербициды?» — мелькнула у него робкая мысль. Но после этого сразу возник другой вопрос: «А какой из них? Гербицидов много, да не каждый может сладить с камышом — растением сильным, жизнестойким». Да и вообще Худайберды еще ни разу в жизни не приходилось применять ядохимикаты против сорняков. К тому же он был откровенным противником применения каких бы то ни было ядохимикатов, зная, что наша земля, ее биосфера и так уже порядком насыщены всякой химией, в результате чего меняется состав почвы, воды, гибнут птицы, звери и насекомые. Теперь даже жука, букашку какую или мотылька встретишь нечасто. Поразмыслив, Джумаев решил пока не применять гербициды, а испытать что-нибудь более безобидное, скажем, выжигание или механическую выкорчевку.
По указанию Джумаева к месту наступления на заросли подтянулся экскаватор. Сюда же подошли специальные сенокосилки. На следующее утро к коллектору подкатил грузовик с людьми. Джумаев дал знак — и работа закипела. На дне коллектора застрекотали сенокосилки, жадно вгрызаясь ковшом в заросли тростника, зарычал экскаватор. Высоко в поднебесье, с шипеньем и легким гулом взметнулись дымно-красные языки огня.
День за днем, осень и зиму продолжалось наступление на тростник. Его скосили, выжгли, вырвали с корнем и, казалось, что с ним покончено навсегда, что в в том русле он никогда уже не поднимет голову.
Но праздновать победу было рано. Весной, когда пригрело солнце, по всему коллектору победоносно, еще дружнее и гуще, чем раньше, поднялся молодой сильный камыш.
Но упорен был и главный агроном. Убедившись, что без гербицидов не обойтись, он потратил немало сил, чтобы найти нужный препарат. И тут камыш не сразу «сложил оружие», показав удивительную жизнестойкость. Только один из множества испытанных гербицидов действовал на него смертельно.
Вот такие помощники были у башлыка. Это была его опора, его боевая гвардия, которую он создавал в течение нескольких лет. Без этой опоры Ораков вряд ли смог бы руководить таким огромным и сложным хозяйством, как колхоз «Октябрь».
За эти годы не раз менялся состав колхозного правления и партийного комитета, в который вошли деловые, серьезные люди, чей авторитет ни у кого не вызывал сомнений.
Каждый раз, решая тот или иной кадровый вопрос, связанный с перемещением людей по служебной лестнице, Ораков старался быть осторожным и справедливым. Если возникали сомнения, неуверенность, он советовался с членами правления и парткома и поступал с с учетом их замечаний и рекомендаций.
Но как бы Ораков ни был осмотрителен и справедлив, он не мог одинаково быть хорошим для всех. Повышая одного, надо было снять или понизить другого. А это вызывало обиды, гнев и возмущение тех, кого «теснили» или снимали с работы. Это задевало и их родственников. А на селе, как известно, чуть ли не все связаны родством. Обидишь одного — будут недовольны сто! Но обиженные не только затаивали злобу. При случае они старались свести с председателем счеты, выместить свою обиду. И необязательно лично, а с помощью кого-нибудь другого: дальнего родственника или друга.
И это еще не все.
До председателя давно уже доходили слухи о какой-то группе сельских тунеядцев, прожигавших жизнь свою за рюмкой водки, игрой в карты, курением анаши и распространявших о башлыке самые невероятные слухи. Действовали они пока скрытно, кусали и жалили исподтишка. Но Ораков был уверен, что придет время, когда тунеядцы и их друзья выступят против него открыто. И такое время действительно наступило.
…В то утро Ораков собирался в Ашхабад. Шофера он послал на заправку, а сам задержался в правлении, чтобы принять посетителей и подписать кое-какие документы.
На бензозаправочной станции было безлюдно. Наполнив бак горючим, Курбан открыл дверцу и хотел было сесть за руль. Но в это время из-за бензоколонки вышел какой-то незнакомец.
— Постой-ка, друг, — сказал он. — Не спеши. Это ты возишь башлыка из колхоза «Октябрь»?
— Допустим, я. А что? — спокойно ответил Курбан, оглядев незнакомого мужчину с головы до ног. Он был высок, на круглом смуглом лице ярко блестели маленькие, как у медведя, карие глазки. И одежда запомнилась: желтые брюки и полосатая рубашка с коротким рукавом.
— Слушай меня внимательно. Я буду говорить от имени Желтозубого.
— А кто он такой, твой Желтозубый? — перебил Курбан.
— Невежда! Надо слушать, а потом уже задавать свои… вопросы, — с легкой угрозой заметил незнакомец. — Так вот. Желтозубый велел передать, чтобы твой башлык не очень-то засиживался в Евшан-Сары, и чтобы не далее, как через неделю, его и духа там не было. Понял? Замешкается, пусть пеняет на себя. Все. Давай садись и жми без оглядки!
Последние слова задели Курбана за живое. Он тоже хотел сказать что-то грубое, но сдержался. Резко оттолкнув грубияна от машины, он сел за баранку и, отъезжая, бросил:
— Подумаешь, командир какой! Плевать я хотел на твоего Желтозубого!..
Закончив прием, председатель вышел во двор и здесь, в тенистой аллее, засаженной высокими стройными туями, решил подождать шофера. Вскоре машина подъехала. Усаживаясь на свое место, он глянул на Курбана и по выражению его лица понял, что тот чем-то озабочен.
За переездом, когда машина повернула на восток, в сторону Ашхабада, Ораков спросил:
— Что-нибудь случилось?
Курбан мотнул головой и рассказал об угрозе Желтозубого.
— Интересно. Кто же это такой? — тихо произнес Ораков. — У нас желтозубым считается тот, кто дожил до старости. В таких случаях туркмены так и говорят: «Он дожил до желтых зубов». Но тут… что-то другое. Может, кличка?
— А я вот о чем думаю, — авторитетно сказал Курбан, — надо заявить в милицию. Пусть она и займется этим Желтозубым. Это по ее части… Если каждый будет угрожать — что же из этого получится?
— Да, нет. Пока никуда заявлять не надо: мало ли кто и кому угрожает! Угроза — это еще не повод, чтобы вмешивать сюда милицию.
— Смотрите, как бы не было поздно, — мрачно предупредил Курбан и до конца поездки не проронил ни слова.
Бегенч духом не пал и внешне казался спокойным, но в душе родилась тревога. Это неприятное чувство не покидало его даже ночью. В таком напряженном ожидании Бегенч прожил неделю. Но за это время ничего не случилось. Прошла еще неделя, и опять ничего. Тогда Ораков подумал: это просто чей-то розыгрыш.
Начисто позабыв обо всем, башлык уехал к чабанам, в Каракумы. Пробыл там несколько дней, а возвращался оттуда глубокой ночью. Затмевая звезды, в зените стояла полная луна и заливала степь холодным сиянием.
Машина уже приближалась к селу и вскоре пошла вдоль низкого размытого дувала, ограждавшего сельское кладбище. Вдруг Бегенчу показалось, что в одном месте, недалеко от дороги, на кладбище блеснула вода. Вначале он в это не поверил — ведь точно также могут блестеть под луной и бутылочные осколки… Чтобы убедиться в истине, Ораков попросил шофера осадить машину назад. Машина резко рванулась в обратную сторону и остановилась.
Ораков сошел на землю. Увиденное поразило его. От узкого оросителя, проходившего вдоль дороги, на кладбище был прорыт небольшой арык, по которому торопливо бежала вода и накапливалась в одной из воронок старого мазара.
Сердце председателя охватил гнев. Вначале его бросило в жар, потом начала колотить нервная дрожь. «Подлые шакалы, — ругался он сдавленным голосом, — даже мертвецов не пощадили… О, гады!..»
Все еще волнуясь, он остановился на обочине, а горечью думая о случившемся. Словно неприкаянный, с утра, до ночи, он мечется по полям, по бездорожью пустыни, не зная отдыха, не щадя здоровья. И ради чего? Ради одной-единственной цели: чтобы людям жилось лучше. И вот награда…
Бегенч догадывался, чья это проделка. Нет, он не догадывался, он был уверен, что — это «работа» колхозного мираба Дыммы Бердыева! На селе все знали о его дружбе с группой сельских тунеядцев и не раз его видели в их веселой компании.
— К мирабу! — сказал председатель, садясь в машину в самом мрачном расположении духа.
…Еще до того, как это случилось, по селу распространился слух, будто Ораков дал указание распахать кладбище и засеять его кукурузой. Тот, кто распускал эту ложь, рассчитывал с ее помощью очернить председателя, который, дескать, не хочет оставить в покое даже такое священное место, как мазар. А все, мол, потому, что человек он — пришлый, чужой. Ему, мол, чужаку, все равно, где сеять кукурузу — хоть в поле, хоть на мазаре — лишь бы целину осваивать…
Дело дошло до того, что кое-кто из жителей села, возбужденный тревожными слухами, приходил к башлыку и интересовался: правда ли, что он намерен уничтожить кладбище?
Председатель только плечами пожимал:
— Да кто вам сказал?
Ответ был один:
— Не помню. Кто-то из соседей…
Мираб был дома. Его подняли с постели. Он быстро оделся и вышел из дома.
— Что случилось? — спросил мираб. — Такой поздний час…
— Сейчас узнаешь, — холодно ответил Ораков. — Возьми-ка на всякий случай лопату.
Когда прибыли на место, луна уже успела скрыться за облаками, и кладбище погрузилось во мрак. Председатель подвел оробевшего мираба к тому месту, где вода из арыка бежала на кладбище и спросил:
— Покойников поливаешь?
— Поверь, яшули, я тут ни при чем, — стараясь не выдать волнения, твердым голосом произнес Дыммы. — Ей-богу, я тут ни при чем!
Он быстро перекрыл арык возле оросителя, выпрямился и вытер пот.
— А там кто будет зарывать? — указал Ораков на канаву, прорытую на кладбище.
Мираб, опустив голову, молчал.
— Не тяни время, приступай! — приказал председатель.
Мираб даже не шевельнулся.
— Я… я… не могу, — едва слышно вымолвил он.
— Чего ты не можешь?
— Закапывать…
— Почему?
— Боюсь мертвецов.
— А гадить не боишься? — едва сдерживая ярость, произнес председатель. — Даже покойников не щадишь. Какая-то тут неувязка получается…
Башлык замолчал, а мираб пугливо оглядывался по сторонам. Вдруг Ораков шагнул к мирабу, обхватил его руками, как это делают в национальной борьбе «гореш», оторвал от земли, крутанул в воздухе два раза и понес через канаву в непроглядную темень.
— Стой, не губи! Стой! — дико закричал мираб, пытаясь вырваться из железных объятий председателя.
— Закапывай! — приказал он поливальщику, опуская его на землю. — Да так, чтоб следа не осталось от твоих преступлений! А нет — тебе же будет хуже!
Председатель сел в машину и уехал домой.
Утром Ораков велел шоферу поискать мираба и часам к десяти привезти его в контору.
Отправляясь на пояски, шофер решил вначале, так, на всякий случай, заскочить к мирабу домой. И не ошибся: одетый в пижаму, с измятым от сна лицом, тот, видать, и уходить никуда не собирался. Открыв дверь и увидев Курбана, он бросил:
— Чего так рано?
— Башлык зовет.
— Зачем?
— Приедешь — узнаешь.
Вскоре Дыммы появился на крыльце. Он был молод и красив. Белое, едва тронутое загаром лицо, черные вьющиеся волосы, черные глаза. Дорогой модный костюм подчеркивал стройность его высокой фигуры. Лишь одно портило и сводило на нет эту внешнюю красоту: вечно хмурое, недовольное лицо поливальщика; из-за плохих зубов — редких и темных — он почти не улыбался.
…Десяти еще не было, когда машина с мирабом остановилась у крыльца колхозного правления. Дыммы сошел с «газика» и широким шагом направился в контору. Пройдя входной коридор, он открыл дверь председательского кабинета и увидел в нем одних стариков. Но это были не просто старые люди, а члены совета старейшин, чья мудрость и высокий авторитет пользовались большим уважением всех жителей Евшан-Сары.
Как только мираб появился в дверях, взгляды стариков устремились на него. Дыммы даже вздрогнул от этих взглядов, как будто его ударили по лицу, и стал белее стены. Чувствуя слабость, он боком продвинулся немного вправо. Поздоровался. Но на его приветствие никто не ответил. Кто-то освободил для него место, но сесть ему не предложили.
С минуту стояла тишина.
Председатель совета старейшин, небольшой плотный старик Ягмур Кочумов, сидел согнувшись, обеими руками держась за желтый гладкий посох. Седоусый, с большим горбатым носом, Ягмур-ага был похож на старого больного ворона. Но несмотря на преклонный возраст и недуги, Кочумов все еще был крепок духом. Наблюдая из-под седых нахмуренных бровей за оробевшим мирабом, он медленно распрямился и, повернувшись в сторону председателя, неожиданно густым голосом спросил:
— Скажи, башлык, это ты велел мирабу заливать наш мазар, чтобы сеять там кукурузу?
— Такое указание мог бы дать разве умалишенный. Да и то вряд ли, — негромко, но твердо ответил Ораков. — Кто из вас не знает, сколько у нас в колхозе свободных земель? Есть они и для кукурузы. Причем здесь кладбище?
— Все? — спросил Кочумов.
В ответ Ораков кивнул головой.
Ягмур-ага поднялся и, обращаясь к своим товарищам, сказал:
— Старики, вам все ясно? Может, есть вопросы к председателю? Задавайте.
— Ясно! — почти хором ответили члены совета старейшин. — Башлык верно говорит. Земли у нас и без мазара хватает.
Ягмур Кочумов сел, наморщил лоб и прямо посмотрел на мираба.
— Теперь, Дыммы, отвечай ты: чью волю исполнял, когда вместе с другими — у нас есть свидетели — решил залить кладбище?
Мираб опустил голову, побледнел.
— Ягмур-ага, я хотел как лучше… Я хотел, чтобы башлык был доволен мною, — виновато сказал Дыммы.
— Как это «хотел, как лучше?» — удивился Кочумов.
— Да ведь в селе все знают, что башлык собирается на мазаре сеять кукурузу. Вот я и решил не затягивать это дело…
— Ты лжешь, — загудел басом Ягмур-ага. — Ничего «как лучше» делать ты не собирался. Ты хотел делать «как можно хуже». Поливая мазар без разрешения председателя, ты уже совершил преступление. И твой поступок нельзя расценивать иначе, как подлость, как надругательство над сельской святыней. Какую цель ты преследовал? Возмутить против башлыка народ, односельчан. Вот куда ты метил! Итак, я хочу еще раз спросить, чью волю ты исполнял, совершая свое гнусное дело?
Мираб после долгой паузы пробормотал:
— Свою.
— И — это ложь! Теперь мы видим, что правды от тебя не дождаться, и все же мы надеялись, что вот-вот в тебе заговорит совесть и ты честно признаешь свою вину. И мы, наверно, простили бы тебя: чего не бывает по молодости лет! Теперь мы видим, что наша снисходительность тебе не нужна. Поэтому я попрошу башлыка, когда он будет выносить решение о твоем исключении из колхоза, учесть и наше мнение, совета старейшин: таких, как ты, в колхозе держать нельзя. Такие, как ты, подобны больному зубу, если не вырвать — будет мешать здоровым. — Правильно ли я говорю, старики? — еще раз спросил Кочумов своих мудрых и заслуженных сверстников.
И те ответили:
— Правильно, Ягмур!
После того, как тунеядцам и хулиганам не удалось затопить кладбище, Бегенч ожидал, что теперь она предпримут что-нибудь похлеще, тем более, что управы на них не было, им все сходило с рук.
Объяснялось это тем, что многие жители села смотрели на их проделки сквозь пальцы, считая их чем-то вроде детской болезни: дайте, мол, срок — пройдет. Другие были заняты лишь своими заботами и кроме них ни на что другое не обращали внимание. Третьи берегли свои нервы, но были глубоко убеждены, что заниматься какими-то там хулиганами, тунеядцами должен кто-то другой… Ну, скажем, милиция. А она, по-видимому, слишком большие надежды возлагала на общественность. Так что… бездельникам и хулиганам это было только на руку!
И вот как-то ночью на квартире Оракова раздался телефонный звонок. Звонил мужчина. Он сообщил, что примерно час тому назад на участке Гаплан воры похитили со склада машину семенной пшеницы.
— Кто говорит? — волнуясь, закричал Ораков.
— Ишь, чего захотел! И за это скажи спасибо, — засмеявшись, ответил мужчина и повесил трубку.
О случившемся Бегенч заявил в милицию.
Наутро двое молодых парией, подозреваемых в краже зерна, были доставлены в Берземинский отдел милиции. В течение двух дней парней допрашивали, но виновными в краже зерна они себя не признали. За неимением улик ровно через три дня их следовало отпустить на свободу. Таков закон.
Зная о нем, Бегенч приехал в районный отдел милиции и зашел к старшему следователю Дурдыеву. Разложив по краям стола стопки папок с делами, Непес Дурдыевич читал какую-то бумагу и усиленно курил.
Следователь был человек пожилой и грузный и своим обликом напоминал холодный, тяжелый сейф, стоявший в углу небольшого кабинета.
Зайдя в кабинет, Бегенч поздоровался и тут же закашлялся от едкого дыма.
— Поберегли бы здоровье. Особенно — чужое, — сквозь кашель с трудом произнес Ораков.
— Так… Давайте короче. Чего хотите? — не ответив на приветствие, сказал следователь.
— Хочу узнать: нашлась ли моя пшеница, — таким же деловым тоном ответил башлык.
— К сожалению, нет. Задержанные уперлись: «Не брали», «Ничего не знаем», «Не виноваты». Так от них и не добились ничего, — сказал следователь, с досадой погасив о пепельницу окурок.
— Как же быть? — погрустневшим голосом спросил Ораков. — Неужели так ничего и нельзя предпринять?
— Ничего. Придется задержанных отпустить — таков у нас порядок, — бесстрастно констатировал следователь и поднялся, давая этим понять, что беседа закончена.
— Нет уж… Постойте! — резко поднялся со стула и председатель. — Так не пойдет. Дайте мне на поруки хотя бы одного из тех, кого вы завтра собираетесь отпустить.
— Зачем?
— Хочу сам поискать зерно. Может, удастся…
— Вот как! — улыбнулся следователь одним уголком губ, и от этого улыбка получилась неприятная, кривая. Потом лицо следователя посерьезнело. Опираясь руками о стол и с любопытством вглядываясь в лицо председателя, он спросил:
— Интересно, чьи это лавры вам не дают покоя: Шерлока Холмса, Жюля Мегрэ или Огюста Дюпена?
Иронический вопрос Дурдыева показался Бегенчу оскорбительным, но он по-прежнему сдерживал себя, помня, что лучше худой мир, чем добрая ссора.
— Да поймите же вы, — негромко, но с волнением ответил Ораков, — дело тут вовсе не в лаврах. Просто я не хочу, чтобы какой-нибудь негодяй пропивал колхозное добро. Вот это и не дает мне покоя!
Следователь заметно смягчился.
— Хорошо. Я попрошу санкцию прокурора на выдачу вам одного из задержанных, — сказал он учтиво, — Кого вам: Амана или Байрама? Все равно? Хорошо. Я сейчас приду… А вы тем временем напишите расписку с обязательством вернуть такого-то… ну, скажем, Амана Курряева, не позднее завтрашнего дня.
Получив от прокурора санкцию на выдачу Амана Оракову, осведомился:
— Когда выдать? Сейчас?
— Нет, если можно, вечером…
Бегенч простился со следователем и поехал в колхоз, побыл на вечерней планерке и часам к десяти вернулся в милицию.
Дежурный, прочитав расписку, вывел Амана.
Ни Ораков, ни Аман до этого не встречались. Она внимательно поглядели друг на друга и вышли из районного отдела милиции, у подъезда которого стоял председательский «газик». Бегенч открыл дверцу и попросил Амана сесть на заднее сидение. Потом и сам туда взобрался. Чтобы лучше видеть собеседника, зажег в кабине свет. У парня были широко открытые, словно после сильного испуга, карие глаза. Смешно оттопыренные уши напоминали чуткие локаторы. Одет он был в старую тельняшку и потертые бледно-голубые джинсы. Ораков чувствовал, что Аман все время настороже, словно ждет и боится неожиданного вопроса. Ораков сразу предположил, что Аман замешан в краже зерна и может, пожалуй, сообщить ценные сведения.
— Итак, слушай, Аман, — дружеским тоном начал Ораков. — Если хочешь вернуться домой, постарайся быть откровенным. Скажи: что ты знаешь о зерне, похищенном с участка Гаплан? Ведь ты там живешь?
— Там… Но я ничего не знаю. Я ничего не брал! И почему это вы меня допрашиваете, а не Байрама? — взволнованно, чуть не плача, заговорил Аман.
— И до Байрама очередь дойдет. Не все сразу, — пообещал председатель. — А вначале я хочу поговорить с тобою. Поверь, запираться или утаивать что-либо нет смысла. Обо мне ты, наверно, уже слышал, знаешь какой я человек. Я никого еще не подводил. На подведу и тебя. Скажешь правду — пойдешь домой. Если будешь обманывать, запираться, следствие может затянуться. Отсюда вас переведут в городскую тюрьму и там могут продержать еще месяца четыре. Так что подумай хорошенько…
Опустив голову, Аман долго молчал, видимо, колебался, затем еле слышно сказал, что лично он не знает, где она находится, но слышал от кого-то, что ее увезли в Ашхабад, на какую-то Хитровку.
…Несмотря на поздний час, Ораков вместе с Аманом поехали в Ашхабад. По дороге Аман еще больше уточнил местонахождение зерна: где-то рядом с третьим парком. Ораков, почти ежедневно наезжавший в Ашхабад, не знал, где находится этот парк. Поэтому особых надежд на удачный поиск он не возлагал.
Вначале найден был парк. Бегенч подъехал к нему со стороны прямой широкой магистрали и сошел с машины. Не спеша подошел к угловому дому, посветил фонариком: в темноту вдоль прямого арыка, над которым высоко к звездному небу взметнулись прозрачные кроны гледичий, убегал узкий, выложенный кирпичом, тротуар. Между фасадами домов, выходившими на тротуар, белели глухие заборы. За заборами виднелись виноградники, верхушки деревьев. Ораков погасил фонарик, остановился. «Вот и угадай, где тут спрятано зерно, — подумал он. — А может, это просто моя фантазия? Может, это я придумал все? Ведь рядом с этим парком есть и другие улицы»?
И все-таки — то ли случайно, то ли интуитивно, — а председателю удалось напасть на верный след.
Свой поиск он начал с угла той улицы, напротив которой в густом таинственном мраке стоял ночной настороженный парк. Бегенч включил фонарик и медленно двинулся по узкому тротуару вдоль домов. Он останавливался возле каждой калитки, каждых ворот, шарил по земле лучом фонарика и двигался дальше. Так он миновал пять или шесть домов — и все безрезультатно. И вдруг возле калитки следующего дома он обнаружил на тротуаре несколько зерен пшеницы. Подошел к воротам. Здесь просыпанного зерна оказалось больше.
Окна в доме были закрыты ставнями, но в узких щелях между створками желтели полоски света. Ораков постучал в калитку. В ответ за забором громко залаяла собака. Долго никто не выходил. Стук пришлось повторить несколько раз. Наконец за калиткой послышались шаркающие шаги и недовольный хриплый голос:
— И кого в такую пору тут носит?
— Откройте, пожалуйста, — отозвался Ораков.
Заскрежетал железный засов и вслед за этим со скрипом приоткрылась калитка. В узком проеме вначале показался старый, словно в наморднике, в железной сетке закопченный фонарь. Потом калитка открылась шире и за фонарем возникла темная фигура пожилой женщины в белом платке.
— Чего вам? Кого ищите? — спросила она грубым голосом.
— Пшеницу ищу, — откровенно признался башлык.
— А мы тут причем?
— Да, говорят, вы покупали на днях, — взял он на пушку старуху.
— Вранье все это! — воскликнула она, негодуя. — Вранье! — И заперла калитку.
— Ну, тогда… пришлите кого-нибудь из мужчин! — крикнул ей вдогонку Ораков. — Есть у вас мужчины?
Ответа не последовало. Но отступать Ораков не хотел. Он снова стал стучать в калитку.
— Что ты барабанишь, как сумасшедший? — строго спросил из-за калитки мужчина, очевидно, давно уже притаившийся там и скрытно следивший за всем, что происходило на улице.
Снова лязгнул засов и на улицу вышел высокий седой старик.
— Вы хозяин этого дома?
— Я хозяин, — ответил старик.
— Покупали на днях пшеницу?
— Нет, не покупали.
— Не обманываете?
— Зачем обманывать вас…
— А это что? — Ораков бросил луч фонарика на землю и провел им туда-сюда по рассыпанным зернам пшеницы. — Это откуда?
— А я почем знаю? Может, кто просыпал… случайно, — почесал в затылке старик.
— А вы, значит, ни при чем?
— Значит, ни при чем.
— Это неправда, — возвысил голос Ораков. Он чувствовал, что старик обманывает его. — Хочу сообщить вам, что преступники, укравшие зерно, уже пойманы и находятся под следствием. Они-то и указали ваш адрес.
— Да что вы!.. Никакой пшеницы у нас нет! Не покупали мы. Да и что вы привязались к пожилым людям в такой час? — с горькой обидой произнес старик, и Ораков готов был поверить его словам — с таким неподдельным волнением и искренностью они были сказаны. И хотел было уже расстаться, но какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что старик лжет, что пшеница здесь, у него.
— Поверьте, я не хочу причинять вам неприятности, — дружелюбно произнес Ораков, — напомню лишь, что закон строго карает тех, кто укрывает и хранит краденое.
В ответ старик лишь сердито засопел.
— И не хотелось бы сюда приглашать милицию, — продолжал председатель. — Мы могли бы все уладить и без нее: вы отдаете нам пшеницу, мы забираем ее — и дело с концом!
— Да черт его знает, какая она, пшеница-то! На ней ведь не написано: краденая она или нет! — сдался старик, которому, видимо, жалко было потраченных денег. — Ладно уж, забирайте. Только меня потом по судам не таскайте…
— Хорошо. Но сперва покажите ее, — попросил Ораков.
Хозяин убрал собаку и провел председателя в кладовку.
Ораков включил фонарик, осветил им тяжелые мешки, сложенные у задней стенки. Убедившись, что это мешки из его колхоза, вышел на улицу и послал шофера за грузовой машиной.
…Часа через два пшеница была погружена и отправлена на участок. Амана — в виду отсутствия явных улик — из-под стражи освободили. Выпустили на свободу и его товарища. Вернув пшеницу, Ораков решил избавиться и от изрядно надоевших ему сельских тунеядцев. Хотел он сделать это с помощью милиции — так было бы проще, — но после некоторого размышления убедил себя в том, что можно будет обойтись и без нее.
«Тунеядцы — это ведь тоже люди, — рассуждал Бегенч. — Надо встретиться с ними и поговорить откровенно. Может совесть-то в них и заговорит. Ну, а если не поймут доброго слова, тогда можно и меры какие-то принять…».
От такого плана башлыка настойчиво отговаривал Курбан.
— То, что вы задумали, яшули, это опасно, — говорил шофер. — Ведь эти головорезы в трезвом-то виде, как порох. Того и гляди взорвутся. А если подвыпьют… им море по колено. Убить могут!
Ораков и сам понимал, что встреча с тунеядцами, людьми отпетыми, злыми, может кончиться для него трагично. Но был он человеком твердым, смелым и редко отступал от намеченной цели.
Дом, где собирались сельские пьяницы и бездельники, принадлежал продавцу Нуры Ахмедову. Обычно это было по вечерам, когда Бегенч проводил планерки или же занят был другим делом.
Однажды, покинув свой кабинет, Ораков отправился в дом продавца. Разумеется, его прихода никто на ожидал. Снимая туфли в прихожей, башлык обратил внимание на обилие мужской обуви. «Значит «гости» в полном составе», — мысленно отметил он. Постоял немного перед дверью, из-за которой доносились какие-то дикие исступленные голоса. Ораков не был искушен в наимоднейшей музыке и подумал, что это просто кто-то дурачится. Когда же он открыл дверь и шагнул в большую светлую комнату, застланную коврами, дикий вой хлестнул его по барабанным перепонкам и смолк: кто-то выключил магнитофон.
«Гости» — их было человек пятнадцать — сидели на полу, за дастарханом, и при появлении председателя буквально остолбенели.
Но вскоре после того, как оцепенение прошло, на их лицах появилось свое, особое выражение, в котором, как в зеркале, отразилось отношение к неожиданному визиту башлыка. На одном были растерянность и недоумение, на другом — хмурая враждебность, на третьем — неприязненная ухмылка, на четвертом — злость, раздражение, на пятом — суровое негодование.
А председатель будто и не заметил этого. Шумно и с наслаждением потянув носом воздух, он с неподдельной искренностью воскликнул:
— Ах, как замечательно пахнет пловом! Не иначе, как из курицы. А я за делами-то сегодня и пообедать не успел… Голоден, как волк! Так что… разрешите и мне посидеть с вами хотя бы минуточку…
Никто из собравшихся не проронил пи слова. Но застольный круг заколебался. Люди, сидевшие на полу, молча потеснились, образовав небольшой разрыв. Скрестив по-восточному ноги, Ораков втиснулся в него.
Он глянул на скатерть и удивился обилию закусок и бутылок со спиртным. Тут были и вина, и коньяки, и шампанское. В огромных блюдах, обдавая аппетитнейшим запахом, дымился золотистый плов.
В это время откуда-то появился хозяин дома Нуры Ахмедов — пожилой рыхлый человек с полотенцем на руке. У него было бледное, растерянное лицо.
Башлык поздоровался с ним и спросил:
— По какому поводу той?
В ответ кто-то сердито буркнул:
— Это что? Допрос?
— Да, нет! Просто любопытно…
Наступило молчание. Ни к плову, ни к напиткам никто не притрагивался.
И вдруг хозяин дома, выкатив побелевшие глаза, истерически закричал, обращаясь к одному из сидевших за дастарханом:
— Негодяй! Я же тебе говорил, что рано или поздно он явится сюда, и позор падет на мою голову! Я же тебе говорил!.. Почему ты меня не послушал?
Тот, на кого так яростно и зло обрушился хозяин дома, доводился ему младшим братом. Это был парень с черными до плеч волосами, худой и бледный, как выросший в подполье злак.
— Ну, что ты кричишь, как сумасшедший? Чего испугался? — вяло отозвался парень. — Можно подумать, что ты не хозяин тут, а приживалка…
— Довольно! — негромко, но гневно перебил его Ораков, вскидывая руку. — Довольно! Выяснять отношения, спорить будете потом, когда уйду. А пока прошу выслушать меня. — Нуры-ага, — обратился Ораков к хозяину дома, — таких гостей, как эти, я бы на твоем месте и на порог не пускал. Кто они, эти люди, что собрались у тебя? На какие средства они живут? Вот ты, например, — повернулся Ораков к соседу слева, с круглыми желтоватыми глазами, похожему на сову. — Разве это не твоя мать, выбиваясь из последних сил, держит коровенку и каждое утро с бидоном молока ходит в Берземин? Молодой, здоровый, ты давно уже должен помогать ей! А ты? Вместо этого ты пропиваешь ее последние гроши!.. Когда за ум возьмешься? Или вот ты, — не дождавшись ответа от парня, обратился Ораков к другому, сидящему напротив, у которого вместо глаз были две узкие щелки, хитровато блестевшие под опухшими веками. — Почему не работаешь? Почему?
— От работы лошади дохнут, — с вызовом ответил узкоглазый.
— А от безделья они дохнут еще быстрее! — молниеносно парировал председатель. — Наукой доказано! — Итак, когда на работу? — спросил Ораков парня с заплывшими глазами. Но тот, опустив косматую голову, медлил с ответом.
Тогда этот же вопрос Бегенч задал каждому из сидевших за дастарханом. Некоторые пытались отшучиваться или сослаться на какие-то «объективные» причины, якобы мешающие им заняться трудоустройством. У других вопрос председателя вызвал наигранное недовольство и возмущение.
— Да кто вы такой, — говорили они Оракову, — и по какому такому праву вы учите, что нам делать и как нам жить? Мы люди свободные. Когда захотим, тогда и устроимся!..
— Слишком долго заставляете ждать, — спокойно возразил башлык. — А едите и пьете каждый день. Да еще вон как роскошно!.. Коньяк, водка, плов… Даю вам месяц сроку. Постарайтесь за это время найти себе работу. Между прочим, люди у нас везде нужны…
Считая, что сказано все самое главное, Ораков поднялся и, не притронувшись к еде, вышел из дома.
С тех пор тунеядцев на селе не стало. Не было слышно и об их сборищах. Только один из них по прозвищу «Доходяга», доведенный пристрастием к алкоголю до крайней степени изнемождения и хилости, наведался как-то к председателю и попросил, чтобы зачислили его в чабанскую бригаду на самую дальнюю ферму. Башлыка он клятвенно заверил, что «готов взяться за ум» и поэтому хочет находиться как можно дальше от прежних своих дружков. Ораков уважил его просьбу и сам отвез в пустыню на чабанский кош.
После того, как из села исчезли тунеядцы, Оракову стало легче. Словно гора с плеч. Прекратились в его адрес угрозы и сплетни. «Теперь только и работать!» — думал Бегенч. И взялся за дело с удвоенной энергией. Еще больше укрепил дисциплину в колхозе. Много сил отдавал тому, чтобы еще выше поднять урожайность овощных, продуктивность животноводства и других отраслей хозяйства. Развернул освоение тысячи гектаров под виноградники в местечке Овадан-Депе. Правда, кое-кому из областных и районных руководителей почин башлыка из колхоза «Октябрь» показался чересчур смелым: «Ишь, как размахнулся… На тысячу гектаров! Если каждый колхоз будет осваивать по тысяче гектаров под виноград, то скоро хлопок поливать будет нечем».
Не вступая ни с кем в споры, Ораков решил, что надо хоть раз обратиться за помощью в директивный орган, чтобы защитить интересы колхоза, и попросился на прием к Аполлону Ивановичу Громову.
Аполлон Иванович радушно принял Бегенча, долго с ним беседовал и горячо одобрил инициативу относительно развития виноградарства.
— Отрасль очень нужная, — говорил Громов. — Именно с таким размахом и надо браться… А воду для нее найдем.
Несколько тысяч гектаров целины были отведены колхозу в Гяурской степи, на участке Гаплан. Здесь на голом ветровом просторе и на древних, полузасыпанных песком землях урочища Овадан-Депе Ораков развернул строительство двух современных поселков.
Не забывал и о центральной усадьбе, той самой, что находилась за полотном железной дороги, напротив полукруглых корпусов цементного завода. Теперь она застраивалась только кирпичными домами — прочными, уютными… У каждого дома — сад, виноградник, огород.
По улицам лег асфальт. Пылинки не найдешь, хотя под боком села — сыпучие пески необъятной пустыни. Каждой весной и осенью вдоль сельских улиц вставали все новые и новые ряды саженцев тутовника, карагача, маклюры, туи. Со временем деревья так разрослись, так плотно сомкнули свои кроны, что наглухо закрыли фасады домов на целые кварталы. И сельские улицы стали похожими на длинные лесные просеки или парковые аллеи.
Здесь же, на центральной усадьбе, были и другие новостройки: магазины, школа, клуб, музей. И разве можно было пройти или проехать мимо них, не поговорив с прорабом, с рабочими, не узнав, как идут дела, в чем нужда, что тормозит, мешает работе?
Нельзя пройти мимо дома, где свадебное веселье. За последнее время свадеб в селе стало особенно много. Бегенч от приглашения на свадьбу не отказывался. Ему нравились шумное застолье, песни и танцы молодежи, музыка. Здесь ему невольно вспоминалась и своя молодость, и своя свадьба, которая теперь так далеко уже отодвинулась в прошлое… Прежде чем уйти со свадьбы Ораков горячо поздравлял молодых со вступлением в супружескую жизнь и желал им самого долгого и самого светлого счастья.
Никогда не пройдет председатель и мимо дома, где случилось несчастье. Священным долгом он считает зайти в этот дом и выразить родственникам покойного добрые и теплые, идущие из самой глубины сердца дружеские слова утешения.
По-прежнему бесконечными были разъезды. Все, что делалось на колхозной территории — большое или малое — Ораков любил увидеть сам, — так легче оказать помощь, исправить допущенную ошибку. Такими же бесконечными были и стихийно возникавшие совещания по вопросам, требующим безотлагательного решения, вызовы в райком, в обком, встречи с отдельными людьми.
Домой возвращался поздно. Чаше всего — за полночь. Усталости не знал. Видимо, все еще был крепок и вынослив. Дети в это время уже спали. Так что виделся с ними редко.
И так — на протяжении многих лет!
И каждый вечер его возвращения нетерпеливо ждала жена. До приезда мужа — ни минуты на отдых, все суетилась по дому. То обед готовила, то стирала, то гладила, то мыла полы. И расставалась с этими делами лишь поздно ночью, когда к дому подъезжала машина. Наргуль мчалась встречать мужа. А он, ступая по скрипучим ступенькам веранды, поднимался ей навстречу. Бегенч снимал с себя китель, подходил к умывальнику, и с удовольствием долго умывался. Потом вешал полотенце на гвоздик и бодро входил в столовую. Наргуль быстро накрывала на стол, садилась напротив мужа и вместе принимались за еду. Во время ужина Наргуль незаметно поглядывала на мужа и все старалась понять, как прошел у него день: не огорчил ли кто, не поскандалил ли с кем, все ли у него в порядке?
Убедившись, что муж в добром настроении, что радостный блеск его глаз не погашен печалью, тяжелой думой или раздражением, Наргуль спрашивала:
— Устал, наверно?
— Нет, не очень, — отвечал он коротко и замолкал. Но долго не молчали.
— Тогда расскажи, чем ты занимался, — просила Наргуль и приветливо улыбалась, чтобы поддержать у мужа хорошее настроение.
— Разве обо всем расскажешь! — уклончиво отвечал Ораков. — Думаю, до утра времени не хватит… Да и надо ли?..
— Ну, хотя бы о самом главном. Ну, пожалуйста… — настаивала Наргуль.
Ел Бегенч неторопливо, слегка склонившись над столом, и не спеша вел рассказ. Жене нравился его тихий, «домашний» голос и доверительный тон. Она внимательно слушала его, и все, о чем он говорил, возбуждало в Наргуль живой интерес и любопытство. Она многое знала о его заботах, о том, какие вопросы приходится ему решать повседневно и как они важны, эти вопросы, с какими людьми встречается, где бывает — и всегда поражалась, как он может управляться с такой массой всяческих дел? Если же у него случались неприятности, то не показывал виду, что расстроен или чем-то огорчен.
Но жена!.. Разве можно скрыть от нее хоть что-нибудь! Ей достаточно одного взгляда на мужа, чтобы понять, что у него на душе. И если он в самом деле бывал не в духе, то напрасно доказывал бы жене, что у него все в порядке, что он в хорошем настроении. Заметив по виду, что муж хмуроват, чем-то недоволен, она обычно говорила:
— Ты что-то не весел. У тебя неприятности?
— Да нет… ничего особенного.
— Ну, как же ничего? Ведь я же вижу…
— Да ничего ты не видишь. Давай-ка лучше ужинать, — миролюбиво и немного грустно предлагал Бегенч.
— Пока не скажешь, ужина не получишь, — улыбалась Наргуль, бегая из кухни в столовую и обратно. — Говори чем расстроен?
— Ну, вот заладила… чем да чем, — делая вид, что сердится, говорил Бегенч. — А мне по штату положено огорчаться. Да. По штату. И ты тут вовсе ни при чем.
— Как это ни при чем? — сердилась жена. — Разве мы — не единое целое? Разве я тебе чужая?
— Вот поэтому, Наргуль, я и не хочу, чтобы ты печалилась. Хватит меня одного.
— Нет, ты сперва расскажи, все как было, — настаивала Наргуль. — Все-таки когда мы тяжесть твою поделим пополам, тебе легче станет. Вот увидишь.
Посопротивлявшись еще немного, Бегенч рассказывал о неприятном случае и ждал, что скажет жена. Ждал и улыбался, потому что заранее знал все, что скажет она.
— Ах, милый! Да это же пустяки, — обычно говорила Наргуль. — Понимаешь? Пус-тя-ки! — И ласково заглядывала мужу в глаза. — Ты явно преувеличил свою обиду и только поэтому придаешь ей такое большое значение.
В другой раз разобравшись в рассказанном случае, она говорила, опять с той же женской хитростью, чтобы уменьшить впечатление от обиды, что во всем он виноват сам. И поэтому особенно глупо носить в сердце на кого-то обиду. Проходило несколько минут, и Бегенч снова обретал душевное равновесие, светлел лицом, улыбался.
Иногда во время ужина Бегенч надолго замолкал, размышляя о жене, о ее трудолюбии и вообще о ее роли в его нелегкой, суматошной судьбе. Его всегда удивляло, как она быстро и ловко может его успокоить, отвлечь от печальных дум, нанесенной ему обиды, погасить ее, смягчить. «Лекарь моей души», — не раз думал он с чувством нежной благодарности и радовался: точнее не назовешь. «Ну, что бы я делал без нее, без этой доброй и преданной женщины! Дня не прожил бы, наверно! Ведь только ее заботами и живу и работаю с полной силой. А что такое мужчина без чуткой и нежной женщины, одинокий мужчина? Факел без огня! — мысленно отвечал себе. — А если проще, то — это жалкое, совершенно несчастное, запущенное существо».
Бегенчу казалось — и это очень радовало его — что легкий уравновешенный характер жены почти такой же, как его собственный, и то, что сердце Наргуль, вечно полное доброты и ласки, не знает ни печали, ни озлобления. Еще не было случая, чтобы она рассердилась на него, крикнула, возмутилась или выразила недовольство.
Вот так они и жили многие годы, в добром согласии, легко и дружно.
Но этот мир был нарушен.
Однажды ночью, вернувшись домой, Бегенч не встретил на лице жены ни знакомой радости, ни приветливой улыбки. Правда, как всегда, Наргуль быстро накрыла стол и, не подымая глаз, села напротив мужа. Есть не стала, пила только чай.
Сумрачный вид жены, ее поведение встревожили Оракова.
— В чем дело? Не обидел ли кто тебя? — участливо спросил Бегенч.
Наргуль долго не отвечала.
— Ну что же ты молчишь? Назови мне обидчика, — настаивал муж.
— Назвать обидчика?.. Это ты меня обидел. Да, да, да — ты! — глухо, со слезами в голосе сказала Наргуль и боком повернулась к столу, прикладывая кончик красного головного платка к уголкам глаз.
— Вот как! — удивился Бегенч. — Каким же образом? — Ведь меня так долго не бывает дома…
— Почему ты себя не бережешь? — снова поворачиваясь лицом к Бегенчу, произнесла Наргуль. — Работаешь, как вол, день и ночь, день и ночь. Разве можно так?..
Женщина помолчала немного, как бы ожидая, что скажет муж. Но он ничего не сказал. Он так был подавлен, удручен расстроенным видом жены, что не знал, что ему предпринять.
— И обо мне ты не думаешь, — продолжала Наргуль. — Разве ты не видишь, что я с утра до ночи кручусь по дому, жду твоего приезда и все на часы смотрю, прислушиваюсь к каждому шороху на улице, до часу, до двух спать не ложусь. Пойми, я устала. Я не могу так больше. Не могу!..
И, закрыв лицо руками, она горько зарыдала.
Ораков долго сидел с поникшей головой. Долго молчал. Потом, когда жена немного успокоилась, сказал:
— Ты права, конечно. Я действительно много работаю. Да и ты без дела не сидишь. Но я всегда считал, что пока есть силы, здоровье и цель, надо их тратить не жалея. Для этого они и даны. Если не истратишь, с годами исчезнут сами.
— Все это верно, — все еще сердясь на мужа, обиженным голосом произнесла Наргуль. — Но разве ты не видишь, что ты уже не молод, а работаешь как в тридцать лет? Да и меня пора уже пожалеть, и у меня силы не те.
Разговор с женой был неприятен. У него и у нее на душе появился горький осадок. Чтобы вернуть жене доброе настроение, Бегенч решил прибегнуть к шутке, давно испытанному в таких случаях средству.
— А все-таки ты не совсем справедлива, Наргуль, — Начал Бегенч полушутя.
— Это почему же? — с любопытством взглянув на него, спросила Наргуль, и в голосе ее уже почти не было обиды.
— Меня ты винишь во всем. И в том, что поздно прихожу, и в том, что по месяцу детей не вижу, и а том, что приходится ждать, волноваться. Ну, а ты, выходит, ни в чем не виновата. Нет? А я считаю, что в своих несчастьях ты виновата сама.
— Как это? В чем я виновата? — вскинула брови Наргуль и хотела было возмутиться, но по выражению лица Бегенча, его улыбке поняла, что он шутит.
— А вот так, — Бегенч лукаво прищурил глаза. — Разве ты не сама выбрала меня в мужья?
— Конечно, сама! Но что ты этим хочешь сказать?
— А то, что ты совершила ошибку, выйдя за башлыка. И в этом никто, кроме тебя, не виноват. Вот и мучайся теперь…
Наргуль задумчиво покачала головою!
— Я знаю, ты шутишь. Но я скажу серьезно. Никакой ошибки я не совершала. Более того, я горжусь, что я — жена башлыка. Я горжусь тем, что причастна ко всему, что делаешь ты. И если бы я не чувствовала этой причастности к твоим делам, заботам и переживаниям, если бы я не разделяла их, если бы я не старалась для тебя как хозяйка дома, как мать твоих детей, жизнь моя была бы бедной, пустой, неинтересной. Ну, скажи мне, разве я тебе не помогаю?
Бегенч встал из-за стола и сел рядом с женой, обняв ее за плечи.
— Ах, если бы ты знала, как я рад судьбе, что она послала мне такую, как ты. Без тебя я не мог бы дышать, — с чувством сказал Бегенч. — Да. Я все понимаю. Знаю, что со мной нелегко, ты много работаешь, устаешь. Но ты потерпи еще малость. Дай мне закрепить успех. И я исправлюсь — буду приезжать не позже девяти. Вот увидишь, исправлюсь. Не веришь? Честное пионерское!.. Исправлюсь!
И мир был восстановлен.
После первой моей встречи с Бегенчем Ораковым прошло года четыре. За это время я ни разу не был в колхозе, но за всем, что там происходило, следил внимательно. По сведениям, доходившим до меня, я знал, что за эти годы колхоз «Октябрь» окреп, вырос еще больше и вошел в десятку лучших хозяйств республики. Его доходы теперь исчислялись миллионами рублей. Еще зажиточней стали семьи дайхан. Они строили собственные дома и покупали самые дорогие вещи. По улицам села разъезжали новенькие «Жигули». Но мечтали о них сотни. И если было бы можно, то в течение часа жители Евшан-Сары могли бы раскупить не меньше трехсот легковых автомашин.
Колхозным земледельцам не забыть, что в эти же самые годы свои настоящие урожаи принесли виноградники возрожденного урочища Овадан-Депе. Самую разнообразную продукцию — зерно, яблоки, томаты, дыни, огурцы, арбузы, лук, мясо, яйца, коконы — начал выдавать целинный участок Гаплан.
Немало волнующих событий произошло и в жизни башлыка. Самое значительное из них — это избрание его депутатом Верховного Совета страны. Теперь Ораков ездил на сессии, в Москву. А на одной из них даже выступил с большой речью.
В тот же год, когда Оракова избрали депутатом, ему исполнилось пятьдесят лет. По этому случаю башлыку было присвоено почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства.
Чуть позже жители Евшан-Сары отметили и полувековой юбилей своего колхоза. Это был грандиозный праздник, какого не помнит ни один старожил сели. Именно тогда на знамени колхоза гордо засиял орден Трудового Красного Знамени.
Вот, кажется, и все события.
Ну, а как жилось, работалось председателю? Все ли у него шло гладко и легко? Этого я не знал.
Желание поехать в колхоз все росло. Хотелось встретиться с председателем, поговорить с ним. Когда это желание сделалось нестерпимым, я бросил все свои дела и отправился в Евшан-Сары.
…Поток автомашин, идущих в сторону Берземина, казался еще более плотным, чем прежде. Много автомашин катилось навстречу. Только горы, бесконечной грядой тянувшиеся слева, совсем не изменились: те же зубцы на вершинах и те же волнистые склоны, подернутые полупрозрачной дымкой. Прежними казались и зеленые квадраты полей, и мелкие оросители с редким, просвечивающим насквозь строем камыша, и летевшие навстречу деревья.
Наконец, вдали показались светлые, похожие на башни, корпуса Берземинского цементного завода с желтоватым дымком над высокими трубами. А вот и знакомый переезд через железную дорогу, неподалеку от которого арочный въезд в колхоз «Октябрь». Отсюда — прямая дорога из белых бетонных плит. Потом — поворот направо, на другую улицу, потом еще такой же поворот, и я — во дворе колхозного правления. Перед входом в контору я уже не увидел портретной галереи передовиков, отсюда ее перенесли в колхозный музей. Темно-зеленые туи, росшие перед зданием правления, удивительно похорошели, стали как будто строже, стройнее. Во дворе колхозного правления собралось много народу. Одни сидели на скамейках, в тени деревьев, другие — прямо на земле, вдоль сухого арыка. Было заметно, что люди кого-то ждут.
По правде говоря, я ехал в колхоз наудачу, без предварительного звонка, и не очень рассчитывал на встречу с председателем; он мог уехать в поле, на ферму, к чабанам, на целинный участок или на строительный объект — у председателя всегда и везде есть дела.
Я постучался в дверь и вошел в знакомый кабинет. В это же время из-за стола вышел человек, в котором я с трудом узнал Бегенча Оракова. Лицо потемнело, покрылось какими-то странными вмятинами, глаза запали и были без прежнего блеска. И даже шапка его из дорогого чудесного сура, далее она, уже не сверкала, как прежде, загадочным радужным блеском.
— Что случилось? — с тревогой спросил я председателя, присаживаясь к столу. — Ведь времени прошло не так уж много, а вы так изменились…
— Хвораю, брат, — сказал Ораков, и в хрипловатом голосе его послышалась грусть. — Врачи говорят, что давление, гипертония… Да ведь к ним только попадись, к врачам-то, — сразу сто болезней найдут!
— И вы продолжаете работать! — упрекнул я башлыка. — Да разве в таком состоянии можно? Немедленно ложитесь в больницу…
Бегенч внимательно выслушал мою взволнованную тираду и мягко, с хрипотцой произнес:
— Некогда, брат. Народу овощи нужны…
Ораков — человек долга. В этом я убедился лишний раз. Он всегда считал, что престиж колхоза, забота, о благе народа — неизмеримо выше его личного благополучия. И, если ты умеешь еще ходить, двигаться и что-то делать, ты не должен покидать своего поста. Тем более, что болезни, как и здоровье — невечны, они тоже проходят.
Убедившись в бесполезности своих усилий уговорить председателя взяться за лечение, я спросил:
— Вы кого-то ждете?
— Да. Молодых арабов из Палестины. Они хотят посмотреть наш музей. Кстати, вы ведь тоже его не видели. Давайте вместе посмотрим.
Вскоре башлыку доложили, что гости осмотрели поля, виноградники, детский сад и сейчас находятся во дворе колхозного правления.
Мы вышли во двор. Палестинцев было человек двадцать. Все они были люди молодые, одетые скромно, но со вкусом, в разноцветные куртки и модные джинсы. Увидев председателя, они радостно заулыбались, плотно окружили его и что-то наперебой стали ему говорить. Переводчик, высокий, русый парень, негромко и спокойно перевел сказанное. Выслушав переводчика, Ораков всех пригласил в музей. Тут же к арабам примкнули и те, кто находился во дворе колхозного правления. Ораков шел во главе гостей, заметно выделяясь среди них своим внушительным ростом, золотисто сверкавшей на солнце каракулевой шапкой и просторным «башлыковским» костюмом.
Колхозный музей находился в центре села, в новом белостенном доме под шиферной крышей. В небольших светлых залах были размещены сотни различных экспонатов: предметы домашнего обихода, которыми пользовались жители Евшан-Сары в начале нашего века, орудия крестьянского труда: кетмень, серп, лопаты, деревянная соха-омач; макеты бедных закопченных юрт. В этом же зале — фотографии колхозных ветеранов — людей пожилых, убеленных сединой. Это — портреты тех, кто в трудные годы начинал строить новую жизнь на селе, боролся с басмачеством и до седьмого пота работал на полях молодого коллективного хозяйства.
Много экспонатов посвящено было сегодняшнему дню колхоза, бурному развитию его культуры, экономики. Тут были многочисленные альбомы с фотографиями поселка, школ, новой техники, полей, эпизодов вдохновенного труда. В этом же зале — портреты лучших людей села, передовиков. Какие живые лица! Сколько блеска в глазах! Сколько обаяния! Не были забыты и те, кто в горькую годину ушел на фронт, на защиту Родины, ушел и не вернулся, пал как герой. Молодые, юные лица. Такими они и останутся навсегда.
Отдельный зал занимали дары колхозной земли: тяжеловесные, в несколько пудов, тыквы, полосатые арбузы, самые сладкие в мире дыни, груды винограда, яблок, томатов, баклажанов, капусты, крупного болгарского перца, банки с маринованными томатами а огурцами. Здесь пахло ботвой, свежим укропом, дынями.
Председатель одну за другой брал в руки круглые и желтые, как солнце, дыни гуляби, резал их ломтями и раздавал гостям. Дыни были сочные, душистые, с неповторимым вкусом. Гости ели их и тут же, не отрываясь от еды, старались выразить свои чувства, либо восторженным мычанием, либо вращением изумленных глаз.
Осмотрев музей, палестинцы вышли к его подъезду. Один из них, худощавый, стройный юноша с такими же выпуклыми, как у Ясира Арафата, глазами, подошел к Оракову и, пожимая ему руку, сказал почти на чистом русском языке:
— Дорогой товарищ башлык! Спасибо вам за хлеб, за соль, за все, что мы увидели у вас. Мы восхищены. Ваше сегодня — это наше завтра. До свидания!
Когда арабы уехали, председатель спросил меня:
— А вы по какому делу?
— Да… вот хотелось бы поговорить кое о чем. Ведь четыре года не виделись…
— Здесь, в конторе, не удастся, все время народ. Дома — некогда. Давайте сделаем так: завтра я еду в Гяурс, на участок Гаплан. Если хотите, поедем вместе. Правда, я не совсем здоров, но это — ничего. Дорога длинная, времени будет много. Сколько хочешь, столько и беседуй.
Откровенно говоря, я и сам давно уже собирался в Гяурс, чтобы подышать чистым степным воздухом. Поэтому предложение Оракова было как нельзя кстати.
Утром, часов в девять, председатель заехал за мной. Сел я сзади шофера, а Ораков справа от него, так что мне пришлось почти все время видеть профиль башлыка и очень редко, лишь в тот момент, когда он поворачивал голову, его лицо.
Председателю нездоровилось, он был грустен, молчалив. Так, не сказав друг другу ни слова, мы доехали до восточной окраины Ашхабада. За станцией Аннау началась степь, а справа над желтой равниной поднялись горы, трава недавно выгорела и степь обрела обычный желтовато-серый цвет. В разных направлениях по ней лениво и скучно тянулись караваны серых столбов, то тут, то там белели поселки, виднелись сады, виноградники.
Горы, затянутые непроницаемой мглой, были плоскими, как стена.
Под ровный, негромкий шум мотора можно было бы легко и безмятежно заснуть, если бы не встречный транспорт, пролетавший мимо с огромной скоростью. Поравнявшись, он выстреливал, как из пушки, и ветром упруго встряхивал автомашину. После каждого такого выстрела мелькала мысль: «как хорошо, что мимо». Ораков вздрагивал от каждого воздушного взрыва и снова погружался в раздумье.
— О чем мечтаете, Бегенч Оракович? — спросил я его, когда устал от долгого молчанья.
— О многом мечтаю, — сказал он тонким, с хрипотцой, голосом, бросив на меня короткий взгляд. — Да толку мало. Мечты-то сбываются редко.
— А если бы сбывались часто, то и мечтать на надо.
— Взять хотя бы сбор помидоров, — сказал Ораков, не обратив внимания на мою шутку. — Какая нудная работа! Давно я мечтаю, чтобы переложить ее на плечи машин. Овощевод тысячу раз спасибо сказал бы. И вот нашлись люди, которые не только мечтали об этом же, но и провели интересный научный поиск. Я имею в виду успехи молдавских ученых. Слыхали об этом?
— Нет. Не приходилось.
— Тогда послушайте. Вначале ученые попытались создать сорт, плоды которого созревали бы сразу на всем кусте. Но такого сорта они не получили. Другое важное качество помидора — прочность. После машинной уборки он должен выглядеть так свежо и аппетитно, как будто его только что сняли с грядки. Немало особенных качеств требовалось и от машины, в создание которой мало кто верил. Когда проблем накопилось много, ученые поняли, что в одиночку их не решить. К такому же выводу пришли и конструкторы машин. Они объединили свои усилия и после долгих поисков пришли к выводу, что совсем не обязательно, чтобы плоды на кусте созревали одновременно. Вполне достаточно того, чтобы они не опадали в течение месяца и ожидали, пока поспеют остальные. Долго бились, а сорт такой вывели. Но и его пришлось отвергнуть. Обломившаяся плодоножка, на которой держится плод, во время уборки прокалывала спелые помидоры.
Ученые зашли в тупик.
И в это время кто-то вспомнил о помидорах с Галапагосских островов, в архипелаге Колон, затерянных в бескрайних просторах Тихого океана. В плодоножке томатов с Галапагоса нет пробкового слоя и при ее разрыве не образуется пенек, который обычно прокалывает плод. Вот этот-то сорт с мягкой плодоножкой в пригодился для машинной уборки. Одну из своих машин вместе с семенами помидоров молдавские ученые обещали и нам. В будущем году начнем их испытывать. Очень хочется, чтобы результат был хороший.
— О чем я еще мечтаю? — продолжал Ораков, задумчиво глядя перед собой. — Да вот хотя бы о нашем знаменитом ахалтекинском скакуне.
— О нашем коне? — усмехнулся Курбан. — А зачем о нем мечтать-то? В нашем колхозе их не меньше сотни будет. И каждый — как картина!..
— В том, что это хороший конь, никто не сомневается, — как бы подхватив мысли Курбана, сказал Ораков. — И я его люблю. Иной раз смотришь на него и думаешь: сколько в нем красоты, благородства, легкости, ума… Безукоризненно стройный, высокий. Голова и ноги словно точеные. Гладкая шерсть блестит, как дорогой атлас. И весь он, как натянутая струна. Лиловые глаза горят и смотрят вдаль. И видно, какая мощь в нем бурлит — стоять не может — пляшет, перебирает ногами. Дай только волю… Дай! И полетит, как птица!.. Вот на таких конях двадцать веков назад ездили парфяне. Парфия была могучим государством. В одном из сражений, благодаря своей коннице, парфяне разгромили римские войска и взяли в плен знаменитого полководца Красса. Что и говорить! Всем хорош наш конь! Да беда в том, что число лошадей ахалтекинской породы становится все меньше. Правда, и до сих пор его разводят. Везде понемногу. Но зачем дробить поголовье и распылять средства? — часто думаю я. — Не лучше ли все сосредоточить в одних руках и вести коневодство по-настоящему, как заслуживает того ахалтекинский конь. Я просто счастлив был бы, если бы эту работу поручили нашему хозяйству!
Ораков несколько секунд помолчал, словно давая себе передышку. Потом, повернувшись ко мне, сказал:
— Не надоел я еще?
— Мне — нет. Не знаю, как Курбану.
Глянув на башлыка, Курбан почтительно сказал:
— Когда вы говорите, яшули, дороги не замечаешь. Когда вы молчите — дороге нет конца.
— Что ж… Тогда я продолжу, — молвил Бегенч, — Тем более, что я, кажется, не сказал главного. А это главное — наша молодежь. Весь колхоз держится на ней. Она в поле, и на фермах, и за отарами ходит. Везде она. Каждым своим успехом, каждой победой колхоз обязан ей. Поэтому заботиться о молодежи — это священный долг старших, закон нашей жизни. Кое-что в этом отношении уже сделано. Построены Дом культуры, кинотеатр, библиотека. Но это только начало. Теперь на очереди — ресторан. Да, да!.. Ресторан — большой, современный, как в городе. Он должен быть красивым и уютным. Каждый, кто придет туда, сможет потанцевать, послушать музыку или просто — отдохнуть. А можно и праздник семейный справить: свадьбу, юбилей, рождение ребенка. Можно отметить победу в соревновании. В самом деле, почему не придти в ресторан коллективно, всей бригадой и не отпраздновать победу! Деньги на строительство ресторана есть. Значит, и эта мечта станет явью.
— Да, яшули, неплохо бы вечерком в ресторан заглянуть, — воодушевленный рассказом башлыка, мечтательно произнес Курбан, — да вряд ли удастся: башлыка некому будет возить.
— Ну вот… Еще и ресторана нет, а ты уже ноешь, — рассмеялся Бегенч. — В крайнем случае, сам за баранку сяду! Согласен?
— Нет. Никуда вас одного не отпущу. Особенно ночью, — решительно заявил Курбан. — Бог с ним, с рестораном…
— Ай, берекелла! Молодец! — чуть слышно сказал Ораков и ласково посмотрел на водителя.
В это время машина свернула налево, на переезд железной дороги, проскочила его и по ровному шоссе помчалась навстречу поселку, утопавшему в зелени молодых деревьев. Вскоре мы прибыли на участок Гаплан. Здесь Ораков управился со всеми своими делами и примерно через час мы возвращались обратно. Все это время у меня из головы не выходили слова шофера о том, что он ни за что не отпустил бы председателя одного — особенно ночью. Они напомнили о желании спросить у Оракова, как работалось ему последние четыре года и что слышно о Желтозубом?
— В основном работалось неплохо. Но были, как говорится, и «сюрпризы», — печально улыбнулся Ораков, поворачиваясь ко мне лицом. — Прошу заметить, что все они, то есть сюрпризы, были преподнесены накануне выборов, когда я баллотировался как кандидат В депутаты Верховного Совета СССР.
— Теперь о Желтозубом. Ничего конкретного о нем сказать не могу. С ним я ни разу не встречался и судить о его зловредных действиях против меня не берусь. Может, были. А, может, и не было. Не пойман — не вор.
Ораков помолчал немного, подумал и сказал:
— Лучше о «сюрпризах» расскажу. Не возражаете? Как-то утром приехал я на работу. У входа в правление встречает меня знакомый старик — солидный, с большой бородой, в белой рубашке и в просторных туркменских шароварах. Поздоровались мы, старик и говорит:
— Это правда, башлык, что ты уходишь от нас?
Вопрос был настолько неожиданным, что я не знал, что на него ответить.
— А куда я должен уйти? — спрашиваю и пытаюсь изобразить что-то вроде улыбки. — Разве надоел уже?
— Как будто сам не знаешь куда, — строго сказал старик, показывая тем самым, что ему не до шуток.
— Нет, не знаю.
— Да, говорят, опять в какой-то отстающий…
— А кто говорит?
— Разве я припомню! Народ говорит…
— Эх, яшули, — ответил я старику, — надо бы по-меньше верить слухам. — Когда буду уходить, я соберу людей и о своем уходе сообщу всему колхозу. Можете быть уверены — тайком не сбегу.
— Да не об этом я беспокоюсь! — нахмурился колхозник. — Я ведь пришел сказать, чтобы ты не уходил никуда. Зачем уходить? Что там, в другом-то колхозе… слаще, что ли?
Я не сомневался в искренности старика, но был убежден, что он поверил чужой выдумке о моем уходе. А тот, кто ее распустил, был уверен, что причинит мне боль, выбьет из нормальной колеи. Так оно и было: несколько ночей я не мог спокойно спать. Эта же выдумка показала, что мною все еще кто-то недоволен, и желал бы избавиться, считая меня, как говорят дипломаты, «персона нон грата». Но я сумел взять себя в руки, помня о том, что самое сильное противоядие против всяческих слухов — это полное к ним равнодушие. К тому же на каждый роток не накинешь платок.
Таков был первый «сюрприз». Второй, по признанию самого председателя, был в тысячу раз хуже, неприятнее первого.
Однажды утром ему позвонил секретарь райкома партии. Справившись о здоровье, он попросил Оракова приехать к нему для беседы.
— А что за беседа, о чем? — хотел было уточнить Ораков, но секретарь ответил, что будет лучше, если он узнает об этом по приезде в райком. По холодному тону секретаря и какой-то странной его торопливости Бегенч почувствовал, что предстоящая беседа ничего доброго ему не сулит.
Минут через двадцать Ораков был в райкоме. Поздоровавшись с председателем, секретарь попросил его садиться к столу. Ритуал встречи не был нарушен и на этот раз. Но спрашивая башлыка о доме, о семье, секретарь ни разу не взглянул на гостя, уклончиво скользя глазами вдоль стола, словно испытывая какую-то неловкость.
— Прошу не беспокоиться. Ничего особенного не случилось, — вежливо, но с официальным холодком предупредил Оракова секретарь райкома, доставая из стола почтовую бандероль. — Просто я хотел познакомить тебя вот с этим письмом.
Бегенч принял из рук секретаря пухлый увесистый конверт.
«Интересно, что это в нем?» — подумал председатель, пересаживаясь за отдельный столик, стоявший у стены, недалеко от входной двери. Вынув письмо, Бегенч глянул на последнюю страницу и увидел на ней цифру 40, а ниже, в самом ее конце — свыше тридцати подписей. Приглядевшись к ним, Ораков понял, что все они сделаны одной рукой, потому что тот, кто их подделывал, старался изо всех сил разнообразить свой почерк, но это ему почти не удалось. Подписи были разными, а буквы в них были похожими, как близнецы. Значит, письмо было написано одним автором, пытавшимся скрыться за чужими фамилиями.
Ораков прочел страницу, другую и с ним стало плохо: как будто кто ударил по голове — даже искры засверкали в глазах, и больно сжалось сердце. Во рту стало сухо, как от сильной жажды. Онемевший язык был, как чужой, ворочался с трудом. В ушах однообразно шумел затяжной дождь.
Но каким-то невероятным усилием Ораков взял себя в руки и сумел унять начинавшуюся дрожь. Из графина, стоявшего на столике, дрожащей рукой он налил воды в стакан и выпил его разом. Прошло какое-то время, и Бегенч почувствовал, что ему легче. К счастью, секретарь райкома, занятый разговором по телефону и приемом посетителей, не видел того, что пережил в эти минуты председатель.
Успокоившись, Ораков прочел письмо до конца, не волнуясь и не раздражаясь более, как будто оно не касалось его. Так произошло потому, вероятно, что, анонимщик, рьяно стремясь опорочить башлыка, перестарался в своем вранье, нагромоздив в письме горы самых несусветных небылиц.
И чего тут только не было!
Ну, хотя бы такое, например, что башлык исподтишка торгует терьяком, что в колхозе во всю процветает калым, что утонувший в Куртлинском озере колхозник Агаев погиб по вине председателя, что после этого башлыка много раз видели, как он поздно вечером прокрадывался в дом вдовы Агаева. Что колхозную продукцию башлык сбывает «налево», частным лицам, спекулянтам, а денежки кладет себе в карман. «С людьми Ораков крут, — говорилось в письме. — Всегда и всем недоволен. А недавно — ни за что, ни про что избил старого колхозника. Спрашивается, до каких пор мы будем терпеть такое безобразие?»
Закончив чтение, Ораков пересел на прежнее место, ближе к секретарю райкома.
— Ну, что ты скажешь о письме? — нарочито бодро спросил он башлыка, как будто речь шла о чем-то пустячном, веселом.
— Это не письмо, Это — грязь, клевета! — снова заволновался Ораков и почувствовал, как кровь ударила в голову. Теперь башлыка возмущала не только анонимка, но и сам секретарь и занятая им по отношению к нему позиция.
«Как портит людей карьера, — думал о секретаре Ораков. — А ведь еще совсем недавно это был такой простой и милый парень».
— Возможно, ты и прав, что данное письмо — это грязь, — строго сказал секретарь. — Но к честному человеку она не пристает. И тебе не стоило бы так нервничать.
— Неправда, секретарь. Грязь всегда остается грязью, — резко ответил Ораков. — Если она и не пристает, то все равно пачкает.
— Знаю, что это — неприятная вещь. И все же это сигнал. И мы должны как-то отреагировать на него.
— Значит, вы не доверяете мне? — понизив голос, спросил Ораков, догадавшись, к чему клонит собеседник.
— Ну, почему же! Доверять мы тебе доверяем. Но ведь иногда и проверить не мешает…
— Ах, вот как! — упавшим голосом произнес Ораков. — Ну, что ж… Проверяйте. Когда хотите. Хоть сейчас.
— Вот и договорились, — сухо отметил секретарь, вставая. — Сегодня у нас какой день? Среда? Очень хорошо. На той неделе, в пятницу, собери-ка, пожалуйста, народ. Мы приедем и потолкуем об этом письме на общем собрании. А перед этим мы пошлем к тебе комиссию для проверки.
Домой башлык возвращался в подавленном состоянии. Понуро, сгорбившись, сидел в машине. Вспомнились и больно кольнули в самое сердце слова секретаря райкома о том, что, мол, иногда не мешает проверить и председателя. Можно подумать, что он работает бесконтрольно, что его никогда и никто не проверяет! Все обстоит как раз наоборот. Его проверяют даже намного чаще, чем это было бы нужно. Секретарь знал об этом. И уж совсем непонятно, зачем нужны еще какие-то комиссии?
«Нечего сказать, дожил, — горестно вздохнул Ораков, — пройдет неделя и имя твое будут трепать на виду сотен людей. А все потому, что люди не хотят спокойно жить: им обязательно надо кого-то травить, кому-то причинять зло, портить жизнь».
Прошло немногим больше недели. Наступила пятница.
Комиссия, направленная в колхоз, проверила все отрасли хозяйства, но никаких, хоть сколько-нибудь значительных нарушений в их деятельности не обнаружили. Одновременно была произведена и проверка подлинности многочисленных подписей, сделанных в конце присланного в райком письма. Выяснилось, что ни одной действительной подписи в нем не было. Колхозники, которым, якобы, они принадлежали, увидев эти «подписи», с возмущением отвергали их, решительно заявляя, что они не только не подписывали никакого письма, но и не видели его.
В числе многих фамилий, стоявших под письмом, оказались и фамилии двух бывших председателей колхоза «Октябрь» — людей пожилых, уважаемых. Когда им показали письмо и их подписи, старики были потрясены. А когда пришли в себя, то первым делом потребовали, чтобы им показали «того подлого шакала», который перед всем колхозом покрыл позором их седые головы.
Результаты своих проверок комиссия сообщила секретарю райкома, который, как и обещал, в пятницу приехал в колхоз.
Колхозный клуб в этот вечер был переполнен. А тишина в нем стояла такая, как будто в клубе не было ни души. Места за столом президиума заняли представители райкома партии во главе с первым секретарем, Бегенч Ораков, секретарь колхозного парткома, руководители передовых бригад, несколько стариков — членов Совета старейшин, доярки, механизаторы.
Поднявшись, секретарь райкома огласил повестку дня: «Обсуждение письма, поступившего в райком» и коротко изложил его содержание. А затем попросил колхозников высказаться по обсуждаемому вопросу. Зал зашевелился, загудел. Участники собрания о чем-то толковали между собой да изредка поглядывали на председателя. Внешне Ораков казался спокойным, даже слегка задумчивым, и смотрел поверх людей куда-то в конец зала. Иногда его взгляд делался скучающим, обращенным в себя, и как бы говорил: «Все это ни к чему, товарищи. Право, ни к чему. Только зря время теряем». Наконец, перекрывая слитный шум собрания, из середины зала раздался зычный голос колхозного конюха Черкеза Меляева:
— Товарищ секретарь, можно мне?
И зал мгновенно затих.
— Пожалуйста! — сказал секретарь райкома.
— А этот, который вам прислал письмо, видать, изрядный трус. Нашего башлыка как хотел испачкал, а сам за чужие спины спрятался. Это же подлость, товарищ секретарь! Это же, как говорится, удар ниже пояса… — загорячился Черкез.
Секретарь постучал карандашом о горлышко графина:
— Прошу говорить по существу.
— Хорошо. Скажу и по существу, — весело и громко сказал конюх. — По-моему, тот, кто прислал вам письмо, просто… негодяй!
Конюх сел. И тут же со всех сторон послышались гневные возгласы:
— Надо найти этого скорпиона и судить за клевету!..
— Правильно! Судить надо… Да разве найдешь его!
— А почерк на что?.. Пусть милиция поищет. Человек — не иголка в ворохе сена.
— Верно! Надо найти. Пусть попарится, где следует!
Когда волнение в зале улеглось, слова попросила доярка Алтын Шаммыева. Ее яркие глаза светились умом, строгой застенчивостью, добротой. Низко над глазами — ровные шнурочки бровей. На щеках под смуглой кожей — густой нежный румянец. Алтын улыбается редко, но если улыбнется, глаз не оторвешь от ее миловидного лица. В колхозе эту женщину ценят за труд и скромность; как доярке ей не было равных. Портрет ее уже несколько лет не сходит с колхозной доски Почета.
Алтын встала, поправила на голове шерстяной, в ярких розах платок и в полной тишине негромко произнесла:
— Пусть никто не подумает, что я хочу взять под защиту нашего башлыка — зачем защищать того, кто в этом не нуждается! Я хочу разобраться лишь вот в чем: почему автор письма скрыл свое имя? Да потому, что написал он сплошную ложь, и ему стыдно подписывать свое гнусное письмо. Вот он и поставил чужие фамилии. И цель такого письма ясна: выместить на председателе какую-то свою обиду, отомстить ему за что-то. За что? Пока неизвестно. Да и вряд ли когда-нибудь узнаем. Если бы автор письма был человеком честным, он мог бы покритиковать башлыка открыто, в глаза. Никогда и никому Бегенч-ага за это не мстил, никого не преследовал — об этом каждый знает. В конце концов анонимщик мог бы зайти к вам, товарищ секретарь, и поговорить о наболевшем — дорогу в райком мы, слава богу, знаем хорошо. Если ты честен и хочешь кого-то поправить ради общего блага, зачем тебе прятаться, скрывать свое имя? Говори прямо.
Лично я помню товарища Оракова с той минуты, когда он только что приехал в наш колхоз. Чего скрывать — жили мы тогда бедно. Порядка в колхозе не было. На трудодни выдавали гроши. Народ из колхоза уходил, искал, где лучше. И башлыки у нас не держались. Вот в эту самую пору и приехал к нам Бегенч-ага. Много ему пришлось поработать, много положить сил, здоровья. Теперь мы ходим в передовых, всюду нас хвалят. Почему же раньше этого не было, при других башлыках? Почему? Я спрашиваю. А потому, что у них не было такого таланта, каким обладает Ораков. Он всегда в гуще народа, учится у него и сам учит его, Бегенч-ага не раз приходил к нам, дояркам. Спросит, как живем, в чем нуждаемся? А потом перейдет к делу и начнет расспрашивать о том, что нужно, чтобы еще выше поднять надои? Бывало, попадет он под горячую руку, мы распалимся и накричим на него. Но никогда не видели, чтобы он как-то вышел из себя, нагрубил, выругался. Такого не было ни разу. Он выслушает, как обычно, попросит немного потерпеть и пообещает помочь. Пройдет день — другой, смотришь — и обещанная помощь приходит! Не секрет и то, что на примере нашего башлыка мы воспитываем наших детишек. Чуть ли не каждый день внушаем им: «Будьте такими же честными, как наш башлык. Будьте такими же добрыми и обязательными, как наш Бегенч-ага». И вот у кого-то поднялась рука написать такое письмо.
Алтын замолкла, посмотрела по сторонам, словно желая кого-то отыскать в зале. Потом, гневно блеснув горячими своими глазами, звонко произнесла, почти крикнула:
— Да пусть хоть еще тысячу таких же анонимок пишут на него — все равно никто не поверит в них! Для нас Бегенч-ага всегда был и останется настоящим коммунистом!
Зал вздрогнул от аплодисментов.
Пока говорила доярка, Ораков, опустив глаза, сосредоточенно смотрел в одну точку на столе. Когда же до него донеслись последние ее слова, он почувствовал, как к горлу подкатил комок. Бегенч с трудом справился со своей слабостью, встал и поклонился залу. В ответ еще громче, еще дружнее раскатились рукоплескания. Перекрывая их, из зала неслись возгласы:
— Ай, да Алтын! Молодец!
— Крепко сказала…
— Башлык достоин этих слов!
— Верно! Достоин!..
После доярки выступили многие. Они так же тепло и справедливо говорили о председателе колхоза и гневно осуждали анонимщика.
В конце собрания секретарь райкома предоставил слово Оракову.
Все насторожились, ждали, что скажет башлык. Но он от выступления отказался, сославшись на то, что и так уж времени потрачено много, что минут через десять надо будет начинать планерку. Не срывать же ее!
Перед отъездом из колхоза секретарь райкома отозвал башлыка в сторону:
— Я рад, что ни один из фактов, изложенных в письме, не подтвердился. Честно скажу — будто камень с души свалился. Очень порадовало меня и то, что в народе ты пользуешься такой любовью и таким уважением. А за причиненное беспокойство прошу меня простить.
Пожав руку председателю, секретарь уехал.
Другую радость — большую и светлую — принесли башлыку выборы в Верховный Совет. Все избиратели того округа, где баллотировался Ораков, отдали за него свои голоса.
Спустя примерно неделю после выборов во дворе колхозного правления появился незнакомый человек. В кабинет председателя он вошел без стука и разрешения, сел на стул возле стены без приглашения. Не вставая и не протягивая руки, гость с достоинством отрекомендовался:
— Беркелиев, работник советской торговли.
Беркелиев был невысок, средних лет. На его белом продолговатом лице во всю щеку горел яркий румянец. Седые редкие волосы были зачесаны назад. Глаза выпуклые, немигающие. Они, эти глаза, больше всего и запоминались в облике гостя. Вглядываясь в него, Ораков подумал, что такие глаза можно не закрывать даже под водой.
— Слушаю вас, — обратился Бегенч к посетителю.
— Я пришел, яшули, попросить у вас извинения, — сказал Беркелиев.
— Вот как!
— Да, извинения.
— За что же?
— Дело в том, что не так давно я написал на вас письмо в райком.
Бегенч заметил: пока Беркелиев говорил, его странные глаза становились все выпуклее и наглее.
— Вы имеете в виду анонимку?
— Да. Анонимку.
— Это интересно! Первый раз вижу такое, чтобы анонимщик и… просьба об извинении… — путаясь в словах от неожиданности, удивлялся Ораков. Он выпрямился в кресле и спросил: — Что же вас заставило ее написать?
— Обида! — быстро ответил гость. — Как вы помните, в прошлом году строители выпрямляли и расширяли одну из улиц нашего села, и в это время им, видите ли, помешал мой гараж. Они велели его убрать. Якобы такое указание поступило от вас. Я сел и в сердцах накатал на вас письмо. Потом оказалось, что вы тут ни при чем, что указание о сносе моего гаража исходило от сельсовета. Ну тут я и решил наведаться к вам…
— Я бы мог вас простить, — сказал Ораков после паузы. — Мог бы… Но что это даст? Не больше, чем мертвому припарки или попытка вычерпать пригоршней колодец.
— Почему же?
— Потому что извинять и прощать можно человека, у которого есть совесть. А у вас ее нет.
— Куда же она делась?
— Вам лучше знать.
Как депутат Ораков ездил теперь на каждую сессию Верховного Совета. Встречи с Москвой, со знатными людьми, вопросы, которые приходилось решать депутатам — все это оставляло в душе Бегенча неизгладимый след. И все же самой памятной, самой волнующей была третья сессия.
Перед тем как Бегенчу выехать на эту сессию, его пригласили в директивный орган, в отдел, который ведал вопросами сельского хозяйства.
Заведовал им плотный, пожилой мужчина, лет под шестьдесят. Бегенчу он понравился с первой же встречи своим добродушием, приветливым и веселым нравом.
— Дорогой товарищ Ораков! — сказал он, улыбаясь синими и чистыми, как у ребенка, глазами, пожимая обеими руками большую смуглую руку башлыка, — рад вас видеть и сердечно поздравить с тем, что вам предоставлена возможность выступить с речью на предстоящей сессии Верховного Совета!
— Спасибо. Такой чести, признаюсь, не ожидал. А о чем я должен говорить?
— Ну, ясно о чем — овощи, сельское хозяйство… И надо, чтобы были проблемы. Важные проблемы. В масштабе государства. Подумайте хорошенько и над темой, и над текстом. Если будут затруднения, я помогу…
…В двадцатых числах июня Ораков вылетел в Москву. Воздушный лайнер, на борту которого он находился, утром совершил посадку в аэропорту Домодедово. Здесь, в Подмосковье, только что прошла гроза и пролился по-настоящему летний теплый дождь. Небо почти очистилось от грозовых туч и казалось просторным. Лишь кое-где под лазурным куполом висели неподвижные пушинки облаков.
…Машина, мягко покачиваясь, понеслась по лесному шоссе. Бегенчу всегда нравился этот легкий, как будто специально данный ему для отдыха путь от аэропорта до столицы.
Весь левый откос, покрытый свежей травой, заливало солнце. Над дорожным откосом гулял ветерок. Он налетал на осины, и их охватывал нескончаемый трепет. Тот же ветер хватал за плечи молодые березы, обнимал их, и даже пытался кружить, как в вальсе. Березам это, видимо, очень нравилось. Они вырывались из объятий озорного ветра и так бурно и так шумно закипали солнечной листвой, словно заливались неудержимым радостным смехом.
Через некоторое время в голом просвете леса Бегенч увидел белое, как облако, высотное здание и сердце его дрогнуло — Москва! Здание помаячило немного и снова спряталось за деревьями. А спустя несколько минут широко открылась панорама подмосковной стройки: высокие корпуса светлых жилых домов, черные краны над ними, красная глина развороченных дорог, и рядом со стройкой редкий лесок.
Потом автомашина вышла на одну из широких магистралей Москвы, сделала плавный вираж и быстро помчалась в общем потоке автомобилей. Теперь справа и слева вздымались строгие стройные здания довоенной застройки. Бегенчу нравилось на них глядеть и запоминать каждый фронтон, каждую колоннаду каждого каменного богатыря-атланта, каждую кариатиду, львиные морды на стенах домов, карнизы, балконы и балкончики. А впереди и по бокам того широкого проспекта, сквозь тонкую дымку уже проступали белые громады высотных зданий, усеянные по фасаду синими ячейками бесчисленных окон.
Чем ближе к центру города, тем больше становилось таких великолепных зданий. Ораков внимательно вглядывался в них и было у него такое чувство, будто едет он к самому дорогому, самому верному другу, который давно уже ожидает встречи с ним — встречи радостной, теплой, сердечной. Это чувство его не покинуло и тогда, когда он подъехал к гостинице «Москва», где ему на время сессии забронировали номер.
Перед тем как зайти в вестибюль гостиницы, Бегенч взглянул на Кремль: на лазоревой купол здания за красной зубчатой стеной, на котором в свежем июньском небе величественно развевалось шелковое полотнище флага, на листву парка, прильнувшего к Кремлевской стене, на Манежную площадь и почувствовал, как радостно бьется сердце.
Бегенч внимательно слушал каждого оратора и, с волнением ждал своей очереди для выступления. Он старался не показывать вида, что волнуется, но скрыть это было почти невозможно: выступивший на лице густой темный румянец и жарко горевшие уши выдавали его состояние. Столько раз выступал он на совещаниях, пленумах, активах, собраниях и — ничего. Никакого особенного волнения. А тут как будто его подменили — смутился и оробел так, словно никогда к трибуне не подходил… «Но ведь это и в самом деле так, — думал Ораков, приложив холодные ладони к пылающим щекам. — Здесь, в этом зале, он действительно не выступал ни разу. Не мудрено и оробеть».
Услышав свою фамилию, Бегенч вздрогнул и скорым шагом направился к трибуне. Волновался. Так волновался, что удары сердца отдавались где-то в голове. Но стоило ему коснуться взглядом текста своего выступления, и волнение сразу пошло на убыль.
После аплодисментов, прозвучавших вслед за депутатом из Белоруссии, тишина в зале казалась особенно глубокой и нерушимой. И вдруг в этой тишине раздался негромкий хрипловатый голос Оракова.
— В развитие экономики Туркменской республики, — продолжал Ораков, — посильный вклад вносит и наше хозяйство, имеющее в основном овощеводческое направление. Нами намного перевыполняются планы по производству мяса, молока, шерсти и бахчевых, а по производству и продаже государству зерна, овощей, коконов тутового шелкопряда уже выполнены пятилетние планы.
Значительная часть сельскохозяйственной продукции нашего и других хозяйств республики отправляется в центральные районы страны. Однако из-за дальности перевозок продукция длительное время находится в пути, нередко портится и не доходит качественной до потребителя, а хозяйства несут убытки. Для улучшения транспортного сообщения и создания дополнительного, более короткого выхода из Туркменской ССР в Европейскую часть страны мы считали бы необходимым соединить Красноводский железнодорожный узел через Бекдаш со станцией Ералиев. Создание этой транспортной магистрали позволит не только обеспечить более рациональное распределение местных и транзитных грузопотоков, но и создаст условия для дальнейшего развития производительных сил Красноводской области, комплексного использования химического сырья Кара-Богаз-Гола.
И другой вопрос. В нашем колхозе, как и во многих других сельскохозяйственных предприятиях, с каждым годом увеличивается производство продуктов сельского хозяйства. Растут и потребности в минеральных удобрениях, производством которых занимаются предприятия Чарджоуской области. В последнее время мощности по производству минеральных удобрений увеличены, но потребности в этой продукции еще не удовлетворяются. Решение этой проблемы возможно, на наш взгляд, путем создания на территории Чарджоуской области территориально-производственного комплекса. Основой его формирования может стать развитие специализированных отраслей промышленности: химической, газовой, нефтеперерабатывающей, а в сельском хозяйстве — хлопководство и бахчеводство.
Просим Госплан СССР, соответствующие союзные министерства рассмотреть указанные вопросы и в ближайшие годы начать проектирование и строительство названной железной дороги, а также формирование Восточно-Туркменского территориально-производственного комплекса.
…Заключительные слова своей речи Бегенч произнес с заметным подъемом, и они встречены были горячими аплодисментами.
…И еще один напряженный день был прожит в Москве.
К вечеру Бегенч вернулся в гостиницу. Почувствовав усталость, он лег на диван. Сквозь закрытые окна в номер доносился приглушенный шум большого города и мелодичный, успокаивающий бой часов на Спасской башне.
Бегенч закрыл глаза и в тот же миг, словно наяву, увидел колхозное село. Сладко защемило сердце. «Вот, оказывается, как, — подумал председатель, — всего два дня прошло, а я уже соскучился по дому, по колхозу». Бегенчу виделось большое красное солнце, падающее за Копетдаг, и белое облако пыли, поднятое стадом коров, бредущих к селу со стороны пустыни. Очень живо представил он, как в этот же предвечерний час в открытых кузовах машин едут домой овощеводы; как один за другим идут по улицам односельчане: кто в клуб, кто в кинотеатр, кто в магазин. «Уж не раз, наверно, вспомнили меня сегодня мои земляки, — улыбнулся Ораков, не открывая глаз. — Послушать бы, что говорят, хорошее или плохое».
Бегенч не ошибся: разговоров о нем в тот день было немало. И повод был один: выступление в Москве, на сессии Верховного Совета. Об этом на всю страну уже сообщило московское радио. В тот же день текст выступления башлыка был опубликован во всех центральных и местных газетах. Об этом в Евшан-Сары знали все. Можно ли было о такой новости молчать? О ней говорили всюду: на полевых станах овощеводов, в лимонарии, в конторе, на птицефабрике, и даже в песках, на чабанских кошах.
А вечером, когда колхозники вернулись домой, разговор о председателе возобновился с новой силой, но теперь уже за ужином, в семейном кругу. После шести вечера народ потянулся к тому магазину, где обычно каждый вечер собирались любители шахмат. Безногий сторож магазина — приветливый и добрый Мерген-ага — к этому времени чисто вымел дворик, посыпанный мелким гравием, полил его из шланга и смахнул пыль с тахты. Как всегда, первыми «без опоздания» пришли сюда «ветераны» шахматного клуба Аманмурад Токлы, Ханкули Шеррай, Амандурды Кетче, Какабай Гулак, Бердыназар Чонак и Сеитнияз-Пастух. Вскоре подтянулась и молодежь.
Сеитнияз-Пастух снял с себя плащ, завернул в него папаху и, положив этот сверток к себе на колени, сказал:
— Целую неделю вожусь с ремонтом дома. Ни газет не читал, ни радио не слушал. Кто скажет, что нового в мире? Как Иран? Все бурлит?
— Иран бурлит… — отозвался Какабай-Беспалый, сидевший сзади Пастуха. — Стражи исламской революции ловят генералов шахской гвардии, судят и ставят к стенке. В общем, веселые дела!..
— А что о шахе слышно?
— Мечется, как мышь в мышеловке: места себе не находит. Говорят, к Садату хочет направиться…
— Так и надо этому тирану, — решительно заявил Ханкули Шеррай. — Сколько жизней подлец загубил, страну ограбил…
— А как заложники? — снова спросил Сеитнияз-Пастух. — Все еще у персов?
— У них. Вот кому, я думаю, не сладко, — ответил Бердыназар Чонак. — Бесправные люди эти заложники. А достается им, по-моему, из-за шаха. Сколько он миллиардов-то в Америку увез! Иран требует их вернуть, а Америка — ни в какую. Жаль с богатством расставаться. Вот иранцы свою злость и вымещают на заложниках.
— Читал я недавно, — заговорил Аннамурад Токлы, — будто американцы хотят их выручить силой.
— Вряд ли чего из этого выйдет, — подал свой голос Курбандурды Кетче.
— Как это вряд ли? — загремел в ответ Ханкули-Баламут. — Слыхал ты сколько они кораблей в Персидский залив нагнали? Чуть ли не тридцать штук! А ты вряд ли!..
— Запугать хотят. И не только иранцев. А под это дело — и нефть к рукам прибрать, и базы военные поставить, — тихо, но уверенно сказал Чонак. А заложники… это так… ширма.
— Да. Что и говорить, — задумчиво протянул Сеитнияз-Пастух. — Свой нос американцы везде суют, везде у них «зоны жизненных интересов», и грязь всякую льют на нас… А ведь когда-то мы были соратниками. Гитлера вместе громили.
— И в Афганистане неспокойно, — поднял голову Аманмурад Токлы. — Недавно по телевизору я видел, как допрашивали убийц Нурмухаммеда Тараки. Перед смертью Тараки попросил пить, но убийцы не дали ему воды. Они бросили президента на грязный пол и задушили. Прокурор, слушавший показания убийцы, плакал, как ребенок. Откровенно скажу: жаль и мне Тараки. Подлец Амин, целовавший ему руки, сгубил в нем не только государственного деятеля, но и большого писателя. Как-то мой внук Довран читал мне повесть Тараки про скитания бедного афганского парня Банга. Хорошая повесть. Кто не читал, советую почитать.
— А еще новость слышали? — спросил Какабай-Беспалый.
— Какую? Давай выкладывай! — вдруг оживился Сеитнияз-Пастух.
— Про нашего башлыка. С речью в Кремле выступал. Вот как далеко он пошел!
— Заслужил значит, вот и пошел: о дереве, брат, судят по плодам, о человеке — по делам. Полезного много сделал…
— Да что ты врешь, Пастух? Что может сделать полезного один человек? Один — это ничто, — взорвался вдруг Ханкули-Баламут.
— Ты не прав, Ханкули, — поддержал Аманмурад Токлы. — Я хорошо помню тот день, когда к нам в село приехал Ораков. Помню, лил дождь. Асфальта на улицах не было. Дороги развезло. Машина с вещами башлыка завязла — насилу бульдозер вытащил. Погляди теперь на село. Сравни, таким ли оно было раньше? А это — прямая заслуга башлыка.
— Ну, хорошо. Ладно. Черт с ним с селом, — снова загремел Ханкули Шеррай. — А что полезного он для колхоза сделал?
— Зря горячишься, Ханкули, — спокойно возразил Пастух. — Гнев идет впереди ума. — Наш башлык порядок навел в колхозе, вывел его в передовые…
— Один?! — гневно блеснул глазами Шеррай.
— Нет, не один. Вместе с народом.
— А-а-а… Вот то-то и оно!..
— Но народ надо было сплотить и повести за собой.
— То же самое мог бы сделать кто-нибудь другой. — Теперь уже не так громко и горячо, как раньше, возразил Ханкули.
— Мог бы… Но почему-то до него никто не сделал так. Ты думал об этом?
— От Курбана, шофера нашего башлыка, я слыхал, что Бегенч решил построить у нас большой ресторан, — скромно заметил тракторист, сидевший прямо на земле, рядом с тахтой. — Специально, говорит, для молодежи.
— Ресторан? — зарычал на парня Ханкули. — Что хорошего в нем, в твоем ресторане? Тьфу! Пьянство одно и разврат. Работать некому будет…
— То же самое, Ханкули-ага, ты говорил и о нашем стадионе, — напомнил ему тракторист. — «Какой срам, — возмущался ты, когда мы взялись за его строительство. — Школьницы в трусах будут бегать!» А о том, как наши спортсмены одержали победу в Москве на приз «Золотой колос», ты почему-то помалкиваешь. Это несправедливо, яшули. А ведь стадион-то построить башлык помог.
В это время к магазину подошел запоздавший любитель шахмат, колхозный шофер Бяшим Аннакулиев. Он поздоровался со всеми и объявил:
— Есть и у меня новость!
— Говори, какая?
— Все вы знаете, что у моего соседа пропали как-то ковры из дома. Мой племянник работает в милиции и я от него только что узнал, что вор пойман. Их спер какой-то Желтозубый.
— Ничего тут особенного нет, — солидно сказал Ханкули Шеррай. — Негодяй всегда наказывает сам себя.
Все начали обсуждать только что услышанную новость. А Какабай Гулак, вскинув бороду вверх, внимательно посмотрел на небо. Там, в зеленоватой голубизне засветилась первая вечерняя звезда.
— Люди! — закричал Какабай, — пора за шахматы, — и сел на середину тахты. Против Какабая сел Аманмурад Токлы. Расставили на доске фигуры. Шахматистов окружили болельщики.
Игра началась. Тут же с обеих сторон послышались возгласы, подсказки, советы. Лишь сторож не принимал участия в игре. Улыбаясь, он сидел на стуле, недалеко от тахты и ждал, когда закипит чайник, чтобы бросить туда заварку и свежим чаем утихомирить пыл разгоряченных шахматистов.
1978—1981 гг.
Ашхабад — Переделкино
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ РАЗНЫХ ЛЕТ
ЧАЙКИ ЛЕТЯТ В ПУСТЫНЮ
Впервые я увидел Ничку немногим более десяти лет назад. И все эти годы часто вспоминал о ней, надеясь при случае ее навестить. Время шло, а случай все не представлялся.
И вот… я снова на 180-м километре Каракумского канала. На том самом километре, где находится Ничка. Как только наш «газик» из небольшой лощины взобрался на гребень песчаного откоса, я увидел цветущий, но незнакомый оазис.
Тогда же вспомнилось, как жители маленького поселка из фанерных домиков старались мне объяснить происхождение его странного названия и поведали несколько коротких версий. По одной из них выходило, будто какой-то строитель-украинец, лежа под открытым небом и любуясь зрелищем каракумских звезд, не мог сдержать восторга и воскликнул:
— Ой! Яка ничка!..[6]
С тех пор эта самая «ничка» и закрепилась за новым поселком.
А вот другая версия. Когда бульдозеристы прокладывали канал и подошли к 180-му километру, их встретили чабаны. Один из них, приветствуя строителей, спросил:
— Эй! Ничик? — Как, мол, дела?
Неизвестно, что ответили строители. Известно лишь то, что слово «ничик» каким-то образом превратилось в «Ничку» и стало названием поселка.
Наконец, третье объяснение.
Недалеко от того места, где сейчас находится Ничка, был колодец Инче[7]. Кто-то решил этим же именем назвать и новый поселок, но, видимо, исказил слово и опять-таки получилась Ничка!
Но дело не в этом.
Той Нички, которую я видел раньше, не было и в помине. Вместо легких фанерных домиков — ряды новеньких коттеджей под красной черепицей. Дома тонули в розовых и белых облаках садов. В каждой цветущей кроне деловито гудели пчелы, словно целый день звучала тугая басовая струна. Каждый цветок жадно ловил свет и тепло. Свежо и тонко пахло цветочной пыльцой.
А над домами и садами, в невыцветшую синеву струилась шумная серебристо-зеленая листва пирамидальных тополей. В той же синеве купали свои вершины карагачи и клены.
Вот такой была Ничка теперь.
И этим она обязана строителям канала, на берегу которого родилась и так пышно расцвела. Нелегко было тем, первым новоселам, покорителям пустыни, что пришли сюда. Нелегко было и юным саженцам, дружно вставшим на пути раскаленного ветра. Но они выстояли, эти саженцы, окрепли, глубоко пустив корни в сухую неприветливую землю.
И люди, подобно деревьям, также укореняются на одном, навсегда облюбованном ими месте, привыкают к нему и потом, никакой силой их не сдвинешь с него.
Таких старожилов в Ничке немало.
Об одном из них я и собираюсь рассказать. Как и другие, он влюблен в свой поселок, в свою профессию, с которой у него связано столько любопытных и неожиданных приключений.
…Из Нички я собирался съездить в Часкак и Карамет-Нияз — молодые селенья на трассе Каракум-реки. Старший диспетчер строительно-монтажного управления «Гидромеханизации» Константин Кривов посоветовал мне воспользоваться катером, «Проветришься и канал посмотришь».
Я охотно принял это предложение.
На берегу затона, возле дощатой пристани, стояли три катера на подводных крыльях — белые речные красавцы. Пока я разглядывал их, откуда-то появился невысокий парень. Лицо круглое, живые карие глаза. На голове из-под бордового берета выбивались крутые завитки каштановых волос.
— Вот и моторист, — обратился ко мне Кривов. — Можете отправляться. А к вечеру возвращайтесь сюда. Ночью на мель наскочить можно. А на нашем катере и фар-то нет. Ну, будь здоров!
Нам предстояло пройти километров сто пятьдесят. Моторист занялся подготовкой к рейсу, а я стал осматриваться вокруг.
Весь берег был в зарослях тальника, за которым белели дома, цвели фруктовые деревья. Неподалеку от меня, над широкой водой затона рос особенно роскошный тал — с густой круглой кроной и множеством стволов-братьев, поднимавшихся от одного корня. Дерево напоминало раскрытый парашют. Из стороны в сторону раскачивались гладкие стволы-стропы. Ветер мял, встряхивал и ворошил дымчатую листву.
Вдоль берега, до самого затона, один за другим стояли самоходные баржи, теплоходы, старая брандвахта — все, как на настоящей реке! Даже капитаны были в форменных фуражках, украшенных «крабами», а матросы — в тельняшках.
— Прошу на корабль! — шутливо пригласил меня моторист, усаживаясь за руль. Отчалив от пристани, катер вышел из затона в канал и взял курс на восток. Приподнявшись на крыльях, он сразу же развил хорошую скорость. Рванулись и полетели навстречу низкие берега, из-за которых выглядывали желтые барханы. Река катилась навстречу торжественно-величавым половодьем.
Не канал, а именно — река!
Стремительность движения, упругость ветра и легкий плеск за кормой наполнили меня неповторимым чувством радости и окрыленности, хотелось петь… Это чувство не покидало меня до конца поездки.
Через несколько минут впереди показался теплоход. Нет, я ошибся. Это был земснаряд. От него, через весь канал, наискось отходила трубка, из которой на берегу извергался черный поток жидкой грязи, так называемой пульпы.
Моторист еще издали дал несколько настойчивых гудков, требуя дороги. Земснаряд отвалил от берега, и мы осторожно миновали узкий проход. В кабине багера мелькнуло потное небритое лицо рабочего. Моторист кивнул ему, и в знак благодарности за оперативность дал несколько приветственных гудков.
Вскоре на нашем пути повстречались другие землесосы, занятые расширением и углублением канала. Наконец, миновав последний из них, мы вырвались на вольный речной простор.
К этому времени погода изменилась. Откуда-то набежали тучи, усилившийся ветер поднял волну. Катер затрясло. Ощущение было такое, будто мы не по реке плывем, а мчимся на телеге по вспаханному полю.
Худояр Сабиров — так звали моториста — оказался человеком веселым и словоохотливым. Из его рассказа я узнал, что на Каракумском канале он чуть ли не с первых дней его строительства. Был багером и бригадиром земснаряда. Но ему не повезло: из-за болезни пришлось перейти на более легкую работу — мотористом катера.
Обязанности моториста, по мнению Худояра, несложные. Отдохнувших после вахты рабочих он отвозит из Нички на земснаряды, а оттуда забирает тех, кто должен поехать на отдых. Сюда же, на землесосы, он доставляет почту, специалистов, гостей. Случается, ездит по какому-нибудь срочному поручению в Головное и Мары. Ведь трасса канала судоходна на протяжении почти пятисот километров, а в оба конца получается тысяча.
Рассказав о себе, Худояр замолк, а мне хотелось услышать о каком-нибудь случае или дорожном приключении.
— А о каком? Веселом или грустном? — уточнил Худояр.
— Да все равно. Лишь бы случай был интересный.
— Хорошо. Тогда слушайте. Однажды взял я из Нички кипу писем, газет и журналов и повез их землесосчикам. Еду и все время поглядываю вперед, на воду. По реке часто камыш, бурьян, колючка идут. Если замечу их, обязательно отверну. Не отвернешь, зацепятся за крылья, и катер сразу потеряет скорость.
Так вот. Еду и смотрю. Вдруг… по левому борту вижу плывет что-то белое, продолговатое. Бревно, не бревно, а на него похоже. Сбавил я ход и подрулил к тому «бревну». Только теперь я понял: никакое это не бревно, а рыбина, килограммов так на тридцать! Что это? Толстолобик или амур — не понять: рыба плыла вверх брюхом, и я подумал, что она дохлая.
«Что же с ней приключилось, с бедняжкой? — глядел я на рыбу и переживал — кто же угробил ее?»
И вот, когда она очутилась совсем рядом, я решил погладить ее по животу. Только дотронулся до нее, а она к-а-а-к развернется да к-а-а-к трахнет меня по портрету — чуть я из катера не вылетел! Вот это, думаю, томаша[8], вот это потеха!.. Стою и ничего не соображаю. Рыба, конечно, ушла! Когда опомнился, подумал: «Взять, бы весло, да веслом ее… Такой улов был бы!.. На целую неделю хватило бы…
Над нами одна за другой промелькнули чайки. На канале они появились сразу, как только строители повели воду через Каракумы. На запад вслед за водой полетели.
Они и теперь летят. Их много на всей трассе! И там, где берет она свое начало, у берегов Амударьи, и на Келифском Узбое, и на Хаузханском море, и в долине Гяурса, и на озерах под Ашхабадом, и рядом а Геок-Тепе — на Копетдагском водохранилище.
Чайки летят в пустыню. Они не страшатся ее, потому что летят дорогой воды, дорогой жизни.
Но путь, по которому летят чайки, сперва прошли люди. И прошли не раз. Пустыня обрушила на них всю свою жестокую силу: зной, безводье, глухое безмолвие, гнетущее чувство одиночества, отрешенности от мира. Смельчаки рисковали жизнью ради одной цели: найти уклон на запад, найти тот единственный путь через юго-восточные Каракумы, чтобы направить воду на плодородные земли древних оазисов и на земли, которые никогда не знали плуга.
Эту задачу решали многие.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны в Каракумы было отправлено несколько экспедиций. Одну из них — комплексную возглавил лауреат Ленинской премии Иван Васильевич Болтенков. Экспедиция должна была наметить трассу Каракумского канала.
…Изыскатели подошли к тому месту, где ныне раскинулась Ничка, и повстречались с чабанами. Напоив гостей зеленым чаем, один из чабанов спросил, какая забота их привела в пески.
— Дорогу ищем для большой воды, — пояснил молодой топограф. — Канал будем строить.
— Здесь пойдет вода? — удивились чабаны и почти в один голос заявили: — Никогда этому не бывать!..
В подтверждение один из чабанов взял пиалу и выплеснул из нее чай. Песок бесследно поглотил влагу.
— Нет, здесь никогда не потечет вода. Пустыню не победишь, — убежденно сказал чабан, выплеснувший рай.
И все-таки канал построен. На его берегах совхозы рождаются. Его водой орошаются посевы хлопчатника, сады, виноградники, бахчи. Обводнены миллионы гектаров пастбищ.
…Чайки летят в пустыню. Чайки — спутники воды.
Недалеко уж им до Бахардена и Небит-Дага. И наступит такое время, когда они достигнут Каспия, куда донесет свои воды Амударья.
— А не рассказать ли еще один случай? — вывел меня из задумчивости моторист, которого, как я понял, начинало томить обоюдное молчание.
— А есть такой?
— Есть.
— Веселый?
— Судите сами!
— Ну тогда валяй.
— Однажды поручили доставить мне рабочих на земснаряды. День был весенний, теплый. На катере моем, как видите, чистота и порядок. Так вот, раз такая погода, думаю, и катер у меня чистый, неплохо было бы и мне приодеться. Была у меня новая нейлоновая сорочка — друг из Москвы привез ко дню рождения. Надел я новые лавсановые брюки и эту сорочку и таким пижоном стал… Да. Потом посадил землесосчиков и подкинул их чуть ли не до Часкака. Оттуда иду порожняком и вижу на левом берегу двух женщин. Они что-то кричат и машут руками. Думаю, надо подъехать. Может, беда какая… Пристаю к берегу. Это оказались две казашки. Одна совсем дряхлая, сморщенная старуха, другая — ничего, молодая и красивая.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Отвези нас в Ничку, сынок. Очень просим, отвези, — прошамкала старуха. — Заплатим, — и полезла за кошельком.
— Садитесь, говорю. Но платы с вас не возьму. Катер-то не мой, а государственный.
Сели они сзади меня, и мы поплыли. Женщины молчали, и я молчал. Сколько так плыли, не помню. Вдруг кто-то толкает меня в спину. Обернулся — старуха. Потом глянул на молодую и понял, что с ней творится что-то неладное. Она опустила голову и обхватила живот руками.
— Сынок, — говорит старуха, — пристань, пожалуйста, к берегу. У дочки моей вот-вот роды начнутся…
«Эх, думаю, вот это номер». Только этого еще не хватало. Даже потом прошибло. Но делать нечего, надо приставать к берегу.
Катер сходу вошел на мель, молодая казашка охнула, застонала и еще больше скорчилась на сиденье.
Я поднялся и хотел сойти на берег, но старуха меня остановила:
— Нет ли у тебя чайника, сынок?
— Есть, говорю.
— Так вот, — говорит, — согрей-ка поскорее водички, пока не началось…
Я схватил чайник, зачерпнул воды и — на берег. Разжигаю костер, а руки так и прыгают, трясутся. Почему волнуюсь, сам не пойму.
Вскоре вода согрелась, и я принес чайник на катер.
И опять хотел удрать, да старуха не пустила.
— А нет ли, — говорит, — у тебя какой-нибудь чистой тряпки? Тряпки нам обязательно понадобятся.
— Тряпок нет, — отвечаю.
— Что же делать, что же делать? — шамкает старуха, а сама пристально смотрит на мою нейлоновую сорочку.
Не помню я, как расстегнул воротник, как снял рубашку и отдал старухе. Запомнил только ее слова:
— Ну, а теперь, сынок, иди. Туда, на берег, иди. Там и подожди.
Я выбрал большой саксаул, лег под ним на песок. Долго лежал, все прислушивался: не раздастся ли детский плач. Но кругом — ни одного звука.
Наконец с катера донеслось:
— Эй! Где ты там? Иди сюда!
Ни живой ни мертвый подошел я к берегу и взглянул на катер. Там головой к корме, на брезенте, лежала молодая казашка. Глаза закрыты. Бледна. Брови чуть заметно вздрагивают. На бледном лбу крупные капли пота. А рядом с ней, на правой ее руке, завернутый в мою рубашку ребенок. «Эх, думаю, вот это томаша! Было нас трое, а стало четверо». Лицо у ребенка розовое, сморщенное, беззубый ротик открыт, словно он хочет засмеяться или чихнуть.
И так мне радостно стало от того, что человек родился, а главное от того, что все обошлось благополучно. Рад был и тому, что рубашка моя сослужила свою настоящую службу — не каждой выпадает такая честь. А так бы что? Износил бы ее и все!
— Кто, — спрашиваю, — парень или девка?
— Джигит, — говорит. — Внук. — И концом платка вытирает слезы.
Сажусь за руль. Включаю мотор и даю полный газ. Ребенок пискнул, а потом так раскричался…
— Куда ты, куда? — еще громче крикнула старуха.
— Как куда? В Ничку!
— Нет уж, вези обратно, туда, откуда нас взял.
— Вот какой случай был. Навсегда запомнился, — заключил свой рассказ Худояр.
Сбавив скорость, он повернул катер направо, в голубой затон с отлогими берегами. Там тоже стояло несколько речных судов. За ними высоко к небу тянулись тополя, виднелись дома.
Это был Карамет-Нияз.
Благодаря Худояру я быстро «слетал» и в Часкак, примечательный тем, что здесь старый гидроузел с судоходным шлюзом и новое перегораживающее сооружение. Часкакский гидроузел очень важен: по существу, он регулирует подачу всей воды, поступающей в канал из Амударьи.
Я управился со всеми своими делами и к вечеру мы возвращались в Ничку. Солнце склонилось к горизонту и вот-вот готово было зайти за желтый барьер камыша, вдоль которого залегла черная тень, а левый берег все еще был светел.
До Нички оставалось совсем немного. Я задумался над историей, рассказанной мотористом, и мне показалось, что у нее нет конца.
— Ну, а с теми женщинами потом-то довелось встретиться? — спросил я моториста.
— Довелось, — оживился Худояр. — Сами приезжали в Ничку и сына привозили. Славный такой парень!.. Со мной они рассчитались сполна. Кроме сорочки, какая была у меня, они привезли в подарок халат. Я стал отказываться, старуха — в слезы. «У нас, говорит, есть примета, если не примешь подарка, ребенок не будет долго жить». Пришлось взять. И чего уж я совсем не ожидал: мальчишке-то мое имя дали — Худояр! Тут и я… чуть не разрыдался. От радости, конечно!
О Каракумском канале нередко говорят и пишут как о канале жизни. После рассказа Худояра о рождении человека эти слова приобрели какой-то новый, неожиданно глубокий смысл.
Вскоре с левой стороны начались заросли тальника. И среди них я сразу узнал полюбившийся мне тал, похожий на зеленый парашют. Легкий ветер шумел в его листве, ворошил молодую веселую крону.
В кратком послесловии к этому рассказу мне хотелось бы поведать о дальнейшей судьбе Худояра Сабирова.
Как-то встретился я с моим соседом Анатолием Васильевичем Лебедевым, работавшим тогда в Ашхабаде начальником управления охотничьего хозяйства. Разговорились.
— Как дела? — задал я традиционный вопрос.
— Ничего, — ответил сосед. — Только вот радикулит проклятый мучает. Который день уж нахожусь на бюллетени. Но даром времени не теряю: прочел твою книжку «Долина ветров». Между прочим, там есть рассказ о Худояре. Этого парня я тоже знал. Последнее время он работал егерем в рыбнадзоре, на Хауз-Хане.
— Как это знал? Разве с ним что-нибудь случилось?
— А ты что, не в курсе?
— Нет.
— Погиб Худояр.
— Как?
— Однажды с товарищем он совершал инспекционную поездку по водохранилищу. Короче говоря, браконьеров ловил. В это время началась гроза, в лодку ударила молния и убила Худояра. Вот так.
Признаюсь, эта новость и меня поразила, как громом. Мне искренне стало жаль Худояра: веселый и добрый был человек.
ВОЛШЕБНИК ХЫДЫР
Огненным жаром дышал август. Полевые вагончики так накалялись за день, что к ночи в них было как в парной. Механизаторы, жившие в вагончиках, вынесли из них кровати и спали под открытым небом: на воздухе дышалось легче, да и то, по правде говоря, не всегда.
Наступил вечер. Бульдозеристы Меред Сарыев, Карры Аннадурдыев и бригадир Хыдыр Агабаев вернулись с вахты. Это были пожилые люди и от усталости едва держались на ногах. На кошме, брошенной рядом с вагончиком, они наскоро поужинали и легли отдыхать — их койки стояли рядом.
Была в бригаде и молодежь. Позже всех — не больше месяца назад — в ней появился молодой парень из Каахка — Кичи Мухаммедов. Юный смуглолицый гигант быстро завоевал симпатию всех товарищей и стал среди них самым заметным человеком.
А имя ему словно в насмешку было дано. Кичи в переводе на русский означает маленький, малыш. Ну, какой же Кичи малыш, если рост у него чуть не два метра!
Вскоре, по непонятной причине, его настоящее имя забылось и с чьей-то легкой руки новичка стали называть только по-русски: Малыш. И даже не так, а чуточку мягче: Малиш.
День-деньской только и слышалось:
— Эй, Малиш! Иди сюда!
— Как дела твои, Малиш?
— Эй, Малиш! Пошли на вахту!
— Эй, Малиш, неси обед.
За переделку своего имени Кичи ни на кого не сердился и втайне даже немного гордился им, хотя оно так же, как и прежнее, не очень-то вязалось с его внушительной великаньей внешностью.
…Подложив руки под голову, Хыдыр Агабаев рассеянно глядел в небо. В темных берегах вселенной торжественно мерцала звездная река. Изредка падали метеоры. Их прямой огненный след медленно угасал в густом лиловом мраке.
Прямо над Хыдыром весело светилась Вега. Слегка опустив глаза, он увидел перед собой Полярную звезду и вспомнил, что туркмены издревле называют ее «Демир газык» — «Железный кол». Согласно старой восточной легенде, вокруг Железного кола всегда на виду крутятся Белая и Красная лошади. Это звезды Альфа и Бета.
Разглядывая небо, Агабаев досадливо вздохнул: воздух все еще был горяч и неподвижен. Ему казалось, что там, в вышине, не звезды горят, а угли, только что выброшенные из жаровни. Все тело было в поту, отчаянно кусались комары.
«Когда же наступит прохлада?» — подумал Хыдыр и повернулся на бок.
— Меред, ты спишь? — негромко окликнул он соседа. Тот, заскрипев кроватью, тоже повернулся набок и глухо проворчал:
— Разве уснешь!.. Духота такая… И комары, дьяволы, не дают покоя.
— А ты не видел, Ялдырак[9] появился? — с надеждой спросил Агабаев. — По-моему, должен бы…
— Да. Пора, — согласился Меред. — Может, сегодня появится. Он ведь на востоке восходит. Утром…
Хыдыр снова лег на спину и стал прислушиваться к рокоту бульдозера. Он то нарастал, то слабел, слышался как бы издалека. «Голоса» своих машин Агабаев знал хорошо и мог различить среди тысячи других.
Самым новым и самым мощным бульдозером с гидравлическим подъемом ножа управлял Хыдырберды Аннамамедов — тезка бригадира. На другом, тоже новом, но старой конструкции работал Аман Чарыев. На самом старом, почти совсем изношенном ветеране стройки — Малиш. Именно им, неопытным новичкам, и доверяли этот старый испытанный бульдозер: не так жалко, если сломают.
Но и его терять нельзя. Он ведь тоже дает кубы. Работая на нем, Малиш подавал хорошие надежды стать механизатором высокого класса, был заботливым, чутким к машине. Этим особенно дорожил бригадир, не прощавший малейшей небрежности в обращении с техникой.
Несмотря на усталость, настроение у бригадира было приподнятое: в июле его коллектив добился самых высоких результатов, оставив позади бригады, которыми руководили знаменитые на всю республику Байрамгельды Курбан и Джума Кичиев. Правда, и до этого бригада Агабаева в отстающих не ходила, но… и лучшей не была.
И вот теперь она — лучшая. Это имело немаловажное значение.
Все бульдозерные бригады располагали свои полевые станы вдоль трассы канала, недалеко друг от друга, почти на одной линии. Таким образом, каждая бригада всегда все видела и знала, что делается в соседней: обедает она или отдыхает, профилактику машин проводит или гостей принимает. Ничего не утаишь. Да и никто ничего не скрывал!
Все на трассе знали, например, что особенно много гостей — журналистов, партийных и советских работников, разных специалистов — бывает в бригаде Байрамгельды Курбана. Направляясь к нему, кавалькада автомашин с гостями обычно проезжает мимо полевых домиков бригады Агабаева, накрывая их каждый раз желтым клубящимся шлейфом пыли. И никто бригадира даже взглядом не удостоит. Все это больно и глубоко ранило его самолюбие, огорчало.
Глядя в сторону удалявшихся машин, Хыдыр взволнованно думал:
«Ну, чем мы хуже других? Такие же люди, такая же техника, такой же грунт. И все же не мы, а они, другие, идут впереди, не нам, а им — почет и уважение. Когда же это кончится? Неужели так и не удастся вырвать заветную победу?»
В июле бригада Агабаева победила.
Тогда-то и заехал к нему начальник участка Хезрет Атамурадов.
Весело улыбаясь, он предупредил Хыдыра, что завтра к нему пожалует гость. Да! Гость.
«Вот так. Победил и сразу тебе — почет». С этой мыслью Агабаев заснул.
Воздух к этому времени посвежел, с гор повеяло легкой прохладой, унялись комары. И снился Хыдыру чудесный рассвет над бескрайней пустыней. В полнеба алела заря. Едва оторвавшись от земли, неистово сверкал приносящий прохладу Ялдырак — подлинное украшение Вселенной.
Восхищенно и долго любовался Хыдыр необычной звездой, ее сказочным сиянием, рассветом. И вдруг… раздался пушечный выстрел, звезда в небе погасла. Бригадир почувствовал, как бешено застучало сердце. И он в ужасе проснулся…
Но никто из пушки не стрелял. Это был грохот… опрокинутого чайника, поставленного бригадиром рядом с кроватью на тот случай, если ночью захочется пить. Услышав грохот, Хыдыр вскочил. Перед ним стоял какой-то человек, но разве спросонок определишь кто? Мог забрести чабан или рабочий из соседней бригады.
— Кто? Что надо? — хрипло закричал бригадир.
— Это — я, Хыдыр-ага.
Все еще не различая лица, Хыдыр по голосу узнал Малыша.
— Почему не в забое?
— Беда, Хыдыр-ага, — сокрушенно произнес Кичи.
— Какая беда?
Пока Малыш собирался рассказать о случившемся, со стороны трассы послышался торопливый топот ног. Тяжело дыша, из забоя бежал Хыдырберды Аннамамедов. Работая рядом с Малышом, он заметил, что со «стариком» что-то неладно, — слишком долго стоит, не двигаясь, на дне траншеи. Спустив свою машину с отвала на дно выемки, Хыдырберды подбежал к учебному бульдозеру. Кабина его была пуста, а вокруг — никого.
Обследовав машину, Аннамамедов узнал в чем дело и пустился бегом к полевому стану.
— Хыдыр-ага, он нас зарезал! — крикнул Аннамамедов, подбегая к бригадиру.
— Как «зарезал»? — испугался Агабаев.
— Перегрел подшипники, вал лебедки заклинило, и …все! И трос лопнул! — задыхаясь от возмущения, еле проговорил Аннамамедов.
— Неужели?! — искренне огорчился Хыдыр. — И в такой момент!
Но его перебил негодующий Хыдырберды:
— Я же тебе говорил, дылда, я же тебя учил! — кипел он, потрясая кулаками перед поникшим Малышом. — Когда поднимаешь нож, быстрей отпускай рычаг, не задерживай, не медли, иначе заклинит вал. Не дошло! И вот… плоды! Как еще сам-то остался цел?
Кичи не спорил, не оправдывался. Он стоял, опустив голову, снова и снова переживая то, что произошло там, в забое.
…Поднимаясь по откосу траншеи, Кичи почувствовал, как нож бульдозера помимо воли водителя вздернулся вверх, потом раздался оглушительный треск. И в тот же миг в кабине резко хлопнул подъемный рычаг. Хорошо, что нога была отставлена, а то бы…
Агабаев с минуту стоял возле кровати, видимо, решая, что предпринять. Он был уверен, что об аварии утром будет известно всей трассе — дурная молва летит быстрее стрелы, пущенной из лука. Узнают об этом случае Хезрет, начальство, и о госте помышлять тщетно — к другим направят.
Конечно, лучше всего — отремонтировать бульдозер до рассвета. Но хватит ли времени?
Хыдыр взглянул на часы: было половина третьего, в пять начнет светать, а на ремонт нужно не меньше двух-трех часов. Итак, что же? Попробовать?..
Но дело было не только во времени. Хыдыр не отдохнул. В нем еще крепко держалась дневная усталость. Во всем теле он чувствовал неодолимую тяжесть. От вчерашней пыли, жары, грохота все еще шумело в голове. И все-таки надо попытаться что-то сделать, чтобы скрыть неприятное происшествие и не уронить себя в глазах людей.
Пошатываясь, Хыдыр надел рабочие брюки, зашел в вагончик, зажег фонарь, вынул из-под кровати стальной восьмиметровый трос и вместе с Малышом отправился в забой.
Дизель работал на малых оборотах. По траншее растекался тусклый свет фар. Агабаев развернул бульдозер на 180 градусов и задним ходом вывел его на правый берег канала. Лежавший на земле нож без троса не позволил бы вывести машину обычным ходом. Малыш освещал фонарем лебедку, подавал нужные инструменты. Хыдыр снял с лебедки оборванный трос, заменил подшипники и, когда накрутил на лебедку новый трос, наступило утро. Потушив фары, Агабаев спустил бульдозер в траншею и выгреб оттуда изрядный холм красноватого грунта. В утреннем воздуха широко и бодро раскатывался рокот старого дизеля, он словно радовался тому, что снова в строю, что снова силен и крепок и может смело вступить в единоборство с землей.
Уступив место в кабине Малышу, бригадир вернулся в вагончик и, обессиленный, повалился на кошму: перед выходом на смену он надеялся хоть немного поспать.
Сон не приходил. Вспоминались разные случаи, связанные с обучением новичков. Сколько их было, этих случаев! Что ни ученик, то случай.
Однажды бригада Агабаева рыла коллектор для сброса грунтовки в целинном совхозе «Теджен». Был в то время в его бригаде ученик по имени Мурад. Бедовый парень! Бульдозер крутил, как детскую игрушку. Особенно на откосах. Ставил его в такое положение, когда машина вот-вот должна была перевернуться вверх гусеницами.
— Не хулигань. Плохо кончишь, — не раз предупреждал бригадир Мурада. Но тот даже внимания на это не обращал. Как об стенку горохом!
И вот как-то пришел Агабаев на край коллектора и видит: крутит Мурад машину на откосе. Крутит… И вдруг… она начала валиться. Хыдыра охватил ужас, он закрыл глаза, чтобы не видеть гибели легкомысленного парня.
Машина грохнулась на дно коллектора, расплющив кабину. Но водитель все-таки успел из нее выпрыгнуть. Долго сидел он, бледный, на краю коллектора. Все никак бедняга в себя не мог прийти.
С другим было иначе. Тот, наоборот, был ужасный трус. Собственной тени боялся, от каждого шороха вздрагивал.
Как-то назначили его в ночную смену. Немного поработав, он прибежал в домик бригадира и закричал:
— Хыдыр-ага! На меня напал тигр!..
— Что-что? Тигр напал? — рассмеялся Хыдыр. Откуда он взялся? Лет сорок назад один водился где-то в тугаях Амударьи, да и того, говорят, давно убили.
— Провалиться мне сквозь землю! Своими глазами видел! — чуть не плача, настаивал новичок.
Пришлось бригадиру подняться и идти в забой. Никакого тигра, разумеется, не было, и быть не могло. Да ведь у страха глаза велики! Не тигра встретил новичок, а… лису. Ослепленная резким и неожиданным светом бульдозера, она несколько раз тявкнула на него и скрылась.
Был у него учеником и Хыдырберды Аннамамедов… Но как он не похож на тех, двоих! Небо и земля!
Помнит, встретились они на плотине Хаузханского моря. Хыдырберды работал тогда реечником, а Хыдыр Агабаев — на отсыпке дамбочек для намывки грунта. Как-то они очутились рядом. Аннамамедов стоял с рейкой и невольно залюбовался мощной, расчетливо-спокойной работой бульдозериста. Агабаев заметил это, остановился. Сквозь лобовое стекло он несколько секунд смотрел на молодого топографа — высокого, скуластого, с красивым разлетом бровей над узкими глазами.
— Эй, парень! — крикнул Хыдыр, высунув голову из кабины, — бросай рейку, приходи к нам!
Аннамамедов рейку не бросил, но месяца два после смены приходил в бригаду, чтобы освоить новую профессию. А когда освоил, расстался с рейкой. Жадный до работы, горячий, справедливый, он стал надежной опорой бригадира. Он помог укрепить дисциплину в бригаде, повысить выработку, учить новичков. В забой новички ходили только с ним. Особенно зорко он опекал их ночью: не даст заснуть за рычагами, в нужную минуту придет на выручку, подскажет, поможет, растормошит.
Потом они вместе, два Хыдыра, прокладывали Машинный канал, отходивший к югу от Каракум-реки в районе станции Захмет. Взятую из нее воду нужно было с помощью мощных насосных станций поднять в южную часть Мургабского оазиса.
Наступил март. Чуткая к теплу в лощинах зазеленела трава и желтыми искрами рассыпались по ней цветы гусиного лука. Весна будоражила мечту о доме. Зачищая последние огрехи, Хыдыр водил свой бульдозер по руслу канала и думал: «Скорее бы в Теджен, к детям, к семье».
В это время он и увидел идущего к нему начальника участка Хезрета Атамурадова.
Агабаев сошел с бульдозера, шагнул навстречу.
— Как дела? — оглядывая прямое русло, поинтересовался Хезрет.
— Сегодня-завтра закончим, и можно пускать воду, — ответил Хыдыр.
— Быстро управились, молодцы! — похвалил Атамурадов. — Теперь и… в путь можно…
— Куда? — спросил Агабаев.
— Как куда? Канал копать — от Ашхабада до Геок-Тепе.
Хезрет повернулся, хотел было уйти, но раздумал: погрустневший вид бригадира ему не понравился.
— Чего заскучал? Приедем на новое место, немного поработаешь, получишь отгул и поедешь в Теджен, — сказал Хезрет, пожал бригадиру руку и ушел.
Дня через два механизаторы приехали в Геоктепинский район. Бригадиру, привыкшему к степному простору, горная долина не понравилась. Его взгляд все время упирался в горы, покрытые то синим, то голубым туманом… К северу от них, до самого горизонта лежали поросшие бурьяном пески. А на востоке тянулся в небо белый дым промышленного Безмеина.
…Да, как будто все это было только вчера. А ведь полгода уже прошло, за это время бригада проложила более полутора километров готового русла. Все шло хорошо. И вот тебе — на! Малыш все испортил…
Агабаев тяжело вздохнул, «Наказать бы его за этот проступок, как следует, да вряд ли поможет… Может, распрощаться, и делу — конец?»
Но этого вопроса Хыдыр не решил. Надо было собираться на вахту. Он поднялся мрачнее тучи, с разламывающейся от боли головой. Весь его завтрак состоял из пиалы зеленого чая. А когда уходил, всем в бригаде наказал: «Если кто приедет, позвать немедленно!».
Но никто в тот день не приехал. Это еще больше огорчило бригадира. К концу смены он чувствовал себя настолько разбитым и больным, что еле дошел до полевого стана.
Не говоря ни слова, Хыдыр лег на кошму, устало опустив веки. Теперь он никого уже не ждал. Да и глупо было бы ожидать, если в бригаде не любят и не берегут технику.
Утром, ввиду плохого самочувствия, Агабаев на работу не вышел. Он решил отлежаться и перешел в вагончик. Лежа в полном одиночестве, он незаметно для себя задремал. Вдруг ему послышался рокот приближающегося автомобиля. Хыдыр приподнял голову, прислушался: не чудится ли ему? Но через несколько секунд машина резко остановилась перед самыми окнами вагончика и вслед за этим раздался знакомый голос Хезрета Атамурадова:
— Эй, бригадир! Где ты?
Хыдыр вскочил с кошмы, надел белую сорочку, пижамные брюки и бросился к двери, но у самого входа чуть не столкнулся с гостем и начальником участка. Поздоровавшись, Хыдыр уступил им дорогу и пропустил в помещение.
Впереди шел журналист из Польши. Это был высокий, светлый блондин с голубыми глазами. На нем была соломенная шляпа, светлая сетчатая сорочка с короткими рукавами и хорошо отглаженные брюки из тонкой ткани бежевого цвета. Гостю было жарко. Еще по дороге на канал он снял галстук, пиджак, шире расстегнул воротник.
Задержавшись перед входом в помещение, журналист окинул взглядом стены вагончика и был приятно удивлен: на них красочно пестрели портреты журнальных красавиц. Работу по извлечению их из журналов обычно производили братья Аман и Меред Чарыевы, давно мечтающие о женитьбе и тихом семейном счастье. Юные девушки и женщины, снятые в разных позах и ракурсах, весело улыбались гостю со стены кочевого жилища.
— О, какое прекрасное общество! — перешагнув через порог, воскликнул журналист. — Как много хороших девушек!..
Гостю предложили место возле стены, слева от входа. Хезрет Атамурадов сел у окна, напротив журналаста. А Хыдыр Агабаев — у крайней от входа стены. Остальные члены бригады в вагончик войти постеснялись. Они столпились в дверном проеме, и, выглядывая друг из-за друга, с нетерпением ожидали, что скажет гость из далекой страны.
Подражая хозяину, журналист попытался было сесть по-восточному, на кошму, скрестив перед собой ноги. Но это ему не удалось — где-то в коленях затрещали брюки. Из затруднительного положения его выручил Хыдыр Агабаев, придвинувший низкую скамейку.
Сняв шляпу и темные очки, журналист представился. Потом вынул из пиджака объемистый блокнот, провел рукой по светлому бобрику волос и сухо посмотрел на бригадира. Было заметно, что гость разочарован его видом, хотя по пути в бригаду Хезрет рассказывал о Хыдыре как о настоящем герое исполинской стройки в Каракумах. Увы! Как ни старался гость, но ничего героического в облике Хыдыра не нашел: грустный взгляд угловатого лица, впалые щеки, темные короткие волосы. В сравнении с ним Хезрет был больше похож на героя. Молодой, жизнерадостный, он весь так и сиял, словно сам излучал свет. Блестели его жесткие, черные волнистые волосы, блестели глаза, белым снегом сверкали ровные зубы.
Переведя взгляд с Хезрета на бригадира, гость сказал:
— Добже. Значит, вас зовут… пан Хыдыр А-га-ба-ев?
— Нет. Меня зовут просто Хыдыр, — поправил он журналиста. Слово «пан» рядом со своим именем ему казалось неуместным..
— И еще объясните, пожалуйста, что означает ваше имя?
Хыдыр пожал плечами — вот уж над чем никогда не задумывался, так это над значением собственного имени! Других забот полно. Хыдыр искоса взглянул на Хезрета: выручай, мол, брат, без тебя не справлюсь. Именно так и понял этот взгляд начальник участка.
— Разрешите, я отвечу, — сказал он журналисту.
— О, да! Конечно, конечно, пан Хезрет! Прошу, — обрадовался журналист и раскрыл свой блокнот.
— На ваш вопрос, уважаемый гость, — начал Хезрет, вежливо улыбаясь, — коротко ответить нельзя. Поэтому позвольте мне начать издалека. Такое имя, как Хыдыр, — продолжал Атамурадов, — у нас дают одному из близнецов. Так поступили и родители нашего бригадира, когда у них родилось двое сыновей. Одному они дали имя Хыдыр, а другому — Ильяс. Это древний обычай. Он идет от старой народной сказки или легенды о близнецах Хыдыре и Ильясе. Сказочный Хыдыр — это добрый, могущественный волшебник. Допустим, если хоть раз он взглянет на поле, сад, бахчу — урожай здесь будет особенно богатым. Глянув на такой урожай или на сросшиеся плоды, туркмен обязательно скажет: «Сюда бросил свой взгляд Хыдыр-ата». И хотя считается, что Хыдыр — невидимка, он может принять облик любого человека — старика, юноши, туркмена, русского. И все же опознать его можно по одной примете: на большом пальце правой руки у него нет костей. Даже в наши дни, когда старики обмениваются рукопожатием, они легонько, на всякий случай, ощупывают друг у друга большой палец: не Хыдыр ли ты?
— Не шибко, пан Хезрет, не шибко! — попросил журналист.
— Если же вдруг обнаружится, — продолжал Хезрет, — что палец без кости, значит — это Хыдыр. Тогда хватай его и требуй, чего хочешь. Любое твое желание, просьбу он выполнит. Ведь он — волшебник!
Хезрет сделал паузу, посмотрел на своих слушателей и, лукаво улыбнувшись, произнес:
— Был, говорят, такой случай. Однажды какой-то туркмен, здороваясь с русским, проверил по привычке и его большой палец. И вдруг обнаружил, что он без кости! Туркмен задохнулся от радости…
— Хыдыр! — закричал он не своим голосом. — Стой! Ты волшебник Хыдыр!..
Туркмен вцепился в русского мертвой хваткой и стал требовать у него автомашину, ковры, дом и даже… молодую жену. Русский, не зная в чем дело, сильно испугался и подумал, что тот сошел с ума.
— Какой я тебе Хыдыр! — бледный от страха, кричал русский. — Рехнулся, что ли? Я — Иван!
Потом выяснилось, что Иван был на войне и там, в одной из атак, ему пулей выбило кость из большого пальца. Так… этого Ивана потом Хыдыром прозвали!..
Своим рассказом Хезрет развеселил бульдозеристов. От души смеялся и журналист.
Но рассказ не был окончен.
Когда все успокоились, Хезрет сказал:
— Давая сыну имя Хыдыр, родители нашего бригадира в душе надеялись, что когда он вырастет, то будет таким же могучим, как тот, сказочный волшебник, и будет приносить людям счастье, радость, богатство. Мечта родителей нашего Хыдыра сбылась, по-моему, вполне. Вот уже десять лет как он прокладывает в пустыне великий канал. И там, где он прошел, следом за ним идет невиданная доселе река — широкая, светлая, многоводная. Ни один волшебник в мире такого подвига не совершал. И землю, по которой прошел и на которую бросил свой взгляд Хыдыр Агабаев и славные его товарищи, теперь не узнаешь. Безбрежно на ней зеленеют поля, сады, виноградники, раскинулись новые села и города. Такое недоступно и тысяче могучих волшебников.
— Браво, пан Хыдыр! Браво! — восторженно отозвался журналист, и, подойдя к Хыдыру, горячо пожал ему руки и крепко обнял за плечи. Видимо, после рассказа Хезрета мнение гостя о бригадире изменилось совершенно. Теперь он как бы предстал перед ним в другом свете и уже не казался ни вялым, ни бледным, ни невзрачным. Теперь он видел другого человека, во взгляде которого светились скромное достоинство, воля, скрытая энергия, мужество и доброта — словом, все добродетели. Интерес гостя к бригадиру вырос настолько, что он буквально забросал его вопросами.
— Пан Хыдыр, — приветливо говорил журналист, желая, видимо, расположить его к откровенной беседе, — пан Хыдыр, пожалуйста, еще немного о себе. Ну, что-нибудь такое… что-нибудь… Интересное. Например, о семье, о детях. Дети у вас есть?
— Четверо, — ответил Хыдыр.
— Скучаете?..
— Как же… — смутился Хыдыр. — Детей очень люблю. Но редко бываю дома. Больше — в степи.
— Ну, добже, добже, пан Хыдыр, — не унимался журналист, — а теперь немного о трудностях.
— О трудностях?.. Раньше их было много, — Агабаев помолчал, как бы раздумывая и не решаясь говорить о том, как было раньше, сколько мучений он перенес, когда прокладывали канал между Мары и Хауз-Ханом. Жара. Барханы. Бездорожье. На целый участок одна водовозка, да и та не в силах была пробиться через пески, к бригадному стану. За несколько километров ходили к ней с ведрами, затем — обратно. Так же доставляли солярку и автол. Теперь этого нет. И Хыдыр Агабаев снова повторил:
— Раньше было труднее. Воду привозили за сто километров. Теперь — она рядом. Сколько хочешь!..
Потом Хыдыр рассказал, как однажды, оставив бульдозер в траншее, зашел он в юрту перекусить. Дело было вечером. Хыдыр поужинал и снова вернулся в забой. Но перед тем, как войти в кабину, осветил фонариком сидение и в ту же секунду окаменел от ужаса: свернувшись в клубок, на сидении лежала гюрза.
— Если бы не посветил, — сказал, улыбаясь, Хыдыр, — пришлось бы вам, наверное, встречаться с другим бригадиром.
Журналист тоже улыбался: встреча с бригадиром доставила ему большое удовольствие. Он вышел из вагончика и немного походил по сухому руслу канала, на берегу которого стояли в ряд голубые, слегка запыленные, бульдозеры. В отвальных ножах полыхало горячее солнце — без риска ослепнуть на них нельзя было взглянуть.
Журналист подошел к одной из машин, дотронулся до нее и тут же отдернул руку.
— О! Какой горячий! Огонь! — дуя на руку, сказал журналист.
Потом долго смотрел на синие горы, на желтую степь, на сухое русло канала. В силу привычки он старался запомнить все: людей, пейзаж, машины, и вместе с образом волшебника Хыдыра, творившего сказку наших дней, хотел забрать и увезти с собой.
Прощаясь, журналист с чувством произнес:
— Бардзо дзенькую! Спасибо! Приезжайте в Варшаву!
Проводив гостя и начальника участка, бульдозеристы направились к бригадному стану. Немного поотстав от других, рядом с бригадиром шел Малыш.
— Хыдыр-ага, — обратился к нему Кичи.
Агабаев остановился, взглянул на него снизу вверх.
— Что?
— Я ведь не нарочно… — потея от смущения, почти шепотом произнес Малыш.
— О чем ты? А!.. Ладно. Ничего, — отвернувшись от Малыша, мягко сказал Агабаев. Он долго не мог сердиться. И давно уже простил ученика. Тем более, что все обошлось очень хорошо!
ХЕМРА
Сигаретный дымок, завиваясь спиралью, улетал в открытое окно, за которым оранжево полыхал июньский зной.
Дементьев стряхнул пепел с сигареты и пытливо взглянул на меня.
— Вы просите, чтоб я рассказал о себе? Пожалуйста!..
И вслед за этим он начал читать наизусть отрывок из повести Паустовского «Колхида». Сергей Георгиевич читал довольно выразительно, и я живо представил себе, как ветер швырнул в окна духана горсть пыли и сухих розовых лепестков, как, нервно перебирая зеленые листья, заволновались пальмы, как вылетавший из труб дым мчался вдоль плоских улиц Поти, сметая запах отцветающих мандаринов.
Я увидел надвигающийся с моря дождь, тяжелым дымом лежащий над водой.
Я представил себе грузинский духан, столик, и за ним молодых людей, покорителей Колхиды. И как живой прозвучал голос инженера Габунии:
— Двести сорок дней в году здесь лупит непрерывный дождь.
Другой добавил:
— Пламенная Колхида!
Дементьев меня поразил. Не часто встретишь людей, которые вот так бы, как он, знали «презренную» прозу. Стихи — другое дело. Во всяком случае, такого человека, как он, я меньше всего ожидал увидеть в Головном, небольшом поселке, у истоков Каракумского канала.
— У вас отличная память, — польстил я Дементьеву, — но причем тут Колхида?
— Да нет же! Дело тут не в памяти, — махнул он загорелой рукой. — А в том, что «Колхида» — эта книга великого мастера. За это я и люблю ее. И еще за то, что эта книга обо мне, о моей молодости.
До приезда в Туркмению. Дементьев жил в Грузии и работал на Потийском заводе, строившем землесосы. Вместе с такими, как инженер Габуния, он мокнул под проливными дождями. В топкой малярийной долине реки Риони прокладывал каналы, осушал Колхиду.
И вдруг — письмо из Туркмении с просьбой приехать и помочь в монтаже землесосов. Дементьев приехал, помог и… остался здесь навсегда.
Но какая разница в климате!
Там, в Колхиде, 240 дней в году лупит беспрерывный дождь, а здесь, на туркменской, земле, 240 дней в году жарит горячее солнце.
Когда первая очередь Каракумского канала была проложена, Дементьева назначили начальником первого строительного участка с конторой в поселке Головное. Здесь он поселился и принялся за дело.
А дела не простые.
По трем подводящим головам (так специалисты называют водозаборные рукава) воду Амударьи надо подавать в канал. Подавать беспрерывно. Каждый день. Каждый час. В любую погоду. Ночью и днем.
Подача бесплотинная. Она осложнена тем, что уровень реки все время скачет: то высок, то низок.
Амударья одна из мутных рек мира. За год в подводящих «головах» она откладывает миллионы кубометров ила. Их надо неустанно чистить, углублять и расширять…
А канал растет, становится все шире, полноводней, могучей. А массивы земель в зоне канала растут. Значит, нужно ежегодно увеличивать подачу воды, строить защитные дамбы.
Река, с норовом. Возьмет да вильнет в сторону от подводящих голов. Однажды на целый километр к правому берегу удрала. И там, где еще недавно закручивала воронки, с плеском, шумом и шипеньем летел к Аралу мутный поток, теперь вдоль берега широкой полосой лежала сухая глинистая рябь.
Тогда в работу включился земснаряд «303». По глинистой ряби он проложил глубокую протоку и опять соединил великую Аму с Каракумским каналом. И так много, много раз.
Еще до встречи с Дементьевым я познакомился а экипажем земснаряда, где начальником Николай Антонович Красницкий. Мы поднялись с ним на верхнюю палубу могучего земснаряда, соединенную со светлой, широкого обзора, багермейстерской кабиной. Земснаряд стоял в створе одной из подводящих голов, носом к Амударье. С двух сторон этого створа возвышались сизые горы намытого ила. Но углубление головы продолжалось — весь корпус земснаряда был охвачен легкой нескончаемой дрожью, из трубы к подножью серого увала била черная пульпа.
По высокой палубе гулял амударьинский ветер, он нес прохладу и свежесть. А какой вид открывался отсюда на просторы Амударьи! Паводок на ней был в разгаре. Разлившись на несколько километров, река стремительно неслась на север. Сколько мощи и величия было в ее бегущей шири! Сколько было в этом страшной, захватывающей дух, стихийной красоты!
Правый берег был далеко и едва различим. Вода вдоль него блестела, как стекло. И об это стекло неистово дробилось солнце. Но чем ближе к стремнине, тем она становилась темней и спокойней. А у самого входа в створ подводящей головы она разливалась живой розовой рябью.
По краям палубы стояли белые скамейки, а на ее середине такой же белый стол. Мы сидели за ним и вели беседу. Больше говорил Николай Антонович, а я слушал и кое-что записывал в блокнот. О Красницком я был наслышан еще до этой встречи — добрая слава о нем давно уже идет по республике. Но увидел его только теперь. Это был высокий стройный человек, похожий на ловкого, сильного, хорошо тренированного спортсмена. Энергичное, почти круглое лицо было в ровном речном золотистом загаре, который так подчеркивал синеву его внимательных глаз. На нем была сиреневая сорочка с закатанными рукавами и одноцветные легкие брюки. Такими же здоровяками, как на подбор, были и члены его экипажа. Николай Антонович относится к той категории людей, которых отмечает постоянство. Он первым вступил в единоборство с рекой и первым начал подавать воду в канал в таком количестве, в каком она нужна народному хозяйству республики. С тех пор он уже многие годы бессменно несет эту нелегкую вахту.
Прежде чем проститься с Красницким и отправиться в Головное, я еще раз взглянул на бурный амударьинский плес и лишний раз убедился, что не зря народ назвал ее Джейхун — Бешеной. Нет, не зря.
…Да… 303-й нам крепко помог, — вспоминал Дементьев заслуги земснаряда. — Если бы не он, быть большому скандалу. От Амударьи всего можно ожидать. Это такая сильная и своенравная река!..
— Интересно, когда же, наконец, удастся ее обуздать?
Дементьев улыбнулся, повеселел. Очевидно, вопрос, заданный мною, его волновал не меньше, чем меня.
— Обуздать Амударью, — повторил он мои слова, как бы взвешивая их, — задача не из легких, конечно. И все же ее решают упорно. Эта работа началась еще в 1962 году. В нее вовлечены пятнадцать научно-исследовательских и проектных институтов страны. В результате, как вам известно, создан проект Кизыл-Аякского гидроузла. Кроме этого на Амударье и ее самых крупных притоках планируется строительство нескольких десятков мощных гидростанций. Вкратце о гидроузле.
Сергей Георгиевич встал возле кресла, над которым висела карта Туркмении.
— Вот здесь, — палец Дементьева коснулся желтого пятна на карте, которое снизу огибала лиловая жилка Амударьи, — вот здесь, в скальном выступе Пулизиндан, река пробила русло, почти неизменившееся на протяжении столетий. В этом месте стремительный бег Амударьи должна укротить плотина Кизыл-Аякского гидроузла. В ней двадцать пролетов. За одну секунду они могут пропустить четырнадцать тысяч кубометров воды. Какое зрелище!.. Представьте себе эту лавину, эту массу бушующей, вылетающей из пролетов белопенной воды!..
Дементьев говорил горячо, увлеченно, обрушив на меня целый каскад любопытных данных, ярких красноречивых цифр. Все запомнить было невозможно. Да и вряд ли это нужно. Но главное, я, кажется, запомнил.
Передо мной как бы слегка приподнялась завеса будущего, которое рождалось сегодня, в спорах, в борьбе мнений, в безмерном, кропотливом труде. Я узнал, какая мощь интеллекта, многовекового опыта, знании брошена на покорение суровой стихии Амударьи. Доказательством тому — проект Кизыл-Аякского гидроузла. Дементьев подробно и долго говорил о составных частях этого грандиозного сооружения.
Я слушал его и настойчиво думал о том, когда и на чем я отправлюсь вниз, по каналу, путешествие по которому было давней моей мечтой. С этой целью я и приехал в Головное. К сожалению, регулярного судоходства на канале нет и неизвестно, когда будет, и я не знал, найдется ли у Дементьева для меня транспорт. Катер у него был. Это на нем я ездил на земснаряд к Николаю Красницкому. Но ведь этот единственный катер, наверняка, нужен строителям. Как же быть? Неужели придется вернуться в Керки, а оттуда — в Ашхабад, так и не повидав канала?
Дементьев, поглядев на меня, видимо, понял мою озабоченность.
— Ну, а теперь расскажите о ваших планах. Чем намерены заниматься? — спросил Сергей Георгиевич.
— Мои планы зависят от вас, — уклончиво ответил я.
— Вы хотите поехать вниз, по каналу?
Я кивнул головой.
— И далеко?
— Хотя бы до Часкака.
— А дальше как же?
— На перекладных.
— До самого Ашхабада?
— Да.
Сергей Георгиевич подошел к открытому окну, за которым белым пламенем пылал летний полдень, был виден правый берег канала, заросли камыша, и громко крикнул:
— Хемра!
Прошло несколько секунд, но на зов Дементьева никто не отозвался. Дементьев крикнул еще два раза. Лишь после этого из-за откоса левого берега появилась стройная фигура паренька-туркмена, в тельняшке и синих джинсах. Направляясь к белому домику конторы, он шагал плавно и мягко. Заклепочки на его модных брюках резко сверкали под солнцем. Во внешности и в походке было что-то от молодого верблюжонка.
Хемра зашел в контору и вопросительно взглянул на начальника участка.
— Знакомьтесь, — сказал Дементьев, — Хемра. Моторист глиссера. Поедете с ним. Парень он надежный. Хемра с независимым видом окинул меня взглядом, и я еще больше убедился в его сходстве с молодым верблюжонком: небольшой с горбинкой нос на продолговатом лице, длинные ресницы и гордые полуприкрытые глаза.
Моторист понял, конечно, что меня надо куда-то везти. Но куда? Близко или далеко? — не знал. Словом, вид у него был недовольный.
— Не хмурься, Хемра, — успокоил его Дементьев. — Подбросишь товарища до Часкака, и — все. Получишь два дня отгула.
Не ответив начальнику участка, Хемра повернулся и вышел. Следом за ним пришли на берег канала и мы с Дементьевым. Только теперь я увидел прижавшийся к откосу новенький голубоватый глиссер. Отсюда же, с берега, виднелось перегораживающее сооружение головного гидроузла.
Хемра сел за руль. Я устроился рядом.
Мягко заурчал мотор, и левый берег медленно поплыл назад. Сергей Сергеевич, улыбаясь, махал нам рукой. Седые волосы его казались синеватыми.
Прощай, Головное! Прощай, седовласый, много повидавший в жизни, инженер! Прощайте, веселые ветлы и милые глазастые мальвы!
При входе в шлюз я глянул вверх и увидел на высоком портале мужчину и женщину. Облокотившись на перила, они с любопытством смотрели на нас. Когда мы вошли в камеру шлюза, за нами опустился щит. Потом поднялся щит впереди.
Путь в канал был открыт, и наше легкое суденышко, словно на крыльях, понеслось по светло-зеленой воде. От кормы к берегам, то низким, то крутым и высоким, скручиваясь в желтые рулоны, покатились две волны. Иногда над берегом серебристо-зеленым фонтаном взлетал одинокий куст песчаной акации — сюзен. Иногда выстраивалась шеренга косматых кустов кандыма, увешанных разноцветными шариками семян.
Хемра оказался простым и добрым парнем. Свое мрачное настроение он объяснил тем, что ехать со мной ему не хотелось. Прогулка не из легких: туда и обратно более двухсот километров. А если принять во внимание, что такие прогулки приходится делать чуть ли не каждый день, то понять моториста не трудно.
Постепенно мы разговорились. Закончив речной техникум в Чарджоу, Хемра с год плавал по Амударье, знал все ее капризы. Он с гордостью назвал себя «амударьинским волком», и заверил, что с ним «не пропадешь».
…И что это они все успокаивают меня? — подумал я. Уже от Дементьева я слыхал: «Парень он надежный». Теперь от моториста слышу: «Со мной не пропадешь». В чем дело? Разве что-нибудь угрожает мне?
Но про свою тревогу я помнил недолго. Мое внимание привлекла широкая темно-зеленая стена испанского тростника — гигантского злака — арундо, к которому приближался наш глиссер. Отсюда начинались озера Келифского Узбоя. По этим озерам проходит трасса канала. Всего их десять: Двадцатка, Туркменское, Лебединое, Каргалы, Балты, Кара-Шор, Петтели и последнее Часкак. Почти все они, кроме Часкака, давно уже заилились и заросли камышом.
Канал прорезал их узкими, почти незаметными протоками. Даже такому опытному мотористу, как Хемра, постоянно грозила опасность наскочить на мель. Хемра не раз уже сбавлял скорость глиссера, давал задний ход. В протоке начиналось волнение и проступали берега. Так, с остановками, медленно он вел свой глиссер в лабиринте проток, каким-то особым чутьем угадывая, какая из них заилена, а по какой ходят суда.
Близился вечер. В камышовой чаще стало сумеречно и жутко. «Если что-нибудь случится с мотором… — уныло подумал, я, — то долго придется в этой зеленой западне кормить комаров».
Высокий тростник все время сжимал протоку. Но когда он раздался в стороны, я увидел на отмели застывшую, как изваяние, серую выпь. В следующий раз мы проплыли мимо скопы, терзавшей на островке живого сазана. В третий — встретили непонятно откуда взявшийся среди камышей встревоженный табун лошадей.
И все-таки, как ни был осторожен Хемра, у входа в озеро Каргалы мы сели на мель. Наверное целый час моторист бился над тем, чтобы вырваться из цепких лап проклятого меляка. Вот тут-то и проявились во всю силу мастерство и опыт Хемры.
Надсадно ревел мотор. За кормой бурлил черный илистый кисель. Сорваться с мели мы могли только с помощью винта. И он почти незаметно, миллиметр за миллиметром, подвигал глиссер к середине протоки, на хорошую глубину.
За минуту до того, как нам сорваться с мели, вдали от берега отчалила лодка. Мы поняли: к нам на выручку. Но помощь не потребовалась: мы сами снялись с меляка.
Хемра вытер пот с лица, и довольный проделанной работой посмотрел на меня.
— Вот теперь, — сказал я, — вижу, что ты настоящий речной волк.
Хемра не ответил. Его взгляд был гордым, почти надменным.
На низком берегу, перед мазанкой, рядом с которой сушились сети, вялилась на веревках рыба, стоял мужчина лет тридцати. Он был высок, голубоглаз, с мягкой русой бородой.
— А я хотел помочь вам. Да, гляжу, сами управились, — приветливо сказал он, когда мы с Хемрой сошли на берег. Это был бригадир рыболовецкой бригады Алексей Анисимов. Рядом с ним, устремив на нас любопытные глаза, стояли двое мальчишек лет четырех и пяти, его сыновья.
Алексей сказал, что пока живет без хозяйки. Жена поехала в Керки погостить у родителей. А хозяйство ему оставила такое, что вздохнуть некогда. Надо присмотреть за курами, огородом, корову подоить, принять улов от членов бригады и самому порыбачить. А дети… сколько, с ними мороки!..
Когда свечерело, Алексей пригласил нас поужинать, но мы так устали, что отказались, и легли спать.
Проснулись рано, едва лишь забрезжил рассвет. Может, поспали бы дольше, но нас разбудили шаги рыбака. Он встал до зари и хлопотал по хозяйству. На круглой чугунной печке готовился завтрак.
Закончив домашние дела, Алексей подошел к берегу. Мы стали рядом. Взгляд рыбака был обращен на торчавший из воды черный, словно обуглившийся, куст тамариска. Алексей сообщил, что еще с вечера, когда мы спали, он поставил там несколько подпусков — из крепкой лески, рассчитанной на крупную рыбу.
— Что-то тихо сегодня, — безнадежно произнес Алексей, не отрывая взгляда от куста. Озеро в самом деле было спокойно: ни ряби, ни всплеска. Как в чистом зеркале, отражались в нем зеленовато-синее небо и перистые листья прибрежных тростников.
— Все-таки поеду, проверю, — сказал чуть слышно Алексей, усаживаясь в лодку.
Малыши, услышав плеск воды, выскочили из-под марлевого полога и закричали в один голос:
— Папа, а мы?
— Замолчите! Я сейчас! — строго ответил отец, и они покорно замолкли.
…Мы следим за действиями рыбака.
Вот он подплыл к черному кусту. Вот склонился над водой, опустил руку за борт и, вдруг возле лодки взлетел высокий фонтан. Лодка опасно накренилась. Удержавшись в ней, Алексей схватил весло и быстро поплыл назад.
— Что случилось? — спросил я его, когда он причалил.
— Что-то большое попалось, — ответил Алексей изменившимся голосом, видимо, охваченный охотничьим азартом.
— Так зачем же вы вернулись?
— Багор забыл! — бросил на ходу рыбак.
Взяв багор, он прыгнул в лодку.
— А мы? — снова в один голос завопили малыши, и светлые с горошину слезы брызнули у них из глаз.
— А, шут с вами, садитесь! — махнул рукой Алексей и снова отправился на середину озера.
Волнение Алексея передалось и нам. К этому прибавилась еще тревога за детей. Зачем он взял их с собой? Это же безумие!
Подплыв к кусту, Алексей нагнулся. Сперва опустил в воду левую руку. За что-то уцепился ею, подтянул и в ту же секунду опустил правую, с багром. Из воды показалась серая голова сома. Алексей попытался втащить его в лодку, но не сумел. Сорвавшись с крючка, сом скрылся под водой. Рыбак сел. Несколько раз надавил багром в днище лодки и снова наклонился к воде. Подтянув добычу, он ловко поддел ее крючком и сильным рывком, словно какое-нибудь бревно, перевалил через борт на дно лодки.
Это был редкий по размеру речной великан. В лодку он не вмещался. Его хвост свешивался за кормой. Там же, на корме, прижавшись к борту, спокойно сидели дети.
Стоя над сомом, Алексей греб к берегу. Его взволнованное лицо сияло.
Вот он причалил лодку и сошел на берег. Теперь мы могли свободно рассматривать сома вблизи. Весь он был расцвечен синевато-серыми пятнами. Метровые усищи свисали к воде. А розовая пасть была раскрыта так широко, будто сом грозился нас проглотить.
— Сколько эта рыбина весит? — спросил я Алексея.
— Килограмм семьдесят, — ответил он. И добавил: — Ловил я несколько штук по полцентнера, багор не разгибался. А тут не выдержал. Наверняка семьдесят будет!
Позавтракав, мы отправились в путь. Вскоре наш глиссер вышел на вольные просторы озера Часкак. Воде — ни конца ни края.
— Куда же? — растерялся Хемра, сбавив обороты винта.
— Эх ты, «амударьинский волк», — весело упрекнул я моториста. — Держи прямо!
Через несколько минут впереди показался Часкакский гидроузел.
И вот я расстаюсь с мотористом глиссера — хорошим, «надежным парнем». А расставаться жаль: успел привыкнуть к нему.
— Скажи-ка, Хемра, а что же означает твое имя по-русски?
— Спутник, — ответил он.
— Вот как! Хорошее имя ты носишь, — сказал я мотористу, и впервые за всю дорогу увидел улыбку на его гордом лице. — С таким спутником я охотно бы шел до самого Ашхабада. С тобой не пропадешь.
Я сошел на берег. А Хемра, развернувшись, поплыл обратно. Раза два он оглянулся назад.
Я долго махал ему рукой, пока глиссер не растаял в лазоревой, залитой солнцем озерной дали.
ЕЛЛИ ОЙ — ДОЛИНА ВЕТРОВ
На обширном пространстве между Мургабом и Тедженом еще до того, как эти реки начнут ветвиться синими жилами каналов, раскинулась Долина ветров… Ветрам здесь, действительно, было раздолье — лети, куда хочешь. И ветры летели. И пыльные вихри, крутясь столбом, уходили в небо.
Изредка, повисая в солнечной вышине, пел невеселую песенку хохлатый жаворонок-торгой. И то, казалось, не пел, а плакал от одиночества и скуки.
Изредка по степи, глухо позвякивая колокольцами, двигался караван, и в такт шагам поскрипывали вьюки на верблюдах. Караваны шли по древнему пути. Назывался он «шелковым» и вился от золотисто-синего взморья Адриатики до китайской реки Янцзы. Караваны двигались с двух сторон: с востока на запад и с запада на восток.
Не торопясь, размеренно шли верблюды. На их горбах покачивались купцы — бывалые храбрые люди. Они торговали во многих странах: в цветущих, благоуханных, как рай, и жарких, как преисподняя.
Чем-то похожей на преисподнюю казалась купцам и Долина ветров. Озираясь по сторонам, они мрачно роптали:
— Забытая богом земля.
— Если богу она не нужна, зачем она людям!..
Вот в этой «забытой богом» степи и появился однажды осел. То ли сам, желая всласть пожить на свободе, сбежал он с хозяйского подворья, то ли хозяин за лень и нерадивость прогнал его в степь на съедение волкам.
Но волки осла не съели. Там не было ни волков, ни овечьих отар. И вообще — ничего живого. Степь была голой, словно череп древнего старика.
Вначале ослу везло. Кое-где на плотном такыре синели лужи, росла трава.
Но в пустыне весна коротка. Все сильней припекало солнце. Никли травы. Одна за другой высыхали лужи. Наконец, наступил день, когда в степи не осталось ни одной капли. Ни одной. Правда, об этом осел не знал. Он верил в свою удачу и упорно искал воду.
Так прошло несколько дней. А жажда становилась все мучительней, все нестерпимей. Осел целыми днями только и думал о том, где бы напиться. Он бродил по степи и по ослиной привычке глядел вниз, на свои копыта.
Но однажды он все-таки вскинул голову и посмотрел вдаль. И что же!.. Там, вдали широко разливалось озеро. Осел так обрадовался этому, что громко затрубил и бросился бежать навстречу воде. Да много ли пробежишь по жаре!.. Вскоре осел устал и перешел на шаг. Он шел вперед, не отрывая взгляда от кипевшего на горизонте марева. Он не знал, что это жестокий обман, и продолжал идти вперед. А сил у осла оставалось все меньше и меньше. И начал он спотыкаться. Вот он споткнулся и упал на колени. Но собрав остаток сил, снова поднялся, сделал еще шаг, другой и снова упал. Черный, широко открытый глаз осла не мигая, глядел на белое солнце. И вдруг осел встрепенулся и издал жуткий трубный рев, который еще долго жил в звенящем мареве раскаленной степи.
Эту историю о погибшем осле знает весь Тедженский оазис.
А местность, где он погиб, назвали «Эшек-олён» — урочище «Мертвого осла». Ровное, ничем не примечательное место. Но стало оно знаменитым вовсе не поэтому.
Несколько лет назад в урочище «Мертвого осла» появился первый деревянный барак. Он напоминал корабль, застигнутый жестоким штормом. Со всех сторон на него кидались шальные ветры. Барак скрипел, трещал, вздрагивал. Во всех его помещениях, словно в корабельных снастях, тоскливо гудел ветер.
В этом первом бараке расположилась дирекция целинного совхоза «Теджен». Весть о совхозе быстро облетела Тедженский оазис. По-разному ее восприняли люди: одни с восторгом и удивлением, другие с иронией и недоверием.
— Хлопок в Эшек-олён? — говорили скептики. — Лучше уж сеять его на камне!
Весть о создании хлопководческого совхоза-гиганта дошла и до Хусейна Мамедова. И его потянуло к перемене мест. Он знал: люди в совхозе будут нужны, найдется и для него работа. Одно смущало — возраст, Хусейну перевалило за сорок. Но были у него и опыт, и сила, и здоровье.
Приехал Мамедов в совхоз на попутной машине. Была весна. Хмурое небо. Ветер. Увидев одинокий барак, Хусейн удивился: «Ну и совхоз!.. На всю степь один дом!».
В коридоре слонялись люди, ожидавшие своей очереди на прием к директору. А в кабинетах уже было оживление: под свист ветра щелкали костяшками счеты, стрекотала пишущая машинка, кто-то громко кричал в телефонную трубку.
Дождавшись очереди, Хусейн тоже зашел к директору.
Чары Ханамов сидел в жестком кресле прямо у входа и читал какую-то бумагу. Кроме маленького стола, в кабинете директора стоял еще один стол — длинный, за которым собрались молодые парни в новеньких темно-серых ватниках — первые механизаторы совхоза.
Директор показался Хусейну воплощением самой строгости. Она была в каждой его черте: в тонких, плотно сжатых губах, пристальном взгляде и даже в зеленом военном кителе.
— Слушаю, — сказал Ханамов, взглянув на посетителя. И, конечно, без труда, только по внешнему облику угадал в нем прирожденного земледельца. Посетитель был высокий, загорелый, с темными усами на крепком моложавом лице.
— Я хотел бы к вам на работу, — проговорил Хусейн, сжимая обеими руками серую выцветшую фуражку.
— Кто ты и откуда?
— Фарс. Из Серахса, — ответил Хусейн. И после паузы пояснил: — Пока бригадиром в колхозе. Теперь решил к вам…
— Ну, что же… Это неплохо, — одобрил директор. — Нам нужен опытный поливальщик. Пойдешь?
Хусейн наморщил лоб: «На полив? Его, бригадира?» — обидно, унизительно. И Хусейн уже готов был надеть фуражку и распрощаться с директором, но Ханамов опередил его:
— Поработайте на поливе, а там посмотрим…
Хусейн ответил:
— Ладно! Согласен…
В целинный совхоз Ханамов подбирал людей деловых, активных. Он был уверен — только таким образом можно поставить на ноги большое и сложное хозяйство. И пуще всего на свете не любил людей ленивых. Таких он просто презирал. Он твердо был убежден, что лежать подобает только покойнику. А пока человек жив-здоров, он должен трудиться, стараться как можно больше сделать добра и пользы для других. К тому же труд — хорошее средство от всех недомоганий. Сам директор никогда не ложился спать раньше двенадцати ночи, а в шесть утра снова на ногах.
Хусейна Мамедова он видел впервые, и о нем как о работнике не имел ни малейшего представления. Но в хлопководстве человека проверить нетрудно. Здесь уже давно сложилась пословица: «Если хочешь узнать ленив он или не ленив — пошли на полив».
Работу поливальщика Хусейн знал не хуже любого другого. Ни минуты покоя. Бегай с лопатой, как угорелый. То открывай, то закрывай арыки. Зорко следи за водой. Упустишь — скандал. Плохо польешь — тоже. Особенно тяжелы ночные поливы. А от поливов зависит судьба урожая.
До того, как приступить к работе, Хусейн съездил за семьей и поселился в палатке, рядом с бараком. Пока ездил, в совхоз прибыли трактора и много другой техники.
Началась вспашка. Степь ожила. День и ночь над Долиной ветров раскатывался напористый рокот тракторов. Почти одновременно с пахотой началось строительство центральной усадьбы, дорог, оросителей, закладка садов.
Хусейна назначили в ночную смену. Как только наступал вечер, он вооружался лопатой, фонарем и выезжал в поле. За ночь уставал так, что едва держался на ногах. Но не жаловался, не роптал.
Однажды утром к месту полива приехал Ханамов. Он сошел с «газика»: и молча подошел к крага поля, где, опершись на лопату, стоял Хусейн Мамедов, Ханамов медленно обвел взглядом поля. По обеим сторонам дороги в ровных земляных квадратах широко сверкала вода. И не было видно из нее ни единого комка земли, ни одной темной точки. Такой полив граничил с искусством. Залитые водой квадраты напоминали огромные зеркала, в которые гляделись медленные облака и пятна небесной синевы. На все лады звенел в вышине торгой, извечный спутник землепашца. Изредка набегавший ветерок морщил поверхность водных зеркал, на время облака исчезали. Потом они снова проступали еще отчетливей и ярче, чем за минуту до этого.
Откуда же столько воды в Долине ветров? Какая сила привела ее в эту жаркую степь?
В давние времена служители культа, прославляя могущество ислама, создали на Востоке множество сказаний и легенд о подвигах разных святых. Особенно в этом отношении повезло пророку Али, любимому зятю Мухаммеда. У него, как гласит легенда, был волшебный меч — Зульфагар. Совершая подвиги во славу аллаха, этим мечом пророк Али легко рассекал могучие горы. Именно так будто бы возник Зульфагарский проход, по которому река Теджен пошла на север, в степи Туркмении.
Сказка? Конечно. Но быль наших дней оказалась куда чудесней легенд о чудесах святых.
Не мечом Зульфагаром, а мощной техникой славные строители канала рассекли Долину ветров по двум направлениям сразу, проложив путь амударьинской воде. От Хаузханского степного моря, также сотворенного руками наших современников, прорыт мощный магистральный канал. Он соединен с рекой Теджен, чтобы та не мелела в годы засухи и маловодья. Вот из этого канала одним из первых и получил воду совхоз «Теджен».
А чуть южнее магистрального канала, перескочив по акведуку реку Теджен, катит свои воды на запад великая Каракум-река.
Вот откуда столько воды в Долине ветров.
…Попрощавшись с поливальщиком, Ханамов уехал. В то утро Хусейн так и не узнал, какое мнение сложилось о нем у директора как о мирабе.
Вечером трактористы и поливальщики собрались в кабинете директора для разбора проделанной за день работы. Директор резко критиковал отстающих, с похвалой отзывался о тех, кто работал в полную силу, шел впереди. А о Хусейне ни слова: ни доброго, ни худого, как будто и не было его.
Конечно, Хусейн давно уже вышел из того возраста, когда похвала кружила голову. И все же ему хотелось, чтобы и о нем что-нибудь сказали. Хоть поругали бы.
Перед концом собрания Ханамов попросил Хусейна задержаться.
— Тут я приказ издал, — когда они остались одни, — сказал Ханамов и протянул Хусейну листок бумаги. — На, читай!
Приказ был краток: «Назначить Хусейна Мамедова бригадиром первой полеводческой бригады. Ханамов».
Хусейн не поверил глазам своим. Прочел приказ еще и еще раз. Все правильно. Приказ о нем, Вот этого он не ожидал!
Да и сам директор совхоза уже не казался Хусейну таким суровым, как тогда, во время первой встречи.
Многие поля совхоза после подготовки были засеяны люцерной. И только один участок, по предложению Ханамова, отвели под хлопок, для пробного сева — просто так, чтобы проверить плодородие почвы. На специальном совещании бригадиров директор спросил, кто из них возьмется вырастить первый урожай? В тот год в совхозе все было первым. Первый дом, первый трактор, первая получка, первый ребенок, первая борозда.
Бригадиры долго отмалчивались. Хорошо пахать и сеять на давно освоенной земле: там уже сложилась своя агротехника, известная каждому хлопкоробу. А здесь сплошные такыры, почвы тяжелые, глинистые. Тут все еще в тумане. Посеять-то посеешь — дело не хитрое, — а вдруг не вырастет ничего? Пятно на всю жизнь.
— Ну что, Хусейн? Может, ты попробуешь?
Мамедов поднялся:
— Если доверите, попробую.
На утро выехали в поле. Хусейн был взволнован. Он, то и дело поглаживая усы, вытирал пот со лба. Этот день казался ему торжественным, даже праздничным. И не только потому, что ему как бригадиру было оказано большое доверие. Дело тут в другом. Хусейн знал: об этом дне будут потом вспоминать. Не забудут и его, первым бросившего семена хлопка в «отвергнутую богом землю».
Среди приехавших в то утро на пробный сев были и маловеры. Когда Мамедов был занят севом, они громко спорили, что-то доказывали друг другу. Отдельные фразы долетали и до него.
— И куда все спешим! Земля не любит спешки. Землю готовить надо.
— Ничего, что-нибудь да вырастет…
— Вырастет… колючка верблюжья.
— А этот Мамедов-то… смелый!
— Смелый, а вот увидите: погорит…
— Впредь умнее будет. Никто его на аркане не тащил.
Но о чем бы там ни судачили, Мамедов твердо решил рискнуть. Правда, еще до того, как было начато освоение Долины ветров, ее исколесили ученые. Они же тогда проверили ее пригодность для земледелия, но Хусейн об этом не знал.
На пробном участке он засеял 120 гектаров. Вскоре появились всходы. Повод для радости был. Но всходы — это еще не все: надо вырастить урожай. В уходе за посевами Хусейн особое внимание уделил удобрениям. Однако и тут было над чем подумать: сколько и какие вносить удобрения? В этом деле Мамедову помогли многолетний опыт и советы специалистов совхоза.
Осенью был собран урожай — и тоже самый первый — двести тонн белоснежного волокна! Как он посрамил маловеров! Отныне всем стало ясно: Долина ветров — это щедрая долина «белого золота»!
Прошло четыре года. Срок вроде небольшой. Но как изменилась степь! На голом просторе вырос оазис. На тысячи гектаров раскинулись поля. Вьются по ним дороги. А вдоль них широким шагом уходят вдаль стальные опоры высоковольтных линий.
Четыре года… И каждый из них был триумфом целинников. К этому времени урожай хлопка перевалил за шесть тысяч тонн, в совхозе сложились крепкие бригады. Это бригады Хусейна Мамедова, Дурды Бердыева, Атабая Аннабердыева. Особенно крупный успех выпал на долю бригады Хусейнова. Одно из своих полей он засеял после пшеницы и получил рекордный урожай — около сорока центнеров с гектара. После этого еще яснее стало, что такое Долина ветров, насколько она богата, плодоносна.
Накануне весны состоялось собрание. На нем были определены посевные площади бригад и будущий урожай.
Свыше двухсот гектаров земли попросил Хусейн Мамедов. Зал зашумел. Шутка ли! Это вдвое больше, чем у других.
Когда волненье улеглось, Ханамов спросил:
— Не многовато ли?
— Справимся, — заверил Хусейн.
— Но людей не проси. Не дам.
— Людей надо бы, — возразил Мамедов, — но я, пожалуй, обойдусь.
Начался сев. Погожий день. Где-то в вышине звенит и звенит торгой. От земли тянет свежим и сырым запахом. Как он знаком, этот запах, Хусейну!.. Он стоит на краю ровного большого поля и прислушивается к пенью жаворонка.
Со всех сторон поле обрамлено высоким земляным валом, в котором прячется ороситель. По карте ходит трактор, таскающий за собой борону и чизель-культиватор. Короткая остановка, и к трактору разом подбегают двое: сын бригадира, проворный подросток Сапар, и высокий сеяльщик Худайназар Пащиев. Откинув борону вперед, она берут с земли по охапке бурого хвороста, и несут его на обочину поля. Хусейн смотрит, как старается сын, как норовит во всем обогнать сеяльщика, и лицо бригадира светлеет от гордой отцовской улыбки. «Вот и замена уже есть. Выходит, не зря живу на земле».
Боронованье окончено. Хусейн подошел к членам своей бригады, занятым протравкой семян.
— А ну-ка, Аман, — обратился он к быстроглазому трактористу Аманмухамеду Ягшиеву, — веди-ка сюда своего «скакуна»…
Перемахнув через арык, Ягшиев бросился к полевому стану, перед которым в ровном строю стояло несколько тракторов. Вскоре Аман явился на своей оранжево-красной «Беларуси», трехколесном тракторе с навесной сеялкой. Сзади на сеялке восседал Худайназар Пащиев.
Аманмухамед опустил маркировочный диск и стронулся с места, проехал немного и вновь остановился.
Хусейн проверил заделку семян, их количество в гнездах.
— Все в порядке! — крикнул он Аману, вставая с земли. — Гони дальше, да только ровней. Урожай самому собирать.
Сев подходил к концу.
Вечером Хусейн вернулся с поля, поужинал и лег спать. И вдруг… среди ночи его разбудил страшный грохот.
Хусейн подошел к окну, и в ту же секунду небо полоснула молния. Она на миг осветила лицо Хусейна, притихшие, крытые шифером дома, круглую водокачку. Снова ударил гром. По окнам захлестал дождь.
«Погибнут семена, — с тревогой думал Мамедов. — Как он некстати, этот дождь. Вот тебе и власть над природой! Нет, и у природы еще большая власть над человеком. Попробуй вот, останови этот дождь!»
Ненастье затянулось на целую неделю, и все эти дни без перерыва лил дождь. На полях стояла вода, гнили семена.
Тревога Хусейна не была напрасной. Когда распогодилось, половину хлопковой площади пришлось пересеять. А после пересева хлопчатник уже не тот. Правда, его можно подтянуть за счет усиленного ухода. Бригада Хусейна не жалела труда. Поля были чистые, кусты ровные. И урожай удался на славу.
Наступил сентябрь. Рано утром бригада приехала на свой участок. Хлопкоробы сошли с машины и зашагали вдоль поросшего камышом оросителя к полевому стану.
Хусейн окинул взглядом поля — сквозь бурые кусты виднелась белизна раскрывшихся коробочек.
Вот на новеньком голубом комбайне на поле выехал Аманмухамед Ягшиев. Комбайн медленно поплыл по белому разливу, и бункер машины быстро наполнился нежным волокном. Вернувшись на край поля, Аманмухамед разгрузил бункер. На землю упал небольшой белый холмик. Через час он превратился в настоящий холм. Голубой солнечный полдень обрушил на него свой блеск и белый хлопок уже казался не белым, а синеватым.
Вскоре пыля и подпрыгивая на жестких бороздах, к месту сбора прикатил трактор во главе целого состава тележек. В синеватый холм вонзился редкими зубьями стогометатель и начал доверху нагружать тележки.
Хлопок пошел государству.
С наступлением уборочной страды Аманмухамед Ягшиев ночевал в поле. Спал прямо в борозде. Обычно в полдень к нему приходила жена — тихая молодая женщина, повязанная цветным платком, в красном национальном платье.
Аман садился на землю, прислонялся к теплому колесу комбайна и ждал, когда жена расстелет перед ним скатерть, поставит вкусно пахнущий обед и выложит душистый чурек. Аман быстро и с удовольствием съедал принесенное женой и снова садился за руль комбайна. Кроме этого на полях бригады работало еще несколько машин. Прошло всего четыре дня, и Мамедов первым в совхозе выполнил годовой план.
По традиции, прямо на полевом стане, бригадир устроил угощение. Хлопкоробы шумно поздравляли Хусейна с большой трудовой победой и желали ему новых, более высоких урожаев. Хусейн принимал поздравления и сдержанно улыбался в усы.
Чуть ли не двадцать лет минуло с той поры, когда в Долине ветров была проложена первая борозда. Перемены, которые произошли здесь за это время, поражают воображение. На безжизненной земле, где когда-то гуляли пыльные ветры, поднялся невиданный доселе оазис. Необозримы его хлопковые поля, сады, виноградники, лиловые карты люцерны. По краям полей в вдоль асфальтовых дорог навстречу ветрам встали лесные полосы. Пернатые давно их обжили и устроили там тысячи гнезд. А как хорошо в полуденный зной зайти под сень деревьев и в приятной прохладе подышать лесным воздухом!
Над полями, садами и лесами молодого оазиса звенят провода высоковольтных линий. Во всех направлениях его прорезают прямые асфальтовые магистрали.
Главное богатство совхоза — хлопок. К концу прошлого года он получил рекордный урожай — более шестнадцати тысяч тонн. А сколько другой продукции сдал государству!
Большие перемены произошли и в судьбах людей. Много здесь прославленных мастеров сельского хозяйства, получивших высокие награды нашей Родины. Большой личный вклад внес в развитие совхоза его директор Герой труда Чары Ханамов.
ОБЫЧНОЕ ОЗЕРО
Взгляните на карту. Сколько на ней морей и морских заливов!
Но такого, как Кара-Богаз, пожалуй, не было. Вода в этот залив шла из Каспия по широкому, как река, проливу. И даже не шла, а мчалась огромной лавиной. В этом мог убедиться каждый. Но никто не знал, куда морская вода девается потом. Неведение рождало страх, домыслы, легенды. Одна из них даже пыталась объяснить это мощное загадочное явление. Она утверждала, будто в заливе есть некая «Черная пасть», которая без конца поглощает морскую воду.
Но легенда ничего не объяснила, а лишь усугубила дурную славу о заливе, обострив к нему интерес ученых. В течение нескольких столетий к берегам таинственного залива были отправлены десятки научных экспедиций. Они установили, что никакой «пасти»;в заливе нет, а есть колоссальное испарение взятой у Каспия воды, что Кара-Богаз — уникальнейшая на нашей земле кладовая минерального сырья. В иные годы Каспий откладывал в ней до 350 миллионов тонн ценных солей. Брать химические богатства из этой кладовой только вначале было легко и просто: зимой, когда наступали холода, залив сам выбрасывал на берег груды мирабилита.
Но потом к химической кладовой пришлось подбирать ключи. Так были открыты древние погребенные рассолы. Именно они и служат сейчас сырьем для предприятий объединения «Карабогазсульфат». Из Кургузульской бухты на высохшей части залива пробурены пять скважин, погребенная рапа из которых подается на комбинат, в поселок Бекдаш.
Но с тех пор, Как уровень Каспия начал падать, а потребность в пресной воде расти, ученые все чаще стали задумываться, как удержать уровень моря на одной отметке. Недостатка в проектах не было. Наиболее известный из них предусматривал поворот северных рек на юг, в бассейн Волги.
Однако, прежде чем поворачивать северные реки, было решено: перекрыть Карабогазский пролив глухой плотиной. Скажется ли это на гидрохимии залива, покажет будущее. Если это случится, то на базе глухой плотины можно будет построить другую — для подачи в залив морской воды. Уже подсчитано, что только за два года, пока пролив будет перекрыт плотиной, удастся сэкономить 10—12 кубических километров пресной воды. За счет этого можно увеличить забор воды из Волги, Терека и других рек для нужд сельского хозяйства и промышленности.
Второго марта 1980 года пролив был перекрыт.
Очевидцы рассказывают, с какой яростью сопротивлялся этому Каспий.
…Пролив становился все уже и уже, а скорость воды в нем возрастала. Когда же ширина пролива сократилась до двадцати метров, ярость воды усилилась еще больше. Брошенные в нее двухтонные кубы из бетона она смывала, как легкие песчинки.
Но победа осталась за человеком.
Когда ушла последняя вода, обнажилось дно пролива, сложенное из каменных глыб. В конце пролива был водопад, шум которого разносился широко вокруг. А у его подножья, выбитая водой, была глубокая воронка. В ней скапливалось много рыбы, и полакомиться ею сюда приплывали даже тюлени. Над водопадом с криком носились чайки. Все это оживляло глухую пустынную местность.
Теперь здесь — мертво. Залив Кара-Богаз превращен в обычное соленое озеро.
Как бы там ни было, но память о тех, кто исследовал Кара-Богаз, кто отдал этому свои знания, силы, мужество, кто стремился освоить его сокровища, не исчезнет.
КАРТА БЕКОВИЧА
Тройка вороных бежала крупной рысью. Пристяжные круто выгибали шеи, дико косили глазом. Под дугой коренника заливисто звенел колокольчик. Княжескую карету покачивало и подбрасывало на рытвинах проселка. Бородатый кучер словно не замечал тряски и одну за другой пел вполголоса заунывные песни.
Бекович слушал их и посматривал по сторонам. Езда убаюкивала его. Превозмогая дрему, он открывал глаза и снова глядел в окно кареты, за которым без конца плыла навстречу осенняя Русь.
Давно уже позади осталась Астрахань, но и впереди все еще был немалый путь. Он летел, этот путь, среди желтых разливов жнивья, мимо темных дубрав, освещенных нежарким солнцем, взлетал на косогоры, откуда виднелись крытые соломой избы, белая церковь с высокой колокольней и печальные ивы над рекой; летел этот путь и по ковыльному раздолью, лощинам и увалам, мимо машущих крыльями мельниц-ветрянок.
Порой дорога рассекала узкую лесную просеку, где справа и слева вставали мачтовые сосны, расходилась и открывалась светлая поляна с какими-то поздними желтыми цветами, красными шишками колючего татарника. И на эту же поляну, к самой дороге, откуда ни возьмись, выбегала юная березка, вся в золоте трепещущей листвы, легкая и стройная.
Даже сквозь плотно закрытые дверцы кареты проникали неповторимые запахи русской земли: запах заскирдованного хлеба, поздних луговых цветов, хвойного леса.
«О, какая благодать!» — радовался Бекович. Наконец-то он на твердой надежной земле, где можно вот так, развалясь, сидеть на мягких подушках и не ждать своей погибели: нет ни волн, ни жгучего солнца. Обрел он, наконец, и свой прежний блистательный вид, достойный княжеского титула. Снова он в дорогом, расшитом золотом камзоле и в башмаках с алмазными пряжками. Темный волнистый парик ниспадал ему на плечи, поверх которого была надета черная треуголка. На исхудавшем горбоносом лице лежал крепкий морской загар.
Сейчас по пути в Петербург князь чувствовал себя человеком, возвращающимся из ада. Стоило ему задремать, как перед ним снова проносились картины недавно пережитого ужаса. Снова он видел себя в бешеном Хвалынском море, перед глазами носились вздыбленные волны, швырявшие корабль, как утлую лодчонку. Ветер выл в снастях, рвал паруса. Под напором ветра и волн корабль клонился то в одну, то в другую сторону, зловеще трещал. Казалось, еще немного и он расколется, как орех, раздавленный сапогом.
А разве легче было на суше? Жара. Нехватка воды. Скудная пища. Несмотря на это, экспедиция упорно вела съемку берегов Каспия, чтобы составить его карту. Так повелел Петр Первый.
Кстати, по указу царя Бекович бывал и в других поездках. С дипломатическим поручением он отправлялся, например, за границу, и к себе, в Кабарду. В результате этой поездки он составил проект о присоединении Кавказа к России и развитии связей с Персией. Но те поездки никак нельзя сравнивать с тем, что пришлось испытать ему во время плавания по Каспию. Хотя Бекович и выполнил царский указ, на душе было неспокойно; слишком велики были потери в отряде: кто умер от жары и от болезней, кого смыло темной штормовой волной. Бекович знал, что за это придется держать ответ перед самим царем, и побаивался его крутого нрава. Бековича одолевали сомнения, сумеет ли он доказать царю свою невиновность? Поймет ли царь, что в принесенных жертвах его вины нет, что он и сам не раз рисковал жизнью ради выполнения высочайшего указа, хотел доказать свою любовь и преданность великому монарху.
Разумеется, это была не слепая преданность. Бекович глубоко уважал Петра за его железную волю, одержимость в стремлении сделать Россию могучей просвещенной державой, любил царя за его незаурядный ум, и сам в своих действиях стремился подражать государю.
Бекович знал, что и Петр его любил: не будь Петра, он так и остался бы безвестным кабардинским беком Довлет Кизден мурзой. Но русский царь, заметив в нем сметливость, смелость, энергию и другие ценные качества, приблизил к себе, дал образование и сделал его своим соратником в больших и важных делах.
И вот теперь Бекович боялся, что из-за членов экипажа, погибших в далеких чужих краях, Петр может охладеть к нему. Он даже представил, как после встречи с царем его, Бековича, наверное, лишат всех почестей и подвергнут опале.
Вспоминались Петербург, небольшой кабинет царя и его убранство. У самой стены — книжный шкаф из темного дерева. На самом его верху — одна к другой модели парусных судов. Дубовый стол с огромным глобусом. Простое кресло с высокой спинкой и светлое окно, за которым в сером северном небе вьются крикливые чайки.
Бековичу виделось, как царь, повернув вполоборота голову, слушает его доклад. Слушает и курит трубку. Князь говорит о том, что он выполнил царское повеление, что весь экипаж корабля, офицеры, ученые трудились не щадя живота своего. Потом переходит к подробному рассказу о трудностях, выпавших на долю экспедиции, и тут замечает, как мрачнеет царское чело, как сердито начинает сверкать круглый глаз Петра, как нервно подергиваются его короткие, темные усы. Когда же Бекович заводит речь о человеческих жертвах, о гибели членов экипажа, Петр вскакивает во весь свой рост и обрушивает на князя гневную тираду.
Однако зря Бекович опасался царского гнева. Все обошлось как нельзя лучше. Приехав в Петербург, царя он не застал: тот находился на Балтийском побережье в городе Либаве.
Без промедления Бекович отправился туда.
Петр Первый был в добром расположении духа. Благосклонно выслушав доклад, он похвалил князя за усердие и произвел его в капитаны гвардейского Преображенского полка.
Но в Петербурге Бековичу пришлось быть недолго. Ему велено было возвратиться в Астрахань, чтобы подготовиться к новой экспедиции, в Хиву. Мысль о ней у царя родилась еще в 1714 году, после беседы с мангышлакским старшиной, туркменом Ходжа Непесом, сообщившим Петру о золоте, якобы, найденном в Амударье. Но хивинские ханы, по словам Ходжа Непеса, желая скрыть золото от русских, повернули воды Амударьи в Аральское море. Туркменский старшина уверял Петра, что золото можно вернуть. Для этого лишь надо направить реку по старому руслу, в сторону Каспия. Царь поручил Бековичу проверить достоверность этого сообщения.
Кроме этого, он имел и другое поручение, — склонить хивинского хана к подданству России.
В Хиву Бекович решил идти вдоль северного побережья Каспия, затем через Устюрт, мимо Аральского моря. Он надеялся, что где-нибудь в этих местах — между Каспием и Аральским морем — ему удастся открыть ту искусственную плотину, о которой рассказывал Ходжа Непес.
В поход Бекович-Черкасский выступил в начале лета 1717 года. В его отряде было не меньше трех тысяч человек: гребенские и яицкие казаки, эскадрон драгун, татарские и русские купцы. В этом же отряде находился и хивинский купец Ширим Узбеков, приезжавший в Астрахань для продажи своих товаров.
Снаряжение экспедиции было громоздким. Оно состояло из больших запасов продовольствия, фуража, теплой и летней одежды, а также нескольких пушек.
Из Астрахани отряд Бековича вначале дошел до Гурьева. Затем, переправившись через реку Эмбу, вышел на степные просторы Устюрта.
Главным проводником в отряде был калмык Манглай-Кашка, специально подосланный туда калмыцким ханом Аюкой. Дело в том, что хан Аюка питал затаенную злобу к Бековичу: перед тем, как выступить в Хиву, Аюка попросил у Черкасского военную помощь против кубанского хана. Бекович, не имея на то царского указа, не выполнил просьбу Аюки. Тогда хан решил отомстить за этот отказ и подослал к князю в качестве проводника Манглая-Кашку.
…Отряд русских двигался с частыми остановками. Люди и лошади страдали от безводья и жары. Приходилось часто рыть неглубокие колодцы. И все же, несмотря на трудности, отряд довольно быстро приближался к намеченной цели.
Но тут произошел случай, который во многом предопределил трагический исход экспедиции. Когда участники похода остановились на очередной привал у колодца Чирдана, примерно на половине пути к Хиве, исчез проводник Манглай-Кашка. Как потом выяснилось, он вместе с четырьмя своими земляками отправился в Хиву, чтобы предупредить хана Ширгази о приближении русских.
Не придав этому значения, Бекович двинулся в путь. Через, триста верст он достиг колодца Яргызы. После отдыха Черкасский отправил к Ширгази дворянина Керейтова с извещением, что он, Бекович, едет в Хиву послом от Петра Великого.
В тот момент, когда отряд находился в урочище Аккул-река, к Бековичу явились трое посланцев, двое от хивинского хана и один — от Керейтова: они привезли князю подарки от Ширгази — добрый знак того, что Керейтов принят ханом благосклонно. Но когда в Хиву прибыл Манглай-Кашка, Керейтова и его спутников посадили в тюрьму. В городе поднялась паника. Среди хивинцев распространился слух, что русские идут на них войной. В самом деле, зачем этим русским вздумалось явиться в таком огромном количестве? Для мирного похода им хватило бы двухсот человек. Тут же припомнили прежние походы Бековича и построенные им на восточном побережье Каспия военные крепости в Тюб-Карагане и в Красных водах. Уже не собирается ли русский князь строить свои крепости и здесь, на хивинской земле? Допустимо ли это?
Напуганный этими слухами и подстрекаемый Манглаем-Кашкой хивинский хан начал собирать войско.
К этому времени отряд русских остановился на берегу одного из озер, рожденного паводком Амударьи. Отсюда до Хивы оставалось каких-нибудь сто — сто десять верст. Изнуренный долгим и трудным походом, отряд расположился на отдых. В это время вдали, над желтыми песками появилось большое войско: двадцать четыре тысячи хивинцев во главе с самим ханом Ширгази.
Завязалось сражение, длившееся трое суток. Но хивинцы успеха не имели и отступили на исходные рубежи.
— Если не удалось взять силой, надо взять хитростью, — посоветовал хану придворный казначей, ловкий и коварный Досим-бай.
Ширгази послушался этого совета. В лагерь к Бековичу явилось двое приближенных хана: Кулумбей н Назар-ходжа. От имени хана они просили извинения у князя за то, что военное столкновение произошло по недоразумению и что бой де начался без ведома хана. Далее они уверяли князя: как только хан узнал, что русские идут с добрыми намерениями, тут же приказал прекратить сражение. Хан приглашает князя в свой лагерь и обещает принять достойно, «как посла великого государя».
— Клянусь аллахом, что это истинные слова нашего всемилостивого повелителя, — воскликнул Назар-ходжа и, достав из-за пазухи коран в кожаном темном переплете, торжественно поцеловал его.
Также поклялся и Кулумбей. Последний заявил, что хан Ширгази уже приказал наказать жестоко тех, кто, помимо его воли, затеял напрасное кровопролитие. Если князь не верит этому, пусть пошлет своих людей, чтобы убедиться в справедливости слов Кулумбея. Бекович отрядил несколько человек в стан Ширгази. Оказалось, что он действительно наказал двух хивинцев. Одному из них продели тонкую веревку через ноздрю, а другому — через ухо. «Виновников» кровопролития с позором водили перед строем хивинских воинов, вооруженных длинными ружьями — пищалями.
Об этом разведчики доложили Бековичу. После этого у князя отпали всякие сомнения относительно того, что хивинцы смогут поступить вероломно.
Взяв с собой эскорт из пятисот казаков и астраханского князя Заманова, Бекович выехал в лагерь хивинского хана, а начальство над войском поручил майору Франкенбергу.
Как только Бекович-Черкасский появился в неприятельском лагере, Ширгази отошел ближе к Хиве. Князя он принял только на следующий день. И вел себя на этом свидании высокомерно. Подарки, преподнесенные ему Бековичем, он отверг, а спустя три дня потребовал через своих приближенных, чтобы русские разделили войско на пять частей — иначе, мол, их трудно обеспечить продовольствием. Против этого упорно возражал майор Франкенберг, но Черкасский заставил его подчиниться требованию хана.
Теперь, когда отряд был раздроблен, хивинцам не стоило особого труда выполнить свой замысел. Выведенный в пески, отряд русских был полностью уничтожен.
Эскорт самого Бековича был перебит на следующий день. Как только князь лишился защитников, Ширгази тотчас приказал казнить дворянина Экономова, князя Заманова и самого Бековича. Всем троим отрубили головы. Две из них повесили у Айдарских ворот в Хиве. Голову же Бековича Ширгази отослал Бухарскому хану. Но тот вернул ее с запиской: «Не людоед ли хан Ширгази?»
Так трагически закончилась экспедиция Бековича-Черкасского.
Съемку Каспия, начатую Бековичем, продолжали участники его первой экспедиции: Ф. Соймонов, В. Урусов, А. Кожин, Ван-Верден. Одни из них занимались описанием восточных и северо-восточных берегов, другие — западного и южного побережий.
И вот в 1720 году в Петербурге вышла первая печатная карта Каспия.
Однако странно было то, что на этой карте не оказалось залива Кара-Богаз-Гол. Почему? Что помешало нанести его на карту? Возможно, они не заходили в него? Может, их устрашила «Черная пасть»?
Да. Участники экспедиции, плававшие по Каспию, после смерти князя в залив не заходили. Иначе они воспроизвели бы его на своей карте.
А экспедиция Бековича?.. Побывала ли она там?
До недавнего времени об этом было неизвестно. Вернее, было единодушное мнение о том, что она в залив тоже не заходила. Обследовав восточное побережье, Черкасский писал царю о том, что он «от Астрахани Каспийским морем, левою стороною, до персидской границы осматривал реки и гавани. И сделана карта оным местам… И доехали границу персидскую, коя, называется провинция Астрабадская».
Карта, о которой сообщил Бекович, сразу же после составления была отправлена царю в Петербург. Летим 1717 года, находясь в Париже, Петр Первый пригласил к себе известного французского географа Гильома Делиля, долго беседовал с ним о положении и пространстве своих владений. Чтобы дать географу полное представление о размерах Российской империи, он велел подать две карты, начертанные от руки.
Гильом Делиль, описывая затем встречу с русским царем, указал, что Петр Первый объяснил ему, что предположение о существовании пучины в Каспийском море ошибочно. Если такая пучина и существует — она может быть только в другом небольшом море протяжением пятнадцать миль (Кара-Бугазский залив). Каспийское море изливается в него в восточной своей части и о нем до сих пор не было ни малейшего представления.
Теперь достоверно известно, что речь шла о карте Каспийского моря, составленной участниками экспедиции Бековича-Черкасского. В то время других карт не было.
Беседуя с Делилем, царь показал, что он хорошо осведомлен относительно Кара-Богаза. Такая осведомленность могла быть только после обстоятельной беседы с человеком, имеющим непосредственное отношение к изучению залива. Им был князь, Бекович-Черкасский, только что вернувшийся из экспедиции на Каспий. Карта Бековича, которую царь показывал Делилю, считалась навсегда утраченной. К счастью, не так давно ее удалось отыскать среди множества рукописных географических карт библиотеки Академии наук СССР. Это навигационная карта довольно больших размеров — со средний стол. На плотной, пожелтевшей от времени бумаге изображены коричневой тушью Каспийское море и прибрежная полоса. Вдоль всего восточного побережья нанесены глубины и якорные стоянки.
На этой же карте даны полные очертания Кара-Богаза и его глубины. Удивительно то, что съемка берегов залива произведена с большой точностью. Его очертания почти такие же, как у современного Кара-Богаза. Разница, пожалуй, только в том, что на карте Бековича Кара-Богаз назван не заливом, а Карабугазским морем.
Все это подтверждает тот факт, что Бекович-Черкасский первые отважился проникнуть в залив. К сожалению, результатами его исследований никто в дальнейшем не воспользовался. Одна из причин этого — преждевременная смерть князя. Другая — месть и клевета участника его экспедиции поручика Кожина. Он всячески старался охаять работу, проделанную Бековичем, преувеличивал его промахи, распространяя лживые слухи о том, что, якобы, карта Бековича составлена не в результате личных наблюдений, а по рассказам местных жителей.
Тут уместно, пожалуй, несколько подробнее рассказать о самом Кожине, о котором сохранилось немало сведений, характеризующих его личность с достаточной полнотой.
Александр Иванович Кожин с 1711 года находился в навигационной школе, в классе астрономии, а спустя четыре года произвел опись Финского залива. Карта, составленная лейтенантом Кожиным, была напечатана. Тогда же он был произведен в поручики.
В начале 1716 года по указу Петра Первого он поехал в Астрахань, чтобы взять там «две скампавеи или иные суда» и начать опись берегов Каспийского моря. Не прошло и полмесяца, как вдогонку поручику было послано новое предписание: «Если отпустит капитан гвардии Черкасский, ехать водою Амударьи рекою (ила иными, кои в нее упали)… до Индии».
За пять дней, проплыв около восьмисот верст вдоль побережья Каспия, Кожин никаких съемок не произвел. Уж слишком поспешным было его путешествие. И, таким образом, царского поручения он не выполнил.
Вернувшись в Астрахань, Кожин скрылся. Это было сделано с той целью, чтобы уклониться от экспедиций в Хиву, хотя по приказу Бековича он должен был следовать именно туда.
Но перед тем, как скрыться, Кожин, по словам Бековича, «взбесился не яко человек, но яко бестие». Во всю бытность его при мне… — сетовал князь, — пакости великие делал к повреждению моих дел, многие непотребные слова говорил иноземцам».
Бекович был уверен, что после отъезда в Хиву Кожин снова появится в Астрахани, и поэтому написал обер-коменданту астраханскому, чтобы поручика «за крепким караулом послать губернатору казанскому». Письмом уведомил и губернатора казанского, чтобы тот, в свою очередь, отправил Кожина царскому величеству. Так оно и было. Кожина «под крепким караулом» доставили в Петербург. Разгневанный его дезертирством царь приказал предать поручика военному суду. Но Кожин сумел вывернуться. Он и с царем вел себя довольно дерзко, доказывая ему, что экспедиция Бековича была «дутым предприятием, заранее обреченным на провал».
Петр Первый отменил наказание и распорядился, чтобы Кожин с Василием Урусовым закончили составление карты всего Каспийского моря.
Снова была снаряжена морская экспедиция. Ее начальнику, князю Урусову, нелегко было со своим помощником. Он часто жаловался на Кожина, который требовал равной власти и поступал своевольно.
В русской морской истории Кожин остался как человек способный, энергичный, но чрезвычайно буйный, имевший страсть к доносам и клевете. Ясно, что не стоило ему особого труда оклеветать и Бековича-Черкасского, тем более, что тот уже не мог ответить на эту клевету.
Только этим можно объяснить тот факт, что первая печатная карта вышла без изображения Кара-Богаз-Гола.
ЗЕЛЕНЫЕ ЛУЧИ
Главный инженер комбината «Карабогазсульфат» Алексей Андреевич Порет разговаривал с кем-то по телефону. Речь шла об эпсомите — одном из многих богатств залива «Черная пасть».
Разговор был обстоятельный. В начале я не прислушивался к нему, рассеянно рассматривая обстановку небольшого уютного кабинета. Но одна из фраз, оброненная в этом разговоре Поретом, заставила меня насторожиться: он упомянул о каком-то методе Липатова. Фамилия показалась знакомой.
Теперь я стал нетерпеливо ждать, когда закончится разговор, чтобы узнать, кто же такой Липатов и что за метод назван его именем.
Едва Порет положил трубку, я спросил его о Липатове. Алексей Андреевич поднял на меня усталые глаза и, чуть заметно улыбаясь, сказал:
— Это начальник рапного цеха. У нас… на комбинате. Если можно так выразиться, знаменитость местного значения. Но познакомиться с ним не мешает: интересный человек. Вот… пока утро, постарайтесь побывать на нашем Четвертом озере. Должен быть там. Если не застанете, не удивляйтесь, хотя Липатов и не молод, он еще «парубок моторный». Кстати, там на озере, узнаете и о его методе.
И вот мы в пути. Едем в стареньком чадящем автобусе. Проезжаем мимо поселка Омар-Ата. От озера № 6, где летом добывают сульфат натрия, дорога свернула на север. По обеим ее сторонам — песчаные холмы и небольшие впадины. Одни впадины сухие, в других — карабогазская вода.
Моим спутником в этой поездке был начальник гидрогеологической службы комбината Владимир Куницын, рослый широкоплечий парень. Круглые, слегка запавшие глаза, точно такой же ясной и веселой синевы, как те озера, мимо которых лежал наш путь.
Трудовая биография Куницына началась недавно. После окончания Кировского горно-химического техникума, он поступил на работу в северо-западный геологический трест. Потом в составе разведочной партии этого треста приехал в Кара-Богаз. Тут и прижился. О заливе, о его несместных богатствах он уже знал все и мог рассказывать о нем часами со страстью влюбленного.
— Сырьевые возможности Кара-Богаза, — говорил Куницын, — безграничны. Здесь можно получать десятки различных солей для промышленности и сельского хозяйства. Здесь тебе и сульфат, и бишофит, и эпсомит, и карналлит, и астраханит, и бром, йод, калий. В заливе найдено даже золото и серебро. Этих минеральных запасов хватило бы для нашей страны на сотни лет, практически они неисчерпаемы.
А открытие погребенных рассолов!.. Ведь это же сенсация в истории исследований Кара-Богаза! Еще недавно о них никто не знал. Их ценность в том, что они имеют постоянную температуру и химический состав. Позже было обнаружено, что погребенные рассолы залегают на четырех горизонтах в четыре слоя. Но рапа добывается только со второго. Он расположен на глубине так в пределах 10—15 метров и обладает большой водоотдачей. Пять скважин, пробуренных на территории обмелевшей Кургузульской бухты, дают в сутки тысячи кубометров рапы. А могут давать больше. Добыча ее очень дешевая, так как все скважины артезианского типа и не нуждаются в глубинных насосах. Нужны только центробежные, чтобы перегонять рапу куда нужно: на технологические установки или в бассейны. Лучше, конечно, на заводские. Там процесс непрерывный, более выгодный, позволяющий вести комплексную переработку растворов, то есть извлекать из них сразу несколько солей.
Владимир Куницын пригладил свои русые с золотистой подпалинкой волосы и о чем-то задумался.
— Да! Вот что! — снова заговорил он. — Чуть не забыл о самом главном — о насыщенности карабогазских рассолов. В одном кубометре рапы, добытой со второго горизонта, кроме других компонентов, только сульфата натрия содержится более ста килограммов! Такую богатую рапу вряд ли где можно сыскать.
Я внимательно слушал Куницына и по временам поглядывал в окно автобуса. Взглянув в очередной раз, увидел вытянутую вдоль дороги котловину озера.
— Какой прекрасный цвет у этого озера! — сказал я Куницыну.
— Вы правы, — согласился он. — Но озеро меняет цвет. Летом оно было бы не синим, не васильковым, а красным, как кумач. Если в эту воду пустить рыбу, она тут же ослепнет и погибнет. То же самое произойдет и с уткой, и другим живым существом, кроме… микроскопических рачков! Они отлично чувствуют себя в этой соленой воде и живут в ней целое лето. Куда зимой деваются, не знаю. Может, опускаются на дно…
С холма дорога начала спускаться вниз, и вскоре впереди показалось еще одно озеро, примерно такого же размера, какое мы только что миновали. На его пологом берегу стояло несколько мощных бульдозеров и трактор-малютка — тоже с бульдозерным ножом и небольшим ковшом, подвешенным сзади.
Все бульдозеры выстроились в ряд, приготовившись к выходу… на озеро, где гуляли мелкие, с пенными гребешками волны. Одни бульдозеры уже рычали во весь голос, другие никак не хотели заводиться.
Рядом с бульдозером стоял высокий, сухощавый человек лет пятидесяти с лишним и, размахивая руками, давал какое-то указание механизатору, высокому, здоровенному парню.
Выглядел Александр Андреевич намного моложе своих лет. Небольшое, худощавое лицо его было как у бывалого моряка, — смуглое, энергичное; обветренное.
— Вот хотим добывать эпсомит, или, как его величают химики, семиводный сернокислый магний, — глуховатым голосом, скромно пояснил Александр Андреевич.
— А где, в какой части?
— Да вон там, прямо на середине, — указал Липатов.
— Почему же там? Разве в других местах эпсомита меньше?
Липатов потупился. Подумал. Потом вопросительно посмотрел на Куницына, словно не решаясь начать откровенный разговор. В ответ Куницын только загадочно улыбнулся. Повернувшись ко мне, Липатов с заминкой сказал:
— Да не-е-т. Почему же?.. Эпсомита тут везде много. Да только не везде его возьмешь. Попытались было вон там, в восточной части добывать, так чуть трактор не утопили. Завяз по самый верх кабины, еле вытащили. Глубина там оказалась больше чем нужно, и подстилающий грунт не такой твердый, как на середине.
Добывать эпсомит бульдозерами начали на комбинате недавно. Механизированный способ предложил Липатов. Это не только позволило повысить добычу эпсомита, но и избавиться от ручного труда.
А раньше его добывали лопатой. Стоя по колено в ледяной воде, рабочий сгребал эпсомит и загружал им небольшую тележку на тракторном прицепе.
Но много ли соберешь лопатой?
Тогда Александр Андреевич предложил применить бульдозеры. На комбинате не все поддержали предложение Липатова. Дело в том, что эпсомит залегает над поваренной солью слоем толщиною всего в 15 сантиметров. Скептики утверждали, что машины не могут работать с такой точностью, что они обязательно заденут и «поваренку» и что, де, поэтому, эпсомит, смешиваясь о галитом, будет низкого качества.
Другие отвергали метод Липатова потому, что опасались, что тяжелые бульдозеры будут тонуть, проваливаясь на слабых участках.
В начале так оно и случилось, но это не обескуражило Липатова. Он перенес добычу эпсомита на середину, и дело наладилось.
Эпсомит, как и сульфат натрия, минерал временный. Его кристаллизация происходит только в холодное время. Примерно в апреле добычу эпсомита прекращают. Под действием тепла он снова превращается в жидкость, и никакой бульдозерист уже не рискнет вывести свою машину на озеро.
Меня несколько озадачило одно обстоятельство: как это бульдозеристы так ухитряются снять эпсомит, что не смешивают с ним поваренную соль?
— Это делается просто! — ответил Липатов. — Прежде всего мы берем пробы и отвозим в лабораторию. Там и проверяют эпсомит. Потом… у нас есть своя, так сказать, походная лаборатория. — Липатов открыл рот и показал на кончик языка.
— Как известно, — продолжал он, — поваренка соленая, эпсомит горький. Прямо тут на озере, и пробуем его. Ничего, язык не подводит. — Сказав это, Липатов заторопился. — Ну, вы тут толкуйте, а нам пора, — и, подняв руку, дал сигнал бульдозеристам.
Дружно взревели моторы. Окутавшись густым синим облаком дыма, они покинули берег. Шли медленно, развернутым фронтом, и за каждой машиной, как за кораблем, тянулся широкий пенистый след. Липатов тоже вышел на озеро и находился в кабине того бульдозера, который долго не хотел заводиться.
Не дойдя до середины, бульдозеры разделились на две группы и разошлись в стороны. Потом, повернув обратно, они двинулись навстречу друг другу. Затем каждая из машин то отступала назад, то снова шла вперед, на сближение и вскоре между двумя рядами бульдозеров, над сверкающей лазурью озера показался холмик эпсомита — такой чистой, такой первосозданной белизны, какую просто не с чем сравнить! Холмик постепенно рос и через некоторое время превратился в белоснежный бугор.
На озере Липатов вел себя очень деятельно. Он был похож на полководца, смело и решительно руководившего действиями стальной армады. Он то и дело высовывался из кабины бульдозера, приподнимался и энергичным чапаевским жестом указывал ей путь для «атак» и «отступлений». Власть имел только жест. Голос все равно потонул бы в могучем рокоте и шуме машин.
Мы долго следили за их работой. Повернувшись ко мне, Куницын спросил:
— Вы читали «Зеленый луч» Соболева?
Откровенно говоря, этот вопрос показался мне довольно странным.
— Читал. А что?
— А вы приглядитесь-ка хорошенько к поверхности озера, — почти шепотом произнес Владимир Васильевич. — Что-нибудь видите?
В самом деле… Как же это я раньше не обратил внимания на такое удивительное явление. По всему озеру, перекрещиваясь, как свет прожекторов, лежали едва заметные лучи. Казалось, что некоторые из них, рассекая лазоревую гладь озера, касались его белого чистого дна. И это солевое дно мягко светилось сквозь прозрачную зелень загадочного луча. Как, откуда могли эти лучи появиться здесь, на озере, — Куницын объяснить не мог. Но мне они напоминали давнюю встречу с Леонидом Сергеевичем Соболевым, в мою бытность студентом Московского университета.
Это было в 1943 году. На нашей земле еще гремела война с фашистами. Каждый вечер в небо Москвы, словно огромные рыбины, всплывали серебристые аэростаты. Вражеские летчики изредка прорывались к окраинам советской столицы, но далеко не всем удавалось уйти обратно. Многие сгорали в беспощадном огне нашей зенитной артиллерии.
Мы, филологи-первокурсники в те дни частенько хаживали в Союз писателей, где собирались видные советские поэты и прозаики, обсуждались их новые произведения, разгорались горячие литературные баталии. Встречались мы тут с Александром Фадеевым, Николаем Асеевым, Семеном Кирсановым, Виктором Шкловским и многими другими.
Однажды такая встреча состоялась и с автором широко известного к тому времени романа «Капитальный ремонт». Небольшой зал для встреч уже был полон народу, когда в дверях появился высокий, стройный моряк. На плечах тускло поблескивали погоны капитана второго ранга, ас левой стороны, сверкая золотом, висел офицерский кортик. Это был Леонид Сергеевич Соболев. Он уселся в кружок литераторов и сразу был засыпан массой вопросов: откуда вернулся, над чем работает, какого жанра будет новое произведение и будет ли в новом произведении пейзаж?
Леонид Сергеевич был в каком-то приподнятом, веселом настроении. Он только что вернулся с фронта и рад был встрече с друзьями. Выслушав вопросы, Соболев сказал, что приступил к работе над новой вещью. Какой она будет по форме, сказать трудно, но из осторожности назовет пока повестью. Короче говоря, собирается написать книгу о небольшом экипаже боевого катера, о мужестве и находчивости моряков.
Леонида Сергеевича слушали с благоговением. Я впервые видел такого блестящего, умного рассказчика, как он. Соболев говорил так, словно повесть была уже написана. Вспоминая эпизод за эпизодом, он будто читал эту повесть наизусть.
Один из эпизодов, рассказанный Соболевым, был связан с эвакуацией раненых, происходившей во время жестокой бомбежки с воздуха. Катер был битком набит ранеными, но никто из них не хотел спуститься вниз, в каюты. Это грозило тем, что во время разворота под тяжестью пассажиров катер мог перевернуться. На приказы капитана очистить палубу никто не обращал внимания. Тогда откуда-то появился матросик и громко сказал, что судно пойдет сейчас… на погружение. Кто останется на палубе, того смоет волной. Это сразу же возымело действие. Раненые все до одного спустились в каюты.
Во время этой встречи Соболев рассказал также легенду о зеленом луче, услышанную им во время фронтовых поездок. Легенда гласила, что редко кому из моряков доводится увидеть таинственный луч. Но тот, кто хоть раз увидит его, обретет счастье на всю жизнь. Соболев сказал тогда, что свою новую книгу он, пожалуй, так и назовет «Зеленый луч».
Писатель долго, чуть ли не десять лет, работал над книгой. С огромной художественной силой и любовью нарисовал он образы мужественных моряков — молодого капитана катера Алексея Решетникова и боцмана Никиты Хазова.
Будучи на озере, где добывался эпсомит, Владимир Куницын не случайно обратил мое внимание на зеленые лучи, которые лежали на васильковой поверхности водоема. Этим он не без гордости хотел сказать: что вот мол, смотрите, какое богатство у туркменских сульфатчиков, если они имеют такой чудесный дар природы, как эпсомит. — Это же — счастье! Между тем, белоснежный холм на озере поднимался все выше и выше. Было удивительно, что бульдозеры работали прямо на воде, подымая со дна озера ценное сырье, и то, что по озеру также совершенно спокойно ходили грузовые автомашины.
На самом маленьком колесном тракторе работал бульдозерист Мурзабай Такобаев. Как только к нему подъехала: автомашина, он развернулся и привел в действие небольшой ковш, висевший сзади трактора на длинном рычаге — в один миг бульдозер превратился в экскаватор. В течение нескольких минут Мурзабай нагрузил автомашину, и она, полная эпсомитом, ушла на берег.
Эпсомит… Чем же все-таки знаменит он? В чем его ценность?
Эпсомит применяется широко. В угольной промышленности, например, он используется для борьбы с угольной пылью, в металлургической — при изготовлении воздушно-твердеющих растворов и бетонов для кладки промышленных печей. В большом количестве эпсомит требуется для некоторых заводов синтетического каучука, нуждаются в нем и приборостроение, и кожевенная промышленность.
Эпсомит поистине золотой клад для сельского хозяйства. В связи с этим Кара-Богаз в ближайшие годы должен стать одним из богатейших «цехов плодородия». Чудодейственное свойство эпсомита заключается в том, что содержащийся в нем магний, наравне с азотом и калием, входит в состав хлорофилла и участвует во всех биологических функциях растений. В сочетании с азотными и фосфорными удобрениями эпсомит служит хорошим микроудобрением. Десятки научных учреждений страны уже провели эксперименты по его применению, и всюду получены блестящие результаты. На Люберецком опытном поле под Москвой он повысил урожайность картофеля на 50 процентов с гектара. Новое удобрение дает значительную прибавку к урожаю зерновых.
Особенно высока эффективность эпсомита при выращивании сахарной свеклы. В этом убеждает опыт сельскохозяйственного института и Первомайской опытной станции в Краснодарском крае. Применив магниевые удобрения, там получили поразительный результат: урожай сахарной свеклы повысился на 25 процентов, намного возросла сахаристость. Нетрудно представить себе, какую прибавку сахара может дать использование эпсомита в масштабе всей страны.
Он может быть применен для удобрения кислых, подзолистых, торфянистых и черноземных почв. Такие почвы в нашей стране занимают миллионы гектаров. Совсем недавно эпсомит стал применяться в гидропонике для выращивания овощей.
Ежегодно туркменские сульфатчики добывают тысячи тонн эпсомита. Его отгружают в Донбасс, в Прибалтику, в Подмосковье. Но это, как говорится, лишь капля в море в сравнении с запасами эпсомита в Кара-Богазе.
ВЗРЫВ НА ФЕЛЮГЕ
Каспий штормило уже неделю, и отряд исследователей вынужден был сидеть у моря и ждать погоды. Входил он в Карабогазскую партию комплексной тематической экспедиции, назывался морским, но в море ни разу не был, так как исследовал только залив.
Жил отряд на пустынном берегу, в двухэтажном бараке. В смысле жилья — полное раздолье: на четверых целый дом! — семнадцать комнат на первом этаже и столько же на втором. Сначала каждый член отряда занимал отдельную комнату. Но потом, когда стало скучно, трое, за исключением начальника Сапара Байрамова, поселились вместе.
Вдоль пролива, соединявшего море и Карабогазский залив, стояли остовы еще двух-трех полуразрушенных зданий. В проемы окон виднелись груды нанесенного ветром песка. Это все, что осталось от некогда крупного промышленного города Кара-Бугаза.
Чтобы как-то скоротать дни вынужденного безделья, члены отряда играли в шашки, домино, читали, но быстро все надоело. Люди наскучили друг другу, опостылели им и голые стены общежития, и ветер, и береговой песок.
Люди хотели работы, дела. По утрам они вскакивали с постели и сразу — к окну, чтобы взглянуть на море: какое оно — утихшее, улыбчивое, или такое же, как и вчера, — сумрачно-лиловое, штормовое.
Глядя на море, можно определить, какая погода в заливе. Если, скажем, на море бушует шторм, в заливе он намного мощнее.
Но в эти дни, как назло, погода почти не менялась. Море с утра и до вечера катило на берег крутые вспененные волны. Из окна своей комнаты Сапар подолгу смотрел на широкую полосу прибоя и сокрушенно вздыхал: опять штормит.
Море!… Сапар любил его в любую погоду, особенно в тихий предвечерний час, когда солнце опускается к горизонту и на зеленую воду ложится малиновый отсвет заката. В это время как бы два оранжевых солнца застывают вдали: одно настоящее, другое — отраженное. Они так похожи друг на друга, что отличить трудно.
Прошла неделя в ожидании погоды. Сапар устал от этого ожидания. Плохо спал, потерял аппетит.
Сегодня, как и в предыдущие ночи, он проснулся рано, словно кто-то в бок толкнул. Встал, глянул в окно; на море лежал туман. Байрамов оделся и вышел из дома. В лицо плеснуло влажной прохладой. Постояв у подъезда, он быстро зашагал к берегу пролива, где стоял домик гидрометслужбы с антеннами над шатровой крышей. Постучал в дверь. На стук вышла дежурный синоптик Галя.
— Ну, что, Галина Ивановна? — как всегда с надеждой спросил Сапар.
— Ладно уж, — кокетливо улыбнулась девушка. — На одни сутки — так и быть — разрешу вам плавание. Минутку обождите. Я сейчас, — предупредила Галя и скрылась за дверью. Вскоре ока вернулась и вручила Байрамову листок бумаги, исписанный ясным ровным почерком. — Вот вам прогноз на сутки.
Сапар пробежал его глазами: ветер западный, скорость три-четыре метра в секунду. Волнение один-два балла. В открытой части до трех баллов. Видимость — шесть-десять километров.
Что ж… Как будто ничего, — прикинул он. Даже при четырех баллах разрешается выходить в залив, а тут… и того нет. Значит… «Полный вперед!..»
— Спасибо, Галя. До свиданья! — повеселел Сапар.
— Мне-то за что? Это Баку… — скромничала Галя, втайне неравнодушная к Сапару. Ей нравились в нем гордая осанка, широкая улыбка и кудрявые, как у цыгана, волосы.
— Все равно, спасибо, — еще раз поблагодарил Сапар и двинулся к себе. Но не успел пройти и десяти шагов, как за его спиной снова послышался Галин голосок:
— Счастливого плавания! Возвращайтесь скорее! — Она помахала ему рукой. Сапар ответно помахал и поспешил на базу экспедиции.
«Счастливого плавания», — повторил он на ходу Галины слова и подумал о том, что не всегда плавание по заливу бывает счастливым. От старожилов Кара-Богаза, что-живут сейчас в Бекдаше, он слышал столько историй о моряках, застигнутых штормом в заливе, о перевернутых баркасах, разбившихся во время бури судах.
Сапар верил в эти рассказы, В тридцатые годы, когда на берегах залива действовали сульфатные промыслы, такое случалось нередко. Пролив тогда был судоходным, без порога.
Но теперь о гибели судов что-то не слышно. Байрамов сам не раз выходил в залив и всегда благополучно.
Ну, а если что-нибудь случится и потребуется смелость, выдержка, находчивость? Есть ли у него эти качества? — Сапар ответить не мог. Просто потому, что ни в одной опасной ситуации он ни разу не был.
А члены отряда? Как они себя поведут в случае серьезного испытания? Сапар почувствовал, как в сердце закрался холодок: ни моториста, ни капитана-механика, ни лаборанта он как следует не знал. В экспедицию их приняли недавно, и они не успели еще проявить своего характера. Байрамов знал: если нет спаянного коллектива, в плавание выходить рискованно, а по такому заливу, как Кара-Богаз, за которым прочно утвердилась репутация «коварного, злого», — вдвойне. К тому же на фелюге не было рации. Связисты гидрометслужбы не успели ее вовремя отремонтировать.
Правда, ожидание погоды кое-что прояснило в отношениях между членами экипажа. Вынужденное безделье порядком, например, взвинтило нервы молодому мотористу Рифу Байгильдину — богатырю, с внешностью боксера-тяжеловеса. На его лице с широким приплюснутым носом и квадратным подбородком Сапар ни разу не увидел светлого выражения. Всегда он чем-то был раздражен, недоволен. Байгильдин ни разу не назвал Сапара ни но имени, ни по фамилии, избрав для обращения к нему сугубо официальную форму. Но в этом обращении Сапар улавливал то нотку высокомерия, то явное пренебрежение. Много раз Риф спрашивал его:
— Ну что, начальник, долго будем загорать?
Что ответишь? Все знали: задержка с выходом в залив от начальника не зависит.
— Скоро. Как только утихнет шторм, — сдержанно отвечал Сапар.
— А! Одно и то же, одно и… то же! — страдальчески кривился моторист. И если в-это время он «резался в козла», то с оглушительным треском припечатывал к столу черный кирпичик домино.
С Байгильдиным быстро подружился капитан-механик Кашин. Каждому из них чуть больше двадцати. Но сошлись они не иначе как по контрасту характеров.
Курносый, голубоглазый Виктор был человеком неунывающим, веселым. Он то и дело добродушно подшучивал над Рифом, стараясь успокоить его или вывести из мрачного состояния.
— Риф, — шутил Кашин в те минуты, когда моторист был особенно зол или чем-нибудь недоволен, — ну что ты психуешь? Спи, лежи, отдыхай. Лишь бы зарплата шла. Кстати, безделье хорошо действует на твой организм. Взгляни-ка в зеркало на свою будку!
Безучастным к этим шуткам и разговорам был только лаборант Аман Солтанов. Вид у него был какой-то унылый, пришибленный, как у неудачника. Может, он и в самом деле неудачник? Аман давно уже закончил вуз, ему пора бы защитить кандидатскую, а он все еще ходил в скромной должности лаборанта. Зато в семейных делах ему явно везло. Каждый год прибавлялось по малышу, а то и по два, и теперь на иждивении Солтанова было более полудюжины ребятишек.
«Ну вот и все, что я знаю о своем отряде. Маловато… Но дело не в этом. Нет спайки — вот в чем беда», — подытожил свои мысли Сапар и, не замедляя шага, взглянул на взморье. Да так и замер: на бледной морской лазури бушевало пламя утренних лучей. Берег розовел. На небе — ни облачка. Но нет. Вот там, на самом горизонте появилось что-то серое. Уж не дождевая ли туча?
Нет, не туча. Так что же? Ах, да — это лысухи! Ведь осень уже!..
Стая, которую заметил Сапар, была огромная. Летела она неровно: то снижаясь, то резко взмывая вверх. Менялись и ее очертания: то она напоминала тонкую полоску, то почти круглый темный шар. Наконец, стая опустилась на воду, и где? Почти у самого берега! Сапара так и бросило в дрожь — закипела в нем охотничья страсть.
Взволнованный увиденным, он рванулся вперед. Сейчас он придет, на базу и сообщит ребятам радостные новости: о разрешении на выход в залив и о прилете лысух. Он думал, что ребята давно уже на ногах. Но войдя в общежитие, убедился, что его прихода никто не ожидал. Все спали.
— Подъем! — скомандовал Байрамов.
Первым проснулся Байгильдин.
— Что ты шумишь, начальник? — буркнул он, протирая глаза.
— Отставить разговоры! — строго сказал Сапар. — Прошу подготовиться к выходу в залив.
Людей словно сдуло с кроватей.
— Ура, ребята! Да здравствует «Черная пасть»! — закричал своим зычным голосом Байгильдин. Он был в одних трусах и теперь казался еще могучей, чем обычно.. Его руки, грудь, спина бугрились упругими мышцами. Риф подбежал к Виктору Кашину, обхватил его железными ручищами и, имитируя борьбу, начал клонить то в одну, то в другую сторону.
— Отпусти, дьявол! Слышишь? Отпусти, говорю, — кричал, вырываясь, Виктор.
…Минут через пять отряд уже грузился. Крытый вездеход, стоявший у подъезда, принимал в свое чрево снаряжение экспедиции: молочные фляги с питьевой водой, рюкзаки, спальные мешки и специальные приборы: грунтоносы, барометры, гидрометрические вертушки, ареометры.
Съестные припасы, состоявшие главным образом из консервов, взяты из расчета на одни сутки. На этот же срок была рассчитана и программа научных исследований. Сапар предполагал пройти по прямой вглубь залива не дальше, чем на двадцать миль, замерить глубину, скорость и направление течения, температуру и плотность воды, отобрать пробы рассолов, новосадочный грунт и вернуться назад.
Если бы его воля, Сапар и дольше пробыл бы в заливе, суток бы десять, пятнадцать. Ему так хотелось побывать на всех его станциях, расположенных в виде огромного треугольника, позволявшего охватить наблюдениями всю акваторию Кара-Богаза. Ценность этих наблюдений заключалась в том, что они являлись продолжением исследований, проводившихся учеными на протяжении многих десятилетий, а также в том, что по ним можно судить об изменениях, происходивших в гидрохимии залива.
Но предписания синоптиков Сапар нарушить не мог.
…От базы экспедиции автомашина прошла до паромной переправы, что в самом начале пролива. Его надо было пересечь и свернуть на северо-восток, в сторону залива.
Когда автомашина подошла к берегу, паром уже был у причала. Сапар, сидевший рядом с шофером, увидел знакомую фигуру паромщика, старого казаха, одетого в белую рубашку и белые просторные шаровары. Старик махал руками, приглашая шофера смелее въезжать на паром.
Каждый раз, пересекая пролив, Сапар не переставал восхищаться простым и оригинальным устройством парома. Если на него смотреть сбоку — это большое корыто с длинным металлическим тросом, перекинутым через весь пролив. На тросе несколько блоков. С боку парома — две лопасти, опущенные в воду. Если их поставить под острым углом, вода, ударяя в лопасти, погонит паром в нужном направлении.
Момент отплытия Сапар не заметил. Движение «самоходного корыта» он скорее ощутил по тому, как заскрежетали блоки на тросе.
И вот паром уже на середине пролива. Быстрая вода бьет в его левый борт, обтекает с обеих сторон и сливается в пенистый бурун.
Паром плавно остановился у причала. Машина съехала с него и свернула направо. Едва приметная тропинка завиляла среди песчаных наносов, и пролив то появлялся, то исчезал из виду.
Было еще утро, когда отряд подъехал к заливу, откуда открывался вид на водопад и на «Черную пасть». Широко разносился шум падающей воды. В конце пролива огромные плиты крепкого песчаника разделили его на несколько рукавов.
Самый большой остров в заливе лежал напротив пролива. Он густо зарос гребенчуком и своими очертаниями напоминал сапог. Между голенищем и носком этого сапога, в удобной бухточке стояла экспедиционная фелюга. Погрузив имущество в «дюральку», сюда и приплыли члены экспедиции. «Дюральку» они оставили на острове, а сами вместе с вещами перебрались на фелюгу. Из ее трюма на палубу были извлечены пустые ящики, бутылки, банки, приборы. В машинном отделении орудовал Байгильдин. Рослый, сосредоточенно-серьезный, он деловито хлопотал возле дизеля, тщательно протер его, смазал и только после этого завел. Из машинного отделения вместе с запахом масла слышалось ровное урчание мотора.
Развернувшись, фелюга взяла курс на северо-восток, в глубь залива. Виктор Кашин стоял за штурвалом и вглядывался вдаль. Он первым хотел заметить деревянный шест над водой, вешку, которой обозначена первая станция, чтобы скомандовать Байгильдину: «Стоп!». Она, эта вешка, вот-вот должна была появиться, но почему-то не появлялась. За этим же следили Сапар Байрамов и Аман Солтанов. Облокотясь на леерное ограждение, они стояли рядом и молча смотрели на безбрежную водную гладь. Сапар думал о том, как изменчив и многокрасочен цвет воды в заливе. Возле Большого острова она зеленая, как в море. Едва отплыли — и она уже сиреневая, а потом будет розовой, голубоватой, синей, белесой. Удивительно то, что всю гамму цветов карабогазской воды повторяют гигантские гребенчуки, что так роскошно и долго цветут на островах, недалеко от пролива.
…Шест появился как-то неожиданно, словно выпрыгнул из воды. Увидев его, Сапар вспомнил, с каким трудом забивал он эти шесты в прошлом году. Забить их надо было штук двадцать в неподатливый грунт из чистой соли. Удар не всегда приходился прямо по шесту. Иногда мимо. Две кувалды, вырвавшись из рук Сапара, навсегда упали за борт.
Но как бы там ни было, дело сделано: вместо железных шестов, угрожающих судоходству, теперь все станции обозначаются деревянными. А вот с этого, самого первого, как обычно, начинаются исследования залива.
Когда фелюга остановилась возле шеста, отряд собрался на палубе: работать решили «хором». Виктор и Риф, как новички, тут же на практике научились обращаться с приборами и приступили к отбору рассола, измерению его температуры, плотности и скорости течения.
Аман Солтанов, сидя на корточках, едва успевал принимать пробы, наливать их в бутылки, наклеивать ярлыки и убирать ящики.
Сапар стоял на носу фелюги. Он снял с себя рубашку, чтобы свободнее и ловчее было работать. Молодое, сильное тело, залитое солнцем, сверкало бронзовым загаром. В руках Сапара был металлический грунтонос, похожий на длинное копье. Он подходил к борту и, подняв грунтонос, изо всей силы бросал его вниз, в густую замутненную воду, словно этим броском хотел насмерть поразить какое-то опасное, злое чудовище.
Виктор Кашин невольно засматривался на Сапара, любуясь его атлетическим сложением, его гордым профилем, кудрявой иссиня-черной головой и широкой улыбкой.
Вынув грунтонос, Байрамов подходил к лаборанту и выбивал из прибора добытый со дна залива керн — ослепительный столбик новосадочной соли.
Все шло хорошо. Отобрав пробу на первой станции, отряд по прямой двинулся дальше: ко второй, третьей и четвертой. Вот рассол и грунт взяты уже и на четвертой станции. Теперь осталось побывать только на пятой, а там можно и повернуть назад.
Риф запустил дизель, а Виктор зашел в рулевую рубку и привычно положил руки на штурвал. Сапар, ударив в небольшой медный колокол-рынду, висевший с внешней стороны рубки, подал знак к отплытию. Торжественно и гулко раскатились звуки колокола. Едва они замерли, Сапар спустился в кубрик.
Фелюга медленно двинулась вперед.
И вдруг раздался страшный грохот. Судно так тряхнуло, что Кашин едва устоял на ногах. Не успел он опомниться, как в дверях рубки появился Байгильдин. Виктор не сразу узнал его: все лицо моториста было в густой черной копоти, только белели зубы да белки глаз.
Встревоженный грохотом и растерянным видом моториста, Виктор спросил:
— Что случилось?!
— Все, Витька! Все! — с отчаянием произнес Байгильдин. — Мотору каюк.
Грохот, раздавшийся на фелюге, Сапар воспринял по-своему. Ему показалось, что фелюга наскочила на мину, что где-нибудь а днище или борту уже зияют пробоины, что суденышко сейчас начнет погружаться… Но он тут же отверг эту мысль: откуда в заливе взяться минам! Чепуха. Этого быть не может. Тогда что же произошло? Мысль о том, что может взорваться дизель, никогда ему и в голову не пришла бы…
Выбежав на палубу, Сапар поискал глазами людей. Никого. Тогда он бросился в машинное отделение: все были тут. Виктор, Риф и Аман, понурив головы, стояли вокруг дизеля. Стояли молча, как возле дорогого покойника, понимая всю тяжесть невосполнимой утраты. Все были так потрясены случившимся, что никто даже не спросил о причине взрыва, а главное: можно ли исправить дизель?
Но что тут спрашивать? Ведь ясно, какой же дизель заведешь сразу после взрыва! Тут нужен капитальный ремонт.
Сапар понял, что нагрянула беда. И еще не успел подумать, как выйти из создавшегося положения. Пока он только без суеты, спокойно распорядился, чтобы все приборы и ящики с бутылками отнесли в трюм. Приказал бросить якорь и как следует принайтовать к мачте фляги с пресной водой. Амана, который по совместительству выполнял обязанности кока, попросил приготовить обед. Несчастье-несчастьем, а подкрепиться надо — время уже было за полдень.
Через полчаса обед — суп из мясных консервов — был готов. Сварили его в большом алюминиевом чайнике, очень удобном на случай шторма.
Все сошли в кубрик и опустились на койки-рундуки, но никто к еде не притронулся. До еды ли… Чайник о супом подвесили к потолку и, чтобы он не раскачивался, укрепили растяжками.
Сапару хотелось ободрить товарищей, сказать им что-то теплое, чтобы вселить в них спокойствие и уверенность в том, что все обойдется.
— Ничего, ребята, — каким-то чужим голосом произнес Сапар. — Главное, чтобы без паники…
Сидевший против Байгильдин в ответ только хмыкнул:
— На кого и на что надеетесь, начальник? Кроме бога, нам никто не поможет. А бога, как известно, нет…
— О том, что мы здесь, — спокойно продолжал Сапар, — знают синоптики. Они не оставят в беде. Обязательно пришлют кого-нибудь на помощь… Потом… мы сами должны придумать что-то. Поставить, например, на фелюге парус. Ведь парус-то у нас есть…
Байгильдин горько усмехнулся и досадливо хлопнул себя по ноге.
— Лепет! Детский лепет, друг. Какая помощь, какие паруса? — наклоняясь вперед и все более повышая голос, говорил моторист. — А если завтра шторм? Я уверен, что он будет, а если он продлится неделю, две, кто тогда нам поможет? Конец один: если нас не выбросит на берег, мы подохнем с голоду на этой несчастной скорлупе.
— Ну, не будем гадать, — миролюбиво сказал Сапар. — Давайте подождем до завтра.
Недоброе пророчество Байгильдина о шторме сбылось под утро. Сапар проснулся от дикой качки и яростных ударов волн. Фелюга то взлетала вверх, то проваливалась вниз.
Кружилась голова, мутило.
В кубрике еще темно. Сапар решил зажечь фонарь, надеясь, что, если будет свет, тошнота и головокружение пройдут. Едва удерживаясь на ногах, Сапар ощупью отыскал фонарь и зажег его. При свете ему действительно стало легче.
Спят ли ребята? Сапар поочередно каждого с ног до головы осветил фонарем. Аман и Виктор не спали. Вид у них был измученный.
Байгильдин лежал лицом к переборке. Когда Байрамов поднес фонарь к его изголовью, моторист повернулся и сверкнул глазами: «Ну что, мол, начальник? Что я говорил? Погоди, еще не то будет!»
Когда рассвело, Сапар открыл люк и вышел на палубу. По небу неслись серые злые тучи. Залив кипел. Бешено плясали волны. Разбиваясь о фелюгу, они дыбились за кормой и катились дальше, на юго-запад.
Палуба была мокрой и скользкой. Сюда летели и шумно шлепались тяжелые брызги.
Держась одной рукой за леер, а другой прикрывая глаза, чтобы в них не попали брызги — иначе можно ослепнуть — Сапар добрался до якорной лебедки. Он хотел проверить, не сносит ли фелюгу. Установить это не трудно, нужно лишь дотронуться до якорной цепи.
Сапар потрогал цепь. Вибрации не было. Значит, якорь пока крепко сидит.
Он вернулся в кубрик и плотно задраил люк. Члены отряда сидели на рундуках и хмуро поглядывали друг на друга. Несмотря на качку, голод дал о себе знать. Все позавтракали вчерашним супом.
На этом, собственно, весь запас продовольствия в отряде и кончился.
— Послушай, Виктор, — обратился Сапар к капитану, — обыщи рундуки и вообще весь мотобот, собери и принеси все, что найдешь… съестного.
Минут через десять Виктор закончил обыск.
— Вот оно, все наше богатство, — печально сказал он Байрамову, разжимая перед ним руку, на которой лежало несколько запыленных сухарей.
— И это все?
— Да.
«Это почти ничего», — подумал Сапар, глядя на сухари.
День тянулся бесконечно. Он прошел в тоске, в напряженном ожидании, когда уймется шторм. Но шторм не затихал. Ребята страдали от сильной качки, морской болезни, а больше всего от неизвестности.
Прошла еще одна ночь и наступил новый день — такой же мучительный, как и предыдущий. Никто ни на какую помощь теперь не надеялся. Как избавления от беды все ждали лишь только одного, — чтобы прекратилось и улеглось волнение на заливе.
Миновали еще сутки. Днем, на четвертые сутки, Сапар с болью посмотрел на своих товарищей. Даже при слабом свете, сочившемся в иллюминаторы, он увидел, как изменились их лица: осунулись, почернели, обросли щетиной. Запавшие глаза потускнели. Не лучше остальных выглядел и сам Сапар. Во всем теле он чувствовал слабость, как после долгой изнурительной болезни. Кружилась голова, спазмы сжимали пустой желудок.
Аманом Солтановым и Рифом Байгильдиным овладела апатия. Они ни с кем не разговаривали и все время валялись на рундуках. Кажется, только Виктор Кашин не пал духом. Он занимал откидную полку под постелью Байгильдина. Но на нее не ложился, сидел в ногах то у Сапара, то у Амана.
— Теперь, братцы, — сказал Виктор, — мы, как та четверка героев… Помните Зиганшина и его товарищей? Так что скоро начнем сапоги есть, жаль только, что гармошки нет.
Он помолчал немного. Потом, глядя на Байгильдина, пошутил:
— А это все потому, Риф, что у тебя имя несчастливое: Риф. Всем мореходам оно сулит только самую что ни на есть беду.
Лицо Байгильдина исказила злобная гримаса. Как ужаленный, он вскочил с рундука и сжал кулаки.
— Кретин! — задыхаясь от ярости, кричал он на Виктора. — Как ты посмел?.. Как ты смеешь зубоскалить в такую минуту? — Потом схватил капитана за грудь и начал трясти, продолжая кричать: — Разве ты не видишь, дурак, что мы погибаем?
Кашин не испугался, только побледнел.
— Прочь от меня, негодяй! — сказал он, свирепея, и что было сил оттолкнул от себя моториста. Тот снова бросился на Кашина и сбил его с ног. Сапар же каким-то образом очутился сзади Байгильдина. Он схватил Рифа за руку и за шею и оттащил от Кашина. Виктор успел подняться и поймать левую руку моториста. Вдвоем они бросили его на рундук — и прижали к нему спиной.
Кубрик наполнился хриплой руганью, криками. От разгоряченных тел пахло потом. Байгильдин рычал, пытаясь вырваться, но ему не давали далее пошевелиться.
— Еще одна драка, — предупредил его Байрамов, — и мы тебя свяжем. Понял?.. Свяжем и бросим в трюм!..
Моторист не отзывался. Он только яростно вращал налитыми кровью глазами. И когда совсем обмяк, его отпустили.
Не спуская с него глаз, Виктор сел напротив. Байрамов стоял у трапа, рядом с лаборантом, и тоже поглядывал на Рифа.
После этой свалки Сапар долго не мог успокоиться. Он хотел понять причину драки. И понял. Моторист боялся смерти. Он злился и ненавидел весь свет. Его злоба искала выход, но нужен был повод. И этим поводом послужила безобидная шутка Виктора Кашина.
Драка в кубрике многое прояснила. Оказалось, что коллектив — это он сам и Виктор Кашин, да один нейтральный трус. Байгильдина в счет не брал. Сапар был поражен смелостью и ловкостью Кашина. Доволен был и собой: не струсил, не растерялся, и совсем не понравился лаборант. Как только Байгильдин накинулся на Кашина, тот проскользнул к трапу и оттуда наблюдал за свалкой. Он не хотел неприятностей и поэтому не стал вмешиваться в ссору.
Сапар снова посмотрел на моториста. Байгильдин сидел и косился то на Сапара, то на Виктора. Он все еще трясся от злости. На скулах ходили желваки. Немного успокоившись, он вдруг разразился истерическим смехом. Потом закрыл глаза и начал колотить себя кулаками по голове.
— Ах, какой я осел! Какой осел! — приговаривал он сквозь стиснутые зубы. — И зачем я только связался с этой фелюгой, с этим несчастным ванькой-встанькой? Ведь приглашали же на сейнер… Плавал бы сейчас, ловил рыбу, а теперь, вот, сам в западне.
Риф недружелюбно блеснул глазами и повалился на койку. Повернувшись на бок, он с головой укрылся брезентом. Наверное он плакал. А, может быть, это от качки. Все равно жалости к нему не было, трусливый и злобный, он думал только о себе и этим вызывал отвращение. Байрамов боялся и презирал таких. Он считал, что в трудную минуту они опаснее врага.
Наступил вечер. Вечер четвертых суток. Быстро стемнело. Уже не видно волн в иллюминатор. Зато удары их становились все мощней. Усилился ветер.
Все легли, кроме Сапара. Все были измучены качкой, духотой, голодом.
Сапар с беспокойством прислушивался к шуму ветра и волн, следил за поведением фелюги: не сносит ли ее? Ветер крепчал. Значит, может сносить. Если не принять мер, фелюгу вынесет куда-нибудь на отмель и разобьет. «Надо подняться на палубу и проверить, как и что», — решил Сапар, Но одному это не под силу. Надо вдвоем. Он тронул Виктора за плечо и сделал ему знак рукой, чтобы тот следовал за ним наверх.
Едва Сапар вынырнул из люка, его обступила плотная темень. Держась за руки, Сапар и Виктор медленно пробирались к носу фелюги. Каждый шаг давался а трудом. Добравшись до лебедки, Сапар ухватился за якорную цепь и сразу понял, что суденышко быстро сносит на юго-запад.
Медлить было нельзя. Остановить фелюгу мог только специальный двухлапый штормовой якорь. Вдвоем они бросили его за борт и фелюга остановилась. Теперь она напоминала дикую необъезженную лошадь, привязанную к столбу: то яростно кидалась в стороны, то высока вздымалась на дыбы.
Вымокшие до нитки, дрожавшие от слабости, Сапар и Виктор вернулись в кубрик, наскоро переоделись и легли.
Фелюга прыгала, сотрясалась и стонала от ударов волн. В трюма бились и звенели пустые бутылки. Вскоре зазвенел судовой колокол: каким-то образом отвязался язык. Медный голос рынды то заглушался шумом бури, то звучал в полную силу, громко и тревожно, словно жалуясь и взывая о помощи. Потом послышался какой-то новый и довольно странный звук: трак, трак, трак. Повторялся он через ровные промежутки времени и как раз тогда, когда судно падало книзу. Догадка ошеломила Сапара: фелюга ударялась о дно залива.
— Сапар, ты слышишь? — вдруг приподнялся Кашин.
— Что?
— Ну, как «что»? Фелюга, по-моему, достает дно. Тут ведь неглубоко, каких-нибудь два-три метра.
— Да нет, этого не может быть, — заверил Сапар. — А если и так, то ничего страшного: фелюга выдержит.
Аман тоже не спал. Он сидел на рундуке, прислонившись к переборке. Вся его фигура была воплощением страдания. Аман не хотел умирать, не повидав своих детей. А разве он, Сапар, начальник отряда, хотел умирать? Нет, Сапар тоже хотел жить! Во что бы то ни стало. Тем более, что теперь и у него есть сын. Маленький Мурад, которого он ни разу не видел и ни разу не держал на руках. Сейчас Мурад в Ашхабаде. Там же, вместе с ним, Лариса, жена. Если бы не сын, она тоже находилась бы в Кара-Богазе и, наверное, волнуясь, ждала бы возвращения мужа.
Но Лариса была далеко-далеко. Сапар думал о ней с такой невыразимой тоской и нежностью, какие рождаются только разлукой. С думой о сыне и жене он незаметно заснул.
Проснулся, когда рассветало. Фелюгу слегка покачивало на волне. Все поднялись с рундуков и, не сговариваясь, пошли в машинное отделение. Здесь все было как в тот злополучный день, когда произошел взрыв: темнели масляные брызги на полу, валялись детали. Посередине стоял серебристо-белый квадрат дизеля.
— А что… если попробовать?.. — предложил Сапар Байгильдину, кивнув на дизель.
— Отремонтировать? Этот… металлолом? Ха-ха-ха! — засмеялся Риф. Потом, оборвав смех, презрительно, через плечо, загудел своим басом: — Начальник, я удивляюсь вам. Надо придумать что-нибудь дельное.
«И все-таки… надо попробовать» — решил Байрамов. Подняв с пола деталь, он протянул ее Байгильдину и спросил:
— Куда ее поставить, знаете?
— Ну, как же! Конечно, — хмуро ответил моторист.
Сапар поднял другую деталь.
— А эту куда?
— Эту сюда, — пробасил Риф.
Почти все детали были водворены на свои места, не хватало только одной. Все оживились. Риф принес ящик с запасными деталями и его содержимое вытряхнул на пол. Тщательно перебрали все, что лежало в нем, но нужная деталь не нашлась. Куда же она делась?
Сапар поднялся и вышел из машинного отделения. Постоял немного на свежем воздухе. Кругом синела вода. Залив был спокоен. Надолго ли? Вспомнил о парусе. Но при полном штиле и парус не поможет. Сапар снова вернулся к ребятам и предложил:
— Давайте-ка еще обыщем помещение.
Прошло несколько минут, и вдруг… радостный возглас Кашина:
— Вот она! Вот! В угол под тряпку закатилась…
Деталь поставили на место.
— Ну-ка, Виктор, крутани, — попросил Сапар. Кашин взялся за заводную ручку, нажал на нее и радостна закричал:
— Братцы, компрессия есть!
Постоял немного, отдышался. Потом, собрав силы, крутнул ручку еще раз. В ответ дизель вздрогнул и слегка чихнул.
Все стояли, затаив дыхание. Виктор снова взялся за ручку. Дизель дважды торопливо кашлянул. Тогда Байгильдин, легонько отстранив Виктора, взялся за ручку сам. Повернул ее, и дизель добродушно и негромко заурчал.
— Родной мой! — словно для крепких объятий раскинув руки, заорал моторист. Ни один трагик не выразил бы, наверное, в одной фразе столько эмоций с такой искренностью, как обезумевший от радости Риф. Он опустился перед дизелем на колени и облобызал его, как преданного друга. А когда встал, повернулся к Кашину:
— Витька! Что же ты стоишь? Танцуй!..
Кашин пустился в пляс, но, обессиленный голодом, быстро устал и долго не мог отдышаться. Аман Солтанов тем временем где-то раздобыл паклю и усердно вытирал пол машинного отделения.
После того, как подняли якорь, Виктор забежал в рулевую и по механическому телеграфу передал:
— Полный вперед!
Через несколько часов фелюга благополучно вошла в бухту Большого острова. А отсюда до берега залива отряд перебрался на своей «дюральке».
Участников экспедиции уже ждал шофер.
— Что вы так долго? К вам уже собирались на помощь…
— Обошлись и без помощи… — с остервенением кидая вещи в кузов грузовика, сказал моторист.
Возвратившись на базу, он подал заявление об увольнении. Риф не хотел еще раз подвергать свою жизнь опасности. Уходя из экспедиции, он уносил ненависть к заливу, как и многие из тех, чье мужество было сломлено «Черной пастью».
ПРОКЛЯТЫЙ ОСЛЕНОК
Небольшая глинистая лощина и на ней — одинокий колодец. Это — урочище Кыир. Со всех сторон катятся к нему желтовато-серые волны песков Октум-Кум, примыкающих к юго-западным берегам Кара-Богаза.
Однажды в жаркий июльский полдень, преодолев последний бархан, на ровный такыр лощины въехал крытый вездеход. В его кабине кроме шофера находился начальник Карабогазской партии Амандурды Алтаев. Под началом Алтаева два экспедиционных отряда: морской и сухопутный. Уже несколько лет подряд они ведут исследования Кара-Богаза, а если говорить точнее — то сразу двух: одного современного, того, что на поверхности земли, и другого — ископаемого, появившегося около миллиона лет назад.
Морской отряд, если позволяла погода, раз в месяц выходил в «Черную пасть» для отбора грунта и рассолов. Сухопутный работал на высохшей части Сартасского залива. Задача этого отряда заключалась в том, чтобы дать оценку запасам погребенных рассолов второго горизонта, которые служат комбинату сырьем для получения сульфата натрия и других солей.
В программу Карабогазской партии было включено также обследование колодцев в Южном Прикарабогазье. Эту работу Амандурды взял на себя. Он должен был описать и нанести на карту колодцы, отобрать пробы для лабораторных анализов.
Амандурды временно обосновался на колодце Кыир, сделав его промежуточным лагерем, чтобы выезжать отсюда по разным маршрутам, а вечером возвращаться назад.
Алтаев и шофер, выйдя из кабины, остановились в тени автомашины.
— На сегодня, пожалуй, хватит. Давай, отдохнем, — сказал Амандурды, глядя прищуренным взглядом на пышущую жаром пустыню.
— Можно и отдохнуть, — с напускным равнодушием ответил шофер, высокий нескладный парень, которого тоже звали Аманом.
— Раз так, — сказал Амандурды, — надо достать дров и развести костер. Чаю хочется…
А сам взял ведро и отправился к колодцу. Верхняя наземная часть его — оголовок — представляла собою высокий бетонный круг. Опираясь на него руками, Амандурды заглянул внутрь колодца и увидел на фоне знойного неба своего двойника — молодого парня в клетчатой рубашке, широкобрового, смуглого, с густой шапкой черных волос и мягким овалом лица. Держась за веревку, Амандурды опустил ведро в колодец. Оно с тихим шлепком коснулось воды. Лицо двойника заметалось а исчезло.
В полном ведре плескалась чистая, как слеза, синеватая вода. Амандурды наклонил ведро и через край отпил несколько глотков. Вода оказалась солоноватой, но сверх всяких ожиданий — холодной и приятной. Для питья она годилась вполне. Но чай кипятили из другой воды, привезенной в челеках из Бекдаша.
Постелив кошму в тени автомашины, шофер и начальник партии приступили к чаепитию. Пили не торопясь, смакуя каждый глоток. Прошло немного времени и жажда исчезла. Чай вернул бодрость, хорошее настроение.
За чаем говорили мало. Каждый думал о своем, Амандурды, например, мысленно благодарил судьбу за то, что она подарила ему профессию гидрогеолога, наверно, одну из самых беспокойных на свете. Несмотря на то, что Алтаев уже женат, есть семья, дети, дома он — редкий гость. Начиная с шестидесятого года, он в течение четырех лет почти не разлучался с Кара-Богазом. Другой бы посчитал это за величайшее лишение. Мыслимо ли! Четыре года в разлуке.
Но не такой Амандурды Алтаев. Он любит странствовать, любит изучать землю, ее богатства, красоту. Разве смог бы он когда-нибудь, сидя в душном прокуренном кабинете, узнать, как изумительно красивы Кара-Богаз и его берега?
Нет, конечно.
Однажды, объезжая залив по суше, Амандурды был поражен красотой его скалистых берегов. Сколько было тонких и ярких оттенков в окраске каменных утесов! От светло-розовых, красных до темно-лиловых. Еще не очень давно у подножья этих скал вскипали волны, гремел прибой. Теперь от берега до самого горизонта простиралась ровная, покрытая солью суша. И вот здесь, в этой белой, нестерпимо сверкавшей пустыне, как мираж, как сказочное видение, вдруг появилось стадо осторожных джейранов! Они стояли слева, на сравнительно близком расстоянии и, подняв точеные мордочки, с любопытством наблюдали за проезжающим автомобилем. С радостным волнением смотрел на них Амандурды… Он знал: животные пришли сюда полакомиться солью.
Или вот еще случай был.
Как-то приехал Алтаев в лагерь сухопутного отряда, который вел наблюдения за откачкой рапы из скважин, пробуренных на берегу Сартасского залива. Залив давно уже высох и был покрыт солью. На ней чернели буровые, были разбиты палатки бурильщиков и отряда. Амандурды приехал узнать, как идут дела в отряде, и заночевал здесь.
К вечеру подул восточный ветер. Никто тогда не придал этому значения. Ветер, как ветер. Им никого не удивишь — он бывает чуть ли не каждый день.
Под утро Амандурды почувствовал, что откуда-то на его раскладушку льется холодная вода, вскочил и очутился по колено в воде. Сквозь рассветную синь было видно, что вода затопила всю окрестность — в ней плавали обувь, одежда, рюкзаки, листки бумаги. Все в ужасе вскочили со своих постелей. Начался переполох. Но когда выяснилась причина наводнения, все успокоились. Оказалось, воду пригнал ветер. Расходившийся в ту ночь Кара-Богаз как бы вспомнил о своем былом размахе и решил вернуться к прежним берегам.
Свою нелегкую профессию Амандурды любил не только за то, что она иногда вводила его в мир суровой романтики. Он любил ее также за то, что она приобщала его к великому делу — к исследованию таинственной «Черной пасти», к которому были причастны видные ученые страны.
Вместе с тем в работе начальника партии много было будничного, прозаического. Особенно ему докучала писанина, которой он вынужден был заниматься перед каждым полевым сезоном. Он понимал необходимость такой работы и старался ее закончить как можно быстрее, чтобы вырваться на свежий воздух диких берегов залива.
Так было и на этот раз, перед приездом в урочище Кыир.
Амандурды жил в Ашхабаде. Утром, как обычно, когда не был в экспедиции, он приходил в свой кабинет на улице Житникова и до вечера строчил проект экспедиции на новый сезон.
Дела шли медленно. Уже конец июня, а проект все не готов. В зеленом полумраке кабинета вился сигаретный дым. Амандурды много курил, нервничал. Громко жужжал настольный вентилятор. От шума и курения болела голова. В Ашхабаде становилось душно. Несмотря на плотный заслон кленовой листвы, в распахнутые окна все смелее вторгался горячий воздух улицы.
В проект исследований Алтаеву нужно было вместить краткую историю изучения Кара-Богаза, указать объем предстоящих работ и обосновать целесообразность денежных затрат.
Изредка к Амандурды заходил Сапар Байрамов, работавший в соседнем кабинете. Он усаживался на диван напротив Алтаева и друзья незаметно начинали разговор о том, как хорошо сейчас «там», скорее бы поехать «туда», то есть на залив.
Завидовали Байраму Курбанову, начальнику морского отряда, сменившему в этой должности Сапара Байрамова и уехавшему в экспедицию раньше других. А Сапар теперь возглавит сухопутный отряд и выедет в «поле» вместе с начальником партии.
— Есть от Байрама вести? — спросил Сапар.
— Сообщил, что вышел в залив, — продолжая писать, ответил Алтаев.
— Вот счастливчик!.. Везет же ему. А мы… Кстати, — переходя на деловой тон, сказал Сапар, — почему до сих пор мы не дали имя нашей фелюге?
Амандурды пожал плечами:
— Ну, а как бы ты ее назвал?
— Я бы ее назвал «Витязь».
— Это, брат, старо, — с легкой усмешкой возразил Алтаев. — Придумай что-нибудь поновей.
— Хорошо. А что предлагаешь ты?
— Назвать ее «Альбатросом». Звучит хорошо. «Альбатрос»!
— Звучит-то хорошо. Это верно, — неодобрительно сказал Байрамов. — И все же я против…
— Почему?
— Где-то я читал, что альбатросы нападают на тонущих в море людей. Слишком велика честь для такой птицы.
Так они и ни к чему не пришли, и фелюга осталась безымянной.
Еще не успел Амандурды закончить проект, как от руководителей комбината одна за другой полетели в Ашхабад телеграммы с требованием, чтобы начальник партии и начальник отряда срочно ехали в Бекдаш и разворачивали изыскания в Сартасском заливе. Руководителей комбината волновали погребенные рассолы. Они хотели быть уверенными в своей сырьевой базе. Некоторые запасы рассолов надо было перевести из низших категорий в высшие. Это можно было сделать только после бурения новых скважин, откачек рапы, изучения мощности пластов и качества рассола.
Наконец проект был обсужден и одобрен работниками разных ведомств и организаций. Амандурды облегченно вздохнул: теперь он может выехать в Бекдаш, а оттуда — на колодец Кыир.
«И все-таки профессия у меня отличная, — заключил свои раздумья Алтаев. — Ни за что не променял бы ни на какую другую…»
После ужина еще раз попили чаю. Потом достали раскладушки и легли спать.
Вечер был светлым. Перед закатом барханы окрасились в яркий бронзовый цвет и были похожи на полегшее стадо каких-то усталых животных. Пахло пылью и горьким запахом полыни.
Амандурды уснул поздно, когда остыл песок и повеяло ветерком.
Рано утром его разбудил скрежет железа: шофер еще на заре начал заводить машину. Но не со стартера, а ручкой.
— Что случилось? — сердито спросил Алтаев.
— Не заводится, проклятая. И так и этак пробовал…
Шофер рукавом вытер пот со лба и передал заводную ручку Алтаеву:
— На-ка, тезка, покрути. Может, у тебя получится.
Начал крутить Амандурды, но все без толку. Он бросил ручку и, тяжело дыша и прохаживаясь около машины, произнес, отделяя каждое слово:
— Вот… Только сейчас понял… что значит дойти да ручки. Вот мы с тобой и дошли…
— Надо проверить искру, — спохватился шофер и откинул капот. Потом, подойдя сбоку, открыл трамблер.
Амандурды снова крутил ручку, а шофер длинной отверткой ковырял в трамблере.
— Искры нет, — заявил он Алтаеву.
Открыли аккумулятор и с помощью той же длинной отвертки установили: «сел» аккумулятор.
Алтаев опустился на ступеньку автомашины и долго молчал, думая о том, что же делать? Потом задал этот вопрос Аману. Шофер взглянул на Амандурды и как-то виновато вздернул правое плечо:
— Не знаю. Может, подзарядиться…
Подзарядиться… Вначале эта мысль показалась Алтаеву дикой. Скажет же тоже. Где в такой глухомани подзарядишься? От песка, что ли, или колючки? Да и той не видно. Кругом песок. Но потом вспомнил, что не слишком далеко от колодца Кыир есть колодец Нефес-Мерген, где обязательно должен быть дизель.
— Ты, пожалуй, прав, — согласился Амандурды. — На колодце Нефес-Мерген, по-моему, должен быть движок.
— А далеко колодец-то?
— Если пешком, да по такой жаре, то покажется далеко, — километров двенадцать.
— Да, не близко, — согласился шофер.
— Ну, вот что, — поднялся Алтаев. — Из слов не сваришь плов. Ты сиди тут, а я пойду в Нефес-Мерген.
Аман не ожидал такого от Амандурды и с удивлением наблюдал за тем, как его начальник залез в кузов автомашины, наполнил флягу из бочонка, как спрыгнул на землю и повесил флягу на ременный пояс.
Через несколько минут он уже был на краю котловины. А потом и вовсе скрылся за гребнями барханов.
Идти было тяжело: как назло, барханы лежали поперек его пути. Увязая в песке, Амандурды с большим трудом переваливал через них. Солнце усердно калило пустыню. Песок обдавал жаром, припекал Амандурды ноги сквозь тонкие подошвы брезентовых сапог.
Амандурды шел и прислушивался к знойному безмолвию.
…Часа через три весь мокрый, почерневший от жажды, Амандурды добрел до колодца Нефес-Мерген. Здесь стояло несколько казахских юрт. Амандурды отыскал механика и узнал, что зарядить аккумулятор можно. После короткого отдыха Алтаев двинулся в обратный путь. Из крышки ящика они смастерили что-то вроде носилок, и утром, еще до восхода солнца, понесли аккумулятор на зарядку.
Шофер был моложе своего начальника, но уступал ему в выносливости. Особенно это обнаружилось по пути к колодцу Нефес-Мерген. Он быстро уставал и просил отдохнуть. Эти остановки под палящим солнцем, как казалось Алтаеву, были еще тяжелее ходьбы. И Амандурды не без основания начал беспокоиться о том, как они будут добираться обратно.
Зарядка аккумулятора продолжалась чуть ли не целый день. И лишь часа в четыре Амандурды и шофер собрались в обратный путь. Однако механик не советовал идти в такое время. Он говорил, что надо отправиться позже, часов в семь, когда спадет жара, или завтра рано утром.
Но Амандурды не хотелось терять время. Он решил пуститься в путь немедленно. Старый казах, возле юрты которого происходил этот разговор, не вмешивался в него. Но когда понял, что Амандурды все-таки решил идти, он попросил его немного подождать, а сам куда-то исчез. Минут через пятнадцать старик вернулся, ведя на поводке ушастого, большеголового, с коротким серым хвостом осленка, с виду очень смирного и послушного.
— Ну и жара! — вытирая пот, посетовал казах. — Насилу поймал этого шайтана. Забирайте его, как мой подарок. Здесь он бездельничает, а там, в дороге, пригодится. Когда же будет не нужен, пустите в степь, пускай гуляет себе на воле.
Амандурды и шофер подарку были рады, потому что он тут же пригодился. Поверх попоны из мягкого войлока они положили на спину осленка носилки, а на носилки — аккумулятор. И чтобы уж совсем освободиться от всякого груза, сняли с себя фляги и повесили их на шею осленку.
Поблагодарив механика и старого казаха, путники отправились обратно. Поддерживая носилки, Амандурды шел по левую сторону осленка, шофер — справа. Они не могли нарадоваться, что у них такой резвый и послушный помощник.
Тот, кто считает ослов существами глупыми, тот глубоко заблуждается. Более близкое знакомство с ними показывает, что многие из них достаточно умны и даже хитры. А этот?
Он резво семенил по песку, без особых затруднений взбирался на барханы и переваливал через них так легко, словно на нем не было никакого груза. Осленок и виду не показывал, что эта принудительная прогулка давно уже надоела ему, и он озабочен лишь тем, как бы избавиться от своих двуногих спутников и от груза.
Внезапность — вот самый верный способ для этой цели, видимо, решил осленок. Так он и поступил. Неожиданно нагнув голову, он вырвал веревку из рук шофера, молниеносно подкинул зад и, брыкнув копытами, сбросил с себя аккумулятор. Затем рванулся вперед и скрылся вдали. Амандурды и шофер шарахнулись в стороны и несколько секунд не могли придти в себя. Первым опомнился Алтаев. С отчаянным воплем:
— Вода! Вода! Держи его, вода!.. — он бросился в погоню за животным. Но пробежав метров сто, понял, что преследование бесполезно — все равно не догнать.
Аккумулятор, к счастью, не пострадал. Мягко соскользнув со спины осленка, он упал в песок. Снова пришлось поставить его на носилки и нести самим.
С каждым шагом, с каждой секундой Алтаев чувствовал, как в носилках прибавляется вес: немели руки. Словно налитые свинцом ноги плохо повиновались. Он понимал, что это не от тяжести, а от трудного пути и лютой жары.
Но он шел, не говоря ни слова о своей усталости. Хуже было с шофером. Идя за ним, Амандурды видел, как тот еле переставляет ноги, спотыкается, пошатывается. Серая рубашка на спине потемнела от пота. Каждый раз, когда делали очередной привал и ставили носилки на гребень бархана, Аман, тяжело дыша, поворачивался назад, и вглядываясь в волнистый горизонт, с тихой злостью повторял: «Проклятый осленок!..»
Аман хотел пить. Теперь, когда они остались без воды, ему хотелось пить в десять раз сильнее. Привалы сперва делались через каждые сто метров. Потом — через пятьдесят, через двадцать. Наконец, опустив носилки на землю, шофер наотрез отказался не только их нести, но и продолжать путь.
— Пойми, — говорил он, задыхаясь и дрожа от слабости, — не могу. Выдохся. Понимаешь? Выдохся.
— Как же быть? Уж не думаешь ли ты греться на этом солнышке? — сердито спросил Амандурды, сам едва державшийся на ногах.
Бледный, истекающий потом шофер молчал, опустив голову.
— Я спрашиваю: как же быть?
— Оставь меня здесь, а сам сходи за водой. Мне бы только глоточек. Понимаешь? Всего один глоток.
— Что ты городишь? Как я могу тебя бросить? Ведь ты же за полчаса испечешься. Возьми себя в руки! Становись рядом со мной, а правой рукой держись за меня, и пошли. А аккумулятор пусть полежит здесь, за ним после придем.
Вот так, в обнимку, они прошли, наверное, еще с километр. Сколько оставалось до колодца, никто не знал.
Прошли еще немного, но Амандурды все больше убеждался, что спутник его не ходок. Почти всей тяжестью своего тела он наваливался на Алтаева, утомляя его и мешая идти. Шофер тоже понимал, что он — обуза для товарища, и, не вытерпев, сказал:
— Нет, Амандурды, хватит! Оставь меня здесь, а сам иди к колодцу. Уверяю, так будет лучше.
Амандурды выбрал бархан покруче, зашел с теневой стороны и, обжигая руки, сгреб с него верхний слой песка. А когда добрался до прохладного, велел шоферу лечь в небольшую выемку.
— Смотри, не усни, — уходя, наказывал он Аману.
— Хорошо, — пообещал Аман и закрыл глаза.
Амандурды побрел дальше. У него так же, как у шофера, не оставалось сил.
Он шел с остановками, давая себе короткий отдых. На очередной такой остановке он снял темные очки и посмотрел вокруг. Все: белесые барханы, каждый кустик полыни — все томилось от жажды. И вид этой жаждущей пустыни еще больше усиливал в нем желание пить.
Амандурды уже считал, что колодец Кыир где-то рядом, что нужно пройти не более ста метров, и вон за тем барханом откроется заветная котловина. Он с трудом преодолел эти сто метров, но котловины там не было.
И Алтаев пошел дальше, к другому бархану. И когда оказалось, что он и на этот раз ошибся, его охватил ужас, страх от жгучей мысли, что он заблудился. Он оглядывал барханы, и они представлялись ему похожими друг на друга, как близнецы, среди которых, как он ни старался, не мог отыскать тот, что служил ему ориентиром.
Амандурды с тоскою подумал о том, что будет с ним и его товарищем, если он не найдет колодца. Почему-то вспомнилось о том, как некоторые путешественники, заблудившись летом в пустыне, не выдерживали мук жажды. Но Алтаев постарался отогнать от себя эти страшные мысли, все еще не терял надежды на спасение, хотя язык онемел и лежал во рту, как деревянный, в висках стучало и невыносимо горели ноги.
Выбиваясь из последних сил, Амандурды доплелся еще до одного бархана, взобрался на него… И не веря своим глазам, увидел знакомую котловину, а на ней — грузовик и колодец. Какое счастье! От радости, что он добрался все-таки до цели, у него сдавило горло и он едва не заплакал.
Вынув пробку, Амандурды припал к бочонку. Напился. Его обдуло ветром, и он сразу ощутил, как проходит усталость. Он отыскал запасную флягу и, наполнив ее тепловатой водой, понес Аману.
Пройдя километра два, а может, и того меньше, Амандурды начал уставать. Жара давила на плечи, отяжелели ноги. Вдобавок к этому, в сознание, как заноза, снова вонзилась тревожная мысль: верно ли он идет? Найдет ли он шофера?
Сначала он придерживался своих следов, но потом их стало все труднее различать — бесформенные мелкие ямочки затянуло песком. Амандурды снова почувствовал усталость. Остановившись на гребне бархана, он оглядел местность. По его предположению, шофер должен быть где-то здесь.
— Аман! — позвал он осипшим голосом. Но на этот зов никто не отозвался. Даже эхо.
Амандурды шел дальше, все громче и громче зовя своего товарища. «Наверное, сбился с курса», — едва он об этом подумал, как слева, метрах в двухстах, увидел шофера. Тот спешил к нему навстречу.
— Жив? — спросил его Амандурды.
— Жив! — ответил тот. — Но пить хочу, как загнанный верблюд. Давай скорее флягу.
На колодец Кыир они возвратились к вечеру, когда над песками отпылал закат.
ДОРОГА В «БУРГУНДИЮ»
Гора Кюрендаг находится к западу от хребта Карагёз и почти ничем не примечательна: нет на ней ни вечнозеленых арчовых рощ, ни гордых сверкающих снегами вершин. Вся она состоит из коричнево-серых, сухих складок, да темных, словно след могучих когтей, глубоких извилистых ложбин.
Правда, по весне совсем ненадолго, гора меняет свой облик, когда с юга или севера вдруг нагрянут к ней тяжелые, пахнущие дождевой свежестью облака. Они окутают гору до самого подножья и долго будут закрывать ее толстым непроницаемым слоем. А потом, когда облака куда-то исчезнут, на склонах горы неожиданно откроется нежная зелень весеннего разнотравья.
От горы покато вниз раскинулся поселок Казанджик. На улицах — ни одной зеленой ветки. Твердая, как камень, земля звенит под ногой. Только рядом с железнодорожной станцией, как зеленый островок, чуть слышно шелестит листвою небольшой сквер.
Зато, когда наступает весна и ярко зазеленеют склоны Кюрендага, поселок преображается. Даже белизна его скромных домиков, неторопливо спускающихся вниз, становится празднично чистой и веселой.
В Казанджик я приехал в начале лета, чтобы отсюда отправиться к чабанам.
Но куда? В какую сторону?
Дело в том, что животноводы совхоза «Казанджик» пасут свои отары на огромной территории: в благодатной, богатой травами горной долине Сиркели, на ровной полынной степи, недалеко от больших Балхан, и на песчаных просторах Каракумской пустыни.
Итак куда? В горы или в пески?
Решил посоветоваться в райкоме партии.
Секретарь райкома, выслушав меня, дал такой совет:
— По-моему, вам проще съездить в пески. Ну, хотя бы в Бургун. Бывали там? Никогда? Тем лучше для вас. Люди у нас везде хорошие… Кстати, там, в Бургуне, живет Герой Социалистического Труда Гарли Коюнлиев. Советую повидаться с ним. Не пожалеете. А сейчас, — секретарь взялся за телефонную трубку, — идите в дирекцию совхоза, там все будет приготовлено для вашего отъезда.
Во дворе, на цементном крыльце совхозной конторы, стоял невысокий парень в зеленоватой сорочке и коричневых брюках. У парня смелые, напряженные глаза. И от этого взгляд его казался слегка возбужденным, или чего-то ожидающим.
— Это вы хотите в Бургундию?[10] — спросил он меня, когда я поравнялся с ним на крыльце.
Я остановился, изумленно поглядел на парня. «Бургундия»!.. Наверно, пески без конца и края, а какое роскошное название! Надо же такое придумать…»
Мне стало весело от неожиданной переделки слова и я засмеялся. Парень тоже засмеялся.
Так я познакомился с молодым зоотехником и парторгом четвертой фермы Сапармамедом Аннамамедовым. Это он ожидал моего прихода, чтобы вместе поехать к нему, в Бургун. Откровенно говоря, каракумской «Бургундией» я был заинтригован и хотел было тут же, не отпуская от себя Сапармамеда, расспросить о ней все до мельчайших подробностей, но до отъезда надо было успеть записать кое-что о совхозе в целом. Пока я сидел за столом в конторе и заполнял свой блокнот разными сведениями, в комнату вошел сухощавый, очень загорелый мужчина. Воротник серой рубашки на нем был расстегнут. Вид у вошедшего был огорченный.
— Гармыш, этот что ли собирается в Бургун? — обратился он к зоотехнику по-туркменски и кивнул на меня.
— Он, он! — едва слышно ответил Сапармамед, у которого было второе и, как потом оказалось, более ходовое имя — Гармыш.
Вошедший подсел к моему столу и, не дожидаясь, когда я кончу писать, сказал:
— Послушай, яшули, я — шофер Гельдымамед Тойджанов, по прозвищу Четджан. Мне велено отвезти вас в Бургун. Но машина моя неисправна. Вряд ли до-тянем до места.
— А есть другая?
— В гараже, кажется, нет. А вообще-то, конечно, есть…
— Что ж… тогда я пойду пешком, — пошутил я, желая вывести шофера из состояния мрачной подавленности.
— Шутите, — произнес он неодобрительно. — Зря шутите. Пустыня накажет.
Я решил не поддаваться мрачному настроению и попросил Гельдымамеда взять с собой лишний челек[11] воды.
Шофер встал и направился к выходу, повторив на ходу:
— С пустыней, брат, не шутят. Вот увидите: накажет.
Примерно через полчаса, вернувшись с заправки, шофер сказал, что можно отправляться в путь. Мы с Гармышем поднялись в кузов, но ни одного челека с водой я тут не обнаружил. Вместо него здесь лежало около полутора тонн комбикорма в мешках, которые предстояло доставить в Бургун для ослабевших овец подкормочной группы. Я поудобней устроился на толстых мешках, напротив Сапармамеда и приготовился стойко переносить любые испытания, какие выпадут на мою долю во время долгой изнурительной поездки по горячим пескам.
Наш путь лежал на север. Впереди, по обе стороны, широко простерся светлый, удивительно ровный такыр. Крутые склоны Кюрендага, подернутые седой дымкой, сумрачно смотрели нам вслед. У подножия гор мирно белел Казанджик. Палило солнце. Обжигая лицо, дул горячий ветер. Мы долго ехали молча. Чтобы завязать разговор, я попросил Сапармамеда немного рассказать о себе.
— В нашей семье, — сказал он, — пять братьев и все мы — коммунисты. Мой старший брат, Оре, возглавляет чабанскую бригаду на нашей четвертой ферме. Чабан он опытный, и бригада его на хорошем счету. Реджеп — учитель химии. Недавно его назначили директором казанджикской школы-восьмилетки. Халлы — председатель сельсовета. Золотой характер у него! Вот кого по-настоящему уважает народ, так это его, нашего Халлы.
Сапармамед вытер пот с лица и заговорил снова:
— Есть у меня еще один брат, Байрамом зовут — тоже хороший парень. С ним я познакомлю вас в Ясхане…
— Как? Мы увидим Ясхан? — встрепенулся я. Я так много слышал о нем, о найденном там подземном море пресной воды, но побывать ни разу не довелось.
— Увидим-увидим! Все увидим. И брата увидим, и Ясхан увидим, и Узбой увидим, — заверил меня Сапармамед.
Вскоре такыр кончился и дорога запетляла по желтому песку между приземистыми цепкими кустами черкеза. Потом, все увеличиваясь в размерах, на нас стали наплывать один за другим, как волны, песчаные валы.
Пустыня. Безбрежная владычица всего, что растет и населяет ее. И оторопь берет того, кто первый раз ее видит. Она кажется мертвой, грозной, однообразной, молчаливой. Она пугает, оглушая звонкой тревожной тишиной.
Но так ли это? Так ли уж она мертва и молчалива?
Вон по откосу, вверх от разбитой дороги, задрав пушистый хвостик и оглядываясь по сторонам, во весь дух помчалась рыжая песчанка. Едем дальше. И вдруг, слева, из-под укромного куста кандыма метнулся и побежал, мелькая светлыми лапами, серый заяц. А в тихой низинке, усевшись на самом верху раскидистого куста, сердито сверкал бусинами глаз вековечный житель пустыни — черный ворон. С криком «чур-чури» перелетала с куста на куст серая саксаульная сойка. И даже высокие стройные кусты песчаной акации напоминали живых людей. Они росли попарно на обочинах дороги и, казалось, взявшись за руки, куда-то брели, как усталые путники.
Пустыня… Скольким поколениям туркмен-скотоводов она давала жизнь, дарила радость и счастье, кормила, поила, обувала и одевала!.. Это были смелые люди, настоящие рыцари пустынных раздолий. Они и сейчас живут вдали от шумных селений и так же смелы и по-рыцарски благородны, как прежде. Правда, пустыня уже не та, и люди, конечно, уже не те.
Вот слегка покачиваясь, сидит напротив меня молодой, глазастый, с густым загаром на щеках, потомок древних скотоводов Сапармамед Аннамамедов, которого чаще называют не по имени, а просто — Гармыш. Он — ученый зоотехник. Сперва он закончил техникум, а потом заочно и сельскохозяйственный институт в Ашхабаде. Работает в глубинке. За сто пятьдесят километров от райцентра. И не грустит, не жалуется на скуку. С такой же верностью, как и его предки, любит он пустыню, ее необозримые дали, кочующие отары овец.
Слушая Гармыша, я давно перестал замечать и крутые песчаные наносы, и кусты кандыма на них с косматыми, вскинутыми к небу, серо-зелеными ветвями. И то, как наша автомашина раз за разом ныряет в рыхлые лощины. О пути я вспоминал только тогда, когда, обессилев, машина глохла, задохнувшись на вязком подъеме. Тогда открывалась дверца кабины, из которой выходил злой, словно обуглившийся от жары, шофер Гельдымамед Тойджанов.
— Гармыш! — кричал он Сапармамеду.
— Иду, Четджан, иду! — отвечал ему зоотехник, спрыгивая на песок. Минут 10—15 они что-то делали с мотором… Сапармамед молчал. А шофер, обливаясь потом, сердито кого-то поругивал. Может, машину. А, может, меня.
Наконец, автомашина одолевала подъем и мы с Сапармамедом снова возвращались к беседе о совхозных делах.
— Да… Как ни велики Каракумы, а чабанам и здесь уже тесно, — говорил Сапармамед, глядя куда-то вдаль, поверх моей головы. — Вот судите сами. У нас в совхозе свыше шестидесяти тысяч овец. Много это или мало? Много! Сколько этим тысячам овец нужно пастбищ, колодцев для водопоя! И вот, наши чабаны в поисках привольных, богатых кормами угодий делают большие перекочевки, уходят вглубь пустыни. Даже вряд ли поверите — встречаются с пастухами из Куня-Ургенча, что на севере нашей республики. Что и говорить! Труд у них нелегкий. Да ведь без труда и меда не вкусишь. Хотя и говорится, что от одной овцы не получишь десять шкур, но по два приплода в год у нас получают многие чабаны. Потому что до тонкости дело свое знают. Правда, вознаграждение за свой труд они получают тоже немалое: до 70 с лишним ягнят на бригаду в качестве натуроплаты, да несколько тысяч рублей премиальных за сверхплановую продукцию. Думаю, и государство на нас не в обиде. По каракулю совхоз уже пятилетку выполнил и дал сверх плана двадцать шесть тысяч каракулевых шкурок. Выполнили мы пятилетку и по мясу. Теперь осталась одна шерсть. Но по шерсти тоже выполним. Совсем немного осталось… Ровным счетом — чепуха!
Слушая Сапармамеда, я заметил, что он все время говорит о совхозе в целом. Тогда я попросил его рассказать о своей ферме. Услышав мою просьбу, Сапармамед почему-то смутился. Мне подумалось о том, что, небось, дела на ферме не так уж хороши.
— О нашей ферме тоже можно рассказать, — поборов смущение, как-то нехотя произнес Сапармамед.--Да ведь вы подумаете, что я хвалюсь. Но раз просите — ладно, расскажу.
— У нас на ферме шестнадцать тысяч каракульских овец. В нынешнем году мы получили по сто сорок семь ягнят от каждой сотни. Такого результата, наверно, нет ни в одном хозяйстве Туркмении. Да ведь прошлым долго не проживешь! После того, как вышло решение Пленума ЦК КПСС, собрал я коммунистов нашей фермы в Бургун, и стали мы думать, советоваться, как еще выше поднять продуктивность овец. Долго сидели, долго толковали. Не один чайник чая осушили. И вот что записали в протокол партийного собрания. Увеличить средний вес овцы на один килограмм. А настриг шерсти — до четырех. Довести сохранность поголовья до девяноста девяти процентов. Вроде бы неплохо. Так ведь? — продолжал, все более воодушевляясь, Сапармамед. — Но Гоки Джанабаеву и этого показалось мало, он взял на себя свое, более высокое обязательство! Теперь слушайте, что было дальше… У Гоки есть соперник по соревнованию — коммунист Машад Аманиязов. Не желая ни в чем уступать ему, Машад взял точно такое же обязательство, как у Гоки.
Пока мы вели беседу, впереди показался четкий ровный строй серебристо-голубых опор высоковольтной линии. Увязая в горбатых барханах, он как бы двигался нам наперерез. Неожиданно мы подъехали к западному Узбою — древнему руслу Амударьи или одному из ее русел. В высоких отвесных берегах, наполненное спокойной зеленоватой водой, оно изгибалось широкой речной излучиной.
По узкому дорожному карнизу машина медленно спустилась в Узбой, и пошла вдоль кромки клонившихся к воде камышей. На нас дохнуло влажной прохладой реки, каким-то сладковатым и вместе с тем таинственным запахом прибрежных растений. Справа, высоко над нами, сбившись в стадо, стояли одичавшие ослы во главе с молодым вожаком, напряженно следившим за нами, И невесть откуда в этом стаде серых и белых ослов появился черный, как сажа, осленок. Единственный на весь табун! Прошло еще несколько минут, и мы въехали в поселок Ясхан, сверкавший белизной новеньких одноэтажных коттеджей, окруженных со всех сторон пустыней.
Машина завернула к одному из них. И тут же с его крыльца сошел молодой крепкий мужчина, отдаленно напоминавший лицом моего спутника.
— Здорово, Гармыш! — весело окрикнул он Сапармамеда, и я понял, что это и есть его брат Байрам — хозяин Ясханской подземной линзы пресной воды. Со своим коллективом Байрам обслуживает шестьдесят две скважины, пробуренные недалеко от поселка, и подает воду в город Небит-Даг.
После отдыха в Ясхане поехали дальше, и до Бургуна добрались лишь глубокой ночью. Устали смертельно. Бросив на землю кошмы, повалились на них и уснули, как убитые.
Проснулся я на заре. Огляделся. На гладком и ровном такыре, вдоль правого берега Узбоя, выстроились дома чабанов и возле каждого из них — туркменская юрта. В широком русле мертвой реки толстым слоем лежала соль. А ведь когда-то по ней катился мутный поток Амударьи.
Другой, восточный берег Узбоя был сплошь, завален голыми сыпучими барханами. Из-за них медленно поднималось солнце. На западе, приподнявшись над степью, круто обрывалось ровное плато.
Героя Социалистического Труда Гарли Коюнлиева, с которым я хотел встретиться, в Бургуне не было. Но меня заверили, что его кош находится недалеко и что через час, через два он должен появиться. Время ожидания мы коротали вместе с директором Бургунской восьмилетней школы Тойли Сарыевым, любителем истории и хранителем местных легенд.
Вот одна из них об урочище Бургун.
Это было давно-давно, еще в те времена, когда в Средней Азии свирепствовали орды Чингиз-хана. Тогда же, где-то на севере Туркмении жили четыре сестры из знатного туркменского рода. Спасаясь от кровавого нашествия монголов, сестры вместе со своими мужьями бежали на юг. Бургун-Биби — одна из четырех сестер — поселилась на Узбое, недалеко от того места, где находится сейчас усадьба четвертой совхозной фермы.
В те времена Узбой был руслом Амударьи и впадал в Каспий. Непроходимые джунгли росли по его берегам, и жило тут много народу. Об этих прежних поселениях ныне напоминают лишь старые заброшенные кладбища — мазары. Особенно много их в урочищах Чильмамед, Умюрли-Коч, Ибраим-Баба, Гёрмез-Чаге.
— В народной памяти, — продолжал Тойли Сарыевич, — сохранилось и такое событие, как пребывание в Закаспии посланца русского царя Петра, князя Бековича-Черкасского. Недалеко от нашего Бургуна, немного ниже по Узбою, есть пресное озеро Топьятан. Так вот по преданию, в том самом месте, с парусника Бековича упала медная пушка и там затонула. Отсюда и название местности — Топьятан, место, где лежит пушка.
…Примерно в полдень в дом, где мы сидели, вошел высокий стройный человек лет сорока. На его продолговатом лице выделялись рыжие усы и веселые, глубоко посаженные синие глаза. От всей ладной фигуры вошедшего на нас повеяло горячим зноем пустыни, запахом песка и солнца.
— А вот и Гарли Коюнлиев, — отодвигаясь и давая гостю место, произнес директор школы.
— Как здоровье, как дела? — спросил я его.
— Ай, ничего. Все хорошо. Только очень жарко. Овцам жарко. Даже ночью. Не отдыхают, бедные. Так и лезут на самый верх бархана — ветерка, прохлады ищут, — озабоченно ответил Гарли. Утомленный жарой и дорогой, он торопливо, с большим наслаждением, принялся за чай.
— Ну, какие еще у нас дела? — как бы размышляя вслух, произнес чабан. — Пасем… ухаживаем за скотом, чтобы не было падежа…
— Скажите, Гарли, — перебил я его, — а как зоотехник… помогает вам?
— Кто? Гармыш, что ли? Ну, а как же! — воскликнул он и весело заулыбался. — Без него, без его советов, я еще ни разу не выбрал ни одного пастбища. Если что с овцой, с ягненком — опять к нему, к нашему Гармышу. Он такой опытный и такой непоседливый… часто бывает в моей отаре. Где надо, подскажет, посоветует.
И, взглянув на смущенного, зардевшегося от похвалы Сапармамеда, Гарли стал рассказывать о своей пастушеской юности.
В чабанскую бригаду он пришел подпаском, когда ему едва исполнилось шестнадцать лет. Был он худым, слабосильным и невзрачным мальчиком. Но на счастье Гарли бригадир у него оказался человеком на редкость чутким и добрым, подпаска он жалел, старался не обременять излишней работой. Обычно, угоняя отару на ночной выпас, бригадир оставлял Гарли на коше, возле колодца, чтобы тот вволю поспал и отдохнул.
Но эта доброта бригадира была для юного подпаска хуже наказания. Остаться ночью наедине с пустыней… Тот, кто не испытал этого, тот не знает, как это страшно мучительно. Почти до самого утра Гарли не мог заснуть. Ему без конца мерещились разные чудовища, волки, змеи. Ему казалось, что за каждым ночным кустом прячется злой разбойник. У него замирало сердце от каждого шороха или крика ночной птицы.
— И стал я думать: что же мне делать? — продолжал Коюнлиев. — Думал-думал и придумал. Когда старший чабан отправлялся-с овцами на выпас, я, крадучись, незаметно уходил следом за отарой. Иногда, чтобы не обнаружить себя, обдираясь до крови, полз, как солдат, по-пластунски. Потом прятался где-нибудь за барханом, и не теряя из виду отару, тихонько сидел до утра. А утром, как только бригадир поворачивал овец обратно, к колодцу, на водопой, я уже был на месте, весело валялся на кошме и делал вид, что отдохнул и ночь провел на славу.
Последние слова рассказчика вызвали дружный смех гостей и родственников Сапармамеда. Смеялся даже мрачноватый шофер Четджан. При этом он настойчиво и демонстративно посматривал на часы, давая мне понять, что беседа затянулась и не пора ли назад, в Казанджик?
Подпасок Гарли оказался сметливым парнем, он приглядывался к работе бригадира, изучал травы, их свойства. По крупицам, по крохам накапливал тысячелетний чабанский опыт. Мужал… И с каждым годом уверенней и крепче чувствовал себя в пустыне.
В тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году Гарли Коюнлиеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Самое высокое его достижение — сто пятьдесят семь ягнят от каждой сотни овец.
— Да. Время идет быстро, — раздумчиво произнес Гарли, — и нелегко за ним угнаться. Честно говоря, я уже немного поотстал. Теперь есть бригады, которые обошли меня в соревновании, вырвались вперед. Токи Джанабаев, Оразклыч Эгриев, Машад Аманниязов — вот кто сейчас достиг большой высоты в нашем деле. Но мы со своим помощником, молодым коммунистом Курбанназаром Шаназаровым не думаем сдаваться, — подымаясь с кошмы, уверенно сказал Гарли, и в синих глазах чабана засверкали веселые искорки.
Попрощавшись, мы выехали из Бургуна. По пути трижды пересекли Узбой. Наступила ночь. Ветровое стекло было приподнято, и в кабину врывался сухой теплый ветер.
Я нетерпеливо поглядывал на часы. Во что бы то ни стало мне хотелось успеть к поезду, который уходил из Казанджика ровно в полночь.
Когда кончился степной такыр, вдали, у черного подножья гор засверкали ночные огни райцентра. Мы уже въехали на окраину, вдруг совершенно неожиданно машина влетела в глубокую рытвину, подпрыгнула и остановилась, а нас окатило горячей водой из радиатора. И я понял: к поезду мне не успеть. Оказалось, порвался ремень вентилятора и отлетел патрубок.
Но шофер удивительно быстро устранил неисправность и подвез меня прямо к вокзалу за несколько минут до отхода поезда.
В последний раз я взглянул на Четджана. Он сидел в кабине с гордым видом победителя и хмуро улыбался. Весь его вид как бы говорил: «Пустыня, брат, коварна и шутить с ней опасно, но человек сильнее пустыни. Это факт».
ЛИВЕНЬ
Горы хмурились. Сумеречная мгла пала на Гаурдакскую долину, над которой сгрудились лиловато-серые облака. К вечеру огненная ветка молнии прожгла тучи, и вслед за этим над горами и долиной с чудовищным треском раскололось небо, из края в край прогромыхал гром.
Пошел дождь. Сперва робко, почти неслышно. Потом — все сильней, все быстрей. Вскоре он перешел в ливень. На улицах поселка вскипели бурные потоки и хлынули к подножью горы, в широкий сухой каньон, в котором бурлила и пенилась темная вода.
Ливень в горах!.. Это рождает паводок, имя которому — сель. Бывает он нечасто и длится недолго, но стихийная сила его страшна своей стремительностью, дикой слепой яростью. Во время селя гудят и грохочут ущелья, по которым со скоростью курьерского поезда мчится могучий поток. Он может сокрушить любую преграду: вырвать дерево, опрокинуть автомашину, сорвать палатку, снести мост, повалить металлическую опору.
Владимиру Седлецкому самому еще ни разу не приходилось встречаться с селем. Но рассказы, слышанные от старых геологов, произвели на него глубокое впечатление.
…Приникнув к окну, Владимир вглядывался в непроницаемую темень. Ему казалось, что кто-то невидимый стоит во дворе и плещет в окно из полного ведра. Несколько раз прокатывался гром и сильно вспыхивала молния. В течение секунды Седлецкому удавалось увидеть и струи дождя, и мокрые крыши домов, и черный бурлящий каньон в низине.
Владимир ждал, что вот-вот ливень перестанет или, по крайней мере, сбавит свою силу и тогда можно лечь и спокойно уснуть. Но ливень не затихал. Наоборот, он припустился еще дружней и гуще. Вместе с этим в сознании Владимира росла тревога и… решимость уйти из дома. Уйти сейчас же, немедленно…
Жена неслышно лежала на кровати. «Наверное, спит», — подумал Седлецкий и на цыпочках вышел в коридор. Стараясь не шуметь, надел сапоги, плащ и только хотел было повернуться к двери, почувствовал, что в его плащ крепко вцепилась жена.
— Ты сумасшедший, Вовка! Куда ты?! — Почему-то шепотом, словно боясь кого-то разбудить, произнесла она.
— Отпусти плащ, — глухо приказал Владимир и попробовал отстранить от себя жену — невысокую, с виду хрупкую молодую женщину.
— Ни за что… Умру, но не отпущу, — волнуясь, сказала она. — Ты погляди, что делается на дворе — пропадешь, — голос жены дрожал, на глазах навернулись слезы.
— Нонна! Только ты меня можешь понять, — сказал Владимир. — Разве можно оставить людей в беде? Надо прорваться к десятой и помочь… Понимаешь, там же Бегкул, бригада. Не зная что с ним, я с ума сойду.
— Нет! И не думай о поездке… Это мальчишество!
— А сидеть дома? Это, по-твоему, что? По-моему, это подлость! — Он рывком открыл дверь и сбежал по лестнице.
Седлецкий обошел всех шоферов в экспедиции и каждого упрашивал поехать на буровую. Но никто не согласился. Примерно через час Седлецкий вернулся назад, промокший, заляпанный грязью, злой. Он сел в кресло и, не сомкнув глаз, просидел до утра.
…Владимир Седлецкий и Бекгул Алимов знали друг друга уже четыре года. Высокий и стройный атлет Седлецкий с первой же встречи пришелся по душе буровому мастеру. В главном геологе нравились доброе сердце, смелость и обширные знания геологии. Правда, Бекгула немного смущали очки на коротком, по-мальчишески вздернутом носу Владимира. «Такой молодой и уже — в очках», — с сожалением думал Алимов. Однако очки не помешали Алимову разглядеть синеватый цвет небольших умных глаз Владимира. «Как склоны Айри-Баба в ясную погоду», — каждый раз отмечал он про себя при встрече с Седлецким.
Владимир — сын геолога. Свою профессию выбрал по совету отца — талантливого ученика знаменитых академиков Ферсмана и Обручева. К отцу он был привязан с самого детства. Любил его и гордился им, считал его самым близким наставником и другом. Видел отца редко, урывками. За многие годы геологических странствий Седлецкий-старший исходил, исколесил и облетал всю страну, написал сотни научных работ, сделал крупные открытия. Профессор не бывал дома по году и больше. Жажда поиска, новых открытий надолго разлучала с семьей.
Зато, когда он возвращался в родной Ростов, истосковавшийся по дому, усталый, — для всей семьи наступал праздник. Из своих поездок Иван Дмитриевич всегда привозил незнакомые запахи тех мест, где бывала его экспедиция, где ставил походную палатку. Володя не переставал удивляться стойкости этих запахов — они не выветривались даже за время обратной дороги. Ими буквально пропитывалось все: меховая куртка отца, шуба, плащ, шапка, сапоги, волосы. Это были запахи таежных лесов, полынной степи, альпийских лугов. Иногда профессор приезжал сильно загорелый, пропахший солнечным соленым ветром. Значит, разведку вел на морском берегу.
В кругу семьи профессор подробно и занимательно рассказывал о своих поездках, геологических находках, встрече с дикими зверями, об изумительных цветах, о своих экспедиционных приключениях.
Слушая отца, Володя мечтал о том, чтобы когда-нибудь и самому испытать то же самое.
После окончания средней школы Володя поступил на геологический факультет Ростовского университета. И та жажда поиска, далеких странствований, что томила и жгла всю жизнь профессора, как эстафета, передалась сыну. За пять лет учебы в университете он успел побывать в Якутии, Крыму, на Кавказе и во многих районах европейской части Союза.
Но неизведанных земель еще больше. Вот, например, Туркмения. Что это за страна такая? Хорошо бы побывать здесь… Ведь он ни разу в жизни не видел пустыни, желтого моря сыпучих песков, не знал силы беспощадного солнца.
Университет закончен, и Седлецкий приезжает в Туркмению, в Гаурдак, где базировалась Кугитангская геологоразведочная экспедиция. Двадцать тысяч квадратных километров — на такой площади экспедиция ведет разведку полезных ископаемых. Тут, как говорят геологи, на небольшом «пятачке» расположено восемнадцать перспективных структур на нефть и газ. Здесь же сосредоточены огромные запасы серы, калийной и поваренной солей, целебной воды. А как контрастны ландшафты! Пустыня и горы, сухие, выжженные солнцем лощины и благоухающие запахом цветов, заросшие ежевикой, диким виноградом, орехом, грушей, травами, живописные распадки, где шумят водопады и легкой тенью проносятся стада архаров.
В Гаурдаке Седлецкого вначале назначают на должность техника-геолога, а потом главным геологом экспедиции. Настали будни напряженного труда: бесконечные поездки по буровым, анализ геологического материала, знакомство с людьми. Людьми!.. Сколько среди них оказалось замечательных энтузиастов, бесстрашных и умных, заслуживших славу первооткрывателей несметных богатств Гаурдака! Это — начальники партий, геологи-ветераны Евгений Парникель, Николай Поддубный, а среди бурильщиков — старший буровой мастер Бекгул Алимов.
С этим мастером у Владимира сложились не совсем обычные отношения. Для него Алимов был скорее всего товарищ, друг, чем подчиненный. А Бекгул в Седлецком не чувствовал начальника и относился к нему, как к старшему брату. Эта уважительность проявлялась в безукоризненной работе бригады и Бекгула Алимова, самого опытного бурильщика в экспедиции.
Приезжая на буровую, главный геолог после обычного приветствия дружески справлялся:
— Чай есть, Бекгул?
— Сейчас будет, Владимир Иванович! — весело отвечал Алимов и шел ставить на глиняный очаг закопченный узкогорлый чайник — тунче. Пока готовился чай, главный геолог наблюдал за работой бурильного станка, пробегал глазами вахтенный журнал и, убедившись, что с графиком проходки все в порядке, подходил к ящикам с керном и долго его разглядывал.
После этого прямо на свежем воздухе, возле походных домиков, пили чай «по-фронтовому». Кипяток Седлецкому наливали в алюминиевую кружку, который долго не остывал. Это чаепитие неизменно навевало на Владимира воспоминания о восхождении на горные вершины. И виделось всегда примерно одно и то же. Солнце. Искристый перелив снегов. От высоты слегка кружится голова. В ветвях можжевельника сипло посвистывает ветер. Он бросает в лицо сладкий арчовый дымок и пресный запах снега. Хорошо! Вокруг — незабываемая красота заснеженных хребтов, складчатые склоны и извивающийся мрак таинственных ущелий, над которыми, покачиваясь, осторожно текут дымчатые облака. А в руках — кружка душистого чая.
Вот так же сиживали за кружкой чая Седлецкий и Бекгул Алимов. Бекгул рассказывал о себе, о своей семье. Главный геолог слушал, и постепенно жизнь бурового мастера стала ему такой же знакомой, как своя.
Бекгул Алимов родился в долине Кугитанг-Тау, в селе Базар-Тепе. Отец был колхозным поливальщиком, но потом со всем семейством переехал в Гаурдак.
В годы войны Бекгул разделил судьбу многих своих сверстников: еще подростком пошел работать. Разведка полезных ископаемых в Гаурдакских горах не прекращалась даже в те трудные годы. Одна из буровых была почти на самой вершине горы. Бекгул носил туда ведрами мазут. От цистерны с мазутом до буровой примерно километр. За день он делал туда и обратно шестнадцать рейсов. Нести ведра вверх по склону было тяжело: ломило плечи, локти, немели и затекали пальцы. Бекгул намечал себе рубеж, что-нибудь приметное: рытвинку, камень или куст полыни. И шел к этому рубежу без передышки, но, как всегда, несколько шагов делал сверх своих силенок. Это было первым испытанием воли, первой победой над самим собой.
Бекгул всегда старался, хотя бы незаметно, присутствовать на буровой, когда из трубы выбивали породу, поднятую из земных недр. Порода была пестрой и такой же круглой. Буровой мастер, бородатый Рахман-ага, укладывал ее в деревянные ящики и показывал только начальникам. Те рассматривали ее и долго говорили о ней что-то непонятное.
Однажды, набравшись храбрости, Бекгул спросил у мастера:
— Рахман-ага, а что это за камни, которые ты складываешь в ящики?
— Подрастешь — узнаешь, — ответил Рахман-ага.
— А я сейчас хочу знать, — смело заявил Бекгул. В ответ на это мастер только рассмеялся.
— Мало ли чего я хочу. Да на всякое хотенье есть терпенье. Понял?
Бекгул чуть не заплакал от обиды. Тогда мастер смягчился:
— Ну, ладно, слушай и на ус мотай. Эти круглые камни называются керном. Понял? Геологи узнают по ним, что лежит внутри гор и на какой глубине. А это что за штука знаешь? — Буровой мастер взял кусок керна, сверкавшего ярко, как медь, и поднес близко к Бекгулу.
Бекгул помотал головой.
— Это сера. «Кукурт». Понял?
Бекгул все понял! Он весело подхватил мазутные ведра и, подпрыгивая, помчался вниз по косогору. С тех пор в душе подростка поселилось одно желанье — работать на буровой. Но прежде чем сбылась эта мечта, Бекгул Алимов был водовозом, реечником в геохимической разведке, землекопом на строительстве дорог. И только спустя несколько лет его приняли в бригаду бурильщиков.
Однажды зимой — это было в начале января, — в урочище Кокмияр бригада бурильщиков вела разведку калийных солей. В полночь в домик, где спал Бекгул, вошел бригадир Идрис Шевалиев и начал будить молодого парня, младшего рабочего Розы. Проснувшись, парень испуганно спросил:
— Что случилось, Идрис-ага?..
— Вставай! На двигателе расплавился подшипник. Надо сходить в Гаурдак за новым. Пойдешь вместе с Джангиром. Вставай! Он ждет тебя.
— Пешком? — вяло спросил Розы.
— Да. Пешком. А ты думал — на самолете? — раздраженно произнес Шевалиев. — Может, я должен тебя упрашивать… Вставай, говорю!
— Что ты шумишь, Идрис-ага? Я не могу… Ногу растер… Правда, мастер.
— Идрис, не трогай его. Я схожу, — вмешался в разговор Бекгул. Встал. Оделся и вышел вместе с Шевалиевым.
— Какой трус, а? Какой притворщик, а? — негодовал бригадир. — А с виду такой тихоня — плохого не подумаешь. Маленькое испытание и человек прояснился.
Они подошли к буровой. Из открытого сарая, примыкавшего к ней, навстречу вышел сменный мастер Джангир Джангиров.
— А где Розы? — спросил он.
— Поедешь вот с Бекгулом, — ответил Идрис. — Ты будешь за старшего, Джангир. Чтобы легче было, возьмите Каракуша и на всякий случай — мою двустволку.
Каракуш, что в переводе означает «черная птица», был старым жеребцом и давно уже не соответствовал своему громкому имени. Накрытый войлочной попоной, он понуро стоял рядом с буровым гаражом. Грива, хвост и морда коня были в морозном инее. Под седлом Каракуш немного взбодрился, поднял голову и, выгнув шею, покосился на хлопотавших возле него людей.
— Будете точно держать на юг, — сказал Идрис отъезжающим, — чтобы не сбиться, почаще поглядывайте вон на ту голубую звезду. Это Ялдырак. Вот она-то и указывает дорогу на юг, на Гаурдак. Так что не собьетесь. Ну, хош! Счастливо!
Шевалиев простился с друзьями, и они тронулись в путь между заснеженных увалов. В бездонно черной вышине теснились звезды. Внизу белел снег.
На Каракуше ехали поочередно. Но на полпути от него пришлось отказаться. Он часто спотыкался и вяз в сугробах. Даже без седока едва-едва оттуда выбирался.
Джангир шел впереди, а за ним Бекгул с лошадью. Вдруг повод натянулся. Остановившись, Бекгул повернулся назад. Грозно всхрапывая, Каракуш косился влево. Метрах в трехстах у подножья холма Бекгул увидел два зеленых огонька.
— Джангир, — негромко окликнул Бекгул товарища. — Что это там?
— Зверь какой-то. Может волк, а может… барс, — также негромко ответил Джангир.
Зверь почуял, что его заметили и скрылся. Бурильщики двинулись дальше. Но вскоре оглянувшись, Бекгул снова увидел два зеленых огня. Теперь уже справа и ближе, чем в первый раз.
— Дай-ка я отобью ему охоту шляться за нами, — сердито сказал Джангир и зарядил ружье.
— Не надо, Джангир, — попросил Бекгул, — стрелять не надо. Если это барс, он разорвет нас.
— Что там не надо! Я за старшего… Слушай команду: приготовить нож! Если это барс, с двоими он все равно не сладит.
Словно подслушав разговор, зверь вновь скрылся. Но потом появился снова. Отойдя на несколько метров от лошади, Джангир опустился на колено, прицелился и выстрелил. Ружейный грохот долго перекатывался по горам. Зеленые огни метнулись куда-то в сторону и погасли. Больше они не появлялись. Но до самого Гаурдака пришлось держаться настороже, идти с оглядкой. Это, пожалуй, было тяжелей, чем открытая схватка с опасным зверем.
Владимир не спал. Вспоминались отец, мать, сестры и неизменно — Бекгул. В короткие минуты забытья обуревали кошмарные виденья, уносившие его к одинокой буровой, туда, в долину Кугитанг-Дарьи. Чаще всего виделась ему яростно ревущая река. Вот бьются, сшибаются мутные волны. Взлетают над ними пенные хлопья. Шальная вода закручивается в воронки. Вот в одной из воронок он видит человека и… узнает в нем Бекгула. Всего на миг показывается над водой его лицо, искаженное отчаянием и страхом. Но волны захлестывают его и уносят все дальше и дальше, куда-то в темноту, откуда доносится слабый крик о помощи.
То виделась ему буровая и грозно нависший над нею утес. Вдруг раздается страшный грохот. Поток каменных глыб рушится на буровую. Металлическая вышка клонится, на бок и над ней вырастает каменный холм — братская могила его друзей.
Эти видения мучили Владимира до утра. Он знал, что бригада Бекгула Алимова могла уцелеть только чудом.
Седлецкий зажег свет и посмотрел на часы. Было около четырех. Открыл окно. Тихо. С улицы тянуло свежим влажным воздухом, горными лугами.
Натянув сапоги, Владимир побежал к начальнику экспедиции Михаилу Михайловичу Скороходу. Быстро договорились о плане действий. Было решено составить автопоезда из двух-трех автомашин и немедленно ехать на буровые и на базы геологических партий. Владимир обежал дома, где жили шоферы, поднял их на ноги и велел подтягивать автомашины к базе экспедиции. Автомашины загрузили дровами, палатками, посудой, продовольствием.
На рассвете выехали из Гаурдака.
Седлецкий поехал к Бекгулу, на десятую. Дорогу развезло. Колеса мощных вездеходов буксовали на подъемах. Сель еще не затих, продолжая рычать в промоинах и в оврагах. Владимиру показалось, что едут они очень медленно.
— Ты что? Разучился ездить? — повернулся он к шоферу.
— Да ведь опасно, Владимир Иванович, — может занести…
— Ну хоть чуточку быстрей!..
— Чуточку можно.
Часа через полтора развиднелось. Небо очищалось от серых расползающихся туч. На востоке, в открывшейся синеве высоко вознесся пик Айри-Баба. «Теперь уже кажется недалеко, — облегченно вздохнул Владимир, — скорее бы…»
В горах все цвело. На склонах и в лощинах виднелись багряные разливы маков. Звонкой синью били в глаза острова горных колокольчиков. Еще выше поднялись травы. На траве и листьях цветов, сверкая, дрожала роса. Опьяняющим ароматом весны был напоен воздух.
Машины съехали с пологого холма и свернули влево. Еще один поворот, и Владимир увидел реку, высокую скалу и под ней четкий силуэт буровой вышки. Он ощутил, как трепетно забилось сердце.
Машины пришлось остановить, не доезжая до буровой. Разлившись во время ливня, Кугитанг-Дарья нанесла много ила, и они могли бы увязнуть в нем.
Владимир выскочил из кабины и, разбрызгивая грязь, бегом пустился к буровой. Ошеломленный страшной догадкой сбавил шаг: возле буровой не было ни души. Куда подевались люди? Неужели погибли? Владимир задыхался от волнения. Кровь стучала в висках.
Вот до буровой осталось всего несколько шагов. И — никого… Розовая грязь чавкает под сапогами. И вдруг… из бурового гаража выходит Бекгул…
Седлецкий бросается к нему, обнимает…
— Жив? Невредим? — срывающимся голосом кричит Владимир. — А как остальные? Где они?
— Живы, Владимир Иванович, живы, — тихо говорит Алимов. Он подтянут, его загорелое лицо с правильными чертами тщательно выбрито. Оставлена лишь узенькая полоска усов.
Остальных членов бригады Владимир встретил в гараже. Река и сель тут натворили немало, понатащив в гараж целую гору мусора, камней, ила. На очистку уйдет не меньше дня.
— Что же вы тут делаете? — спросил Седлецкий буровиков.
— Думаем, как очищать…
— А что же тут думать? — засмеялся Владимир. — Берите лопаты и — за дело!
Бекгул тоже засмеялся.
— Нечем, — ответил он. — Лопаты, казаны, дрова, уголь, разный шурум-бурум — все унесла вода.
— Ах, вот как! Тогда пусть ребята возьмут в машинах все, в чем вы нуждаетесь. А ты расскажешь, как вы сражались с паводком.
Так же, как и в Гаурдаке, здесь разразился сильный дождь. Река быстро вздулась, зашумела. Все ближе и ближе она подкрадывалась к буровой. Но вахта сменного мастера Наркабула Эргешева не обращала на это внимания и продолжала вести проходку. Бекгул Алимов тоже был тут.
Никто и не заметил, как вода, обогнув вышку, затопила дизель, находившийся неподалеку в отдельном сарайчике. И все потонуло во мраке.
— Факелы, Наркабул! Факелы! — крикнул Алимов. Сменный мастер метнулся в гараж буровой и вынес оттуда четыре горящих факела.
— А теперь, Наркабул, беги в домики и зови остальных, — приказал бригадир. Он вышел, чтобы посветить Наркабулу, и сквозь густую сетку дождя увидел, что тот бежит по колено в воде.
Бекгул раздал факелы бурильщикам. Одним велел вручную поднимать инструмент из забоя, других послал перетаскивать ящики с керном. Всего было сто ящиков. В каждом — по сто килограммов породы. Ящики уже заливало водой. Их могло заилить или утащить потоком. Но разве это можно было допустить! Ведь керн — это плоды нелегкого труда целой бригады. И чтобы отдать его на произвол стихии!..
Под проливным дождем факелы шипели и трещали, слабо освещая путь от того места, где ящики лежали, и до пригорка, куда перетаскивали их буровики. Десять тонн перенесли они в ту ночь. И только после этого ушли на отдых.
— Ну, а с этого утеса… ничего не свалилось?
— Ничего, — ответил Алимов.
— А я все боялся за него, — признался Седлецкий. — Ну, думаю, прихлопнет и — крышка.
Бригаде Бекгула Алимова снова поручили бурить на калийную соль. На этот раз скважину 713-ю, расположенную к северо-востоку от Гаурдака. Вокруг — холмы, небольшие горы, которые как будто кто-то нарочно размалевал в самые различные тона: нежно-зеленый, красный, вишневый, желтый.
Станок Алимова проработал не больше двух дней, как приехал Седлецкий. Он хотел узнать, благополучно ли доставили буровую на новое место. Дело это не простое: местность овражистая, крутые спуски, подъемы. Интересовала, конечно, и проходка скважины.
Быстро прочитав вахтенный журнал, Владимир искренне удивился: прошло два дня, а забой уже на глубине пятидесяти метров. Здорово! Тем более, что породы тут высокой твердости, крепкие песчаники, известняки.
Просматривая керн, Седлецкий сказал:
— Мне кажется, соль здесь метров на сто выше, чем это считалось раньше. Как ты думаешь, Бекгул?
— Я тоже так считаю, — согласился Алимов. — Уже сейчас по керну это видно.
Потом пили чай. Главный геолог поднялся, чтобы распрощаться, и на всякий случай спросил:
— Вопросы есть?
— Есть, — услышал вдруг Седлецкий. Это сказал молодой парень с пышной золотистой шевелюрой. Судя по гимнастерке, он недавно демобилизовался из армии.
— Я человек тут новый, товарищ Седлецкий, — заговорил парень, — просто так, ради интереса, хочу узнать, когда образовалась эта самая калийная соль и много ли ее?
— Ясно! — с удовольствием сказал Владимир, поправляя очки. — Вопрос весьма интересный. Калийная соль образовалась давно — около двухсот миллионов лет назад в неглубокой лагуне древнего Юрского моря. Так что здесь, где мы с вами находимся, плескалось море. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. После накопления калийной соли дно моря постепенно понижалось. С суши на нее сносился песок, глина, которые потом окаменели. Поверх окаменевших глин и песчаника легла толща серо-зеленых глин с тонкими прослойками известняков. Залегает соль на разной глубине: 300—500 метров. В отдельных местах она выходит на поверхность. Ну, а что касается ее запасов, то они исчисляются миллиардами тонн.
ЗАПОВЕДНЫЙ КОПЕТДАГ
Смотрите на горы, Лорх; нет ничего чище для размышления.
А. Грин. «Борьба со смертью».
По-моему, нет человека, который был бы равнодушен к горам, к их величию и красоте. Именно об этом подумалось мне, когда впервые я увидел Копетдаг, взметнувший свои вершины к югу от Ашхабада.
Но прелесть гор познается не сразу. Так же, как море, они часто меняют цвета. И в этом одна из тайн их притягательной силы, их очарования. Мы часто видим горы то призрачно-бледными, почти не отличимыми от неба, то почти черными от клубящихся грозовых облаков, то в синеве всех оттенков — от самой слабой до самой густой, в легкой серебристой дымке. И всегда, независимо от того, какого они цвета, на них смотришь как на что-то таинственное, загадочное, непонятное.
Иногда пелена с гор спадает, словно им надоедает прятать свое «лицо» в облака да туманы и появляется у них желание полюбоваться на степь, на дольный человеческий мир. Чаще всего так бывает осенью. Горы в эту пору ясны до мельчайших подробностей. Трава на них уже выгорела чуть ли не до самых вершин и гигантские золотисто-смуглые складки скульптурно выпуклы. Резко синеют извилины. На склонах отчетливо видны арчовые деревья.
Величавы, торжественны горы зимой, когда их сплошь выбелят снега. Озаренные солнцем, они отбрасывают мощный свет — глаза прикрыть хочется! Ослепляющий, синеватый, этот свет льется на город, а вместе с ним льется на город и холод заснеженных гор.
А что в горах? Какие там птицы, звери, растения? И, наконец, какими будут горы, если их увидеть вблизи? — эти вопросы давно волновали меня. И, конечно же, ответы на них я мог найти только в горах.
Отправился я туда весной.
Когда город остался позади, а горы приблизились чуть ли не вплотную, машина свернула влево и начала подниматься по серпантину дороги. С каждым витком все выше. Повороты крутые, опасные. Только раз или два я посмотрел вниз и увидел светлую ленту шоссе, рассекавшую весеннюю зелень лугов. Это был вид, какой обычно открывается с самолета, когда он наберет изрядную высоту, сверху все кажется во много раз уменьшенным, игрушечным.
Повороты, кружившие голову, кончились, но дорога упорно продолжает набирать высоту. Справа тянется глухая каменная стена, слева за узкой, ничем не огражденной полоской дороги — черный провал. За ним ряды поднявшихся из тумана острых вершин. Сумрачно. Небо в сырых тучах. Вдруг по ветровому стеклу газика косо хлестнул дождь, забарабанил поверху. Дорога влажно заблестела, сделалась четче. Я зорко смотрю вперед, по сторонам. Чем выше дорога, тем ниже опускаются каменные вершины, тем шире между ними черные провалы. По ним, гонимые ветром, куда-то мчатся сизые клочья облаков. Они мчатся против движения автомашины и от этого замирает сердце, кружится голова. Невольно вспомнилось восточное изречение: «Ты, как слеза, на реснице аллаха». Точно. Малейшая неосторожность, и ты навечно канешь в пропасть.
Поднимаясь вверх, машина неожиданно вынырнула из облачного слоя и в эту же секунду в глаза ударил радостный солнечный свет.
А вот и перевал.
Здесь все было необычно. И прежде всего свет. Какой-то он был особенный: не яркий, не резкий, а приветливо спокойный. На уровне моего лица широко по горизонту над горами висели редкие облака. Они казались неподвижными, воздушно нежными и сильно сверились изнутри. Прямо от меня крутыми полукругами прыгал вниз, сиреневый асфальт дороги и уходил далеко к горизонту, сужаясь и теряясь в тумане, где-то на самом краю земли. По обеим сторонам дороги, наклонно вниз, уходили широкие горные овраги. Между оврагами расстилались на редкость ровные плато, покрытые травами, цветами. Такие же цветы виднелись на отлогих склонах холмов и в лощинах. Такого обилия цветов, такого грандиозного нашествия красок я не видел ни разу. Фон, на котором они выделялись, был золотисто-желтый. Такой чистый, яркий цвет бывает разве только у нарцисса или испанского дрока. Этот фон составляли небольшие заросли ярких золотистых цветов, по местному сары чоп. А корни и стебли этого растения используют для крашения тканей. Здесь были светло-лиловые ирисы, колокольчики, шафран, голубые васильки, бледно-розовые эремурусы, алели пятна шелковисто нежных маков, багрово-красных тюльпанов. Названия большинства растений я не знал. На некоторых сладко спали блестящие зеленые жуки, оранжево-красные шмели, нарядные бабочки. Вместе с цветком их раскачивало ветром. Но это нисколько не тревожило их. Скорее, наоборот: от легкого раскачивания им только слаще и глубже спалось.
Душист и прозрачен был воздух — именно так пахнет горный мед: сильно, с преобладанием одного стойкого аромата.
Где же, тот цветок, что издает такой приятный запоминающийся запах? Как отыскать его среди множества цветущих растений? Искал я его долго. И все-таки нашел. Это был скромный цветок из мелких желтых головок, собранных в тяжелый зонтик.
Другие мои поездки в Копетдаг были связаны с посещением Гермабской долины и расположенных рядом с нею гор. Поездок было много. Чаще всего они приходились на весну или осень, на то чудесное время, когда совсем не жарко, когда дышится легко и радостно.
Дорога в Гермаб не поднимается круто. Она долго идет среди голых и, на первый взгляд, ничем не примечательных скал. Но, как ни странно, ни скалы, ни дорога не утомляют. Они то высоко уходят в небо, то, резко понижаясь, сходят на нет, открывая за собой другие, затуманенные далью горы и долины, то смыкаются полукруглыми башнями, то нависают над дорогой отвесным утесом.
Вокруг — тишина, безлюдно, дико.
И как отрадно в этой каменной пустыне вдруг повстречать оазис — веселый, полный жизни! Этот оазис рожден речкой Секизяб, пересекающей огромную каменистую долину. Зеленой стеной придвинулся к воде тростник. На одном из султанов, раскачиваясь, сидит зеленая птица щурка. Речка несется, вскипает в галечном русле, наполняя все вокруг голосом живой природы.
Раздвинув камыш, дорога уходит дальше — на юг или юго-запад. И какое-то время, спустя приводит в Гермаб. Навстречу выбегают каменные осыпи, скалы, сады. Одна из скал до самого низа разрезана узким и мрачным ущельем. Колючий кустарник, цепляясь за мокрые стены, карабкается вверх. Внизу и на самом дне ущелья речка. Каким-то чудом к ней пробивается солнце, и вода кажется подсвеченной ярким зеленоватым светом. Сверкая чешуей, весело резвятся в ней рыбки-быстрянки.
Гермабская долина широка, поросла полынью и другими степными травами. К югу от нее синеет еще одна гряда Копетдагских гор. Торжественно величавы здесь утесы, по-вечернему сумрачны ущелья, неповторимо прекрасны просторные распадки. Часами я бродил по ним, и это доставляло мне величайшее наслаждение.
И много было в это время разных встреч, может, и не очень значительных, но каждая из них оставила памятный след.
Однажды я шел по ровному участку нагорной степи. Горы как бы отодвинулись в стороны и синели издалека туманными гранями. Ветер пробегал по равнине и клонил к земле клочковатые травы. Я шел не спеша, изредка поглядывая под ноги, и вдруг остановился, как вкопанный: метрах в трех-четырех от меня, настороженно застыв, притаилась змея. Она была меньше метра, зеленовато-желтого цвета и блестела так, словно только что выползла из воды. Слегка изогнувшись и повернув голову, змея зорко следила за мной. Это был оливковый полоз. Я и раньше слыхал, что он водится в горах Копетдага, но видеть живого, да еще вот так близко, ни разу не доводилось. Знал я также, что это исключительно редкая и быстрая змея, в чем тогда же убедился. Едва я шевельнулся, полоз встрепенулся и исчез в траве.
По сведениям ученых, сейчас на Копетдаге живет девятнадцать видов змей — значительно больше, чем на равнинной части Туркмении. Это — редко встречающиеся олигодон, персидский и полосатый эйренис, кошачья змея, волкозуб, стрела, щитомордник, кобра, гюрза.
Ящериц немногим меньше, чем змей. Видел я в горах золотую мабую, длинноногого сцинка, полосатую ящерицу и колючехвостого геккончика.
Следующая встреча в горах была, пожалуй, еще более неожиданной, чем первая. Как-то брел я по широкому оврагу и рассеянно глядел по сторонам. На склонах оврага рос какой-то кустарник, кажется, барбарис, его круглые мелкие листья были уже желты, сухо шелестели травы на откосах. Вдруг над моей головой раздался ошеломляющий взрыв, — с минуту я не мог прийти в себя, сердце бешено колотилось. А взрыв был вполне безобидный — так при взлете оглушительно хлопает крыльями стая каменных куропаток-кекликов. Видимо, вот так они отпугивают врагов. Во всяком случае, пока враг опомнится, птицы сумеют скрыться или отойти на безопасное расстояние. Кеклики — отличные скалолазы. Даже не взлетая, а только взбираясь вверх по откосу, по каменной сыпи, они могут быстро уйти от преследователя, словно раствориться в камне.
Надеясь догнать куропаток, я резво взбежал на вершину оврага, огляделся, пересек еще один или два распадка — кекликов не было. И все же я был уверен: не могли они уйти далеко. Они где-то здесь, рядом. И действительно, как бы в подтверждение моей мысли, откуда-то послышалось спокойное «ке-ке-ке». Но как ни напрягал я зрение и слух, так и не смог понять, откуда кричат куропатки. Кеклики на Копетдаге встречаются часто. Я видел их на водопоях, вдоль горных ручьев, на деревьях и кустарниках, среди камней.
Иногда удавалось наблюдать и великанов пернатого царства: черных грифов, беркута, белоголового сипа, неспешно и величаво паривших в небе над темными падями и острыми хребтами. Но ни разу не видел других обитателей высокогорья — серого улара и черную клушицу. А были, говорят, когда-то. Будто бы и сейчас есть…
И все же на встречи в горах мне везло.
Помню, время было осеннее. Теплое солнце заливало распадок до краев. Безветренно. Тихо. Дно и скаты оврага — в сухих, желтоватых травах. Вдали овраг заворачивал налево. И я не заметил, как оттуда, из-за поворота, выбежало навстречу небольшое стадо баранов-уриалов. Может, зверь какой спугнул, а может, сами зашли. Завидев меня, бараны остановились. Впереди стада, гордо подняв голову, стоял вожак. На его груди белела пышная «борода» — подвес; крупные тяжелые рога круто закручены. Красавец!
Я не выдержал и крикнул. Широко и громко раскатился мой голос. Я надеялся, что, услышав его, уриалы повернут обратно. Вышло наоборот. Мой голос, достигнув края распадка, эхом метнулся обратно и стегнул баранов сзади. Быстро сообразив, что именно оттуда, сзади, им угрожает опасность, уриалы вначале бросились навстречу мне, но вскоре, взяв правее, помчались по откосу. Поравнявшись со мной, они выскочили на гребень откоса и скрылись по другую сторону оврага.
Все это длилось несколько секунд. И все же я сумел увидеть диких баранов довольно близко, как говорится, «крупным планом», лишний раз убедившись в грациозности и силе этих смелых животных. Позже я наблюдал, как легко и ловко они прыгают с утеса на утес, как быстро взбираются на горные кручи, как бесстрашно ходят по узкому, как нож, карнизу скалы. Палево-серая шерсть архара удачно маскирует его среди такого же цвета скал, камней, трав, и поэтому не всегда удается его обнаружить.
Но встречи в горах волнуют не только с животными. Зайди в распадок осенью. Как тихо и нарядно здесь!.. В золотом воздухе — горьковатый запах увяданья, осеннего леса, сухого душистого сена. Среди пожелтевших и розово-красных кустарников и деревьев кем-то выбита тропа. Кем? Диким кабаном, козлом, волком, дикобразом, лисой, горным бараном или еще кем-то? Тропа извивается, идет прямо, а затем бросается в сторону. Вблизи такой тропы мне повстречался клен-керкау. Он весь был багряный, от низа до верха. С чем его сравнить? С застывшим пламенем костра? С пылающим на закате облаком? С красным фейерверком?
Нет, не то, все не то…
Клен был густой, раскидистый. Прямо от земли упруго взлетала вверх и в стороны стройная ватага ветвей, усыпанных красной лапчатой листвой. Верхние листья просвечивало солнце. Небольшой изящный лист керкау был совершенным по рисунку. Именно этим изяществом и какой-то милой беззащитностью он и привлекал к себе внимание. Позже мне не раз встречался керкау в виде отдельного дерева метров до десяти высотой и со стволом до метра в диаметре.
Тысячи гектаров Центрального и Западного Копетдага занимает арча. Это — дерево долголетия: до тысячи лет живет, а, может, и больше.
Во время горных экскурсий привалы я обычно устраивал где-нибудь в арчовнике. Выбирал для этого укромное местечко и разжигал костер. Ходить за дровами не надо — они под рукой. И сколько таких великолепных мест на Копетдаге! Одно лучше другого!
Расскажу только об одном.
Это был тупик в широкой балке, над которой круто обрывалась скала. К тупику, по склонам балки взбегала арча. Я развел костер. Утро ясное. Холодком обдает. Но вот языки пламени все смелее пробиваются между веток. Костер разгорается и начинает постреливать. Сизый дым волнисто подымается, вверх. От костра исходит разнеживающий зной. Я греюсь и вдыхаю арчевый дымок, который, как «дым Отечества и сладок и приятен». Приглядываюсь к месту, где сижу. Деревья вокруг старые, дряхлые. Под ними много сухого валежника, камней. С глубоким сочувствием гляжу на арчу, что поскрипывает напротив, за моим костром. Возможно, она и не очень старая, но вид у нее жалкий и печальный… Северная крона сорвана. Нижняя часть ствола оголилась и на ней болтаются мочальные ленты коры. Корни, похожие на щупальцы, высоко обнажены. Не трудно понять, с каким упорством и ожесточенным усилием они пробивались к влаге сквозь твердую, как камень, землю.
От высоты и ландшафта, на которых растет можжевельник, зависят его рост, наряд, форма. На самых высоких точках Копетдага, где-нибудь на высоте 2800 метров, арча жмется к земле как стланик и выше 60—80 сантиметров не поднимается. На более низких поясах она может быть стройной и высокой.
Не так давно исконная жительница гор, арча, пришла на улицы и в парки Ашхабада. Столичный климат пришелся ей впору. Арча не только украшает город. Выделяя фитонциды, она очищает воздух от вредных бактерий.
Что еще запомнилось?
Лук! На Копетдаге его десятки видов! Есть среди них настоящий гигант, высотой до полутора метров. Он так и называется: лук гигантский. Венчает его шаровидный зернисто-лиловый зонтик. Листья съедобны, богаты белками, витаминами, сахаром. Мощное растение и лук Вавилова. Есть лук, названный странным, своими цветками напоминающий ландыш.
Много на Копетдаге растений в виде колючих подушек. И самое знаменитое среди них — колючелистник железистый. Это полукустарничек с твердыми, как иглы, колючками. Цветет он в самую жаркую пору — в июне или в июле. Подушка колючелистника занимает сравнительно небольшую площадь, но выбрасывает он до десяти тысяч бледно-розовых, мелких, с приятным ароматом цветов. А другой колючелистник — мелкоголовчатый — цветет еще обильнее: на его подушках бывает до тридцати тысяч цветков. Такому количеству цветов могла бы позавидовать любая городская клумба.
В корнях и развитых частях колгочелистников много полезных веществ. Они применяются в кондитерском деле, в парфюмерии, в текстильной промышленности для отбеливания и мытья дорогих тканей, в цветной металлургии для обогащения руд, для производства ячеистого бетона.
В горах надо быть очень внимательным — иначе много интересного можно не заметить. Вот, например, перед нами серая, каменная глыба, покрытая желтыми лишайниками. Но каменная она только с виду. Это живое растение, полукустарничек качим. Если его разрезать пополам, то можно увидеть у него толстую оболочку, состоящую из тысяч тончайших, как волос, веточек. Соединенные вместе, они подходят к поверхности качима и питают на нем мельчайшие желтые цветочки, которые многие принимают за лишайник.
На Копетдаге великое множество бобовых. Только астрагалов шестьдесят видов! К ним же, к бобовым, относятся трагаканты, аспарцеты, люцерна, пажитники, вика, чина.
Мы привыкли к тому, что ковыль — растение степных просторов. Но как ни странно, он растет и в горах. Там же вы можете встретить колосняк Никитина, близкий родственник пшеницы — эгилопс, пырей Андросова, лисохвост тростниковый, разные виды овсов, ячменей. Многие из злаковых вполне пригодны для селекционной работы при выведении новых культурных сортов.
К сожалению, мои путешествия по Копетдагу не всегда были наполнены радостью. Были и огорчения. Особенно в последние годы, когда вместо арчовых рощ я встречал сплошные пеньки. Охватывало такое чувство, будто бы находишься на кладбище, среди дорогих сердцу могил. Невольно вспоминались слова чеховского Астрова по поводу уничтожения русских лесов, слова, полные гнева и негодования: «…Русские леса трещат под топором… опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи».
Уничтожение лесов! Как горько это звучит. И как пагубно оно по своим последствиям!
Горные деревья притеняют снег и не дают ему растаять сразу с приходом тепла. Благодаря этому почва лучше насыщается влагой. А значит — гуще травостой, предохраняющий землю от размыва и выветривания.
Быстро растаявшие в горах снега превращаются в грозный паводок — сель. С голых, обезлесенных склонов он срывается с такой бешеной скоростью и силой, что все сметает на своем пути: камни, деревья, животных, селения. Уничтожение горных лесов приводит также к тому, что высыхают родники, мелеют речки.
Другая беда Копетдага — овцы. Страшны не только их копыта, разбивающие растительный покров. Овцы почти полностью уничтожили многие виды растений. Некоторые из них находятся на грани исчезновения. Это василек Андросова, атропа Комарова, самая маленькая в мире вишня Блиновского, никитиния тонкостебельная, мушмула германская, смородина. Горы, так щедро и долго дарившие нам свои богатства, теперь сами нуждаются в защите, в покое, чтобы восполнить тот ущерб, который нанесен им человеком. Часть этих богатств я видел во время своих поездок в горы. Но это лишь ничтожная доля того, что Копетдаг донес до нас, до нашего времени сквозь миллионы лет. Только растений здесь около двух тысяч видов, представляющих огромную ценность для народного хозяйства, науки, медицины. Триста видов эндемики, они уникальны, встречаются только на Копетдаге. А Западный Копетдаг,-по словам академика Н. И. Вавилова, является одним из мировых очагов формирования ценнейших плодовых пород зоны сухих субтропиков.
Вот таков он, этот славный Копетдаг. И разве можно было допустить, чтобы он оскудел окончательно?
В сентябре 1976 года Копетдаг объявлен заповедным.
И вот снова я еду на юг, в сторону гор. Снова весна. Слева — зеленая степь, холмы. Справа, почти слитые друг с другом, домики поселка Берзенги — спутника Ашхабада. В конце поселка — светлая ограда из новых бетонных плит. За оградой — пустырь, еще дальше — горы. Кругом — молодые высокие травы, буйно поднявшиеся после теплых апрельских дождей. Эти травы мягко зеленеют по склонам гор, немного не дотянувшись до вершин Копетдага. Там, повторяя его изгибы, все еще сверкает белизной тонкая полоска снегов.
От дороги, убегающей к горам, до ворот в бетонной ограде, проложена дорожка. По обеим сторонам ее выстроились молодые туи. Напротив — фанерный щит. На нем — скачущий во весь дух гепард — это эмблема заповедника.
Сотрудники заповедника живут на усадьбе в походных, плотно приставленных друг к другу вагончиках. В таких же работают.
По утрам, перед началом занятий, собравшись возле вагончиков, они спорят, курят, смеются. Все они молоды, стройны, высоки — кто с бородой и усами, кто без оных. Одеты в тесноватые, по моде, бледно-синие джинсовые костюмы, добротные куртки или уж совсем по-летнему — в простые рубашки и брюки, заправленные в сапоги.
Кто они, эти молодые люди? Откуда? Что делают, как живут? Желание узнать обо всем об этом и привело меня на усадьбу заповедника.
Галина Леонидовна Камахина — ботаник, кандидат наук. Аспирантуру она закончила в Ленинграде под руководством профессора Никитина — крупного знатока туркменской флоры. До отъезда в город на Неве он много лет работал в Ашхабаде, в Институте ботаники. Старый профессор с радостью встретил весть о создании Копетдагского заповедника. Но радость его была бы, видимо, неполной, если бы он остался в стороне от важного дела. А он по-прежнему верен Копетдагу и приезжает для консультации молодых специалистов.
Вместе с Камахиной растительность Копетдага изучает и выпускник Туркменского университета Нури Аннануров. Поле деятельности у них огромно — пять горных поясов: от самого нижнего, засушливого и пустынного, до самого верхнего.
— Часто бываете в горах? — спросил я Галину Леонидовну.
— Наши полевые исследования, — сказала она, — еще впереди. Вначале пришлось сделать обзор литературного материала по степени изученности Копетдага ботаниками, работавшими здесь раньше. На этой основе мы составили список растений, нуждающихся в охране.
Виталию Герману чуть больше двадцати. Лицо смуглое, худощавое. Глаза светло-карие, волосы темно-русые. Взгляд озабоченный, серьезный. На петлицах форменного пиджака по четыре звездочки и по два дубовых листа. Виталий — начальник охраны заповедника. Он охраняет сто тысяч гектаров заповедной территории. Охраняет горы, где, кроме лошади, ни один транспорт не проходит. Каждый лесничий должен объезжать на ней до десяти тысяч гектаров охранного участка.
— Но горы мы не только охраняем, — говорит Герман, и в его глазах загорается яркий золотистый блеск. — Мы обогащаем их. Например, на самом восточном участке заповедника, в районе Миана, мы посеяли более ста гектаров фисташки. Столько же посеяно в урочище Чёль-Кеман. Там же, в Миане, на горно-степном участке выпущен табун куланов, отловленных в Бадхызе.
Николай Борисович Иванов родом, из Якутии. Он невысок, плотен. Лицо добродушное, немного скуластое, узкоглазое. По окончании Московского университета Иванов был научным сотрудником Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске. Отсюда несколько раз в составе экспедиции приезжал в Туркмению, бывал в Репетеке, Бадхызе, знаком с природой этих мест. Должность у Иванова высокая — заместитель директора заповедника по науке. А живет, как и другие, в вагончике. Тесновато. Много места занимает библиотека.
— В тесноте, да не в обиде, — шутит Николай Борисович. — Главное, крыша… А крыша есть.
Иванов разворачивает карту Копетдага. На ней — темные овальные пятна. Это заповедные участки. Их протяженность с востока на запад около шестисот километров.
— Наша задача, — говорит Николай Борисович, — изучить природно-территориальные комплексы заповедника, климат, рельеф, горные породы, почву, животных и растения. Их несколько, этих комплексов, и все они расположены в разных физико-географических районах Копетдага. Намечено создать несколько заказников. Например, Миана-Чаачинский, занимающий предгорную равнину в восточном Копетдаге. Сейчас она заселяется куланами. Есть для них тут и водопой, и привольные пастбища. В заказнике Западного Копетдага, в верховьях реки Сумбар, решено взять под охрану арчовники, клен-керкау, диких сородичей плодовых деревьев: миндаль, грецкий орех, вишню, инжир, виноград. Там же, в пойме Сумбара, будет отведена территория для Каракалинского заказника. Главный объект охраны здесь — птица турач, занесенная в Красную книгу. Ходжа-Калинский заказник в заповедном Копетдаге займет межгорную равнину. Его цель — восстановить пустынную фауну. Когда-то на этой равнине во время перелетов собирались несметные стаи дроф, журавлей, паслись табуны куланов, стада джейранов.
Итак, горы отданы во власть молодых. Завидная у них судьба! Как ни основательно изучен Копетдаг, а белых пятен на нем еще немало. Ведь шестьсот километров всяких гор и долин! Приезжали сюда ученые и раньше. Ненадолго. Но много ли узнаешь и увидишь в кратковременный приезд?
Теперь другое дело: заповедник. Это бессрочный научный стационар, где исследования и наблюдения можно вести годами. Так что многих ученых здесь ожидают минуты счастливых открытий, романтика встреч с неизвестным и неизведанным.
Правда, пожалуй, кто работает в заповеднике, должен обладать особыми качествами: бесстрашием, мужеством, твердой волей, высоким чувством долга. Горы любят сильных. Особенно эти качества необходимы членам инспекторской группы, ведущей упорную борьбу с браконьерами, проникающими порой в заповедные земли.
И все же, каким бы мужеством, опытом и знаниями ни обладали его штатные сотрудники, одним им вряд ли справиться с охраной Копетдага. Охранять его обязан каждый, кто влюблен в родную природу, в ее красоту, кто обеспокоен ее настоящим и будущим.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
В эту ночь Дурды Джумашев ни на минуту не сомкнул глаз: он боялся опоздать к поезду, который приходит в Моргуновку на рассвете. В это время Джумашев должен был встретить сына Лолло — самого младшего и потому самого любимого.
Поезд пришел по расписанию. С него сошел всего лишь один пассажир. Это был Лолло. Дурды-ага обнял сына и повел домой. Радости старика не было границ. Велика эта радость была еще и потому, что старик жил одиноко. Давно умерла жена, а дети, подрастая, один за другим разлетались в разные края.
И остался старик один. Правда, иногда он сам навещал детей, радовался их счастью, но долго у них не задерживался. На второй или третий день он уже скучал по Бадхызу, который считал самым красивым местом на нашей земле.
— И что ты там потерял, в этой глуши? — нередко спрашивали дети. — Жил бы у нас…
Дурды-ага на это не сердился. Он только улыбался какой-то загадочной и теплой улыбкой и просил хотя бы изредка наведываться к нему.
И вот Лолло у отца. На следующий день, оседлав лошадей, Дурды-ага сказал сыну:
— Едем, Лолло. Посмотрим весну! Краше, чем в Бадхызе, весны не найдешь. Заодно и поможешь мне в одном деле. А если удастся, с Батыром тебя познакомлю.
Выехали они в полдень. Издали их можно было бы принять за доблестных рыцарей, отправившихся на ратные подвиги во славу прекрасных «дам сердца», своих возлюбленных. Один из них, пожилой и сухощавый, напоминал знаменитого Дон-Кихота, а другой, молодой и плотный, его верного слугу Санчо Пансу. Но, в отличие от рыцарей, ни на одном из них не было боевых доспехов — единственным оружием у них были длинные, похожие на ровные, тонкие пики, шесты с ременными арканами на конце. Всадники держали путь в урочище Кейик-Чешме — Джейраний родник. Это были объездчик Бадхызского заповедника Дурды Джумашев и его сын Лолло, молодой инженер одного из заводов в Ашхабаде. Получив отпуск, Лолло решил его провести, как говорится, на лоне природы и немного побыть у отца, который давно уже живет в Бадхызе, охраняя его животных и, в особенности такого редкого, как кулан-онагр.
Когда-то куланы водились в большом количестве. Еще в прошлом веке их можно было встретить во всех полупустынях — от восточных склонов Урала до Китая и даже в южно-европейских степях. Было время, когда огромные табуны светло-золотистых онагров жили в пределах Туркмении: в предгорной долине Копетдага, в Гяурской степи и в окрестностях Ашхабада. Древние жители Востока приручали куланов и запрягали их в боевые колесницы. Каждый, кто видел куланов, не мог не восхититься их стремительным мощным бегом. Но на куланью беду с давних пор его мясо и жир считались целебными. Дорого ценилась и шкура, которая шла на выделку цветного сафьяна. Ради этого кулана безжалостно истребляли. К началу нашего века он стал уже редкостью. В поисках безопасных мест и водопоев кулан все дальше отходил на юг. Но и здесь его подстерегала меткая пуля охотника. И, наверно, свели бы кулана на нет, если бы не правительственное постановление о создании в Бадхызе, на самом юге Туркмении, специального заповедника. Родился этот декрет в суровые для нашей родины время, в те самые дни, когда на подступах к Москве гремели ожесточенные бои.
Вот тогда-то, в центре Бадхыза, и создан был единственный в нашей стране куланий заповедник. Вначале животных было немного. Но после того, как взяли их под защиту, число куланов стало быстро расти и сейчас их уже сотни.
Среди тех, кто первым пришел охранять кулана, был совсем молодой парень — Дурды Джумашев. А сына его, Лолло, в ту пору не было даже на свете.
Ехали отец и сын молча. Кони, потряхивая гривами, шли резво, бок о бок. Потомок древнего кочевого племени, почти всю жизнь проводивший в седле, Дурды-ага красиво восседал на рослом гнедом иноходце. Хорош был конь и Лолло — светлый, в золотистых накрапах, молодой и стройный.
Ехать было легко. Немного мешали слепни. Стараясь от них избавиться, кони со свистом хлестали себя хвостами и сами меняли аллюр. Их приходилось сдерживать, хотя и всадникам изрядно наскучила тихая езда. Они и сами были бы не прочь, привстав на стременах, да натянув поводья, пустить коней бешеным наметом так, чтоб ветер свистел в ушах… Но силы коней приходилось беречь. Дурды-ага знал: они могут еще пригодиться.
Была и другая причина неспешной езды. Особое удовольствие в ней находил Дурды-ага. Он любил весенний Бадхыз и мог любоваться им без конца. Не хуже самого заядлого ботаника или натуралиста он знал здесь любое растение, птицу, зверя, змею, помнил их названия.
Погруженный в созерцание природы, старик молчал. Это далее немного сердило и обижало Лолло. Он вынужден был почти постоянно видеть отца лишь в профиль: его короткий орлиный нос, вздернутую к кудряшкам черной папахи широкую бровь да сбитую ветром в сторону его седую жидкую бороду.
А Бадхыз… Он словно сам старался показать все свое великолепие, всю щедрость весны, разворачивая перед путниками один пейзаж за другим…
Вот широкая долина. Вдали — вереница холмов. И во всю ширину долины — нежное малиновое пламя. Это цвели ремерии и маки. Сколько их тут! Кони идут и идут по мягкому ковру цветов. И странно! Смешиваясь с запахом разнотравья, перебивая его, слышится тонкий и свежий аромат сирени, как будто ты находишься в каком-нибудь парке. Но вокруг — ни одной сиреневой ветки. Откуда же тогда он взялся этот аромат?
Вот увалы уже рядом. И, кажется, от подножий до самого верха они одеты голубовато-синей мглой. Но это вовсе не мгла. Так выглядят холмы, покрытые густыми зарослями дикой бадхызской сирени-малькольмии. И запах у нее точь-в-точь такой же, как у настоящей сирени.
Холмы остались позади. И снова степь. И цвет ее и запах теперь уже совсем другие. Пробитая в сочном мятлике копытами диких животных, вьется по степи тропа. По обеим ее сторонам, словно девушки, кокетливо подбоченясь, стоят под желтыми зонтами соцветий одинокие ферулы. Внизу, под каждым растением широкая розетка длинных, мелко иссеченных, похожих на морковную ботву, листьев. А на единственном стебле — две-три «чашки» или «кувшинчика». Поэтому-то ферулу туркмены и называют «кейик-окара» — «джейранья чашка».
— Кейик-окара — трава особенная, — нарушив, наконец, молчание, произнес Дурды-ага. — В течение семи-девяти лет растут у нее только листья. Взгляни на нее… Вон какие большие. Вокруг стебля лежат. И только раз в десять лет кейик-окара цветет, выбрасывая вверх стебель толщиной в руку.
Не обратив вначале особого внимания на ферулу, Лолло теперь внимательно, с большим интересом разглядывал каждый попадавшийся навстречу куст.
— Но слава кейик-окары в другом, — сказал после паузы Дурды-ага. — В том, что в свои чашки она собирает дождевую воду. Иногда до литра и больше. Говорят, эту воду джейраны пьют. Не верю я в это! Вряд ли джейран станет пить горькую воду, когда кругом сочная трава. Один ученый человек говорил мне, что кейик-окара, запасая воду, скорее всего заботится о себе. Дожди-то не часто бывают, только весной, а нужда в воде всегда есть. Вот кейик-окара потихоньку и расходует свои водные запасы.
Постепенно ферул стало больше. Они были без чашечек и гораздо мощнее прежних. Это были ферулы другого вида — бадракема, или по-туркменски — чомуч. Они росли на обширной площади, и тропа среди зарослей ферулы шла как по просеке необычного золотого леса.
Миновав этот «лес», путники поехали дальше. И снова перед ними открывались цветущие долины и холмы. Растений в Бадхызе много: около семисот видов. У каждого из них — своя пора цветения. Поэтому весна здесь длится чуть ли не круглый год.
В начале февраля, как только растает снег, пробьются к свету узкие бледно-розовые лепестки ранней вестницы весны — мерендеры. В марте пройдут дожди, подымутся травы. И на фоне сочной малахитовой зелени, как искры, будут сверкать желтые цветы гусиного лука. А на исходе месяца раскроются бутоны красного и желтого тюльпанов.
Окраска у желтого удивительно яркая, теплая. И цветет он на редкость дружно. На твердых, кремнистых склонах ущелий разом вспыхивают тысячи огней. И если ущелье дохнет холодом, руки сами тянутся к цветку, словно к источнику тепла, И все же, красный тюльпан, пожалуй, еще краше. Особенно хорош он по утрам, когда солнце просвечивает его насквозь, как бокал, наполненный молодым вином. Слегка изогнутые, с глубоким желобком сборчатые листья — в матовом налете. Сверкая радужным блеском, горят на них ледяные капли росы. Слава о тюльпанах Бадхыза ушла далеко за пределы Туркмении. Не так давно их завезли к себе голландцы. Выращивая тюльпаны, они наводнили ими многие страны Европы. Дурды-ага знал об этом и был горд за родную землю, где растут такие дивные цветы.
В апреле, в разгар бадхызской весны, буйно цветут ремерии и маки, ферулы и доремы, белеют шары цветущего катрана. В мае больше синих, голубых и фиолетовых красок. В это время цветут колокольчатые горечавки, джунгарский ирис, гигантский синеголовый лук, астрагалы. Начинают разливаться желтые озера сары-чопа. А в июне, расправив желтые зонты, сильный аромат источают муреции. До глубокой осени не увянут полынь и, похожий на астру, разнохохольник. И даже в декабре, если спуститься в ущелье, то можно и там встретить белые цветы колючей и цепкой дерезы.
Дурды-ага ехал и весело думал о красоте и богатстве родной природы. Весна молодила его. По травам и цветам, холмам и долинам летели пятнистые тени облаков. Звенел жаворонок в поднебесье. Еще выше его черными точками медленно кружили орлы. Дурды-ага завидовал им: какие дали открыты перед ними! Вот бы человеку такое… И вдруг захотелось Дурды-ага, чтобы с той огромной, орлиной высоты взглянул на Бадхыз его сын Лолло — на древнюю, повитую легендами страну «Встающего ветра». «Случись такое, — думал старик, — Лолло увидел бы Бадхыз из края в край, до самых его границ». Лолло увидел бы, как с севера к бадхызскому холмогорью бегут сухие песчаные волны пустыни. Как с запада и востока его обнимают мутные, в тугайных зарослях, реки Теджен и Мургаб, Кашан и Кушка, как сверкают на юге снегами высокие хребты Паропамиза.
Да разве только это!.. Лолло увидел бы ковыльные склоны Ченгурецких гор и фисташковые рощи Гез-Гядыка, где на старых тысячелетних деревьях вьют свои гнезда пернатые великаны: белоголовый сип, беркуты, черные грифы, коршуны. Лолло увидел бы Чиль-Духтар и Науруз-Абад, Кала-и-Мор и овраг Кизыл-Джар. Но самое изумительное среди этих мест — это, похожая на кратер вулкана, впадина Еройландуз. Есть рядом с ней и другие: Намак-Саар, Шор-Гель… Но краше и живописней их все-таки Еройланская впадина. Весной на дне ее блещет лазурью широкая вода. По берегам впадины и на крутых обрывах весело гомонят перелетные птицы. В спокойную синь воды, как в зеркало, глядятся, черные андезитовые сопки.
Летом вода во впадине испарится и вместо нее здесь будут сверкать под солнцем чистые кристаллы соли. Тишина. Ни птицы, ни зверя, ни человека. Только жар. Чудовищный, испепеляющий жар. По временам со дна впадины, зловеще гудя, срываются пыльные смерчи и ураганы, словно оправдывая этим древнее название Бадхыза — страна «Встающего ветра». Зато зимой во впадине благодать — более укромного и теплого уголка для зверья не найти. Ее высокие края надежно закрывают сюда доступ ветрам. Как только наступят холода, звери прячутся здесь от ледяной стужи и снежных вьюг.
Знал Дурды-ага и прошлое Бадхыза. Когда-то в его долинах росли могучие вечнозеленые секвойи, папоротники и гигантский злак арундо, а по травянистым степям спокойно разгуливали страусы и жирафы. Скорлупу страусиных яиц и сейчас нередко находят на обрывах бадхызских холмов.
«А дети говорят: чего потерял я в этой глуши, — с сожалением думал о них Дурды-ага и заключал свою мысль так: «Многое потерял тот, кто не знает этого края».
Старик по-охотничьи был зорок и наблюдателен. Он видел все и все примечал. Остановив коня, он быстро воткнул в землю шест и вскинул к глазам бинокль. Лолло следил за взглядом отца, но ничего особенного не обнаружил.
Дурды-ага передал бинокль сыну.
— А, ну-ка, посмотри во-о-н туда, — тихо, почти шепотом сказал старик. — Ну, как?
— Вот это красота! Здорово, отец! Честное слово, здорово! — упиваясь каким-то зрелищем, взволнованно воскликнул Лолло. — Это что… Они танцуют что ли?
Вдали, у подножья холма, на склоне которого зеленела куртинка фисташковых деревьев, паслось несколько джейранов. Им, видимо, захотелось порезвиться и они затеяли игру. Разбежавшись, антилопа делала огромный прыжок, исполненный невыразимой легкости и изящества. Пролетая в воздухе, она откидывала голову назад и прижимала к животу тонкие стройные ноги. Глядя на животных, можно было подумать, что, затеяв игру, они состязаются, кто дальше и лучше прыгнет.
— Да! Ты прав, сынок. Это действительно танцы, — сказал объездчик, не отрывая взгляда от светлого подножия холма. — Такие танцы — большая радость для сердца, для души. Жаль только — не все еще умеют ценить эту красоту. Есть люди, которым на все наплевать. Такие закона не признают — бьют джейрана даже здесь, в заповеднике. Правда, таких ловят и судят. Но, если бы не законом человек берег природу, а сердцем… Сердцем!
Было уже за полдень, когда Дурды-ага негромко объявил:
— Кейик-Чешме, — и указал на три лежащих почти рядом, невысоких холма. На самой верхушке среднего четко выделялось темное фисташковое дерево. Его раздвоенная крона была похожа на два зеленых крыла. И впечатление было такое, будто дерево вот-вот взмахнет крыльями и улетит в ясную бездонную синеву.
— Вон там, за средним баиром[12] — родник. Туда они и приходят. Там у них свои тропы, — тихо пояснил Дурды-ага, по охотничьей традиции не называя зверя, о котором идет речь. — А, может, и не придут, — добавил старик: — Трава вон какая сочная. Пьют теперь редко. Словом, все будет зависеть от нашей удачи.
Дурды-ага велел завести лошадей в промоину, а сам, пригнувшись, пошел вверх по косогору, чтобы оттуда, с вершины холма, наблюдать за местностью.
Медленно тянулось время. Прошел час, другой… Уже солнце низко повисло над горизонтом, а Дурды-ага все еще не возвращался. «Если пройдет еще столько же и отец не вернется, — раздумывал Лолло, — об охоте и помышлять нечего. Какая ночью охота!.. Так что как бы не пришлось в этом Кейик-Чешме торчать до самого утра».
Но не успел Лолло додумать до конца, наверху послышались шаги. Едва удерживая равновесие, Дурды-ага быстро спускался вниз. Он был возбужден. Дышал часто. Глаза сверкали…
— Пришли! — прошептал он на ухо Лолло, и они вскочили на коней.
Объехав холм, всадники в тот же миг, как на ладони, увидели большой табун куланов, склонившихся над извилистой нитью ручья. Напуганные внезапным появлением людей, животные вскинули головы и какое-то мгновение стояли неподвижно. Но едва оцепенение прошло, они бросились бежать. Только один куланенок оставался на месте и испуганно таращил глаза на приближающихся всадников. Но вот и он резко повернулся и поскакал следом за табуном.
Вытянув шесты вперед, всадники мчались во весь опор. И когда до куланенка оставалось метров десять-пятнадцать, Дурды-ага заметил что-то неладное в его беге: куланенок скакал на трех ногах. Передней правой он почти не касался земли. Это открытие больно отозвалось в сердце старика — опять в заповеднике орудовал браконьер! Куланенок все еще продолжал скакать, но было ясно, что далеко он не уйдет. Дурды-ага и Лолло уже настигли его, видели его вытянутую мордочку, его серые, прижатые к голове уши и на белой спине ровный, шоколадного цвета ремешок…
Арканить куланенка не пришлось. Пробежав еще немного, он как бы внезапно споткнулся и, перелетев через голову, упал на бок. Дурды-ага, спрыгнув с лошади, подбежал к нему. Куланенок попытался встать, но тут же свалился, издав жалобный, почти человеческий стон. Старик бережно, как ребенка, поднял его и отнес на седло к сыну.
Со своей добычей охотники вернулись к «Джейраньему роднику» и устроили привал. Куланенка, хотя он и вел себя спокойно, привязали к железному костылю, а лошадей стреножили и пустили пастись. Покончив с этим, старик проворно сходил к роднику и принес две тунчи холодной воды. Тем же временем расторопный Лолло где-то раздобыл несколько охапок сухого хвороста.
Еще засветло осмотрели куланенка. Пуля пробила ему ногу чуть повыше копытца. Дурды-ага промыл рану марганцовкой и плотно ее забинтовал.
— Не миновать тебе, дружок, нашей Анны Петровны, — гладя куланенка, сказал Дурды-ага. — Вот она и поставит тебя на ноги. Не ты у нее первый, не ты последний…
Костер разожгли, когда совсем стемнело. Дурды-ага бросил возле него свой старый чекмень из верблюжьей шерсти, а Лолло мягкий стеганый ватник. Пляшущее пламя озарило тихо лежавшего куланенка и вихрастую зелень лужайки, на которой паслись лошади. Вскоре в узкогорлых чайниках закипела вода. Она проливалась на костер, который отвечал на это сердитым шипеньем. Отставив чайники в сторону, старик бросил в них заварку. После этого из переметных сумок-хурджунов охотники выложили сахар, жареное мясо-каурму, чурек и приступили к ужину.
Закусив и напившись вдоволь чаю, Дурды-ага прилег, а Лолло продолжал сидеть у костра, прислушиваясь к прохладной тишине апрельской ночи.
Ночи Бадхыза! Таинственны они и необычны. Ночью Бадхыз живет особенной, потаенной жизнью. Сквозь синий полумрак едва различимы контуры высоких холмов. Густая темень затопила лощины и овраги. В вышине в полную силу сверкают звезды. Желтые, словно рысьи глаза, они напряженно и зорко смотрят на землю.
Лолло вздрогнул — над костром промелькнула какая-то птица, вслед за этим раздалось ее гулкое гуканье. Где-то невдалеке тявкнула перевязка — пестрый, похожий на хорька, зверек. И снова — тишина. Только вдали среди сонной травы зелеными точками вспыхнули чьи-то глаза. Кто это? Волк? Лиса? Или желтая рысь — каракал?
Темень… Разве узнаешь! В эту пору из нор и укрытий выходят разные звери: и леопард, и стройная куница-белодушка, и дикие кошки, и волк, и лиса.
Но вот на северо-востоке край неба начал светлеть, волнистой линией проступил горизонт. Красная и круглая, как щит, медленно всплывала мрачная луна. Поднявшись выше, она стала светлей и ярче и мягким своим сиянием залила бадхызское холмогорье. В это время в соседней лощине стронулся с места куланий табун. Растянувшись цепочкой, куланы ступали почти неслышно. Лишь изредка пофыркивал вожак. Он бодро шел вперед, и весь табун следовал за ним, подчиняясь его воле. Вот вожак остановился, поднял голову и навострил уши: невдалеке он увидел золотистый цветок костра и двух лошадей. Заметил он и людей. Раздувая ноздри, кулан принюхался: в слабом дуновений ветерка он почуял едва уловимый, полузабытый запах человека.
Первым кулана увидел Дурды-ага, хотя и не сразу в это поверил — так неожиданно тот появился. Старик поднялся и стал вглядываться в кулана. Да, это был Батыр! Дурды-ага сразу его узнал по четкой отметине на левом ухе. Давно, когда он был еще маленьким куланенком, часть уха ему оторвал игравший с ним дворовой пес.
— Вот он!.. Гляди, Лолло! — чуть слышно прошептал Дурды-ага и глазами указал на кулана, хотя Лолло и сам успел его заметить. — Это Батыр! Понимаешь? Батыр!..
Лошади перестали щипать траву и, помахивая хвостами, тоже уставились на ночного гостя, который, однако, почему-то не решался близко подойти к костру. Словно изваянный из белого мрамора, он несколько секунд стоял неподвижно, высоко вскинув голову. И во всей его могучей настороженной фигуре легко угадывались и гордая стать, и сила дикой лошади.
Дурды-ага поднялся и ласково позвал:
— Батыр! Батыр!..
В ответ кулан только мотнул головой, словно поприветствовал старика и, круто повернувшись, вернулся к табуну. А через несколько минут и табун, и вожак скрылись из виду.
— Ушел Батыр. Одичал. А ведь когда-то был таким ручным, — с грустью сказал Дурды-ага. И велел Лолло собираться в дорогу. Раненого куланенка надо было доставить в Акар-Чешме, где расположен куланий питомник.
Стало светло. Тропа, по которой ехали всадники, хорошо просматривалась под луной. Куланенок, не шевелясь, лежал на седле, впереди старика.
— Скажи, отец, а взрослых куланов приходилось ловить? — спросил Лолло. — Трудное, наверное, это дело?..
— Да. Нелегкое, — неохотно отозвался старик. — Но ловил я взрослых. Для зоопарков. Был однажды такой случай… Как вспомню, не по себе становится.
Старик замолчал. Видно, не хотелось ему бередить старую рану. Все же мало-помалу разговорился.
— Приехала как-то в наши края бригада ловцов диких животных, — начал свой рассказ Дурды-ага. — Не помню только откуда, то ли из Ташкента, то ли из Душанбе. Ну, да это неважно. Людей в бригаде не хватало. Попросили помочь. Я согласился. Но до сих пор жалею об этом. Лучше бы мне отказаться. Уж очень бригадир мне был не по душе. Был он какой-то злой и непонятный. Одевался словно мальчишка: на голове — зеленый шлем, рубашка с короткими рукавами, трусы до колен, а сам в сапогах. Ноги сухие, длинные. Носил он бороду и рыжие усы, которые никак не шли к его легкомысленному наряду. Этого бригадира я бы и сейчас среди тысячи людей узнал. Ну вот, — после паузы продолжал Дурды-ага, — приехали мы всей бригадой на берег Кушки. Речушка в то время была мелкой — воды воробью по колено. Ловцы разделились на две группы: одни остались на левом берегу. А меня с одним пареньком послали на правый. Засели мы на вершине холма и стали ожидать прихода, куланов. Мы должны были прогнать их через Кушку на левый берег. Там, на куланьей тропе, были расставлены крепкие капроновые сети. Ночью такую сеть даже зверь не заметит. Сидим час, сидим два. Берега видны далеко-далеко… Круглая и белая, как лепешка, плавала в воде луна. Сон не шел. Я чутко прислушивался к тишине. То и дело озирался вокруг. И вдруг… Надо же такому случиться!..
Дурды-ага мягко улыбнулся, и в его прищуренных глазах сверкнули лукавые искорки.
— Вдруг я почувствовал, как что-то колючее ползет по ноге. Мелькнула мысль: «Не скорпион ли?». Была у меня на брюках чуть ниже колена дырочка. Эх, думаю, наверно, через нее и пробрался шайтан… Что делать? Если не принять срочных мер, худо будет. Ведь скорпиона не заставишь сидеть на месте. Чуть прижмешь — ужалит. Вдруг ногу так и обожгло!..
— Ужалил? — воскликнул Лолло, с интересом слушавший рассказ отца.
— Да, нет, Дело пока до этого не дошло. Мне просто показалось, что обожгло. Пришлось разуться. Снял я чокай, размотал портянку, осторожно засучиваю штанину, и что?.. Он, шайтан, и есть! Крупный такой. Не меньше пальца. И так рассержен… Хвост кверху вздернул… Только тронь — тут же уколет. Но все обошлось хорошо. Едва я успел обуться, сосед толкает меня в бок. Смотрю, огибая наш холм, к реке идет цепочка куланов. Когда они подошли поближе к воде и начали пить, мы сбежали с холма и нагрянули на них сзади. Животные пулей метнулись на другой берег. Прошло несколько мгновений и вдруг… выстрел. Кто стрелял? Зачем? Прибежали мы на левый берег и видим: растянувшись на земле, бьется, умирая, раненый кулан. А рядом стоят ловцы. В руках у бригадира винтовка, у того самого, что ходил в трусах и в шлеме. Кровь закипела в моих жилах.
— Негодяй, — кричу я. — Чтоб земля поглотила тебя, нечестивец поганый! — Не помня себя от ярости и обиды, я бросился на бригадира, схватил за грудь и начал его трясти изо всей силы. — Как ты посмел, кричу, убивать такое животное? Здесь заповедник! Стрелять запрещено! А ты, мерзавец… — А сам весь дрожу, бьет, как в лихорадке. Меня, конечно, оттащили. Начали успокаивать.
— Так… почему же его убили? — спросил Лолло.
— Ай, почему, почему! Просто так! — резко ответил Дурды-ага. — Кулан оказался очень сильным. Сеть не выдержала. Он порвал ее и, убегая, потащил за собой. Сеть была одна на всю бригаду. И вот, чтобы ее спасти, бригадир выстрелил в кулана и убил его наповал. Взяли с бригадира штраф. Да что толку. Кулана-то не вернешь.
Воспоминания о гибели кулана так растревожили Дурды-ага, что он надолго замолчал.
— Ай, все бы ничего!.. — сказал он, все еще волнуясь, — на душе до сих пор неспокойно. Вину чувствую… Ведь это я, я спугнул его под выстрел!..
Лолло стало жаль отца.
— Твоей вины тут нет, отец, — возразил он. — Разве ты знал, что кто-то будет в кулана стрелять?..
— Не знал. Но все равно виноват… — не сдавался старик.
Навстречу полной и яркой луне, обкладывая ее со всех сторон, быстро двигались тучи. Вот одна из них, первой достигнув луны, скользнула, плотно ее закрыв. Сразу стало темно. Дорога пропала из виду. Путники теперь с трудом различали ее. И вдруг, пробившись сквозь мрак, вдали сверкнул одинокий огонек. Он был подобен огню маяка: то появлялся, то исчезал.
— Это светит Акар-Чешме, — пояснил Дурды-ага сыну, указывая на огонек. — Скоро доедем…
На стук в дверь вышел заведующий питомником, бывший офицер пограничной службы Иван Иванович Кращенко. Фонарем он осветил лица прибывших. Поздоровавшись с объездчиком, спросил:
— А это кто с тобой?
— Лолло. Мой сын, — ответил старик.
Куланенка он отнес в отдельный вольер, и вслед за хозяином гости вошли в дом. Навстречу им вышла жена заведующего питомником Анна Петровна.
Лолло их видел впервые. Иван Иванович был худой, костистый и мрачноватый с виду человек. Зато Анна Петровна сразу же сумела расположить к себе Лолло своей доброй улыбкой и душевной теплотой.
В Бадхызе супруги Кращенко живут давно. Здесь прошла их молодость, выросли дети. Когда Ивану Ивановичу подошло время уходить в запас, он поступил на работу в заповедник и вместе с женой поселился в Акар-Чешме.
Прошло какое-то время и потянуло на родину, на Украину. Уехали, но ненадолго. Только там, на Украине, поняли всю колдовскую силу Бадхыза, его неодолимые чары. И снова вернулись. И уж теперь решили до конца коротать свой век в Акар-Чешме.
Несмотря на поздний час, Анна Петровна быстро накрыла стол, угостив усталых путников вкусным ужином.
Во время еды Дурды-ага искренне пожалел:
— Не повезло нам, Иван, хотел привезти-тебе здорового куланенка, а попался раненый. Может, это и к лучшему. Ведь он все равно бы погиб.
— Разумеется, погиб бы. Но кто этот негодяй, который бьет наших куланов? — негодуя и становясь от этого еще более мрачным, сказал Иван Иванович.
— Найдем. Далеко не уйдет, — успокоил Дурды-ага. — Лишь бы этого спасти…
— Вылечим, Дурды-ага, вылечим. Будет и этот здоровым, — заверила старика Анна Петровна. — Помнишь? На что уж плох был Батыр… и то спасли!
— Да… Батыр стал красивым. Мы только что видели его с Лолло. Хороший, крепкий стал…
— Неужели видели? — воскликнула Анна Петровна и так обрадовалась, будто услышала о ком-то очень дорогом.
— Видели, — подтвердил Дурды-ага. — Совсем близко подходил. Я сразу его узнал.
— Он иногда и к нам приходит. Но только ночью, как вор, — сказала Анна Петровна. — Постоит-постоит во дворе, посмотрит на окна и уйдет.
— Наверно, скучает, — молвил Дурды-ага, вставая из-за стола.
Утром отец и сын отправились в обратный путь. И снова перед глазами Лолло поплыли картины бадхызской весны — одна краше другой. И снова слышал он над головой звонкие весенние голоса птиц.
Но не это теперь занимало Лолло. Он думал теперь о Батыре, вспоминал ночную встречу с ним и все еще, как живого, видел его перед собой.
Однако историю Батыра Лолло не знал. Он попросил отца, чтобы тот рассказал ему все о кулане.
Дурды-ага охотно исполнил просьбу сына.
Это было несколько лет назад. Весной. Заарканив куланенка, Дурды-ага привез его в Акар-Чешме. Перед тем, как ему уехать, Анна Петровна спросила:
— Какое имя дать куланенку?
Старик, слегка подумав, ответил:
— Я бы его назвал Батыром. Пусть он будет могучим и красивым. Я верю, он будет таким!
— Ну, что ж… Хорошо. Назовем Батыром[13], — согласилась Анна Петровна. — Вот так и запишем: год рождения такой-то. Место рождения Бадхыз.
Дурды-ага уехал.
Когда пришла пора кормить куланенка, Иван Иванович пристегнул к его ошейнику поводок и хотел было вывести из вольера. Куланенок упирался, не хотел выходить. А когда все же вывели, на площадке, перед вольером, его уже ждала приведенная Анной Петровной кормилица — черная, как сажа, одноглазая ослица.
— Ну, вот, Батырчик, иди знакомиться, — нежно гладя упирающегося куланенка, сказала Анна Петровна. — Вот мама твоя. Подойди к ней, милый, не упрямься. Она даст тебе молочка…
Батыр перестал упираться и, навострив уши, с любопытством взглянул на ослицу. Потом, отвернувшись, мотнул головой, как бы говоря: «Ну и мама! До чего же она черная, да кривая… Неужели ничего страшнее не нашли?..»
Анна Петровна попыталась подвести Батыра поближе к ослице, но он мгновенно повернулся к ней задом и так ударил ее копытцами по боку, что у той загудело в животе.
Так Батыр отверг свою кормилицу. И было ясно, что он никогда ее не полюбит.
Супруги призадумались: «Что делать?»
— А знаешь, Аня, — сказал Иван Иванович, — давай-ка денек-другой поморим Батыра голодом. Ничего… Голод не тетка. Полюбит и такую. Милее матери будет!
Но и этот план не удался: ни через день, ни через два Батыр с ослицей не подружился. И так ослаб, что не мог уже подниматься — шкура да кости. «Да… Плохи, брат, наши дела, — стоя над куланенком, рассуждал Иван Иванович. — А еще Батыром тебя нарекли! Какой же ты богатырь, когда на ногах стоять не можешь?»
Анна Петровна опустилась рядом с Батыром, пригляделась к нему и поняла: куланенок тоскует. Несчастный пленник, он скучал по матери, по настоящей, родной, он тосковал по воле. Этой тоской были полны его глаза — черные, влажные, словно в слезах. И тоска в них была такой понятной и по-человечьи такой глубокой, что Анна Петровна едва сдерживалась, чтоб самой не заплакать.
И умер бы Батыр, если бы не ласка и не находчивость Анны Петровны. Она гладила его по спине, по голове. Вытянув шею, куланенок только вздыхал.
— Ишь ты, чертенок! Зверь, а ласку понимает, — заметил Иван Иванович.
— Ваня, а не покормить ли Батыра сгущенкой. Из соски?
— Вряд ли это поможет, — махнул рукой Иван Иванович. — Не нынче — завтра помрет…
— Да что ты! Разве можно допустить?..
Анна Петровна принесла бутылочку молока, на верху которой розовела соска. Батыр отворачивался от соски, не хотел проглатывать молоко. Всё ж немного выпил.
А через несколько дней он пил сгущенку охотно, с большим аппетитом. И даже причмокивал. Вскоре Батыр окреп, повеселел. Потом он приучился пить молоко из алюминиевой миски. Прежде чем войти в вольер, Анна Петровна стучала ложкой о миску, и Батыр, заслышав сигнал, вскакивал и мчался к двери.
Однажды дверь вольера оказалась незапертой, и Батыр вышел во двор питомника. Тут ему понравилось больше, чем в вольере. В ворота виднелись лощина, холмы, пахло травами. Очутившись на свободе, Батыр подошел к двери дома и стал терпеливо ждать, когда появится хозяйка. Она обязательно покормит его чем-нибудь вкусным.
Выйдя на крыльцо, Анна Петровна всплеснула руками:
— И как ты тут очутился?
Потом вернулась в дом и вынесла куланенку знакомую миску со сладкой сгущенкой.
С той поры Батыра не стали ни загонять в вольер, ни привязывать на веревку. Целыми днями он был на свободе, бродил по двору или уходил недалеко от дома, чтобы попастись, на траве. А утром только стоило Анне Петровне крикнуть: Батыр! и постучать ложкой о миску, куланенок появлялся словно из-под земли.
Но чем взрослее становился куланенок, тем все дальше и дальше уходил он от дома, от питомника, где росли в неволе еще с десяток таких же, как он, пленников.
— Надо бы Батыра в стойло определить. Дичает, — сказал как-то жене Иван Иванович. — Сбежать может. Ищи тогда ветра в поле.
Но эти опасения оказались запоздалыми. В тот день, когда Иван Иванович собрался исполнить свое намерение, Батыр не пришел на зов Анны Петровны. Напрасно звала она своего питомца и в следующие дни. Батыр ушел навсегда. Вскоре объездчики встретили его в одном из куланьих табунов.
Года через два он превратился в сильного и красивого самца. Дурды-ага видел его однажды во главе целого косяка куланов.
Как-то осенью Дурды-ага повез почту в Акар-Чешме. Подъезжая к куланьему питомнику, он увидел вереницу грузовых автомашин, оборудованных специальными клетками. В клетках — молодые куланы. Только один кузов был пуст. В конце колонны автомашин, у въезда во двор, стояли Иван Иванович, Анна Петровна и еще какой-то человек в светлом костюме и в шляпе. Занятые разговором, они не сразу обратили внимания на появление Дурды-ага. Незнакомый человек стоял к нему спиной, и объездчик не видел его лица.
Речь шла о Батыре… Человек в шляпе требовал, чтобы ему отдали Батыра. А Иван Иванович терпеливо объяснял ему, что сделать этого не может, так как Батыр гуляет на свободе и, что самое главное — он вожак табуна.
— Подумаешь, важность какая: вожак табуна! — горячился незнакомец. — У меня есть список животных, договор с дирекцией заповедника. А в этом списке значится Батыр. Так что же вы хотите?.. Тогда давайте будем ловить этого самого вожака!
Иван Иванович еще раз решительно возразил и предложил замену.
Голос человека в шляпе показался Дурды-ага знакомым. Он подошел ближе к нему и они встретились взглядами. Да. Это был он, тот самый бригадир, который застрелил кулана.
— Иван! — закипел в гневе Дурды-ага, — не отдавай ему Батыра. Этот человек убил кулана. Не отдавай!..
— Ну, хорошо, хорошо! — струсив, произнес заготовитель. — Я буду жаловаться! У нас договор…
Он повернулся и быстро зашагал к головной автомашине.
В эту же ночь Батыр появился в питомнике снова. Сам, по своей воле. Высоко в небе светила луна. Батыр долго стоял перед окнами дома. Кулан помнил этот дом. Не забыл он и ласковых рук Анны Петровны, ее голоса. Ни свобода, ни время не смогли заглушить в в нем памяти о прошлом. И были в жизни кулана, наверное, такие минуты, когда он просто скучал по тем местам, где узнал тепло и доброту человека. Воспоминания тревожили его и звали в дорогу. Но прийти сюда днем он уже не мог, не позволяли осторожность, звериный инстинкт.
И кулан появлялся ночью, таинственной бадхызской ночью. Появлялся неслышно, как сон, как призрачное видение, и также неслышно уходил, растворяясь в тихом сиянии луны.